автордың кітабын онлайн тегін оқу Россия — боль моя. Том 1
Татьяна Александровна Борщевская
Россия — боль моя
Том 1
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
На обложке береза в виде креста, которая выросла на месте концентрационного лагеря СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения).
© Татьяна Александровна Борщевская, 2018
Эта книга — не историческое исследование. Это впечатления неравнодушного современника. Книга об исторической российской катастрофе XX века; о революции 1917-го, о сталинском строительстве социализма и его крушении. Несмотря на неисчислимые человеческие, интеллектуальные и материальные потери, Россия выжила и сейчас поднимается на очередном историческом пепелище. Нам всем, особенно молодежи, ее лечить и поднимать. Для этого ее надо любить. А чтобы любить, надо знать, знать ее историю и культуру!
16+
ISBN 978-5-4490-7650-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Россия — боль моя
- Введение
- Немного из биографии
- Неизбежность революции?
- Разрушение церкви
- Вожди (Ленин)
- Попрание нравственности — погружение во тьму
- Некоторые итоги (революции и Гражданской войны)
- Сталин — путь к власти
- Сталин — личностные характеристики
- Сталин — крестьянство
- Уничтожение партии — начало большого террора
- Большой террор
- Большой террор — общее
- Потери культуры
- Список цитируемой литературы
Хочу поблагодарить своих друзей: Марию Юрьевну Честных, Александра Михайловича Дьячкова, Викторию Борисовну Вольпину за моральную, физическую, материальную, организационную поддержку в трудный для меня период, когда писалась эта книга.
Моим дорогим родителям посвящаю.
«Настоящее часто бывает следствием прошедшего».
Карамзин
Введение
Двадцатый век в России — это век трех эпох и двух исторических (тектонических) разломов. Этот трудный век не обошел меня стороной.
Я родилась в 1935 году в Донбассе, на Украине. В детстве среди своих родных, воспитателей, учителей я застала людей, которые несли в себе еще остатки старой России, христианских заповедей, даже при внешнем атеизме, не утраченного до конца духа Серебряного века.
Прекрасный детский сад. Хорошая школа.
В 1937-ом арестовали, а в 1938-ом расстреляли моего отца. Мы с мамой уцелели чудом: нас просто потеряли.
1941 — 1945 гг. — Великая Отечественная Война (ВОВ). Линия фронта, полтора года оккупации, голод, холод, руины, потери. Голод практически до конца 1948 года.
Пионерское, комсомольское детство. В десятом классе (в мае 1953 года!) писала на выпускном экзамене сочинение о Сталине, о его бессмертии, о бессмертии его дел (накликала беду: он, действительно, бессмертен, и дела его — тоже).
Потом Москва, учеба и вопросы, вопросы, вопросы: что происходит с моей страной?
На старших курсах института появилось желание что-то записывать. Мой друг (очень большой авторитет для меня) посмеялся надо мной, и к этой мысли я вернулась лишь через 30 лет. Уже прошла давно «оттепель», кончалась душная брежневщина, страна рушилась, мы «плыли на тонущем корабле». Душили тоска, безнадежность, предчувствие какого-то конца. Делиться мыслями было легче всего с бумагой. Я стала кое-что записывать. Писала на бегу: работа, дом, дефициты, очереди не оставляли времени на размышления. Мысли приходили в транспорте, в очередях, ночью. Не все мысли доносила до письменного стола.
Писала на случайных бумажках, в блокнотах, в рабочих тетрадях. Это стало привычкой. Когда этих бумажек и записей накопилось довольно много (хотя очень многое терялось), я решила, что разумнее писать на библиографических карточках: у меня был опыт работы с ними. Я стала записывать впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного, делать выписки — тоже на бегу или по ночам.
Перо учит думать. Постепенно вырисовывалась трагическая картина российской истории 20-го века. Записи постепенно накапливались. Появилось неопределенное еще желание обобщить это в чем-то подобном «Гернике» или картине И. Глазунова «Мистерия — 20-й век»: такой бреющий полет над Россией 20-го века, некая схема ее взлетов, но гораздо более ее крушений и бедствий.
Определенности добавила «перестройка»: валом обрушившийся поток ранее недоступной информации; перемены, которых мы ждали, и кошмар, которым они обернулись.
И, может быть, самым мощным толчком для меня были не крах, не разруха, какой Россия не знала даже после революции 1917-го, а тот поток грязи, унижений, который обрушился на Россию и изнутри, и извне. Может быть, то презрение к России, ко всему российскому, которое высказывали наши либералы, журналистская ретивая «зелень», заставили меня задуматься, так ли уж действительно плохо все российское и ее народ.
Россию выбросили в «четвертый» мир, на задворки истории — «навсегда». «Русский народ», «русский менталитет», «совки», «советский патриотизм» — стали ругательными, замаранными, затасканными понятиями.
Записи мои копились, их были уже тысячи. Уже хотелось во что-то это оформить. И в 2008 году, на восьмом десятке своей жизни я принялась их разбирать: «мотор» мой отказывался работать — варить супы, мыть полы, копать грядки. Да и внучки уже выросли, а родные, близкие, любимые косяком ушли из жизни. (Думать позволила только старость. До этого был постоянный бег, более всего на месте, отупляющий, изнуряющий).
Теперь можно было сесть и за письменный стол. Только на разбор и идентификацию карточек у меня ушел год. Сразу пришлось отбросить всё, где были пометки «найти», «прочесть», «додумать». Примерно до четверти записей руки просто не дошли: нехватило времени и сил. Значительная часть записей была потеряна. На вожделенную библиотеку уже не было сил. (Интернет у меня появился, когда книга была уже практически написана). И все-таки, старость — время прекрасное: она снимает вериги и дает какие-то права. Можно сесть, взять голову в руки и подумать… Что ж! Я решила писать книгу. Неслыханная дерзость! Но унести с собой весь мой жизненный непростой опыт, не оставив никому и толики его, казалось тоже неверным. Будет книга или нет, я не знала, но название ее я знала с самого начала: «Россия — боль моя». Да, именно БОЛЬ. Но боль, страдание — это производное от любви. Без любви нет боли, нет страдания. А в России всё — через страдание… Любить меня научила моя мамочка — любить красоту, природу, искусство, знание, людей, Родину, жизнь. А сколько прекрасных людей я встретила в жизни! Мне везло на хороших людей, святых земли русской; с какими судьбами пришлось столкнуться, может быть, потому, что я это запоминала. И, пожалуй, больше всего хороших людей я встречала в самые трудные времена, во время войны, — даже немцев.
Слово «боль» вынесено в название этой книги. И пусть не упрекают меня читатели, если таковые когда-либо будут, за излишнюю эмоциональность. Я ее не скрываю. Боль — это чувство, и оно лежит в основе всего написанного.
Но встает вопрос, зачем, для кого писать. Кому это будет интересно? И нужно ли это вообще? — Не могу на это ответить. Но в Писании сказано: «От преизбытка сердца уста глаголят…». А Лев Толстой говорил: «Писать надо только тогда, когда не писать не можешь». Ну, вот, наверное, поэтому и пишу.
У этой книги могло бы быть и другое название: «Анти-Сталин». Думаю, что в российской катастрофе 20-го века он сыграл страшную роль, наверное, самую страшную. У этой катастрофы было много причин, неслучайных и случайных, много героев и анти-героев, но Сталин сыграл в ней роковую роль.
После 4-х лет Первой Мировой войны, 5-ти лет братоубийственной разрушительной Гражданской войны, уничтожения и бегства за рубеж почти всех верхних слоев российского дореволюционного общества страна была еще жива — это показал НЭП. Но после 30-летнего террора Сталина она не может оправиться многие десятилетия.
Все основные беды нашего сегодняшнего времени уходят корнями более всего в сталинщину: геноцид, наш нравственный распад, уголовщина, корыстное высшее чиновничество, апатия, «Зона» — Сибирь, безлюдье, демографическая катастрофа и всё, отсюда вытекающее… И все же это — подзаголовок. В заголовок я выношу главное — БОЛЬ.
По мере того, как росли горы карточек — страничек моего необычного дневника, углублялось мое понимание той исторической катастрофы, которая стряслась с Россией в 20-ом веке. И в то же время я все более и более понимала: круг тех людей, которые имеют представление о масштабах этой трагедии и ее последствиях, чрезвычайно узок. Три поколения сформировались в условиях Лжи, Тайны и Страха. Знать, думать, понимать было смертельно опасно. Понимающих, думающих, а тем более знающих прицельно истребляли.
Инстинкт самосохранения выработал в людях, даже потенциально способных думать, привычку, не задумываясь, знать лишь дозволенное. Она глубоко укоренилась, возможно, структурировалась в особых советских генах. Этому всему способствовала загнанность: проблемами производства, быта, дефицитами, неустроенностью жизни.
Меня всю жизнь окружали хорошие люди: образованные, честные труженики, неглупые и добрые. Все они знали, что был культ личности, репрессии, разоблачение культа и реабилитации, но почти никто из них не задумывался о масштабах и исторических последствиях происходившего. В том числе и те, кто прочел «Архипелаг ГУЛАГ» и даже те, кого не обошел террор. И в очень узком диссидентском кругу по-настоящему это понимают далеко не все. Наверное, понимание требует специальной аналитической работы.
У нас достаточно много хороших книг о революции, эмиграции, пятилетках, о коллективизации, ГУЛАГе, ВОВ, о строительстве социализма. Каждая из них впечатляет, но не дает общей картины. Нет общей картины происшедшего. А кому она нужна? Историкам? Об историках писать не могу. Я их практически не знаю. Знаю только, что та история, которую преподают в школах и даже университетах, это свалка из обрывков правды и нагромождений лжи, это продолжение сталинщины, лжи, недоумства и страха.
Постепенно уходят ровесники века, живые свидетели страшных его событий. Архивы приоткрываются «со скрипом», а за плотно закрытыми дверями их в течение десятилетий тихо уничтожают. Возможно, что-то ценное историкам все же достанется для анализа, но это тоже все будет для узкого круга.
А память человеческая удивительно коротка. В начале прошлого века Александр Блок писал:
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не можем ничего.
Но это было только начало. Страшное, столь страшное, что никакое воображение не могло его предвидеть, было еще впереди. Но мы все забываем. Не просто забываем — знать не хотим. Так безопаснее, спокойнее. Привыкли прятаться в «серость».
Разбирая собственные карточки, я нередко удивлялась написанному. Мне казалось, что у меня неплохая память, однако я тоже уже почти забыла, как страшны были поздние 80-е и все 90-е годы в России. Как я благодарна себе, что многое записала по «горячим следам». Это было почти как у Ю. Олеши: «Ни дня без строчки». Но поскольку все писалось на бегу, самые страшные моменты записаны несколькими словами: впечатления были так сильны, что казалось, этого забыть нельзя. Но… забылось. Может быть, многое очень ценное. Но люди, которые не помнят, как было вчера, не радуются тому, что сегодня лучше, чем вчера, и не верят, не ждут хорошего от завтра, не работают на него. Так человек живет вне истории (и страна, и человечество): нет прошлого, нет настоящего — нет будущего…
Отметим удивительное и очень значимое явление: ПРОШЛОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ (И БУДУЩЕЕ!), НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗАБЫВАЕТСЯ, ЧАСТО ПОЧТИ НАЧИСТО, КАК НЕ СУЩЕСТВОВАВШЕЕ.
Поэтому, чтобы понимать свое настоящее, чтобы знать, какое и как строить будущее, необходимо знать, т. е. изучать наше — прошлое.
И более всего это необходимо нашей молодежи: тем, кто вступает в жизнь сегодня, кто вступит в нее завтра. Сегодня молодежь ничего не знает о России, кроме того, что это страна отсталая, может быть, даже гиблая, окруженная благополучными цветущими странами. Чувство патриотизма, высмеянное, испачканное «перестройкой», им чуждо, и они легко, при первой же возможности покидают неуютную страну, в которой они случайно, по ошибке рока, родились.
Россия — трудная страна. Но это страна великая: огромная, богатая, со сложной историей и великой культурой.
В 20-ом веке с ней стряслась историческая беда: стряслась по роковому стечению случайных и неслучайных обстоятельств. Россия в этой беде реализовала все худшее, темное, разбойное, и все лучшее, великое, святое, что было в национальном характере ее народа. Это надо знать!
Сейчас Россия очень тяжело больна, но она медленно, трудно встает (ей не впервой!). Ей необходима помощь. Никто, кроме ее собственного народа, ей не поможет. Но чтобы лечить тяжело больного и желать ему выздоровления, а не скорейшей погибели, его надо ЛЮБИТЬ. А любить, не зная, невозможно.
Молодежь должна полюбить свою страну — ей ее поднимать. Для этого она должна знать великую культуру своей страны, ее историю, трагедию ее 20-го века — историю ее болезни, знать ее сильные и слабые стороны. Тогда она сможет гордиться своей страной, беречь ее, а главное — она сможет предотвратить и уберечь ее от исторических срывов, от которых в реальной напряженной ситуации не защищена такая сложная страна, как Росси.
Эта книга — отнюдь не историческое исследование. Это вид из окна или «с бреющего полета», воспринятый глазами неинформированного, загнанного, но не равнодушного «совка»: имеющий глаза, да видит; имеющий уши, да слышит; имеющий мозговую извилину, да шевелит ею; имеющий сердце, да откликается. И ничего более… Это своего рода «Герника»: уродливое, разметанное, разрушенное.
Но это не полотно — это лоскутное одеяло, мозаика. Большие мастерицы и мастера и то, и другое могут создавать, как произведения искусства. Автору сих строк далеко до такого мастерства: здесь много шероховатостей, повторов, прорех. Многие повторы можно объяснить требованиями контекста, но чаще, возможно, особенностями создания этих записок. Книга создавалась не по единому задуманному плану, а писалась много лет, как своего рода дневник, заметки, впечатления. К одному и тому же вопросу жизнь, обстоятельства, новые сведения заставляли иногда возвращаться не однажды, рассматривая явление с новой стороны, в новом контексте, и убирать при этом повторы значило бы обеднять мысль. (Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Я в течение многих лет входила в одну реку, но каждый раз немного в другую…). И еще: каждая гдава в некотором роде отдельная тема, но все главы объединяют единые причинно-следственные связи, у них общие, единые корни. Поэтому утешает одно: наша память любит повторы. Местами — это картина в стиле пуантилизма. Иногда эта дневниковая структура многолетних записей похожа на поток сознания. Переделывать было поздно: не было ни времени, ни сил. Да простят мне это читатели, ежели таковые когда-либо будут. (Я попыталась оправдаться…).
Думается мне, что, проливая слезы над судьбой России, я пропела ей гимн!
Немного из биографии
Я родилась в июле 1935-го года в г. Лисичанске в Донбассе, на Украине. Там был родительский дом моей мамы. Туда все бабушкины дочери, где бы они ни жили, приезжали рожать своих детей. Моя мама приехала из Харькова.
Вот одно из первых детских воспоминаний. Двор нашего дома в Лисичанске. Во дворе много вынесенных стульев, на них сидят наши мамы, бабушка, дедушка, гости. Мы, три двоюродных сестры: Лилюша 14-ти лет, Галочка 8 лет и я, самая младшая, мне 3 года, — ставим «Демьянову уху» Крылова. Демьян — старшая, я — его жена в длинном до пят сестрином сарафане и платочке, Галочка — Фока. Моя роль — кланяться, когда Демьян скажет: «Да кланяйся ж, жена» — я кланяюсь. Это 1938 год.
Не знаю, как определить сословие, к которому относились мои прародители по маминой линии: рабоче-крестьянскому или мещанскому. Не знаю, были ли их предки крепостными (ведь нас воспитывала советская власть «иванами — родства не помнящими»). И у бабушки, и у дедушки братья были инженерами, их жены — учителями, акушерками; все сестры — с церковно-приходским образованием: девчонок в обеих семьях не учили. Мой дед был шалопай, образования он тоже не получил, был «вольный художник» — кузнец, известный в округе. Во дворе стояла кузня с горном и мехами, в мою бытность уже не работавшими. Его рабочий сарай был завален различными фигурками, выточенными из мела. На полу кухни и веранды, на твердом грунте двора (Донбасс — место сухое) он писал свои «стихи», сочинял частушки и иногда по вечерам распевал их на «парадном» крыльце, играя на гитаре и собирая зевак.
Бабушка была человеком удивительным. Человек несомненно одаренный, она очень страдала оттого, что не получила образования, и дала себе слово непременно дать образование всем своим детям, вопреки воле деда, от которого она в связи с этим имела много неприятностей, вплоть до колотушек (пока не подросли сыновья). И все ее дети получили высшее образование. Но это стоило ей таких трудов, которые не укладываются в моем воображении, хотя я, может быть, более других, кроме ее старшей дочери, унаследовала некую толику ее трудоспособности. У нее было 11 детей, выжило 6, двое сыновей и четыре дочери. Оба сына воевали в царской армии. Старший, первенец, любимец, красавец погиб в возрасте 21 года в чине ефрейтора. Второй сын отсидел за это свои 5 лет (всего 5, спасло, вероятно, социальное происхождение и то, что он был в армии очень недолго и совсем мальчишкой.)
Как бабушка успевала держать дом, печь хлеб, работать в поле (обрабатывать, десятину земли), содержать домашний скот (в разное время бывали и лошадь, и корова, и свиньи, и овцы, и птица). И еще она держала на полном пансионе студентов: нужны были деньги, чтобы учить детей. Помощников у нее практически не было. Правда, старшие дети с 13 — 14 лет сами давали уроки. Когда старшая дочь окончила гимназию, в актовом зале к ней подошла заведующая, обняла ее и сказала: «Посмотри, Верочка, в зал: кто из них не побывал в твоих учениках?» — Тетя преподавала все: и математику, и языки, и литературу. Она была очень способной.
(Семья жила нелегко, трудились все, и больше всех — бабушка. Однако во времена раскулачивания они были внесены в «черные» списки. В то время в доме жили одни старики: дети все разъехались. Никакого скота, никакой земли не было. Во дворе стояла полуразрушенная кузня, в которой дед изредка по чьей-либо просьбе делал мелкие поделки.
Моя мама в это время училась в Харькове, была активной пионеркой. Узнав об этой угрозе, она не побоялась пойти к самому Григорию Ивановичу Петровскому — председателю ВУЦИКа (Всеукраинского Центрального исполнительного Комитета). Родители, а возможно, и все дети, были спасены.
В доме всегда звучала музыка, все имели хорошие голоса и пели: соло, дуэтом, хором. Пели по нотам, хотя специального музыкального образования не имели. Старшие сестры до революции пели в любительской опере, правда, в хоре. (За всю свою жизнь я услышала очень мало романсов и песен, которых бы не слышала дома, прежде всего от мамы: русские романсы, украинские и русские песни, песни Вертинского, Лещенко, Изабеллы Юрьевой, революционные песни, пионерские и комсомольские песни 20-х годов. Позже я брала их уже и самостоятельно из внешнего мира.). Братья играли практически на всех инструментах: на всех народных и на фортепиано. В доме всегда было весело, шумно, ставились спектакли, танцевали. Как бабушке удавалось создать и поддерживать такой стиль жизни, не знаю.
Дети любили ее до обожания и любили друг друга. Когда она умирала (ей был 71 год) от воспаления легких, у ее постели в больнице собрались все дети, приехавшие из разных городов страны, ее последние слова были: «Мое вам завещание: будьте после моей смерти такими же дружными, как при моей жизни». — Потом сказала: «Я устала» — Закрыла глаза, тихо уснула и не проснулась. Это было 5-го июня 1941-го года, за 17 дней до начала войны.
Дети потом много раз благодарили судьбу за то, что она не дожила до кошмара, который на нас вскоре обрушился.
Дети остались дружны до конца своих дней. Они жили в разных городах, далеко друг от друга, но постоянно друг друга поддерживали и каждый год отпуск проводили вместе. Сейчас остались только их дети, двоюродные. Мы уже старики, но мы продолжаем любить друг друга, любить и помнить наших мам и с благодарностью вспоминать наше родовое гнездо, из которого мы вынесли чувства любви и верности, которые грели нас всю жизнь и позволяли выживать, держаться, не терять мужества и веры в невероятно тяжелые времена, которые всем нам выпали на долю.
К отцу дети относились прохладно. Он умер зимой 1942 года во время оккупации.
Папа мой был единственным ребенком своих еврейских родителей. Но и дедушка, и бабушка происходили из многодетных семей. Отец деда моего до революции держал постоялый двор, отец бабушки — аптеку. Все дети в обеих семьях получили высшее образование. Среди них были юристы, врачи (эти профессии еще до революции стали доступны евреям), дедушкины дядья были довольно известными земскими врачами; в советские времена среди моей еврейской родни были ученые, конструкторы, писатели, актеры, юристы, врачи. Дедушка мой был довольно известным юристом. (в конце 20-х годов он был в Харькове председателем областного суда; Харьков в то время был столицей Украины). Бабушка долгие годы вела театральную студию на одном очень крупном московском заводе.
Обе семьи были очень дружные. Всех, кого мне довелось из них знать, я любила, и они дарили мне тепло и ласку. Мои родители встретились в Харькове в профшколе. Мама приехала туда учиться после окончания лисичанской семилетки. Папа в Харькове жил. Потом они оба поступили в Харьковский институт народного хозяйства: мама на финансово-экономический факультет, папа — на факультет внешних сношений.
Детская любовь, возникшая почти с первого взгляда еще в профшколе, переросла в любовь взрослую, и я — единственный ее плод.
Тогда, в 1938-ом, с которого я начала главу, наверное, основной радостью нашей жизни было тепло наших семейных отношений, тем более, что это было время, когда людей разобщали, озлобливали, разлагали страхом и тотальной ложью.
Не помню, когда, но довольно рано, мне кажется, еще до войны (война началась, когда мне не было еще шести), мама мне сказала: «Твой папа осужден как враг народа, но никакой он не враг». — Я не задала вопросов, но запомнила это на всю жизнь: наверное, у детей, как у зверушек, нет понимания, но есть очень мощная интуиция.
Моего папу очень любила вся семья, и по его линии, и по маминой. Он был добр, умен, красив, прекрасно пел. Жизнь его была сломана, когда ему было 19. После бурной политической дискуссии 1927 года, в которой он принимал активное участие, он был исключен из института (он кончал 3-й курс) и арестован, но тогда он пробыл в тюрьме всего 3 месяца. Вернуться в институт ему не дали. В 1937 году он был снова арестован (10 лет спустя, за «грехи» студенческих лет), а в 1938 — расстрелян. О расстреле мы узнали уже в хрущевские времена. Но об этом — дальше. Сейчас я хочу лишь сказать, что на меня излилась вся любовь не только, как на сиротку (папу арестовали, когда мне было полтора года), но и как на единственное, что от него осталось. (Моя мама — красивая, веселая, певунья — тоже была любимицей обеих ветвей моей семьи: маминой — русско-украинской и папиной — еврейской). В этой любви я выросла. Времена были нелегкие (легких времен в России, наверное, никогда не было, а в 20-ом веке — тем более). Но к каждому празднику из разных городов я получала посылки с игрушками, книжками, вещами. Я тоже горячо любила всех. Как человек благодарный по природе, я не только в детстве, но и много позже всегда хотела делать подарки, дарить радость. Но удавалось очень мало: бодливой корове Бог рог не дает… А, может быть, и не в корове дело… Любовь, которая меня окружала, — это был тот жизненный элексир, который был моим главным жизненным богатством, он наполнял меня силой, и эта сила позволяла мне справляться с трудностями и бедами.
В 1937 — 1938 гг. после ареста папы моя мама, поскитавшись в поисках работы более полугода и не получив ее, как жена репрессированного, с ребенком на руках вернулась к родителям. Наверное, эти скитания: Урал, Харьков, Лисичанск — нас спасли. Жена и дочь расстрелянного должны были, по крайней мере, быть отправлены в ссылку. Нас просто потеряли… (Наверное, Сталин, если бы на том свете прочел бы мою книгу, на полях написал бы: «Не добил!» И матерную брань. Не зря добивал…). Так или иначе, мы с мамой снова оказались в Лисичанске, на этот раз — надолго.
Примерно метрах в двухстах от нашего лисичанского дома был детский сад, во дворе которого почти целый день играли дети, и я стала убегать к ним. Когда оттуда пришли воспитатели и сказали: «Или отдайте девочку в сад или не пускайте ее к нам: она играет с нами, а когда мы уходим есть или спать, мы оставляем ее одну», — меня отдали в сад. Детский сад — это светлая полоса моей жизни. Одна из наших воспитательниц прекрасно рисовала. Другая была балериной; из-за травмы ноги она оставила балет. Они устраивали изумительные утренники, с прекрасными танцами и костюмами. Костюмы делались из накрахмаленной крашеной марли, из цветной бумаги. Танцы оттачивались. Танцевали вдохновенно. Однажды самый крупный и красивый наш мальчик, всеобщий любимец, в танце потерял сапог (наверное, сапог был великоват, а танцор горяч), но продолжал танцевать. Об этом потом долго с восторгом и смехом вспоминали.
Я не была сильна в танце. Я хорошо читала стихи.
Заведующая наша была маленькая толстенькая женщина. Когда она входила в зал, мы, оставив свои занятия, бросались к ней, и она превращалась в виноградную гроздь — каждая ягода висела там, где смогла уцепиться: на шее, на руке, на ноге… (Во время оккупации она организовала приют для осиротевших детей и выбивала у немцев для них питание. После освобождения ее должны были судить «за сотрудничество с немцами». Но людям удалось ее отстоять: ведь она спасала детей тех, кто погиб во время войны на фронте и в тылу).
Еще у нас в саду была удивительная личность — наш повар Мария Андреевна. Дома я ничего не ела, давясь, глотала что-то «за дедушку, за бабушку, за папу, за маму», за всю мою родню (и никого нельзя было обидеть), но когда в нашу детсадовскую столовую приходила Мария Андреевна, в белом халате, в белом высоком колпаке, румяная, с ведром подмышкой, с большим половником и разливала нам по тарелкам ненавистную манную кашу, я помню, с каким аппетитом мы все ели, описывая вокруг каши сужающиеся круги: каша всегда была с пылу-с жару.
Однажды под Новый год наши воспитатели сказали нам, что нас ждет сюрприз. После полдника нас повели в «Комнату сказок». Мы вошли в нее с закрытыми глазами. Когда нам разрешили открыть глаза, раздался шумный вздох восторга. На полу комнаты лежал ковер. Стены были завешены полностью «полотнами» картин на сюжеты русских сказок (их рисовала наша Тамара Тимофеевна). С потолка свисали на ниточках гирлянды снежинок из ваты. Их было много-много, и все, казалось, было в мареве снега. Комната освещалась разноцветными фонариками. Впечатление осталось в памяти на всю жизнь.
Сейчас, вглядываясь в глубину тех лет, я думаю об этих людях, об этих бессеребренниках, которые самозабвенно в такие страшные годы, в нашей нищете и бедствиях окружали детей теплом, радостью и красотой.
Начала войны я не помню. У меня не было погожего июньского воскресенья, взорванного страшным событием, расколовшим жизнь всего народа на «до» и «после». У меня не было крутой перемены в жизни: мой отец не ушел на фронт — он был расстрелян раньше. Просто в жизнь стали входить какие-то новые люди и события. Постепенно из этого складывалось детское понимание: война. Полное же понимание происходившего пришло десятилетия спустя
Осенью 1941-го какое-то недолгое время у нас на постое было 30 казаков: они спали покатом в зале. Их голодные лошади стояли во дворе. Они съели под корень старый большой дедушкин сад, деревянное крыльцо и ворота. (После войны у нас был молодой сад — он вырос от старых корней). Голодали лошади, голодали люди, голодали мы. Голод наступил, в сущности, летом 1941-го, и для нас (на Украине, в Донбассе) он продолжался до осени 1947-го. Какое-то заметное облегчение пришло после отмены карточек в декабре 1948-го.
Стояли у нас на квартире двое очень молодых и симпатичных ребят — Шура (радист) и Вася (шофер). Если они ели дома, они всегда приглашали нас: мне запомнилась большая сковорода, вокруг которой все собирались.
Голод гнал горожан в деревни менять вещи на продукты. Вряд ли деревня была богата в те времена. Но, в отличие от времен голодомора, ситуация была обратной: деревня что-то имела, город — практически ничего. Поэтому деревенские были переборчивы и не щедры. За хорошую шубу можно было получить полтора пуда пшеницы. У нас не было шуб. Иногда мамочка моя приходила в слезах: пройдя за день 30—50, а иногда и более километров, она приносила мисочку зерна или пшена, иногда четвертушку подсолнечного масла, а нас было трое: мама, дедушка и я. При этом ноги у нее были отечные, как столбы. До сих пор не знаю, от голода или от усталости: в старости таких отеков у нее не было.
Осенью 1941-го немцы подошли к самому Лисичанску. Несколько раз их отгоняли «катюши». Я помню, как мы: мама, ее подруга, которая жила в это время у нас, и я — бегали по дому от окна к окну, чтобы видеть огненные облака, которые летели по небу. Дом дрожал, казалось, качались стены и земля. На всякий случай, на нас было надето несколько слоев одежды: если снаряд попадет в дом, а мы выживем, чтобы мы не остались без одежды. Моя мама во время войны вела себя очень смело, и я до сих пор не знаю, был ли причиной тому ее сангвинический характер, было ли это легкомыслие, фатализм или, действительно, смелость, но поступки ее очень часто выходили за рамки спокойного благоразумия. А, может быть, мудрость… Она никогда не пряталась в погребе от бомбежек и артобстрелов (погреб у нас был глубокий, большой, сухой и всегда в опасные моменты полон соседей). Этой смелостью (или легкомыслием) она заражала свое окружение.
Всю зиму 1941—1942 годов немцы простояли на подступах к нашему городу. Иногда к нам забегал комиссар дядя Володя — прямо с передовой, которая была в нескольких километрах от нашего дома. Он рассказывал, что между боями и наши, и немецкие солдаты бежали из окопов греться в ближайшие дома и, не глядя друг на друга, грели руки, стоя рядом у печей. А потом разбегались по окопам, чтобы убивать друг друга… (Зимы 1941—42, 1942-43-го годов были лютые).
Уехать в эвакуацию было практически невозможно. А у мамы на руках был больной отец, который был нетранспортабелен, и полуеврейская дочь, жизнью которой она рисковала. Может быть, если бы мама была практичней, расчетливей, настойчивей, холодней, она бы нашла какой-либо выход, но все же, надо полагать, это было в той ситуации за пределами возможного. И мы остались дома, уповая на судьбу, на Армию нашу, на «авось» — в условиях полной дезинформации это было не очень трудно.
До самого прихода немцев в городе шла какая-то жизнь: я ходила в детсад, мама — на работу: она была экономистом и работала в промбанке. Раза два я была в госпитале, читала стихи раненым. Наверное, я там была не одна, но помню только большую палату, много перевязанных раненых и то, что меня ставили на стул.
Во время артобстрелов мы в детском саду спускались в погреб. Там нам стелили ковры, зажигали свечи, и наши воспитательницы рассказывали нам сказки. Иногда туда же нам приносили еду. Артобстрелы учащались. Однажды мы два дня почти целиком провели в подвале, а на третий день (это было 2-е июля 1942 года) я снова пошла в сад. Из дома мы с мамой вышли вместе: она шла на работу, я — в сад.
Во дворе детсада было пусто. Помню, что меня поразила не пустота, а какое-то зловещее предчувствие. Навстречу мне вышла наша повар Мария Андреевна и сказала: «Танечка, а детсад сегодня не работает». Я выскочила на улицу, окликнула маму (она не успела еще уйти далеко) и попросила ее взять меня с собой.
Мы не прошли и двухсот метров, как услышали заунывно-устрашающий рев немецких бомбардировщиков: два самолета кружились, казалось, над самыми головами. Из дома напротив выскочили две мамины приятельницы с криком: «Скорей, скорей в бомбоубежище: сейчас будет бомбежка!» Мы были как раз рядом со знаменитой большой лисичанской баней. Оказалось, что под ней было огромное, почти во всю ее длину, бомбоубежище. Когда мы в него вбежали, оно было полно народа: целые семьи, с домашним скарбом, сидели на своих узлах. Нам с мамой с трудом нашли местечко в углу на скамейке. Едва мы пробрались в угол, началась бомбежка. Грохот, взрывы следовали один за другим. Иногда открывалась дверь в убежище (мы сидели от нее далеко) — входили солдаты, вносили раненых. Многие люди плакали. Мамочка шепнула мне: «А ты не плачь: умрем — так вместе». Чем сильнее были разрывы, тем крепче мамочка прижимала меня к себе. Это была моя первая встреча с реальной военной опасностью, и мама в этот момент испытания детской души сумела передать мне часть своей твердости и спокойствия, и с этим я прошла всю войну, хотя встречаться с опасностью, бороться со страхом мне пришлось еще не однажды.
Когда бомбежка прекратилась и стало как-то особенно тихо, в убежище вошел директор бани и сказал: «Товарищи, освободите помещение — мы будем взрывать котлы». (Баня — объект стратегический. Такие объекты старались немцам не оставлять).
Мы выбрались из убежища, вышли на улицу. Город был неузнаваем: всюду валялись осколки стекла и черепицы, упавшие столбы электролиний, спутанные провода. Разбитых домов я не помню. Бомбили какие-то другие объекты, не мелкие жилые дома. Но взрывные волны снесли крыши, выбили стекла, и город, только что зеленый и чистый, почти мирный, казался разрушенным и поруганным. Мы с мамой по осколкам и обломкам, перепрыгивая через провода, побежали дальше: мамочка моя не повернула домой — она бежала на работу, в банк. До банка было еще метров 300. Когда мы до него добежали, два новых мессершмидта, еще более гадко и надрывно завывая, совсем низко кружили над нашими головами. У ворот банка в подводу, в которую была впряжена одна лошаденка, грузили мешки с банковскими документами. (Их настигла бомба на мосту через Донец: и люди, и лошаденка, и документы утонули в реке.)
Через несколько минут после того, как мы добежали до банка, началась вторая бомбежка. Здесь не было бомбоубежища. Мы укрылись в комнатке (она была вровень с землей), в которой Госбанк хранил деньги. (Промбанк и Госбанк были в одном здании). В комнатке были несгораемые шкафы, какие-то койки, две железные двери и мощные запоры.
Комнатка тоже полна была народа. Почему-то было много маленьких детей. Мы с мамочкой снова оказались в углу, и она так же крепко прижимала меня к себе. Вторая бомбежка была намного продолжительнее и намного страшнее первой. Люди молились. Самым страшным был момент, когда большая бомба упала во двор банка. Взрывной волной вырвало и унесло обе железные двери нашего убежища. Волна огня ворвалась в помещение. К счастью, не было ни убитых, ни раненых. Наверное, были контуженные. Моя мама после этого довольно долго плохо слышала. Я осталась цела и невредима: наверное, мамочка надежно прикрывала меня своим телом. Для меня самым страшным впечатлением от этого эпизода остался плач детей: они кричали долго, громко, безутешно, страшно (их было трое — крошек до полутора — двух лет). После этого я, наверное, лет 15 не выносила детского надрывного плача: я не находила себе места, мне становилось необъяснимо плохо…
Потом стало тихо, страшно тихо… Мы выбрались из убежища. Воронка от бомбы начиналась от самого его порога и занимала почти весь двор банка. Здание было старинной каменной кладки: так строили крепостные башни и стены. Оно устояло. Но длинного ряда огромных красивых окон почти не было: стекол не было вообще, не было и части рам. Все было завалено внутри и снаружи каким-то мусором: штукатуркой, черепицей, стеклами, обломками мебели.
Двор банка был отделен от улицы большими зелеными (наверное, дубовыми) воротами. Они тоже устояли, только были изрешечены осколками. Все оставались во дворе, боясь выйти за ворота. Не знаю, когда кончилась бомбежка, но хорошо помню, что было 4 часа дня (так говорили взрослые), когда раздался грохот мотоциклов. Немецкая моторизованная пехота шла по улице. Мы смотрели на нее через осколочные отверстия в воротах. На противоположной стороне улицы стояли двое, мужчина и женщина, в белых одеждах и белых туфлях — они приветствовали немцев.
Когда сумерки стали сгущаться, мы с мамой окольными путями пошли домой. К счастью, мы никого не встретили. Дома оставался дедушка. Дом наш тоже пострадал. В палисадник упала бомба, но небольшая, поэтому стена осталась стоять (наверное, ее защитили большие деревья, которые росли перед домом), но осыпалась вся штукатурка внутри и снаружи, стена и осыпавшийся потолок в зале были как решето, большое трюмо упало и разбилось. Дедушка в тот момент, когда упала бомба, был на веранде, но остался невредим, только щека была поцарапана осколком.
На следующий день у нас на постое уже было двое немецких солдат. Но до этого, конечно, было проверено, нет ли в доме советских солдат и коммунистов (надо сказать, двое солдат, которые их искали, делали это не очень тщательно). А потом явился мародер, немолодой немец, который стал рыться в нашем шкафу и комоде, переворачивая вещи штыком. Но наши жалкие пожитки не привлекли его внимания. Ему приглянулся небольшой кожаный черный портфель, не новый, но в очень хорошем состоянии, с большим количеством самых разных отделений. Он его прихватил, а мама не удержалась и сказала: «И вам не стыдно? Пошлете своей фрау в Германию?» — «Но-но», — сказал немец, пригрозил маме пальцем и ушел. Вечером, когда мама закрывала ставни, он проезжал мимо на телеге, полной награбленного добра. Увидев маму, он крикнул ей: «Метхен, лови», — и бросил ей портфель. Наверное, он потерял свою ценность на фоне награбленного. А я проходила с ним в школу с 1-го по 9-й класс, пока он совсем не вытерся добела.
На этом мое пребывание в Лисичанске, который еще долгое время оставался на линии фронта, несколько раз переходил из рук в руки, прерывается. Через несколько дней после того, как в Лисичанск вошли немцы, из Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован раньше, пришла моя тетя, чтобы спасти полуеврейское дитя своей младшей сестры, увезти меня туда, где никто не знал, кто я. Тетя прошла пешком, проехала на перекладных, на военных немецких машинах 150 километров и, без долгих сборов, увезла меня в Сталино.
Дорога в Сталино — тяжелое воспоминание. Мы ехали также «на перекладных» — на военных машинах. Большую часть пути проехали на небольшом итальянском фургоне со скошенным носом и крытым брезентом верхом. Российские дороги — это испокон веков «притча во языцех», но военные дороги, разбитые военной техникой, бомбежками и артобстрелами, трудно описуемы. В закрытом фургоне мы каждые несколько минут валились (летели, падали) с одного борта на другой. Мне, маленькой девочке, никогда не попадавшей в подобную передрягу, казалось каждый раз, что машина падает и мы погибаем. Между падениями мы не успевали прийти в себя. Это очень изматывало. Так мы провели день, и уже под вечер очередная машина высадила нас на окраине Сталино, точно так и не знаю, в 11-ти или 18-ти километрах от дома. Дорога домой казалась бесконечной. Но самым тяжелым оказалось последнее испытание: нужно было подняться на 4-й этаж. Не знаю, сколько мы шли, но через каждые 3 — 4 ступени мы садились отдыхать. Но мы все же дошли.
Тетя жила в трехкомнатной коммуналке. В одной комнате жила некая Шура, которую мы почти никогда не видели, и две комнаты занимала тетя с дочерью, но в тот момент в одной из них было на постое 5 немецких солдат, молодых парней: младшему было 19, старшему 32 — все его звали «стариком». Они вышли в переднюю, когда мы пришли. Наверное, у нас был весьма красноречивый вид, особенно у меня. Я была маленькая и очень худая. (Я вообще ростом не вышла, может быть, в определенной степени потому, что в детстве 7 лет очень голодала). К тому же я всегда плохо ела и не была упитанной даже до войны. Но сейчас за спиной был уже целый год голода: голод начался фактически с первых дней войны. А сейчас еще такой тяжелый день: военные дороги, военные машины, пеший марш-бросок — без еды и питья. Во всяком случае, через несколько минут 5 рюкзаков с солдатскими пайками были в тетиной комнате (что совсем не характерно для немцев). Я запомнила 5 банок сливочного масла. Думаю, что я его не видела с первого дня войны, а возможно, и мирное время не баловало нас этим продуктом. (Я знаю, что до войны дедушка становился в очередь за хлебом (это на Украине) в 3 часа ночи…) Наверное, на столе были и хлеб, и шоколад, и что-то еще, но я ела только масло, пальцем, из всех пяти банок.
Первые пять дней солдаты приносили свои обеды из столовой домой и кормили меня. Потом им это надоело, я, наверное, как-то пришла в себя, и все успокоились. Все, кроме одного, — Гюнтера. Гюнтер — это особый эпизод в моих военных воспоминаниях. Он был очкарик, красивый кудрявый блондин, очень высокий (он разбил голову о притолоку двери и долго ходил с крестом из пластыря на макушке, как с бантиком.) Ему было 25 лет. Он был единственный сын у матери. Был ли он студент или рабочий — не знаю. Может быть, знала тетя, но я давно уже ни о чем ее спросить не могу…
Гюнтер продолжал приносить обеды домой и делить их со мной. Через некоторое время солдат, которые у нас стояли, перевели на другие квартиры, и я никого из них больше не встречала. Но Гюнтер оказался в нашем же доме, в нашем подъезде, этажом ниже (теперь я думаю, он попросил об этом). И по-прежнему он прибегал в обед: «Тайня, эссен-эссен, ком-ком. Шнель-шнель!» — И я бежала к нему вниз. Однажды я разлила на скатерть — не на клеенку — полный стакан кофе с молоком. (Так питались немцы!). Я была в ужасе. Но он не ругал меня, а утешал. Иногда он брал меня вечером, и мы шли с ним гулять в сквер. У нас довольно долго сохранялся обрезок фотографии, на которой я стояла с максимально высоко поднятой рукой: Гюнтер держал меня за руку, но его на фотографии не было — тетя его отрезала. Он даже пытался иногда укладывать меня спать и рассказывать мне сказки, но для сказок нашего с ним русско-немецкого тарабарского наречия, на котором мы с ним легко общались, было недостаточно.
Рождество 1942 года немцы отмечали бурно, шумно (у нас в это время на постое никого не было), выскакивали на балконы, выкрикивали что-то, палили в воздух. Это было еще до разгрома под Сталинградом, они еще чувствовали себя победителями. А Гюнтер пришел к нам, принес рождественский ларчик с печеньем и свою художественную фотографию с дарственной надписью. Мы втроем: тетя, Гюнтер и я — сидели на железной койке в кухне, и тетя с Гюнтером о чем-то тихо разговаривали. Много времени спустя я узнала от тети, что Гюнтер ненавидел войну, Сталина и Гитлера. Поэтому он избегал солдатских компаний, нередко приходил поболтать с моей тетей (он называл ее мамой), и дружба с маленькой девочкой, наверное, тоже была какой-то отдушиной.
В какой-то момент почти все солдаты, жившие в нашем доме, исчезли — ушли на фронт. Бои шли, по-видимому, недалеко от Сталино, и через некоторое время значительная часть солдат вернулась на старые квартиры. Гюнтера среди них не было. Был он ранен или убит — неизвестно: спросить было не у кого. Светлую память об этом немецком юноше я сохранила на всю жизнь. Когда изменились времена, я, пожалуй, попыталась бы его найти, но имени его я не знала. Его фотографии тетя уничтожила: за них мы непременно отправились бы в ГУЛАГ. Вспоминая о нем, мне хочется отметить еще одну деталь: летом в жару немецкие солдаты ходили в трусах — сатиновых черных; теперь такие трусы называют «семейными». Гюнтер никогда не ходил в трусах: думаю, он считал, что это демонстрация неуважения к населению.
До войны и, следовательно, во время оккупации тетя моя жила в самом центре Сталино. Наш дом пятиэтажный в центре и четырехэтажный по краям стоял внутри огромного прямоугольника, образованного сомкнутыми пятиэтажными домами. Сторона прямоугольника — большой квартал. Внутрь двора вели две арки и вход со стороны небольшого сквера. Один угол двора образовывало Г-образное 5-этажное здание, сожженное нашими при отступлении. Одно время там под сгоревшими стенами за колючей проволокой прямо на снегу лежали и сидели наши военнопленные. Я не знаю, как долго они там находились: была зима, и я почти не выходила из дому — не в чем было. Я ничего не понимала. Взрослые с детьми, как и между собой, не обсуждали опасных тем: сталинский террор научил людей молчать. Это сейчас, спустя десятилетия, я, как в телескоп, рассматриваю события, которые сохранила моя детская цепкая память, и пытаюсь их осмыслить. Несколько лет назад моя сестра, с которой мы жили в те страшные годы (ей тогда было 18), дочь моей спасительницы тети Веры, рассказала мне, что однажды, когда она шла недалеко от колючей проволоки, за которой были наши бойцы, молодой конвоир, который ходил вдоль этой изгороди, поравнявшись с ней, тихо сказал: «Дай им хлеба — я отвернусь». Но хлеба не было… Голод — это было постоянное ощущение в течение всех лет войны и первых лет после войны. Когда, куда и как ушли военнопленные, я не знаю.
В противоположном конце нашего двора было такое же Г-образное пятиэтажное здание. В нем было общежитие СС. Однажды мы шумно играли у того края нашего дома, который был ближе всего к этому зданию. Солдаты, которые были у нас на постое, загребли нас всех в охапку, увели подальше оттуда и тихо сказали: «Никогда не играйте в той стороне дома и не шумите — это опасно». Почему, мы не поняли, но запомнили.
Однажды мне, полуеврейской девчонке, тем не менее удалось даже побывать внутри этого здания. Я была дистрофиком. От голода у меня колени, локти и углы губ были покрыты язвами с мокнущими корками. Не помню, кто, как и почему привел меня в медсанчасть этого дома. Я запомнила медсестру, блондинку, в чистом накрахмаленном светло-зеленом халате-сарафане, белой кофточке и белой косынке. Запомнилось ее недоброе брезгливое лицо. Но язвы мои она мне чем-то смазала. Меня водили туда дважды, и язвы мои исчезли.
Я ничего не понимала в сути происходящего, я просто фиксировала его в своей памяти. Я не понимала, почему тетя увезла меня из Лисичанска от мамы. Когда тетя привезла меня в Сталино, она 4 дня не выпускала меня из дома. Выходить я могла только на балкон. — Смешно, глупо, опасно, но — факт: вот что страх делает с человеком. На пятый день я убежала. Когда я вернулась, тетя больно выдрала меня за шкафом резинками от кружки Эсмарха. (Надо сказать, что бить детей у нас в семье принято не было — это тоже был продукт страха.) Плакать не разрешалось. На следующий день я снова сбежала, и снова была порка. Тетя била, неистово, нервно, со слезами. Странно, меня, в сущности, никогда не били, и такая экзекуция была для меня внове. Но я не обижалась на тетю. Хоть я была еще маленькой, я понимала, что тетя меня любит, что она чего-то боится. Я сдерживала слезы, но упорствовала и продолжала убегать. В конце концов, я заявила: «Вера, сколько бы ты ни била меня, я буду убегать». И тетя отступилась. (И где только ни носило нас, стайку чумазых, голодных воробьишек: по каким-то минным полям, по разбитым паровозам и вагонам, но Бог нас хранил, а взрослые ничего об этом не знали.) Но то, чего тетя так боялась, все-таки стряслось. Поскольку я не знала, чего надо бояться, в какой-то болтовне с дворовыми ребятишками я сказала: «А мой папа еврей». В тот же день к моей тете пришли и спросили: «Так Ваша племянница еврейка?!» — Назавтра я была уже далеко на окраине города у весьма пожилых друзей моей тети — тети Тани и дяди Саши, в их отдельном домике и отдельном дворике. Не знаю, сколько времени я провела у них — месяц, два? Когда стало ясно, что все обошлось, что никто никуда ничего не донес, я вернулась домой.
Я была так глупа, что уже будучи ученицей старших классов, студенткой первых курсов института, никогда не попыталась встретиться с этими людьми, посмотреть им в глаза, поклониться им в пояс. Правда, мы жили в разных городах, но все же я, хоть и не часто, бывала в Сталино — потом Донецке. Когда стало приходить осознание происходившего, ни тети Тани, ни дяди Саши не было в живых.
Голод — не тетка. Он проходит красной нитью через все мое детство, с 1941 по 1948-й год. Но степень недоедания бывает разная, и самый тяжелый голод был во время оккупации.
Единственным источником продуктов была деревня, но она сама была бедна, капризна и не щедра. И моя тетя дважды отправлялась в Лисичанск поискать в бабушкином сундуке что-либо, что примет деревня. Но на это надежды было мало. Более надежд она возлагала на соду: в Лисичанске был еще в царские времена основанный содовый завод — он и в советские времена был союзного значения. Мыло во время войны — продукт бесценный. Но это продукт стратегический и потому опасный: гражданское население немцы карали за покупку, продажу, распространение мыла. Но… голод — не тетка. И тетечка моя рискует привезти оттуда в Сталино немного соды: на рынке ее из-под полы продавали рюмочками. Что такое жить без мыла, знают те, кто это испытал: это вши, чесотка, болезни, тяжелый дискомфорт. (Моя бедная тетечка и после войны долгие годы экономила мыло: стирала руки в кровь, чтобы отстирать белье с малым количеством мыла.) На вырученные от продажи соды деньги можно было купить хлеб.
И тетя моя ушла. В назначенный день она не вернулась. На следующий день тоже. Мы заволновались. Моя сестра обнаружила, что в кармане ее жакета треснуло маленькое зеркальце: с мамой что-то случилось — решила она. И бросилась на поиски. (И тетя моя, и сестра хорошо говорили по-немецки. Тетя еще с гимназических времен, а сестра, как ни странно, в советской школе, которую она не успела окончить до оккупации, научилась неплохо говорить. Потом языки стали ее профессией. Зная язык, можно было надеяться что-то выяснить. Немцы ценили знание их языка. Я не помню, как долго она искала тетю, но нашла она ее в каменоломнях. Сколько времени провела тетя на этих каторжных работах: 10 дней — 14 — не знаю, но домой она вернулась измученная, поникшая.
Это был тяжелый урок. Но настали холода, и нужда снова погнала мою тетечку в Лисичанск. Теперь она пошла в основном за моими теплыми вещами. Мы ушли с ней из Лисичанска в июле налегке: никто не знал в то время, как долго продлится оккупация, будем ли мы живы, как мы будем добираться. Но до холодов дожили, а одежды не было.
Когда она ехала обратно, в поезде (или на вокзале) был досмотр. Соду она уже не везла. Она везла мои теплые вещи, какие-то скатерти и белье для деревни. Мои вещицы понравились переводчице: у нее была дочь моего возраста (тетя эту даму знала). А вещи у меня действительно были хорошие, из Германии. Папин дядя проходил стажировку (или учился) в Германии — он жил там с семьей лет 5 в начале 30-х годов (он был конструктор, позднее профессор, дважды Лауреат Сталинской премии). От его дочери (моей тети — сестры — друга — доброго гения всей моей жизни) я тогда получила это наследство. Вещи были уже не новые, но аккуратно штопаные, яркие, красивые (на фоне нашей большевистской нищеты) и переводчица стала кричать, что моя тетя первая спекулянтка (дас ист ерстед спекулянтен — я запомнила тетин рассказ). У тети моей отобрали абсолютно все, отправили в Гестапо и там избили.
Накануне ее возвращения у нас соскользнуло со стола и разбилось в мелкое крошево туалетное зеркало. И снова сестра моя в ужасе воскликнула: «Что-то случилось с мамой!». А назавтра тетя пришла домой, в разорванной одежде, вся в синяках, кровоподтеках, почти невменяемая. (С тех пор я плохо отношусь к разбитым зеркалам). Но, чуть подлечив свои синяки и раны, она пошла искать правду. Не знаю, сколько раз она туда ходила, но один раз она взяла меня с собой. Мы шли с ней морозным утром. Под ногами с хрустом ломался лед, затянувший лужицы на асфальте. На мне было летнее из тонкого шевиота пальто, сшитое из дядиного форменного пиджака. На ногах были туфельки из тонкой кожи, уже почти босоножки, потому что из протертых дырок торчали почти все пальцы. Меня она привела как доказательство того, что вещи предназначались мне. Долго ли, коротко ли, но немцы решили вещи ей вернуть. Ее привели на склад отобранных у населения вещей, но ни одной своей вещи она там не нашла. Тогда ей сказали: «Бери, что хочешь». Моя тетечка взяла старое отвратительное черносерого грубого сукна мужское полупальто — «москвичку» — так почему-то его называли — и 2 пуда пшена. Эту уродливую «москвичку» тетя моя носила несколько военных и послевоенных лет, а пшено, пожалуй, спасло нас от гибели, особенно мою сестру.
(Я осталась без теплой одежды, особенно без валенок. Валенки были много лет моей вожделенной мечтой, но первую теплую обувь я надела после 45 лет).
Самым тяжелым для меня в Сталино была разлука с моей дорогой мамочкой. Она осталась в Лисичанске. В течение полутора лет Лисичанск находился на линии фронта и несколько раз переходил из рук в руки.
У нас в зале над комодом висела в маленькой рамке картина Бродского (почтовая открытка) «Ленин в рабочем кабинете». Когда в город входили немцы, мама вставляла в эту рамку другую открытку — девушку с распущенными волосами — вставляла прямо поверх Бродского. Когда приходили наши, она легко вынимала девушку, открывая Ленина, а над парадным крыльцом вывешивала красный флаг. Иногда эти переходы происходили так быстро, что мама не успевала сменить декорации. Однажды она успела вынуть флаг из флагштока, но не успела его спрятать, и он остался стоять на веранде. И Ленина прикрыть не успела. Солдат, который пришел проверять, не прячутся ли в доме красноармейцы или коммунисты (они обязательно обегали все дома), увидел и то, и другое. О Ленине он сказал: «Ленин — карош, Сталин — некарош.» А насчет флага сказал: «Убери, а то официрен будет пук-пук делать».
Бои становились все более ожесточенными, и немцы выселяли людей из города. Сначала выселяли улицы, которые были ближе к Донцу (по Донцу проходила линия фронта). Многие сразу не уходили, а оседали на верхних улицах, удаленных от реки. (Лисичанск стоит на самой высокой точке Донецкого кряжа, а река течет под горой). Наш дом был высоко и далеко от реки, поэтому он долгое время был набит, как теремок, жителями нижних улиц. Но постепенно все уходили. Дом пустел. Зимой 1942-го умер мой дедушка, мамин отец, — от голода, холода и тоски. Накануне его смерти на его любимой гитаре неожиданно, со стоном, лопнула струна (наверное, было очень холодно). Дедушка сказал: «Вот и за мной смерть пришла». В доме оставалась еще умирающая от голода, холода и вшей старушка — дворянка, брошенная всеми родными, сыном и его семьей. Сына она обожала, боготворила, но он предпочел от нее отречься. Она прожила у нас более 20 лет, но его мы никогда не видели; по ее просьбе мама пыталась найти ее сына в Москве, но он от общения отказался. Я ее помню, как сухую, замкнутую, озлобленную старуху, ненавидевшую весь свет, но более всего детей. (Правда, любила кошек). За ней до последних дней ухаживала соседка из дома напротив, простая женщина: что их связывало, не знаю. Когда она умерла, в доме остались только мама и ее подруга с четырехлетним сынишкой. Немецкий патруль и русский полицай ежедневно приходили их выселять.
Трудно покидать родное гнездо, зная, что, если и вернешься когда-либо, то на пепелище. Но трудности были не только морального, но и материального порядка. Во время войны появилась такая специфическая категория транспорта — тачки — двухколесная телега, в которую впрягалась женщина (мужчин не было, только больные старики, да и те вымирали). Люди, уходя из домов в неизвестность, старались прихватить с собой хоть какой-то скарб. На тачках везли и детей. Мама несколько раз заказывала тачку, но ее каждый раз воровал сосед. Этот вор был несчастьем нашего дома. Он был невероятно страшен: уродлив от природы, с глубоко посаженными страшными черными глазами. Он был «героем» всех моих страшных снов, детских и недетских. Он непрерывно садился в тюрьму и очень скоро оттуда выходил: ведь «социально-близкий», не политический. Когда мама приходила к нему и указывала на украденные вещи (он их и не прятал), он нагло говорил: «Докажи». С тем мама и уходила. Что могла сделать одинокая молодая женщина против этого матерого волка?! Он обворовывал нас до нитки: снимал урожай на огороде, в саду; уносил почти в тот же день то, что мама получала по карточкам. И так продолжалось до тех пор, пока в доме не появился мужчина. Но в тот момент, о котором идет речь, он воровал самый ходовой товар — тачки. Не знаю, одну или две он успел уворовать, но последнюю мама уберегла. Но и ситуация была уже критической: немцы требовали немедленного освобождения дома.
После очередного категорического предупреждения проследить за выселением (непременным) прислали немолодого немца и, как ни странно, довольно мягкого человека. Пока укладывали скарб, собирали ребенка, короткий день начальной зимы перевалил за половину, и пускаться в путь с тачкой и ребенком в зимнюю ночь было нелепо. Но из дома уйти было необходимо — немец был за это в ответе. И он предложил уйти из этого дома в любой другой пустой дом (а в округе все уже было пусто), там переночевать, а рано утром пуститься в путь. Он сам взялся их устроить. Они сменили 3 дома, но нигде не смогли остановиться: где-то были выбиты окна, где-то безнадежно дымили печи (он сам пытался их растопить) — наверное, были завалены дымоходы. В конечном итоге, поздно вечером, по темноте, он привел их в какой-то дом и поместил на ночь в маленькой комнатке. Но всю ночь никто не сомкнул глаз. Наша авиация всю ночь бомбила город, бомбы рвались очень близко, а где-то совсем рядом всю ночь била зенитка. Когда утром они выбрались из своего убежища, они увидели, что ночевали в помещении зенитного расчета. Их никто не тронул, и они благополучно тронулись в путь. Они шли в Сталино 150 километров все по тем же военным дорогам.
А в Сталино события шли своим чередом. Я очень тосковала по маме. О ней ничего не было известно — связи никакой не было. Но однажды я подслушала разговор: из Лисичанска пришла женщина и сказала, что она видела всех, кто жил в нашем доме и покинул его, но моей мамы среди них не было — значит, она погибла. С тех пор я не расставалась с крошечной маминой фотографией и часто, забравшись за шкаф, стараясь, чтобы никто не слышал, тихо там скулила. Иногда нервы моей несчастной тети не выдерживали (она не переносила слез) и она стегала меня все той же резиной, а потом говорила: «А теперь плачь.» Это было несправедливо, но странно — я никогда не держала на нее зла. Я ее очень любила, считала второй мамой, все ей прощала. Наверное, война по-своему воспитывает детей. Я помню, что ходила в церковь молить Бога, чтобы мамочка моя вдруг оказалась жива. Церковь — это было крошечное помещение, наверное, небольшого магазинчика. Дверь на скошенном углу дома выходила прямо на тротуар. Я переступала порог и оказывалась в лампадном сумраке, где на стенах поблескивали в свете лампад серебро и золото икон. Старушки в платочках гладили меня по голове, приговаривая: «Бедная сиротка».
Тетя моя, конечно, тоже очень страдала, видя мое безутешное горе, мою тоску. Однажды ее осенила мысль познакомить меня с очень хорошей девочкой, внучкой своей приятельницы. Девочке было 5 лет, но она уже читала, а я, семилетняя балда, читать не умела. Тетя решила, что это знакомство может оказаться не только приятным, но и полезным. И мы пошли в гости. Девочка, действительно, оказалась очень милой, и уходить домой я не хотела. Тетя отчаялась меня уговорить и ушла домой, решив прийти за мной позже. Но прошло немного времени, и она вернулась со словами: «Татьяна, собирайся домой — мать приехала!» — На что я ей ответила: «Вера, если тебе очень надо, чтобы я пошла домой, могла бы придумать что-нибудь другое». Но тетя моя стала рассказывать своей приятельнице, как пришли, как ввалились… Я поняла, что это правда. Едва накинув на себя пальто, без шапки, без шарфа я помчалась домой. Тетя моя, не поспевая за мной, задыхаясь, бежала и кричала: «Татьяна, остановись, попадешь под машину!» — Действительно, надо было перебегать 1-ю Линию — центральную улицу Сталино, и там легко можно было подлететь под мчащийся немецкий «виллис». Но можно ли было об этом думать?! Я влетела в подъезд и, крестясь и приговаривая: «Неужели моя мамочка приехала? Неужели моя мамочка жива?» — понеслась на 4-й этаж. А сверху ко мне бежала, тоже плача, моя мамочка…
Мамочка вымыла меня, одела в сшитое ею из чего-то и вышитое платье, сфотографировала мои красивые длинные кудри и остригла наголо, чтобы избавить от невыводимых во время войны вшей. Вши — необходимые, страшные спутники бедствий. И не только вши: клопы, блохи, мыши, крысы и прочая нечисть.
В моей жизни появились солнце, свет, тепло, радость. Не уходил только голод. Лисичанского дома уже не было, менять было нечего. И мама вынуждена была пойти работать.
В нашем доме этажом ниже жила приятельница моей тети — оперная певица. Театр Оперы и Балета работал, и она устроила маму в театр портнихой в костюмерный цех. (Немцы обнаружили в этом «медвежьем краю», в который они пришли уничтожать дикарей, высокую культуру).
Странно, может быть, вселенскость русского национального характера определяет наш интерес к миру. И на Западе, и на Востоке деловые люди, активные члены общества более всего заняты проблемами своей семьи, своего бизнеса, своего успеха, а интерес к миру — удел профессионалов. Один немецкий солдат, скрипач (!) — не шахтер, не дворник, рассказывал, что, когда их посылали воевать в Россию, им говорили, что Россия — страна медведей и дикарей, захвативших огромные территории. Трудно представить, как человек, получивший музыкальное образование в одной из культурнейших стран Европы и мира, не знает, что почти соседняя с его страной огромная страна имеет не только загадочную страшную Сибирь (это знают почти все), но и великую культуру. Можно, хотя и трудно, не иметь представления о Достоевском, Толстом и Чехове, но не знать Чайковского, Мусоргского. Прокофьева, Рахманинова, Стравинского для музыканта вряд ли простительно. Возможно, ему не пришлось играть русских композиторов (такие были в Германии времена), что уж говорить о писателях.
А в конце 80-х годов прошлого века один наш приятель, будучи в Таиланде, сидя на скамеечке в парке, разговорился с тайским студентом (!). Когда он сказал, что он из Москвы, студент пожал плечами — он не знал, где это. Тогда наш приятель стал называть ему: СССР, Советский Союз, Россия. Да, студент что-то слышал…
Но вернемся к немцу, скрипачу. Когда он пришел в Россию как завоеватель, он сразу понял, что их обманули, что это страна высокой культуры, а не диких медведей. Это его так потрясло, что он не мог стрелять в противника. Он старался стрелять мимо, пока офицер не заметил это и не пригрозил, что, если он не будет стрелять в русских, он пристрелит его сам. Во всяком случае в Сталино немцы отдавали должное Театру оперы и балета.
Однажды мама повела меня в театр на «Бахчисарайский фонтан». Я понятия не имела о балете. Не знаю, успела ли мне мама что-либо рассказать об этом виде искусства, о сюжете спектакля; знаю только, что она посадила меня в пустую директорскую ложу на спинку кресла и ушла. Мне не довелось в жизни еще раз попасть на «Бахчисарайский фонтан». Я только в записях видела отдельные сцены в исполнении Улановой и Плисецкой — они и сейчас есть в моей кинотеке. Но тот спектакль я помню весь: все сцены, танцы. Я поняла сюжет. Когда Мария изнывала в мучительной тоске и отчаянии в покоях Гирея, я начала плакать. Когда к этим страданиям присоединились угрожающие страдания Заремы, я начала плакать навзрыд. В какой-то момент я поняла, что что-то произошло. Я оторвала взгляд от сцены и посмотрела в зал. В сумраке зала я увидела десятки, сотни расплывчатых пятен — это были лица немецких солдат (офицеров?) — больше в зале никого не было. Все эти лица, как по команде, были направлены на меня. Я затихла. Действие продолжалось. Я продолжала смотреть на сцену и плакать тихо — мне было не привыкать… Насколько мне помнится, мама не получила в театре выволочки за этот инцидент.
Время шло. Приближался момент нашего избавления. На постое у нас еще очень недолго были два немецких офицера. Но ни они с нами, ни мы с ними не общались: мы для них были «русише швайне».
Моя сестра попала в списки угоняемых в Германию. Мы были в отчаянии. Но помогло несчастье: сестра заболела брюшным тифом. Когда за ней пришли (это было уже совсем незадолго до ухода немцев), моя тетя широко открыла дверь и призывно сказала: «Заходите, заходите, пожалуйста, у нас тут как раз брюшной тиф.» Их смыло от двери, как ураганной волной. Но радоваться было нечему. Сестра лежала без сознания, без лечения, без питания. В таком состоянии она пробыла много суток — сколько точно, не знаю.
Наши подошли к самому Сталино. 3-го сентября 1943 года они вошли в город. Немцы, уходя, Сталино сожгли: сожгли не только стратегические объекты, но и весь центр города, прекрасную центральную улицу — 1-ю Линию, или улицу Артема. Поскольку мы жили в самом центре города (одна сторона нашего прямоугольного двора выходила на улицу Артема), наш двор был почти полностью сожжен. Нас выселили из дома, и мы укрылись под стенами ранее сгоревшего дома, сожженного еще нашими. Дом наш был облит бензином и несколько раз подожжен, но жители не давали пламени распространяться. Он многократно загорался, будучи облит бензином, от искр, летевших от горевших вокруг зданий, но все же был спасен — почти единственный дом во всей округе.
Под сгоревшими стенами собрались все жители нашего многоподъездного дома со всем скарбом, который попытались спасти от огня. Среди всего этого гама, дыма, скопища узлов, чемоданов и мебели лежала без сознания моя бедная сестричка. Мы с мамочкой повезли ее на тачке в более спокойную часть города, не объятую пламенем. Когда мы пересекли ревущую в пламени 1-ю Линию, за нашей спиной рухнула на дорогу, по которой мы минуту назад прошли, огромная трехэтажная рама углового универмага. Горячие стекла с треском разлетелись по всей ширине улицы, но мы остались невредимы. Лилюшу мы положили в каком-то полусарае-полудоме на 7-ой Линии. Мама ушла, а я осталась ее сторожить. Когда пожары прекратились, немцы ушли, мы вернулись в свой дом. Маму мою тетя, по праву старшей сестры, отправила в Лисичанск узнать, что с домом. Дом мама нашла абсолютно разрушенным, но там ее увидело местное руководство и заставило организовывать банк. В те времена человек был абсолютно бесправен. В Лисичанске маму теперь ничто не держало, но против своей воли она осталась там и почти навсегда — до пенсии.
А мы снова остались втроем. Сестра моя пришла в сознание, а тетя, наоборот, слегла. Что было с ней, я не знаю. Ей ставили туберкулез, нервное истощение, что-то еще. Во всяком случае, у меня на руках оказалось двое очень тяжелых больных. Мне уже исполнилось 8 лет. Я хорошо читала (тетя обучила меня этой премудрости в 3 дня). Я научилась читать довольно хорошо, почти бегло, но этот форс-мажор на несколько лет отбил у меня охоту читать что-либо, кроме абсолютно необходимого. В школу я еще не ходила. Но мне пришлось вызывать врачей, ходить в столовую за обедами и вести все наше нехитрое хозяйство. В поликлинике я довольно бегло отвечала на любые вопросы и помню, как вокруг меня собирались люди в белых халатах посмотреть на маленькую дрессированную обезьянку. А в столовой мне наливали двойную порцию и часто клали мне в котелок не полагающуюся мне котлету или кусок пирога с капустой. Тетя называла меня кормилицей.
Но этот «праздник» длился недолго. Как остававшихся на оккупированной территории, нас выселили из квартиры, и, вместо центра, мы оказались на самой окраине города, в крайней хате у террикона, с которого начиналась когда-то Юзовка — сегодняшний Донецк. (Тетя моя лет 10 скиталась по частным квартирам, потеряла все свое имущество, прежде чем получила комнату в глубоком подвале. Подвал был тоже коммунальной квартирой. Там жило несколько семей. Но в кухне — это была маленькая бетонная каморка с коммуникационными трубами — там стояли 2 газовых плиты и страшный колченогий стол. В этой каморке (двери в ней не было) жила молодая женщина с маленьким, лет 2-3-х, сынишкой. (Этот мальчик довольно рано стал доктором наук). Хорошую комнату в центре города, рядом с тем домом, в котором жила до войны, тетя получила от института, в котором работала, когда ее внуку шел второй год, через 12 лет после окончания войны.)
А хата, в которую нас выселили, была с земляным полом, маленькими, как бойницы, окошками, низкими потолками, покрытая соломой. Вместе с нами в этой двухкомнатной хате оказалась еще одна женщина с девочкой. Женщина мне казалась старухой, но, наверное, она была молодой: ее девочке было года четыре. Тетя, шатаясь, ушла на какую-то работу. А сестричка моя состояла из кожи и костей, ходить она не могла. Я должна была учить ее ходить. Но, несмотря на то, что Лилюша ничего не весила, поскольку я весила еще меньше, мы часто обе заваливались с ней на стенку, держась за которую шли. В этот страшный момент нас выручило то самое пшено, которое тетя получила в Гестапо в обмен на свои вещи. Мы его ели очень экономно, и, конечно, максимальную порцию получала моя сестричка, но, опустошив тарелку, она начинала плакать: «А мне ничего не дали», — она искренне в этом была уверена…
Меня определили в школу. Это был, наверное, конец октября 1943 года. Учебников у меня не было никаких, но было 2 толстых общих тетради, одна в клеточку, другая в линию, которые мне были подарены в день рождения. И это было бесценное богатство: мне не пришлось, как многим детям, писать на старых газетах и книгах. Но в школу я почти не ходила — не было одежды, не было обуви. Появлялась я там изредка и долго не могла запомнить, где мой класс. В большой многоэтажной школе, полной крика, суеты, бегающих детей, я терялась, и когда после звонка коридоры и вестибюль школы пустели, я, часто плачущая, оставалась в вестибюле одна, и кто-нибудь отводил меня в мой 1-й «б». Наверное, у меня была хорошая память, потому что я быстро освоила прописи, а читала я хорошо, и под Новый год я решила написать письмо маме. Не знаю, как долго, — неделю, месяц — я целые дни разлагала слова на буквы: з-д-р-а-в-с-т-в-у-й д-о-р-о-г-а-я м-а-м-о-ч-к-а… В конечном итоге, 9-го января 1944 года, согласно почтовому штампу, мой треугольничек был в Лисичанске. Письмо на двух сторонах тетрадного листочка, написанное приличным почерком и даже относительно грамотно, — это наша семейная реликвия. (Вряд ли до этого я успела побывать в школе более десятка раз, а учебников или прописей не было в доме никаких и заниматься со мной было некому.). Я писала маме, что я «голая и босая», а потому не хожу в школу, что Вера уходит рано и приходит поздно и что я хочу, чтобы она приехала за мной. Письмо произвело впечатление не только на маму и ее сотрудниц, но и на ее управляющего. Он выписал маме сухой паек и дал три свободных дня, чтобы она привезла дочь.
Не буду писать, как я ждала маму, как мы встретились — оставлю это в своей памяти. Но вот я снова в Лисичанске со своей безумно любимой мамочкой. Лисичанск лежал в руинах, в том числе и наш дом. Город весь зарос бурьяном выше человеческого роста. Бурьян рос даже между камнями мостовой. Город был полон мышей и стреляных гильз всех видов оружия. Нередко встречались и целые патроны, с капсулями и порохом (к счастью, артиллерийские гильзы обычно были пусты). Жили мы в квартире банковского дома: в двухкомнатной квартире (комната и кухня) жила мамина сотрудница с сыном и мы с мамой.
Мыши были бесстрашны, наглы и вездесущи. Когда мы ложились спать, они начинали бегать по нашей постели (возможно, они приходили к нам греться). Мы прятались под одеяло с головой, мама плотно подтыкала его всюду и начинала мяукать. Смеяться над этим я начала много лет спустя. Кошки были на вес золота. Но не было ни золота, ни кошек.
Сын маминой сотрудницы Юрка был почти на 2 года старше меня. Он учился в первом классе для переростков, учеба которых была прервана оккупацией. Они проходили частично программу 2-го класса. Конечно, я попросила маму, чтобы меня зачислили в этот класс. Меня зачислили условно. Какое-то время уроки арифметики я проводила в тихих слезах: они считали до 100, делили и умножали, решали примеры со скобками, а я понятия не имела о таблице умножения, об умножении и делении. Однажды поздно вечером я сидела в тупом отчаянии над арифметикой и, когда в дом вошла мама, я задала ей один мучивший меня вопрос: почему трижды два шесть, а не пять (я многократно задавала этот вопрос Юрке и получала один и тот же ответ: потому, что шесть; учительнице я, по-видимому, задавать этот вопрос боялась, чтобы меня не перевели из этого класса.) Мама ответила просто: потому что это значит по 2 взять 3 раза. У меня в жизни было несколько таких озарений, которые что-то резко меняли и запоминались навсегда. Это было одно из них. Больше вопросов маме я не задавала. Я быстро сделала задание по арифметике, и год я окончила с похвальной грамотой. Юрка учился плохо, я быстро обошла его в учебе, но во всем остальном я была его верной ученицей.
Печь мы растапливали с порохом и бикфордовым шнуром (мамы наши удивлялись, почему печка все время осыпается: они ее обмазывают, а она осыпается…). С Юркой я примкнула к полубандитской шайке полусиротской шпаны. Я бегала с ними по улицам, лазила по развалинам и крышам, сквернословила, как они, ничем не уступая атаманам.
Мы взрывали все невзорвавшиеся капсули, делали пугалки, непрерывно играли в войну, жгли в больших кострах росший повсюду бурьян, бросая в них все, что могло трещать и взрываться: патроны, черепицу, обрывки бикфордова шнура. Но чаще всего мы играли в войну с нашими соседками
Рядом с нами жила странная семья: женщина с тремя детьми. Они жили не в доме, а в сарае. Сарай был завален какими-то досками, сломанной мебелью, всякой гадостью. Он был темный, черный, пыльный, грязный. Летом на нас не было иной одежды, кроме трусов (так было года до 1946-47-го). Эти дети были серокожими: лицо, руки, животы были покрыты плотным слоем грязи. (это связано было и с отсутствием воды. Когда был снег, не было проблем. Во все остальное время мы брали воду в Донце. К Донцу нужно было спуститься с 70-метрового кряжа по крутым обрывистым каменистым тропам. Очень часто, когда подмораживало или после дождя было скользко, воду проливали, уже почти поднявшись вверх: поскальзывались на пролитой воде (а может быть, на слезах…)
Стоило только зайти к ним в сарай, ноги становились черными от блох, которые тучами нападали на свежего человека. Белки глаз наших подруг сверкали, как у негров. Мать выглядела так же, как дети, она была в каком-то платье, тоже черно-сером, и, по-моему, она была не совсем здорова рассудком. Малыш, мальчик лет 2-х — 3-х, был летом всегда голым. Наверное, они жили на пособие, которое получали за воевавшего отца.
(Не могу сразу не заметить, что спустя несколько лет после окончания войны я случайно попала в этот уголок Лисичанска и решила навестить моих давних уличных подружек. Я была поражена сияющей чистотой их домика. Добела вымытые полы, чистые половики, накрахмаленные скатерти и покрывала. Чисто одетые девочки. Ни матери, ни мальчика я не видела. Видела отца — маленького, кругленького, улыбчивого и энергичного.)
Девочки, Лора и Жанна, были крошечные. Одна была на год старше меня, другая — на год моложе, но, несмотря на то, что я сама была очень мала, они были еще меньше. Конечно, в наших играх они были всегда немцами, а мы с Юркой русскими, и мы всегда побеждали.
Еще мы ходили с теми же судками, с которыми ходили к Донцу за водой, в столовую, где нам наливали в них баланду: воду, в которой плавала либо капуста, либо перловка. Еще наши мамы получали хлеб: 500 грамм на работающего и 300 грамм — на иждивенца. И в школе на большой перемене нам давали по 50 граммов желтого кукурузного хлеба. Боже, как же ждали мы эту перемену…
Летом мы сменили место жительства. Я рассталась с Юркой, со шпаной и сквернословием, и на ненормальную лексику с тех пор реагирую крайне болезненно, как на мерзость нравственную и языковую ядовитую грязь.
Мы переехали во флигель нашего дома. Дом был полностью разобран людьми: сняты крыша, полы, окна, двери, разобраны оба крыльца. Остались стены с размокшей штукатуркой и обвалившийся потолок. Но мамины сестры и брат не хотели терять родовое гнездо, сложились и прислали маме деньги, чтобы она отремонтировала каморку во флигеле, и мы жили при доме, охраняя то, что осталось. Все это было бессмысленно. Мы никогда не смогли бы отремонтировать дом. Помощь пришла неожиданно. Мама к этому времени была уже заместителем управляющего Промбанка в большом, бурно развивавшемся и восстанавливающемся районе Донбасса. Ни она, ни управляющий никогда ничего не просили у строек, заводов и шахт (этим грешили инспекторы). Может быть, именно поэтому (и по другим причинам) их очень уважали клиенты. И Лисхимпромстрой (теперь это огромный химкомбинат с выросшим вокруг него большим городом Северодонецком) предложил маме восстановить ее дом, но за это на 3 года взять его в аренду. Сделка состоялась, и через 3 года мы уже жили в своем доме. Съеденный под корень конницей Буденного старый сад вырос к этому времени от старых корней — в основном это были абрикосы, вишни и сливы. Огромный куст сирени разросся за годы войны, вопреки всем бедствиям. Через несколько лет двор наш был весь в цветах. В теплые украинские ночи душистый табак благоухал на всю округу. Я и в Москве долгие годы, пока были силы, сажала душистый табак, сначала на балконе, потом на даче, но в наших северных широтах редко случаются теплые ночи, и он пахнет слабо.
Но это все потом. А пока еще 3 года мы жили в другом двухквартирном банковском доме. Весной 1944 года банковцам дали землю под кукурузу и подсолнухи. Трактор прошел по гранитной донецкой солончаковой целине, перевернул пласты (без бороны), и это было нам дано под посевы. Мы с мамой пытались тяпками разбить хоть чуть-чуть этот гранит, чтобы было куда бросить зерно. Но от моих ударов от него не отскакивала даже пыль. Я очень скоро выбивалась из сил, падала на землю и засыпала. Но, наверное, пару десятков жалких початков с этого «огорода» в 44-ом году мы с мамой все-таки съели.
У нас было 2 довольно больших комнаты — одна из них была кухней с маленькой печкой, которая совсем не грела. Дров не было совсем. Уголь представлял собой почти сплошную пыль, поэтому создать жар в этой печке и тепло в доме было практически невозможно. Когда на улице было холодно, в квартире тоже была минусовая температура, вода в ведре замерзала. Я не снимала в доме ни пальто, ни шапку, ноги всегда были ледяные. Школа тоже практически не отапливалась. Чернила в чернильницах часто замерзали. Холод доставал нас повсюду. Ночью мы с мамой раздевались, наваливали поверх одеяла все, что у нас было, укрывались с головой и согревали друг друга. Страдания от холода усугублялись продолжавшимся голодом. У нас в кухне стоял большой полуразбитый бабушкин сундук, который служил нам чем-то вроде кухонного стола. Он был фактически пустой: в нем стояли какие-то пустые банки, лежал какой-то пустой мешок. Иногда я открывала его и, стоя над ним, думала: «Может быть, будет когда-нибудь такое время, когда люди не поверят, что может так быть, что во всем доме нет ни единой крошки съестного».
В этом доме мы встретили Победу. Я помню яркий солнечный майский день. Мы в красных галстуках со всей школой были на митинге на главной площади нашего городка, а вечером банковцы устроили застолье. (Застолье тогда нередко бывало таким: кто-то приносил чекушку водки, кто-то луковицу, кто-то кусочек хлеба, еще соль — вот и застолье.) Что тогда было на столах, не знаю, не помню. Но водка, конечно, была. Стол для взрослых был накрыт в соседней квартире — она была больше нашей. В нашей были дети. Обе квартиры соединял небольшой теплый коридор. Банковцы — это женщины, в основном молодые, потерявшие во время войны женихов и мужей. Мужчин было трое: управляющий, полуслепой старый главбух и калека инженер. Взрослые шумели, пели (во время войны много пели: пели народные, украинские, русские, пели военные, лирические, грустные и победные). Потом вдруг раздавался цокот каблучков: на нашу половину прибегала какая-либо из женщин, бросалась на постель и рыдала в подушку. Отрыдавшись, она вытирала глаза, поправляла одежду, прическу и шла на ту половину, с порога включалась в песню, в общий разговор. Через каждые 15 — 20 минут ситуация повторялась. Все они побывали на нашей половине, может быть, и не по одному разу.
Какое-то облегчение пришло в 1948 году. 1947 год на Украине был голодный, страшный.
Зимой 1947 года я заболела очень тяжелой ангиной. Я лежала одна во всем доме (соседняя квартира в это время пустовала) с температурой 39 — 40 градусов, в бреду, без лекарств, без еды и питья. В комнате было минус 5 градусов. Мама приходила вечером, топила печь в соседней квартире: та печь нагревалась, наша — нет. В одеяле уносила меня в кухню той квартиры, сажала на стол, чем-то кормила и поила горячим. Больничный лист по уходу тогда не давали. Работники в банке были наперечет, со специальным среднетехническим — только управляющий, а с высшим — только моя мама. (Но несмотря на высшее образование и общепризнанную высокую квалификацию, мама со своей анкетой: жена репрессированного, была на оккупированной территории, работала при немцах — никогда не могла занять должность управляющего (управляющий должен был быть обязательно партийным).
Когда мои ноги превратились в две синебагровых колоды, мама испугалась, осталась дома и вызвала врача. Врач констатировал ревматизм, назначил аспирин и, не дав больше никаких указаний, исчез из моей жизни навсегда. Только уже будучи студенткой старших курсов мединститута, я поняла, что перенесла самую опасную, чреватую самыми опасными осложнениями нодозную форму ревматизма. С такой формой ревматизма лечились стационарно несколько месяцев. Но когда люди не могут или не хотят помочь, спасает Бог. Я выздоровела. Когда мои ноги смогли влезть в бабушкины сапоги (из тонкой кожи на красной шелковой подкладке), без всяких теплых носков, я вышла на улицу: все равно в доме было не теплее. Мне встретилась моя учительница: я училась тогда в 4-ом классе. Она радостно воскликнула: «Танечка, ты уже выздоровела?» Я сказала: «Да» — «Когда ты придешь в школу?» — «Завтра.» И я пошла в школу. (Наверное, я болела долго: у меня по болезни не аттестована целая четверть.) В школе тоже был холод. И голод. Как отличница и слабенькая, я получала на большой перемене блюдечко какой-то затирухи из черной муки с водой. Я на всю жизнь осталась ревматиком, но я не получила тех страшных осложнений, которые мне причитались в той ситуации. Господь хранил меня (не в первый и не в последний раз).
Школа наша, длинное трехэтажное здание, состоявшее почти из одних огромных окон, стояла на большом выбитом плацу. Во время войны, до оккупации, в ней был госпиталь. В школе было холодно и грязно. Менялись директора, но ситуация не менялась. В классах и коридорах голодные дети лузгали семечки. И классы, и коридоры были засыпаны шелухой подсолнечника. Во время уроков устраивались учительско-ученические рейды. Староста класса должен был сказать, кто принес в класс и кто грыз семечки. Это был смешной вопрос: шелуха была под всеми партами. Семечки, как наркотик, от них невозможно оторваться, особенно, когда ты голоден. В те времена я в течение двух, а возможно, и трех лет была старостой класса. Я, конечно, никого не выдавала: это всегда осуждалось, а для детей войны это определялось, как предательство. Но с тех пор семечек я не ем.
Но и в этих условиях мы оставались детьми, которые радуются солнцу, пушистому снегу, бегают по лужайкам, лазают по деревьям, радуются жизни. У нас не было игрушек, мячей, скакалок, но мы изобретали новые игрушки и игры; играли в прятки, жмурки, казаки-разбойники и мн. др. Мы были детьми природы: мы ели какие-то ягоды, какие-то травки. Самым большим лакомством была акация. Мы ее поедали со страстью в большом количестве. Однажды, уже будучи студенткой, я решила попробовать, действительно ли акация так хороша — я ее мгновенно выплюнула. Но тогда мы были очень оголодавшие.
Зимой у нас не было ни лыж, ни коньков, но саночные приключения были фантастическими. Санки были почти у всех. Во время войны санки, как и тачки, были единственным гужевым транспортом. Лисичанск стоит на вершине кряжа, и все его улицы наклонены к реке, не очень круто, но для санок чувствительно. Примерно за полкилометра от реки начинаются обрывистые склоны кряжа, но там кататься было бы гибельно. А по улицам мы могли катиться 1 — 2 километра, разгоняясь до такой скорости, что дух захватывало (машин в городе практически не было). Если мы катались по мощеным улицам — это был восторг от скорости. Мы часто из санок собирали целые поезда — тут уж были на скоростях цирковые трюки. А на боковых улочках были другие восторги — ухабы. Мне никогда не пришлось видеть такого катания, хотя очень хотелось, чтобы мои внуки испытали это удовольствие.
И все же настал день, когда нам улыбнулось школьное счастье: пришел новый директор, который изменил всю нашу школьную жизнь. Очень скоро в школе стало и тепло, и чисто, на окнах появились цветы. Когда он шел по коридору, гордо неся свою красивую голову с черной густой шевелюрой прямых волос, мы им любовались, мы его любили (он преподавал физику в старших классах), как учителя, как директора, как мужчину.
Когда я была в 5-ом классе, мы с учительницей ботаники стали на задах школы поднимать целину (это было почти то же самое, что вскапывать асфальт). Но опытные участки были созданы, разбиты на грядки, каждый ученик (кто хотел) получал небольшую грядку, на которой он выращивал какую-нибудь интересную культуру. Летом во время каникул мы мостили дорожки, сажали аллеи, живые изгороди. (Когда я пришла в школу после окончания 1-го курса института, школа вся утопала в зелени, а перед входом в школу огромная беседка, увитая диким виноградом, утопала в цветах.)
Я сохранила светлое воспоминание о школе. У нас было много хороших учителей — это были учителя, воспитанные на культурных традициях старой России. Я в маленьком шахтерском городке ни разу не слышала, чтобы кто-то из мальчишек ругнулся в стенах школы. Да и на улице я не слышала мата. (Сейчас, когда на улице вижу впереди группу молодых людей, я стараюсь отстать, уйти в сторону, на противоположный тротуар. Иногда по обрывкам одной — двух фраз понимаешь: это идут студенты. Значит, можно идти спокойно: студенты, как правило, не сквернословят. Но страшнее всех сквернословят девушки (раньше такого вообще не было: они кричат на всю улицу, бравируя своей «продвинутостью», «крутостью» — так это, кажется, у них теперь называется…)
В школе я особенно любила двух преподавательниц русского языка и литературы. Одна была молодая, она была ближе к нам, помогала выпускать школьную газету, часто подсказывала темы вечеров и отдельных номеров. Вторая была уже не молода (ее взрослый сын был известный на всю округу врач), высокая, величественная. Она вела у нас не только литературу, но и психологию, и логику (в 9-10-ом классах). Иногда на вечерах читала нам интересные лекции.
Хамить учителям, панибратствовать, как это нередко можно видеть сейчас, было абсолютно исключено. Мы тоже безобразничали, иногда даже срывали уроки (довольно редко), но это носило обычно характер шалости, шутки, но не грубости или издевательства.
Начиная с 8-го класса, учителя обращались к нам на «Вы». Почти каждую субботу после уроков в школе был вечер — это самодеятельность: пение — хоровое, сольное, шутки — оркестр «ложечников», «расчесочников», художественное чтение, пьесы и обязательно танцы. В субботние вечера мы проходили курсы бальных танцев: мы танцевали краковяк, «На реченьку», польку, па-де-катр, кадриль еще какие-то танцы, но до мазурки мы не дошли. В эти вечера по всему кругу нашего довольно большого актового зала (пионерской комнаты) выстраивались парами почти все старшеклассники. Потом мы танцевали и вальсы, и танго, и фокстроты. Бальные танцы научили нас не стесняться танцевать с мальчиками (обучение у нас было смешанное). У нас был великолепный конферанс — это были двое талантливых ребят из старших классов: они оба потом пошли в кинематографию. Номера часто повторялись, но смеха не убавлялось.
Я больше всего любила спектакли, сама их ставила и обязательно в них играла. Однажды мы ставили сцену из пьесы «Юность отцов» (автора не помню). Там у меня был монолог девушки в камере в ночь перед казнью. Я слышала, что в зале хлюпают носами. После спектакля ко мне подошли директор школы, завуч и учительница русского языка и сказали, что я должна идти в театральное училище. (Может быть! Это мне потом говорила и наша руководительница драмкружка в институте, а она была известная артистка. Театр всегда был моей страстью, я его любила и боялась, что уйду за театром, как за цыганским табором… Но часто ходить в театр не приходилось: не было денег, не было времени, не было и сил… — «Нэ судылося Мотри щастя»…)
Летом тех, кто не уехал куда-то отдыхать, часто привлекали к работам на школьном участке или к работам в окрестных колхозах. Я рвалась в колхоз. Начитавшись Бабаевского, Пановой, других певцов колхозного счастья, я, словно пьяного угара нанюхалась, — мечтала посмотреть, что такое новая счастливая жизнь.
В 1950 году, после окончания 7-го класса такое счастье мне выпало: на 10 дней нас, 15 человек, отправили в колхоз. Мне не пришлось побывать в колхозных хатах и дворах, побывать в поле. Нас поселили в колхозном клубе. Это была большая хата под соломенной крышей, без потолка, без окон, без дверей, с глиняным полом. На этот пол нам бросили солому — это был наш дом. Работали в две смены по 12 часов: с 6 утра до 6 вечера, и с 6 вечера до 6 утра. Мальчики предоставили нам право выбрать смену. Мы выбрали ночь — днем было слишком жарко. Мальчики тут же отправились в поле возить хлеб, а мы пошли в наш «дом» спать. Предыдущую ночь мы не спали. Мы приехали в колхоз вечером, никто нас не встречал. Ночь мы провели за околицей села на лужайке. У нас была снедь, которую мы привезли из дома, 4 выношенных солдатских одеяла на 15 человек и 2 крошечных подушечки. Уснуть мы не смогли, всю ночь мы играли, дурачились, пели. А около 6 утра за нами пришли. Теперь перед ночной сменой надо было хоть немного поспать.
Рядом с нашим клубом был колхозный курятник. Смрад, оттуда исходивший, был удушающим, но страшнее этого смрада были мухи. Их были тучи. Они жалили во все места, а укрыться нам было нечем, да и жара была невыносимая. Это была пытка, которой мы подвергались все 10 дней. В полдень нас пригласили в другую избу обедать. Этот обед — одно из потрясений моей жизни, хотя я долго и сурово голодала. Нам подали нечто черное и вонючее: это была гнилая баранья солонина, заправленная черной мукой. Наверное, нечто подобное вызвало бунт на «Потемкине» … Потрясение было не только от мерзости этой пищи, но и от краха тех иллюзий, с которыми я сюда прибыла. Мы уже все проголодались, но есть это никто не стал. По-моему, ни завтраков, ни ужинов не было — просто мы ели хлеб, тоже черную мякину, из которой мы лепили чертиков и пульки.
А ночью — новая пытка. Нас поставили веять зерно ручными веялками. Это были уже вторые сутки без сна. Стоя крутишь колесо веялки 50 минут, на 5 минут — отбой. Когда объявляли отбой, я падала прямо в зерно у веялки и отключалась в ту же секунду (так было всегда, ибо все 10 дней мы спали очень мало). Проснуться и снова стать к колесу было настоящей пыткой. Так прошло двое суток. На второй день был тот же обед, и мы снова его не ели. На третьи сутки наступил перелом: наши мальчики после своей смены не спали до 6 утра, а в 2—3 часа ночи приходили к нам, иногда даже в 1 час ночи, и мы все вместе быстро выполняли нашу норму. Колхознички обрадовались и хотели, было, увеличить нам норму, но тут мы все встали на дыбы. (Вы думаете, мы шли спать?! — Нет, мы гуляли, играли, пели песни до 6 утра, до ухода мальчишек на работу. А дальше, все сначала…)
Надо сказать, что колхозники к нам, городским, отнеслись не очень доброжелательно, хотя мы были детьми и мы приехали им помогать. Они говорили: «Вот вы, городские, вы живете хорошо, вы не знаете, как живет деревня». — Но мы работали хорошо, и они растаяли. На третий день они нам дали ту же солонину, с душком, но не откровенно тухлую, и мука была чуть посветлее. На 5-й день нам испекли из свежего зерна изумительно вкусный белый пышный пшеничный хлеб. Это было пиршество. Это был праздник. Последние 2 дня мы ели свежую баранину и даже что-то вкусное. Так я в детстве чуть-чуть соприкоснулась с колхозной жизнью, где-то под Александрией в Донбассе.
Не помню, была ли я в 9-ом или уже в 10-ом классе, когда вышел фильм Ивана Пырьева «Кубанские казаки» — музыкальный фильм-сказка, которая, возможно, была бы осуществима, если бы человечество было другим. Какое изобилие всего: товаров, продуктов, красок, талантов, веселья, любви. Территория, на которой снимался фильм, была оцеплена. Говорят, какая-то старушка, которой удалось подойти достаточно близко, спросила: «Ребята, а о чем сказку снимаете?» — А в действительности, голодная, серая, пьяная деревня вымирала. В ней было крепостное право советского образца для того, чтобы хоть кого-то удержать в этих гиблых условиях на этой гиблой земле.
Говорят, Сталин любил фильм «Кубанские казаки» и много раз смотрел его. Назвать это лицемерием, кощунством, детской любовью к сказке — слишком слабо. Мне почему-то кажется, что-то глубинно родственное есть в этом с той радостью, с какой Нерон смотрел на горевший им подожженный город, на факелы горевших христиан, хотя прямой аналогии здесь нет, кажется даже, — наоборот. Сталин знал, что он сделал с деревней. Но знал ли он, какой она в результате стала? Сомневаюсь. Да вряд ли этот вопрос его волновал. Такой вот сладенький, явно лживый фильм вполне заполнял пустую нишу.
Надо сказать, что это лекарство от действительности он небезуспешно прописывал всем гражданам Советского Союза. На пике террора, когда страна застыла в параличе страха, он заявил: «Жить стало лучше, жить стало веселей!» — и потребовал от всех видов искусств веселых мелодий, веселых сюжетов, веселых картин. И зазвенели радостные песни, бодрые марши, веселые мюзиклы в школах, заводских клубах, на экранах, на сценах, на площадях. Тарелки репродукторов и кинопередвижки проникали в самые глубинные районы нашей необъятной страны. Я не понимала тогда всего этого, и воспитывалась именно на этих патриотических, бодрых, мелодичных, красивых и радостных песнях, пионерских, комсомольских, военных, лирических, которые бодрили и крепили веру в будущее. Это была Ложь! Но ложь продуманная, просчитанная. Тогда, когда десятки, сотни тысяч, миллионы лучших людей страны истреблялись в лагерях, расстрельнях, камерах пыток, ссылались в лагеря ГУЛАГа или на поселение в мертвые пески или на вечную мерзлоту; когда позже из-за сталинских просчетов мы на каждого немца клали 8—12 своих мужчин и мальчиков, когда целые армии гибли в «котлах» под Вязьмой, Киевом, Харьковом, в Крыму, мы пели патриотические бодрые песни, славили вождя, конницу Буденного и радовались тому, что с «с нами Ворошилов — первый красный офицер…». Даже в прекрасной военной песне: «Вьется в тесной печурке огонь» — слова «до тебя мне дойти не легко, а до смерти — четыре шага» — петь не полагалось: со сцены эти слова не пели. Битва под Москвой и победа в ней возродила в людях веру в себя, в нашу страну, в наше будущее. Но в этой битве полегли не только сотни тысяч солдат, но и десятки тысяч москвичей, гражданских людей, в большинстве своем безоружных, они почти завалили своими трупами подходы к Москве. А в кинофильме-мюзикле И. Пырьева «В 6 часов вечера после войны» ополчение уходит (в сущности на гибель) под красивую легкую мелодию, и герои весело поют: «Шагают отряды, идут в бой девчата, и нам, друг, с тобою пора.»
Пырьев — фигура загадочная. Я не думаю, что он был холуй. Он был большой художник. Он не мог не знать, что происходит в стране. Возможно, он верил в «ложь во спасение», а может быть, он верил в ложь, как в правду.
О Сталине, о сталинской эпохе можно говорить бесконечно. Я еще надеюсь что-то об этом сказать. В течение всех 30 лет своего кровавого правления он уничтожал все талантливое, деловое, активное во всех слоях общества, во всех областях общественной деятельности. Перманентный террор то набирал силу, то стихал, то вздымался девятым валом, то останавливался, когда возникал кадровый кризис. Он уничтожил почти все, что осталось от старой России — все, что не ушло в эмиграцию. Он уничтожал все яркое, талантливое, что рождала новая Россия. Все это было угрозой его власти. На что он рассчитывал? Думаю, на новые поколения. На поколения радостных, хоть и полуголодных и полураздетых, манкуртов, воспитанных на «его» — Идола — поклонстве. И во все, самые страшные, времена во всех школах, в вестибюлях, пионерских комнатах, актовых залах висели плакаты: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Его портреты были во всех классах, учебных кабинетах — во всех помещениях всех учебных заведений обязательно. Они были повсюду: во всех журналах, газетах, книгах.
И мы так и росли — счастливые манкурты — сироты. Сиротство, вдовство было почти поголовным.
Но была школа, школьный дух, школьные вечера, самодеятельность и… кино! Кино в моей жизни играло очень большую роль: тогда ведь не было телевидения, в городе нашем не было театра и почти не было книг. (Первая книга, которая появилась у нас в доме — был томик стихов и поэм Лермонтова, который в 1946 году мама купила в разрушенном еще Харькове в букинистическом магазине. В следующем году мне были подарены 2 тома Пушкина. В течение нескольких лет это была вся моя библиотека. В школе первые 2 года я училась, не имея ни одного учебника, в 3-ем классе — половину учебников и только в 5-ом классе — полный комплект. Удивительно ли? До 1948 года мы пили чай (кипяток без сахара) из консервных банок, а первые стулья появились у нас в 1953 году — до этого мы пользовались тремя колченогими табуретками. Но Россию бедностью не удивишь, и к бедности ей не привыкать. В России всегда духовные ценности были выше материальных. Может быть, потому, что слишком тяжела была ее история. А может быть, наоборот, потому она и выстояла в ней, что дух был крепок.
Хорошие фильмы мы смотрели по несколько раз, распределяли роли и разыгрывали сюжеты любимых фильмов дома, во дворах, на улице. Сначала шли довоенные и военные фильмы, а потом хлынул блестящий поток трофейных, главным образом голливудских, фильмов. Я до сих пор помню их названия, содержание многих из них. Во-первых, фильмы-оперы и оперетты: «Риголетто». «Флория Тоска», «Богема», «Травиата», «Любовный напиток», «Андалузские ночи», «Строптивая Мариэтта», «Роз-Мари»; прекрасные фильмы «Двойная игра», «Осенние дни», «Большой вальс» — и многие другие, не говоря уж о потрясавших общество «Индийской гробнице» и «Тарзане», хотя для меня они были менее интересны, чем первые.
Когда я была уже в старших классах, в нашем городе появился театр. Репертуар его был небольшой, и я знала его наизусть: в нашем классе училась племянница одной из ведущих актрис театра, с которой мы дружили. На премьеры мы с подругой ходили по билетам, а потом тайком от родителей, по контромаркам, по много раз. Особенно часто на «Коварство и любовь» Шиллера. Фердинанда играл молодой красавец актер. Но театр продержался у нас всего 2 года, а потом покинул нас в поисках лучшей доли: после премьеры еще 1—2 раза спектакль шел с аншлагом, а потом при почти пустом зале: театралов в нашем небольшом городке было недостаточно.
Но не все так безоблачно было в моем «счастливом» детстве.
Мой папа был арестован в Москве в мае 1937 года. Он был осужден по 58 статье на 8 лет (тогда это был максимальный срок). В июне 1938 года мы получили от него письмо с Колымы, с прииска Ат-Урях, т.е. он попал в самое адское пекло ГУЛАГа. А осенью 1938 года и маме, и бабушке вернулись посланные ему посылки с надписью «Умер». Ему было 29 лет. И мама, и бабушка стали бегать по всем инстанциям и писать запросы. В какой-то момент, значительно позже, после войны (не помню точно, когда) пришел ответ: «Осужден на 10 лет без права переписки», потом откуда-то снова пришло — «Умер». Бабушка в 1944 году умерла, а мама продолжала слать запросы (в Москву, в Харьков, Луганск (Ворошиловград), в Магадан). Ответов не было. В конце войны и после ее окончания мы с мамой стали ждать папу (8 лет истекли). Я рисовала себе его облик, вглядывалась в мужчин, иногда за кем-то бежала вслед. Мама в тоске обратилась к гадалке. Та обрисовала маме в деталях картину его возвращения, и мама стала ждать с новой надеждой и верой. (Надо сказать, что во время войны, особенно в конце ее, гаданье стало эпидемией — гадали все и на всем: на горелой бумаге, на билетиках, на картах. Гадали почти все. Но были знаменитые умные и умелые гадалки.)
В 1948 году, через 10 лет после того, как она впервые увидела это страшное слово «умер», мама вышла замуж. Почти через 2 года после этого на один из своих многочисленных запросов мама получила ответ: «Ваш муж получил дополнительно 12 лет и переведен в лагеря особого режима.» Мама тут же решила, что будет добиваться разрешения поехать к нему, где бы он ни находился. Отчим уехал в другой город. Мама спросила меня: «Поедешь со мной?» — «Да», — ответила я без колебаний. Снова пошли запросы: что такое 12 лет — всего 12 или дополнительно к 8; где он, можно ли к нему приехать, как это сделать и т. д. Ответов не было. В конце концов, какой-то из ответов сомнений не оставил: умер. Формулировки его я не знаю. Позже, в 1956-ом, мы получили из Магадана его реабилитацию с сообщением о том, что 8 августа 1938 года он «умер от паралича сердечно-сосудистой деятельности». — Какой диагноз изобрели! В другой бумаге было написано, что он был судим Тройкой УНКВД по Дальстрою. Даты смерти в разных бумагах 7-8-9 августа 1938 года. То-есть, он был расстрелян. Но, если в таких случаях можно говорить о радости, то я рада, что он не дожил до зимы. Все, кто приближался к золотым приискам ГУЛАГа, сходились на том, что самые сильные выдерживали там не более 3-х месяцев (летом). А зимой этот срок для большинства сокращался до месяца. Они умирали страшной мучительной смертью. Этих мук он избежал. Думаю, он унес в свою раннюю могилу тяжкий опыт физических и душевных страданий, опыт раздумий, наблюдений и страшных открытий. Полгода он провел в одной из самых страшных тюрем того страшного времени — в Харьковской. Он писал оттуда маме нежные письма на папиросной бумаге, прятал их в швах белья, которое разрешалось отдавать родственникам в стирку. Но за эти полгода в свои 28 лет он стал совершенно седым. Об этом мы узнали от приятельницы моего дедушки, которой во времена «оттепели» удалось тайно мельком заглянуть в Архиве в его «Дело». После харьковского ада он пережил еще один, может быть, еще более страшный — полугодовой (зимний) этап от Харькова до Колымы. Известно, что на этапах погибало от 30 до 100% узников: на конечные станции прибывали вагоны, во многих из которых были только трупы.
Мой отчим вернулся. Он был инженер-монтажник, объехал весь Союз. Душа любой компании, он знал массу частушек, шуток, прибауток, карточных фокусов, гаданий, умел занять и одурачить всю компанию оптом. Но в тонких вопросах он был не силен.
Прежде всего, он очень ревновал маму ко мне и грубо рвал нашу связь. А связь была крепкая. После того, как я теряла маму во время войны, я очень тяжело переносила всякую, даже короткую разлуку с ней. В первых трех классах я чаще всего делала уроки у мамы в банке, стоя, на краешке ее стола. У меня это отнимало не более получаса, после чего я бежала на улицу к своим уличным друзьям. Если я была дома, я не ложилась в постель, пока не приходила мама, а она приходила очень поздно, а иногда даже не поздно, а рано (утром). Если я не могла ее дождаться, я засыпала на сундуке (о котором я уже писала) — все равно во всякое холодное время года в доме я была в пальто. Иногда проснувшись и обнаружив, что мамы дома нет, я натягивала шапку и шла к маме в банк. Времени я не знала, часов ни у кого не было: весь город поднимался по заводскому гудку, который будил всех в 7 часов утра. Я могла идти к ней в 11 часов вечера, в 1—2 часа ночи. Шла почти через весь город, не боялась идти через старое кладбище. Единственно, чего боялась, — волков, и все время смотрела по сторонам, не горит ли где пара зеленых глаз… Если мама продолжала работать (это всегда было во время отчетов –квартальных, полугодовых, годовых, — кроме мамы их никто не мог писать, и писала она их только ночами: днем надо было работать) я ложилась спать на стульях (в банке всегда было гораздо теплее, чем у нас в доме), а в 4—5 часов утра мы шли с мамой домой поспать до гудка.
Однажды мамочка отправила меня в пионерский лагерь. Это было в 1944 году, еще шла война, мне еще не исполнилось девяти лет. «Лагерь» наш был километрах в семи от нашего дома, среди развалин, в разбитом доме, где не было ничего, кроме осыпавшихся кирпичных стен: ни пола, ни крыши, ни окон, ни дверей. (Но в Донбассе лето обычно сухое и теплое). С собой каждый принес что-то похожее на одеяло и подушечку. Но с нами там занимались, а главное — кормили. Нас там было человек 15—20, так мне кажется. Днем мы с пионервожатой сидели под единственным сохранившимся среди развалин большим раскидистым деревом, во что-то играли, пели песни, она нам читала. Наверное, ели там же. А ночью шли в развалины спать. В первую же ночь, когда все уснули, я убежала — не потому, что мне было плохо: я не могла без мамы. Ночь была теплая, черная, звездная. Яркая луна серебрила грунтовую дорогу, по которой я бежала, как полагалось, в одних трусах, босая, прислушиваясь к тому, как шлепали мои ноги по выбитой, твердой, как гранит, дороге. Я прибежала домой около 5 часов утра. Мама, не мешкая, повела меня обратно — ей нужно было успеть на работу. На следующую ночь все повторилось, и снова мама повела меня обратно. Когда я убежала и в третью ночь, мама уже пошла забрать мои вещи и сухой паек.
Через 2 года мама снова отважилась отправить меня в лагерь. Мне уже было почти 11 лет, и лагерь был на расстоянии 18 километров от дома. Я продержалась 2 недели и все-таки сбежала. Больше таких экспериментов не было.
Вот такую связь мой отчим сразу, с первого дня начал рвать кроваво, грубо. У него была еще одна особенность: он чтил Сталина и старался ему подражать. Он носил «сталинку», делал «стальные» глаза и во всем был тверд, как сталь. Но меня — девчонку войны, улицы и полной самостоятельности такие фокусы раздражали, иногда смешили, иногда приводили в отчаяние. В общем, все благолепие нашей с мамой жизни вопреки голоду, холоду, разрухе, всей страшной неустроенности нашей жизни для меня рухнуло в одночасье.
Он прожил с мамой более 25 лет, очень изменился за эти годы и со мной, взрослой, он дружил, гордился мной, хвастался, но тогда, в детстве, все было ровно наоборот. И о своих сталинских симпатиях он однажды мне сказал: «Ой, Татьяна, не говори мне ничего, а то получается, что прожил я жизнь дурак-дураком».
Но беда ко мне пришла в ту пору не только дома, но и в школе. Правда, в школе несколько позже. Подробно писать о ней не буду — хочу только в определенном ракурсе посмотреть на эту историю. Когда я училась в 6 классе, к нам пришел новый учитель математики. Ему было около 30 лет, ходил он всегда только в военной форме, был членом партии, очень скоро он стал парторгом школы и нашим классным руководителем. И до моего окончания школы он оставался и тем, и другим. Он был маленького роста, рябой, очень некрасивый, чем-то он напоминал мне крокодила, особенно, когда улыбался.
Я любила математику, и скоро стала у него «звездой первой величины». У него вообще была система «звезд» и «пыли». «Звездам» математика была нужна, они соревновались в решении сложных задач, «пыль» должна была довольствоваться списыванием элементарных задач. Мне эта система казалась неприемлемой, глубоко оскорбительной, не только для «пыли», но и для «звезд» (тем более, что это привело к списыванию почти по всем предметам). Я сказала об этом в очень узком кругу учеников (нас было четверо), но ему донесли (и не ученик, а мать одного из четверых). Моя «звезда» мгновенно закатилась. Я оставалась отличницей — с этим он ничего не мог сделать, но до самого окончания школы я сделалась для него предметом изощренных издевательств, сплетен, карикатур в школьных газетах, наговоров, и все это делалось очень грубо. (Я была первой жертвой, но не последней — в каждом последующем выпуске он находил среди лучших учеников желанную новую жертву).
Когда я в 7 классе вступала в комсомол, я, конечно, писала в своей автобиографии о том, что отец осужден по 58-й статье. — «Ах, вот оно что!» — воскликнул он, прочитав это, плотоядно улыбаясь своей крокодильей улыбкой. (Это был 1949 год — разгар холодной войны и новых витков репрессий.)
В комсомол принимало общее комсомольское собрание школы. Потом прием утверждал райком. После того, как я рассказала свою биографию, я помню долгую зловещую тишину в зале, его желтое, застывшее в сдерживаемой улыбке лицо. Но встал наш директор и сказал: «Мы все хорошо знаем Таню и знаем, что она должна быть в комсомоле». — В зале раздался облегченный вздох — голосов против не было.
Не знаю, был ли он здоров психически (думаю, да), но он был, несомненно, человеком с тяжелыми комплексами неполноценности, и это было мое первое, — но, к сожалению, далеко не последнее, — столкновение с этими тяжелыми и небезопасными людьми.
Несмотря на все его ухищрения, я шла на золотую медаль. А этого он допустить не мог. Сколько удивительных фокусов он придумал, чтобы ставить мне двойки и тройки в четвертой четверти 10 класса. Этого я выдержать не могла, пошла к завучу школы и попросила создать комиссию и экзаменовать меня. На что она мне ответила: «Танечка, мы всё знаем, но мы ничего не можем сделать. Через пару месяцев Вы окончите школу. Вы поступите, куда захотите, и забудете об этом, как о страшном сне. А нам оставаться с ним жить…» — (Позже я поняла: он был не только парторгом, но и сотрудником «органов») Это была весна 1953 года. Сталин ушел в преисподнюю. Но свежие ветры повеяли позже.
Конечно, в такой ситуации нужно было сменить школу, но это было невозможно. В нашем городе было всего 2 десятилетки: одна русская, другая — украинская. Кончать десятилетку на украинском языке я не хотела, хотя очень любила украинский язык. Сейчас, когда украинские правители надругались над историей, родством народов, совестью и здравым смыслом, когда проклинают угнетателей-москалей, запрещают русский язык, а следовательно, русскую культуру, родственную, во многом общую, великую и обогащающую, я могу свидетельствовать: я жила в Донбассе, в русско-язычной части Украины. Но у нас было школ украинских почти столько же, сколько русских, хотя говорили все на русском языке, только шутили иногда по-украински и пели украинские песни. В школе у нас было одинаковое количество часов по русскому и украинскому языкам и литературе. А иногда шли русские фильмы, дублированные на украинский язык, что было уродливо, дорого и не нужно ни в одной области Украины.
(И Грузия, любимая Грузия, в которой я никогда не была, но любила ее культуру, ее дух, кровно связанную с Россией, — это тоже кровоточащая рана…)
Медали я не получила. Четверо ребят из двух десятых классов получили Серебряные медали (5 по сочинению была только у меня). Когда я вышла из актового зала после выпускного торжественного собрания, в коридоре, в стороне у окна, стояла группа учителей. Их было 5 человек. Они подозвали меня и тоже сказали: «Танечка, мы всё знаем, но помочь мы тебе не могли. Ты не расстраивайся. У тебя все впереди, все будет хорошо. Иди смело и не оглядывайся.»
На следующий день я уехала, из дома, из школы, где мне уже нечем было дышать. Уехала в Москву и поступила в медицинский институт.
Я поступила в институт имени Сталина. На выпускном экзамене я писала сочинение о нем, о его бессмертии, ибо бессмертны его дела. До 1956 года мое сочинение стояло за стеклом в кабинете завуча среди лучших работ учеников школы. Я почти одна, — расшевеливать массы трудно, особенно накануне выпускных экзаменов в 10 классе, — сделала фотоальбом, посвященный его жизни и смерти (благо, — материала для этого было в тот момент сверх всякой меры). Такой я покинула Лисичанск. Позади остались трудное детство и ранняя юность: теплые лунные, звездные украинские ночи с запахами цветущей сирени, вишни, душистого табака, украинские песни, бесконечная подготовка к экзаменам (с 4-го класса по 10-й мы сдавали каждый год экзамены практически по всем предметам) под жужжанье пчел и запах роз в нашем саду, когда знания смешивались с мечтами… Я ехала навстречу мечтам.
Переступив порог школы, я как будто перешла некий Рубикон. В Москву я уже приехала другая. Приехала — и стала задавать вопросы.
Об институте много писать не хочется. Я попала в медицинский институт случайно: провинциальная девочка, у которой не было возможности посещать дни открытых дверей вузов, некому было задать волновавшие вопросы, я пришла в медицинский институт с бредовыми идеями: мне хотелось изучать биохимические механизмы мозга, которые обеспечивают четкие законы логики и психологии — они изумляли меня своей строгостью и красотой. В МГУ ни на мехмате, ни на физфаке, ни на биолого-почвенном факультете (от одного слова «почвенный» меня бросало в дрожь — это были времена Лысенко), мне казалось, я не найду того, что ищу. Медицинский институт изучает человека — там это возможно. С первых же занятий в институте я поняла, что попала не туда. Но уйти из института неизвестно куда, напрячь маму и всю мою родню я не решилась и осталась в институте. Я вспоминаю о нем без восторга. Многие предметы читались серо, блекло, бесполезно. Биологию у нас читала возлюбленная и яростная поклонница Трофима Денисовича Лысенко… (Четыре факультативных лекции по генетике я прослушала только в конце 6-го курса — это был 1960 год!). У нас было обязательное посещение лекций, и я была в числе яростных поборников свободного посещения. На хороших лекциях аудитории были переполнены. На лекциях по патологической анатомии Академика Ипполита Васильевича Давыдовского студенты сидели на окнах, на ступенях — только не висели на люстре. На пустых лекциях, в записи которых мы никогда не заглядывали (все равно, надо было читать учебники, а после них лекции были бесполезны) — на таких лекциях аудитории выглядели подозрительно пустоватыми. На них мы готовились к занятиям, читали, играли в крестики-нолики или просто убегали в кино или буфет. Когда в ближайшем клубе шел новый хороший фильм, это весьма заметно сказывалось на заполненности аудитории, и у нас ввели проверку посещаемости лекций. В перерыве произвольно из 20 групп потока выбирались 4 для переклички. Старосты должны были мгновенно сориентироваться, кого из других групп поставить вместо отсутствующих своих: лекторы весь поток не знали в лицо, хотя, в качестве исключения, можно было нарваться на неприятности. А вот на экзаменах у экзаменаторов были списки посещаемости лекций, и это могло серьезно сказаться на отметке (а следовательно, на стипендии), независимо от содержательности ответа.
В одной из институтских стенгазет было такое стихотворение:
Староста — это один в поле воин,
Староста вечно обеспокоен:
Как сделать из двух человек десять,
Иначе группа его повесит,
Или как превратить стулья в студентов,
Если последних лишь двадцать процентов.
Слушайте, люди, жалейте старост,
К ним рано приходят болезни и старость.
В клиниках института все же еще оставался, наверное, дух земства, бескорыстия и благородства, гуманного отношения к человеку. Тогда не было сегодняшней техники, высоких технологий, огромных возможностей и огромных денег, которые теперь правят (явно и тайно) бал в нашей медицине. Там, в клиниках, я видела людей большого таланта и высоких моральных качеств: жизнь на своей суровой наковальне одних уродовала, других закаляла, создавала и «серых», и черных, и удивительно светлых.
Вот 2 эпизода из моих встреч, которые хотелось бы описать.
Гистологию у нас преподавала очень красивая, но скромная женщина, еврейка, имени-отчества ее я не помню, с сединой в прекрасных густых кудрявых волосах. Несколько лет спустя после окончания курса гистологии, когда в институтской газете, посвященной Дню Победы, прочла ее историю, поняла, что ей не было 35 лет. Выглядела она лет на 10 старше. С газетного портрета смотрела с улыбкой красивая девочка в солдатской ушанке с длинными толстыми косами. Из школы она ушла на фронт медсестрой. Попала в окружение, под массовый расстрел. Была недострелена, только ранена. Выползла из-под трупов из рва, стала пробираться к партизанам. Ее поймали, погрузили в поезд. Ее ждал Освенцим. Но она бежала. Первая попытка не удалась, со второй ей все-таки удалось спрыгнуть с поезда на ходу. В нее стреляли, но не попали. Она добралась до партизан и войну прошла в отряде.
А когда мы сидели у нее на занятиях, учили-не учили ее интересный предмет, дурили, отвечали хорошо или плохо, нам в голову не приходило, что за плечами у этой женщины такой жизненный опыт.
Вот еще одна незабываемая встреча. После 4-го курса (1957год) у нас была врачебная практика. Мы проходили ее в районной больнице Калининской области (ныне снова Тверской губернии). В хирургическом отделении 1 врач, 2 медсестры, 2 нянечки — весь персонал. Все районные аппендициты, грыжи, травмы поступают сюда. На полостные операции отправляют в областной центр. Электричество в больнице от движка — до 10 часов вечера. А больные чаще всего поступают ночью. Плановых операций мало, обычно — срочные. Хирург — женщина, Р.В., ей 31 год. После 9-го класса ушла на фронт медсестрой. Ленинградка. На фронте потеряла жениха. Вернувшись с войны, поступила в медицинский институт, по окончании отправлена по распределению в эту больницу. Не помню, на сколько коек было отделение, но не маленькое — несколько палат (в палатах от 6 до 12 человек, и дети, и старики). Когда она шла по отделению, казалось, идет тепло и улыбка. Каждому она находила доброе слово, шутку, ласку, утешение. Ночью она оперировала при керосиновой лампе, — ее, освещая операционное поле, держала нянечка Нюра, которая еще при необходимости подавала хирургические инструменты: «Нюрочка, лампу сюда… чуть выше… Нюрочка, корнцанг» — …и т.д.). Сестра ассистировала. Обстановка вполне «романтическая». Но никогда Р.В. не повысила голос, не вышла из равновесия, из доброжелательного состояния.
Только это позволяло ей успешно работать. Я не помню послеоперационных осложнений. Ее любили. Наверное, это скрашивало ее одиночество. Вряд ли в этой глуши она надеялась устроить свою личную жизнь.
Таких людей в тот период было много в нашей жизни. Но она врезалась мне в память, как солнце, которое в северном суровом неустроенном краю согревало, светило всем. Я в те времена, маленькая, худая, моложавая, выглядевшая совсем девчонкой, со своими студенческими знаниями, считала себя не в праве лечить людей. Она заставила меня оперировать (она мне ассистировала), заставила вести поликлинический прием — сломала во мне угнетавший меня внутренний барьер, с которым самой мне было бы справиться очень нелегко.
Светлое пятно моих институтских лет — наш драмкружок, который вела Елена Павловна Кононенко, впоследствии Заслуженная артистка РСФСР, прекрасная актриса, замечательный педагог и человек. Мы занимались по вечерам в классах, в которых днем шли занятия. Комнаты еще не были убраны, и мы стелили на пол газеты, потому что, когда Е.П. давала нам «краски», мы часто от смеха валились на пол (она была прекрасная комедийная актриса) и долго не могли прийти в себя. «Если вы будете так смеяться, — говорила Е.П., — вы провалите спектакль.» — Сцены из пьесы А. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» мы, действительно, чуть не провалили. Но, к счастью, все обошлось. Она как-то сказала: «Если бы вы знали, какое счастье играть такой текст. А что нам иногда приходится играть…»
Институт отнимал много времени и сил, но душа моя была вне его. Я попыталась найти себя в различных научных кружках, но стиль и уровень их работ меня привлечь не мог. Я всегда рвалась в теорию, в скрытые механизмы, а не внешние проявления, а теоретические предметы были намного слабее клинических.
Меня гораздо больше привлекал стол в довольно большой по тем временам комнате моего деда на Солянке под большим старинным абажуром, где по вечерам за чаем с какими-нибудь сушками, соломкой и вареньем велись весьма интересовавшие меня беседы.
(Россия — страна вечно не решенных проблем: их не хотело, не умело, не осмеливалось решать правительство, но ими «болела» интеллигенция и, не имея трибуны, прав и возможностей для их решения, вечно обсуждала их за чаем (и за рюмкой) в гостиных, клубах, дружеских беседах. Наверное, и во времена сталинского террора это продолжало существовать в придушенном, глубоко подпольном варианте. И малейшее ослабление репрессий активизировало, возвращало к жизни это особое российское явление.
Я приехала в Москву сразу после смерти Сталина. Настало время кремлевских переворотов, потом 20-й Съезд, начало «оттепели». Но сталинские секретные службы продолжали работать. В каждой квартире, в каждой самостоятельной производственной, научной, партийной и прочих ячейках несли свою службу «сексоты». Все это знали. Мы знали и сексотку нашей коммунальной квартиры. Это была почти безграмотная тетка, работавшая в разных организациях то уборщицей, то разносчицей. Ничего осмысленного она в свои высшие инстанции передать не могла, но нагадить могла изрядно, даже без причины. Она была настолько глупа, что иногда откровенно запугивала нас. В квартире из 5 комнат было две друживших семьи интеллигентов. Мы каждый вечер проводили вместе, и каждый вечер она торчала у нас под дверью. У одной из наших соседок, Елены, тогда модой женщины, был очень острый слух, и она часто слышала, как наша доброжелательница в своих мягких тапках подкрадывается к нашей двери. Среди беседы Лена вдруг внезапно срывалась с места, бесшумно подбегала к двери и резко ее открывала. Так наша «секретная» дама заработала несколько шишек на лбу, но жалобы вряд ли пошли бы ей на пользу, и работу бросить было невозможно. Но потом ее все-таки разжаловали и завербовали другую соседку, продавщицу. Мы об этом узнали, потому что вербовка прошла не очень аккуратно. Продавщица была умней: она обычно вертелась в нужные моменты под дверями, делая вид, что подметает пол. Но однажды произошел такой казус. У наших соседей (друзей) на дне рождения моего друга собралась большая и «сомнительная» компания: некоторые потом сидели и (или) были высланы из страны. Оставить без внимания такое собрание власти не могли. Сексотка была «под ружьем»: она стояла под дверью в длинном коридоре большой коммунальной квартиры. В коридоре было темно: лампочка перегорела, но никто не торопился ввернуть новую: коммуналка все же… Против двери на тумбочке стоял телефон с громким звонком, чтобы всем было слышно. «Сотрудница» напряженно слушала. Было, что слушать, но понять было трудно, тем более запомнить. Внезапно раздался резкий телефонный звонок. От напряжения и неожиданности она закричала. Все вскочили из-за стола и бросились в коридор. Она позорно бежала, бросив щетку…
Но вернемся к столу под абажуром. Тогда там собирались разные люди, но самыми дорогими для меня были мой дедушка и мой кумир (наш сосед по квартире), которого я полюбила, когда он был еще мальчиком 13 лет (мне было 11), однажды и на всю жизнь. (Моим мужем он стал, когда мне было 48, а ему 50, он был уже очень болен, и в 64 года он умер, но все равно все, что было с ним связано, — это счастье моей жизни).Во времена бесед под абажуром он был студентом, потом аспирантом мехмата МГУ.
Мой дедушка в свое время был довольно известным юристом. В Харькове (когда Харьков был столицей Украины) он был одно время председателем губернского суда, в Москве в 30-е годы попал в Прокуратуру Союза, но, к счастью, был изгнан оттуда после ареста сына. Несколько лет он каждую ночь ждал ареста, необходимый узелок был всегда наготове, но его, по-видимому, потеряли в суматохе мясорубки, как и нас с мамой. Я не могу и не смею давать ему характеристику. Для меня он был человек любимый и очень меня любивший (я была то единственное, что осталось от его единственного обожаемого и так трагически погибшего сына). Для меня он был очень интересным человеком, много знавшим и пережившим.
Он начинал с Бунда, потом был меньшевиком. В 1905 году, спасаясь от суда, бежал в Германию. Когда через несколько лет вернулся в Россию, на границе расцеловал жандарма: «И дым отечества…». В 1919 году стал большевиком. Мне он сказал: «Я поверил в «Апрельские тезисы» Ленина.» — Он люто ненавидел Сталина, но Ленин до конца его дней оставался для него авторитетом.
Ему я, приехав в Москву, стала задавать вопросы, которые накопились у меня уже в школе.
Первые вопросы касались роли Троцкого в революции, взаимоотношений Ленина и Троцкого, Сталина и Троцкого. Школьный учебник что-то недосказывал, лгал, а я привыкла верить.
От дедушки я узнала многое о Троцком, дискуссии, взаимоотношениях Сталина и Троцкого, «троцкизме», 58-й статье, Великом терроре. Это были первые штрихи к портрету эпохи — опыт относительно небольшого круга людей. Все узнавалось постепенно, по каплям. Когда он рассказывал мне о 1937-ом годе, моя бабушка (не родная) все время шикала, без надобности выбегала в коридор и в кухню посмотреть, не подслушивают ли наши сексоты.
(С моей родной бабушкой дедушка разошелся много лет назад, когда мой папа был еще мальчиком. Она умерла в 1944 году. У нее был рак, лечиться она не хотела. «Моего сына убили — мне незачем жить» — сказала она). Я дружила со своей неродной бабушкой. В свое время, так же, как и дедушка, она ждала ареста: она была близким сотрудником Скрыпника в Минюсте Украины.
Дедушка иногда тоже, вдруг схватившись за голову, бегал вокруг стола со словами: «Что я делаю?! Что я делаю?! — Я погубил одного, погублю и ее.» — Но я задавала вопросы, и он отвечал.
У него была приятельница, которая не могла запирать и отпирать ключом дверь… В 1937-ом арестовали ее мужа. Вскоре пришли за ней. У нее было двое маленьких детей — 2-х и 4-х лет. Дети спали. Она попросила разрешить ей отнести детей к соседям. Ей сказали: «Не будите детей. Вам зададут несколько вопросов, и Вы вернетесь домой, дети еще будут спать.» Когда она запирала ключом дверь, ей казалось, что она поворачивает ключ в сердце. Она вернулась через 19 лет. Она никогда больше не видела своих детей и ничего не смогла узнать об их судьбе.
У нас была интересная соседка. Ее отец был известным общественным деятелем, переписывался с Лениным (эти письма вошли в собрание сочинений Ленина). В 1936-ом или 37 году его арестовали. Ей тогда было 15 лет. Когда пришли за матерью, она уже знала, что это значит. Она мертвой хваткой вцепилась в мать и стала кричать: «Не отдам!». Ее с трудом оторвали от матери и с силой швырнули на пол. Ее разбил паралич. Мать увели. Родителей своих она больше никогда не видела. Я знала ее, когда ей было 30—37 лет, но выглядела она старухой. Одна рука у нее не работала, ногу она волочила, у нее был рассудок 15-летней девочки.
Бывала часто у нас жена дедушкиного друга, Ц.С.. Муж ее был генералом. Одно время он был главнокомандующим Западно-сибирского военного округа. В 1937-ом он стал членом Верховного Трибунала. Дедушка рассказывал мне, что он приходил к нему, бегал по комнате (комната была большая — 33 квадратных метра), схватившись за голову: «Ты не понимаешь, не представляешь, — говорил он, — что происходит. Мы каждый день подписываем смертные приговоры лучшим нашим людям. Подписываю и я. Я хотел бы выйти на площадь и крикнуть людям, какое творится зло. Но я не только не успею крикнуть — я не успею выйти. Но соль не в этом. Мне жизнь не мила. Я так жить не могу. Но моя жена, мой сын — отвечать будут они. Нас повязали их жизнями. Они погибнут в муках. За что? Почему?» — Он не выдержал этих мучений. Его разбил паралич. Через полгода он умер. Ему был 51 год. Сын его после 9-го класса ушел на фронт, погиб в конце войны. Его вдова много лет спустя, не выдержав одиночества, когда жизнь для нее окончательно потеряла смысл, приняла смертельную дозу снотворного.
У дедушки с бабушкой был своего рода клуб. Их эрудиция, гостеприимство и большая комната (что было в те времена немаловажно) привлекали людей к беседе, к общению. Во времена особого разгула террора люди рвали все связи. В дом, из которого уже кого-то взяли, никто не ходил. Наоборот, уничтожали следы прежних связей с «прокаженными», рвали письма, фотографии, подарки с надписями, вычеркивали номера телефонов. Никто не знал, кто окажется прокаженным завтра. Поэтому правильнее было тихо сидеть в собственных четырех стенах. И это не подлость всеобщая. Это был всеобщий страх — реальный, ежедневно подкрепляемый новыми арестами, воем газет и радио, потерями родных, близких, друзей, опечатанными квартирами и служебными кабинетами, темными окнами домов, замкнутостью, подозрительностью; слезами и горем, которые глубоко прятали.
Узнала я и об отце. Он был человек очень яркий: у него был острый ум, красивая внешность. Он прекрасно пел и очень красиво говорил. Когда он выступал на собраниях, его часто выносили на руках. Он участвовал в студенческих дискуссиях 1927 года. Он кончал 3-й курс факультета внешних сношений Харьковского института народного хозяйства. Мама кончала финансово-экономический факультет того же института. Почему, не знаю, но в разгар дискуссии он из нее вышел.
Здесь мне хочется немного рассказать о нем. По-видимому, он был человек азартный, страстный. Он прекрасно играл в футбол, и однажды футбольным мячом ему свернули нос набок: нос выпрямили, и, кто об этом не знал, мог ничего не заметить; но, кто знал, видел, что нос немного асимметричен. Он любил хоккей, самозабвенно играл, и ему клюшкой выбили передний зуб. Тоже пришлось чинить. Он очень много и быстро читал. Ему давали частные уроки известные профессора русской и зарубежной литературы. Список рекомендованной русской литературы, который он составил, по ее просьбе, моей двоюродной сестре, до сих пор поражает меня подбором литературы, объемом, подробностью, его удивительной памятью: он написал его ночью в Лисичанске, далеко от источников. которые могли бы ему в этом помочь.
В 15 лет он пошел на завод и получил профессию слесаря: для него не было неоткрываемых замков. У него был абсолютный слух и красивый мягкий баритон. Он прекрасно пел арии из опер и украинские народные песни.
Одно время, очень недолго. дед мой был комиссаром в Красной армии и возил девятилетнего сына с собой. Мальчик знал все, что происходило на фронтах, и часто красноармейцы утаскивали его, чтобы он прочел им лекцию о положении дел на фронтах: он чертил на карте расположение армий, стрелками определял места предполагаемых боев и наступлений. Революцию он впитал в себя с детства. Однако, думаю, он не случайно вышел из дискуссии: что-то в нем сломалось. Наверное, он увидел, что революция повернула не туда… Он не посвящал маму в свои раздумья. Мама была активной пионеркой, убежденной комсомолкой. Он надеялся, что, если ему придется отвечать, ее непричастность спасет ее (а потом и меня). Кто же мог тогда даже подумать, что между виной и наказанием не будет никакой взаимосвязи и взаимозависимости (что для наказания никакая вина не будет нужна).
После окончания дискуссии, тем не менее, папу арестовали и исключили из института. Ему было 19 лет. Из тюрьмы его выпустили через 3 месяца, но в институте не восстановили. Он окончил его экстерном, для себя, без диплома. Сдать экзамены тоже не разрешили. Потом он был в армии, на долгих сборах. Потом вернулся в Харьков, но места себе, видимо, не находил. Со слов моей тетушки, я поняла, что он переживал какой-то глубокий внутренний кризис. Наверное, поэтому мои родители в начале 1936 года покинули любимый Харьков и уехали на Урал. Работали оба в экономическом отделе Нижнетагильского уралвагонзавода. Папа заведовал каким-то сектором, мама была секретарем комсомольской организации завода, должна была стать кандидатом в партию. В феврале 1937 года папе припомнили дискуссию и уволили с завода. Все знали, что это предарест. Маму сняли с поста секретаря комсомольской организации и исключили из комсомола. На собрании, когда ее исключали, она улыбалась: ее поносили самыми последними, лживыми, злобными, мерзкими словами (как было принято в те времена) те самые люди, которые совсем недавно превозносили ее, пели ей дифирамбы, рекомендуя в кандидаты партии (в подлые времена всегда есть «запевалы», которые с одинаковым подлым усердием поют и за здравие, и за упокой).
Рыдать она начала, когда вернулась в свой отдел. Она так рыдала, что старенький служащий отдела подошел, положил ей руки на плечи и сказал: «Елена Петровна, не надо так плакать, Вы сорвете легкие. Так плачут только по очень близким и дорогим людям». (В те времена это были опасные слова: какие еще близкие люди могут быть дороже партии и комсомола?!)
Папа уехал в Москву и в мае 1937 года был арестован и переправлен в Харьковскую тюрьму. Мама уволилась с завода и вернулась в Харьков, чтобы быть поближе к папе. Из тюрьмы мама получала от него письма, написанные его убористым куриным почерком (эти письма могла прочесть только она одна) на листочках тончайшей папиросной бумаги, спрятанных в швы грязного белья, которое разрешалось отдавать родным в стирку. Конечно, ни о чем действительно страшном, что переживали узники этого палаческого заведения, он ей не писал. Это были весточки, связь, вопросы и кое-какие просьбы. (Известно, что в это время Харьковская тюрьма была одной из самых переполненных и страшных.)
Устроиться на работу мама не могла. В Харькове маму знали. Несколько лет после окончания института она работала там в банке. И когда она приходила устраиваться на работу, ее встречали там с распростертыми объятиями (надо полагать, в те времена специалистов с высшим образованием лишних не было), но как только читали в анкете: «муж репрессирован», — отводили глаза, предлагали прийти через несколько дней, после чего следовал отказ.
В декабре 1937 года папу увозили из Харькова на Колыму. Их увозили в день первых выборов (наверное, в Верховный Совет СССР) по новой Сталинской Конституции. Весь Харьков был увешан транспарантами, славившими Выборы, новую конституцию и, главное, — ее Творца. Всюду были его портреты, всех размеров и видов.
На вокзале стояли параллельно два длинных состава товарных вагонов, обращенных зарешеченными оконцами внутрь, друг к другу. Вдоль состава бегали охранники с собаками, не подпуская никого к вагонам. Был отвратительно холодный, серый ветреный морозный бесснежный декабрьский день. Люди коченели на ветру: от холода, стояния, горя, безнадежности и бессилия. Любое их движение злило и собак, и охранников. Моя бесстрашная мамочка не преминула сказать им: «Вы хуже своих собак».
Когда стемнело (декабрьский день короток), ближний состав ушел, и оконца второго оказались доступными. Игнорируя собак и охранников, люди стали бегать вдоль состава и выкрикивать имена дорогих узников. Когда мама выкрикивала фамилию папы, из окошка ее спросили: «Какой Борщевский, молодой или старый?» — «Молодой.» — «Его привезут позже.» В одном из окошек ей выкрикнули адрес, по которому просили съездить и предупредить, что узника увезли.
Когда совсем стемнело, к составу подъехали два «воронка». из которых осужденных быстро перевели в вагоны. «Воронки» стояли далеко. Увидеть, кого привезли, было невозможно: тут уж не подпускали… Когда и второй состав тоже ушел, мама поехала по указанному адресу. Ехала долго на трамвае на какую-то окраину. Всюду гремела музыка и песни, прославляющие прекрасную жизнь, сверкала праздничная иллюминация, гулял народ, а мама ехала и плакала злыми бессильными слезами.
Ей открыли двое пожилых людей, потом подбежала молодая растрепанная женщина в черном, по-видимому, потерявшая рассудок. Ее увели. Маму поблагодарили, и она уехала. Обратный путь, после увиденного, был еще тяжелее…
С дороги на Колыму мама получила от папы два письма, которые он выбрасывал из окон вагона, а добрые люди их подбирали и отправляли, хотя за это можно было угодить туда же (фактически, поплатиться жизнью). В этих письмах он писал, что есть «неудобства» от тесного соседства с уголовниками. И еще, что в тюрьме «хотели», чтобы он что-то «подписал», но он не подписал… Написано было так аккуратно, что моя легковерная мамочка не заподозрила, что за этим стояло…
Прометавшись безрезультатно в поисках работы в Харькове полгода, мама покинула любимый город своей юности, своей любви и вернулась к родителям в Лисичанск. (В Лисичанске история повторилась. Промаявшись еще несколько месяцев без работы, мама решила скрыть зловещий факт. Работу она получила мгновенно. А когда Великий и Мудрый изрек: «Сын за отца не отвечает» (в стране назрела кадровая катастрофа) — мама призналась в своем «преступлении» … О дальнейшем я уже писала раньше.
В Москве и то, что я знала раньше, и то, что постепенно узнавала от дедушки и его окружения, меняло мое отношение к нашей частной трагедии. Она была встроена в страшную трагедию огромной страны. И я хотела о ней знать, узнавать как можно больше, понять, осмыслить ее.
20-й Съезд партии открыл первые цифры и некоторые сокрытые факты. Началась короткая «оттепель». Стало возможным (правда, недолго) говорить о трагедии, о терроре, о Сталине — не как об Отце народов, а как о его Палаче. (Последнее, правда, и тогда, и по сей день мало кому понятно — я еще не раз вернусь к этому).
Вернулась из ссылки моя тетушка, вернее, папина тетушка, родная сестра моей бабушки. В лагерях и ссылках она провела в общей сложности более 19 лет. Она тоже имела, что порассказать (а я — послушать). В 17 лет она была делегатом Первого съезда советов (после Октябрьского переворота) от Балтфлота. Много позже она была директором сельскохозяйственного института, кандидатом наук (тогда, в те годы, в те времена это было не то, что теперь). Она входила в состав сельскохозяйственной Коллегии Николая Вавилова. В ее состав входило 40 человек. В числе арестованных она была 38-й по счету. Ее обвиняли в том, что она должна была убить Молотова. Несмотря на пытки, она его не подписала. Ее судила Тройка. Ей грозил расстрел. Удивительно, но в те несколько минут, которые отводились на рассмотрение Тройкой подобных дел и вынесение приговоров, она сумела привести неопровержимые доводы, опровергающие страшное обвинение. Как ни странно, но вместо расстрела она получила 10 лет лагерей, откуда она, отбыв свой срок, вернулась в 1948 году. Но тогда, когда из ГУЛАГа стала возвращаться выжившая «58-я», Сталин заявил: «Они не были нашими врагами — они стали нашими врагами», — и все, успевшие вырваться из ГУЛАГа, вновь были отправлены туда или в ссылку, а не успевшие получили новые сроки или просто, без объяснения причин, оставлены в лагерях.
Вернулся папин двоюродный брат, он тоже провел там 20 лет. Но выйдя из самолета на московском аэродроме и увидев своих жену и сестер, упал и умер, как раньше говорили, от «разрыва сердца».
После этой смерти я вспомнила, что я уже встречалась с подобным. Когда я училась в старших классах, — это было начало 50-х годов, — у нас в гостях иногда бывал инженер очень крупного завода: невысокий старик с гордо посаженной головой, орлиным носом и абсолютно белыми, довольно длинными, по тем временам, волосами. Я знала, что он вернулся из лагерей, что репрессирован был, как «враг народа» — метростроевец-«диверсант». В Москву он возвратиться не мог, а может быть, было и не к кому: жены у него не было, — отреклась ли она или погибла в лагерях, — но жил он один в поселке при строительстве большого, союзного значения, завода. Наверное, на этом строительстве он работал так же «плохо», как и на строительстве метрополитена, и завод добился восстановления его в партии. Когда в райкоме ему вручали партбилет, он упал и умер…
Нет, это не слабаки, не неврастеники. Просто у них за плечами неподъемное — то, что не поддается воображению: не голод, не холод, не физические, а нравственные испытания, унижения, которым их, невиновных (по крайней мере, в том, в чем их обвиняли) подвергали подонки, палачи, нелюди. Поэтому и умирали они, выдержав пытки и кошмар лагерей, на воле, когда им говорили: невиновен…
Тетя выжила в лагере потому, что как высококвалифицированный экономист она оказалась востребованной в лагерном хозяйстве. Но, неуемный и бесстрашный человек, она начала вести борьбу с уголовниками, которые заняли в лагере все теплые и хлебные места и нагло обворовывали и притесняли политических по всем статьям. Уголовники тоже не сидели сложа руки: они написали на нее ложный донос, и ее отправили на лесоповал. Там она очень скоро стала «доходягой», так как физически не была в состоянии выполнять норму, а невыполнение — это пайка кандидата в покойники. Её спасло то, что один из начальников увидел ее и спросил, почему она на общих работах. Когда ему объяснили, он произнес сакраментальную фразу: «Они что, с ума сошли?! „58-я“ — это самый честный народ!», — и она была, не успев умереть, возвращена в свою контору.
Тетя, по возвращении, была для меня, для нас не только живым носителем информации о ГУЛАГе, но через некоторое время стала прямой связью с «Самиздатом». Она получила комнату в новом районе и небольшую пенсию. Из этой пенсии она значительную сумму (по масштабам ее пенсии), одну треть, отдавала своей приятельнице, с которой познакомилась в лагере. Приятельница была медсестрой. Когда ее арестовали, после ареста мужа, сына их взяли родственники. Она не надеялась вернуться из лагеря и написала сыну, что ему будет легче жить, если он от нее отречется. (Тогда было «модно» отрекаться от родителей). Сын отрекся. Но она вернулась. Сын к этому времени был уже доктором наук: по советским меркам он имел приличный заработок, а мать, как бывшая медсестра, получала грошовую пенсию, на которую жить было невозможно, но он отказался помогать матери — «врагу народа». … (Наверное, отрекаются именно такие, а, возможно, отрекаясь, такими становятся…).
Был еще эпизод, который мне хотелось бы отметить. Это был, наверное, 1956 год. В шумном вестибюле института я вдруг оказалась в объятиях нашей преподавательницы по микробиологии. Она плакала, обнимая меня. И повторяла: «Науку выпускают из тюрем! Вы понимаете, что это значит: наука выходит из тюрем?!» — Я была поражена, во-первых, тем, что для такого сообщения она выбрала меня; во-вторых, самим сообщением, и, в-третьих, тем, что это была она — моя любимая Галина Ивановна. К этому времени курс микробиологии мы уже кончили. К самому предмету микробиологии я относилась достаточно спокойно (правда, мой ответ на экзамене был отмечен в нашей общеинститутской печатной газете, но мои знания — это была дань моей любви и уважения к Галине Ивановне). Я ее обожала. Высокая, статная, с огромными голубыми умными, печальными глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками, с красивым благородным лицом, седой головой, — она мне казалась олицетворением ушедшей России. Была ли она аристократкой по рождению, не знаю, но она, безусловно, была остатком той великой русской интеллигенции — интеллигенции конца 19-го — начала 20-го века, к которой я питаю нежную страсть: была ли она «гнилой», была ли она «виновна» в бедах, обрушившихся на Россию, но это было великое явление русской культуры, наверное, уникальное в мировой истории. Наверное, Г.И. видела на занятиях мои влюбленные глаза, потому и бросилась именно ко мне в вестибюле: тогда еще далеко не к каждому студенту можно было с этим подойти. Я, конечно, кивала, понимала, но сказать ей что-либо сама еще не могла. Я уже многое знала, но была еще так далека от понимания той катастрофы, которую пережила Россия в 20 веке, от понимания масштабов трагедии 30-х годов. Но еще одну «галочку» в своих познаниях я поставила: и наука — там!
Это были мои университеты, длившиеся долгие годы. Штрихи к картине великой трагедии доставались с трудом, были отрывочны и скупы, они, в основном, укладывались в теорию вины, в сущности, одного человека; масштаб этой вины был извращен скудостью информации, и, наверное, до 40 лет я все же верила в то, что нам чрезвычайно исторически не повезло, но, тем не менее, «кривая вывезет»… Сталин был монстром, термидорианцем, губителем революции, но Ленин для меня оставался вождем справедливой революции, а социализм — самым справедливым устройством общества.
Сегодня, с «высоты» своих относительно скромных познаний о событиях того времени, я все же могу оценивать глубину той бездны лжи, в которую мы были погружены, оценивать то информационное удушье, в котором мы жили.
Удивительно ли, что люди верили в справедливость революции, в святость ее вождей, в руководящую роль партии, в светлое будущее, в злобность окружения и «внутренних врагов», мешающих нам бодро шагать в это будущее. Тех, кто что-то знал, умел читать между строк, кто хотел знать и думать, кто не боялся знать и думать, — были единицы, и они были безмолвны. Тех, которые осмеливались говорить, в живых не было. Даже 20-й Съезд, «оттепель» и возвращение выживших из ГУЛАГа только приоткрыли щель в эти бездны.
Для меня ситуацию взорвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына. Тогда эта книга была для меня энциклопедией, которую уже прочел мир, и она дошла и до нас. Мы читали ее в 1978 году, привезенную тайно из-за рубежа. Она была в тоненьких, как школьные тетрадки, небольших брошюрках. Но их было много. Я стояла перед Солженицыным на коленях…
Но я забежала очень далеко вперед…
А пока была лампа под абажуром, разговоры с дедушкой. Мы разговаривали, а бабушка бегала в коридор смотреть, не подслушивают ли под дверью наши бдительные служители идеологического культа. — Да нет! У них никакого культа не было вообще. — Просто это были достаточно темные люди, подвластные силе, неосознанному духу времени, лозунгам и страху. Кстати, во все страшные времена зло опирается именно на таких: не на совсем темных, не совсем неграмотных — на полутемных, полуграмотных. Совсем темные выступают обычно как пушечное мясо. А вот функционеры самого низменного звена: каратели, соглядатаи, палачи, доносчики, предатели — набирались именно из этой публики. (Но тотальный страх — страх смертный ломал и далеко не темных…)
Неграмотность чаще есть меньшее зло, чем полуграмотность. Воинствующие невежды обычно из числа последних. Неграмотный человек обычно скромен: он знает, что он ничего не знает. Человек, очень много знающий, тоже знает, что он ничего не знает. А полуграмотные люди, «образованцы», как назвал их А. И. Солженицын, обычно считают, что они знают всё, или почти всё. Именно поэтому они присваивают себе право поучать, попирать, теснить, угнетать, уничтожать, убивать…
В 20 веке это явление обернулось не частным, а историческим злом, принявшим планетарные масштабы в силу технических возможностей распространения и осуществления зла. 21-й век в этом отношении существенных корректив не вносит. Он будет иным, но вряд ли лучше: безграничные технические возможности, новые технологии, падение нравов, примат права, а не совести (вернее, права — без совести); двойные стандарты, безграничная власть денег грозят человечеству новыми катастрофами.
Мои институтские годы текли достаточно серенько. Те, кто нашел свое место в медицине, параллельно с учебой работали на избранных кафедрах, дежурили, готовились к практике, так как нас институт выпускал совершенно «сырыми» в сложную и очень ответственную профессиональную жизнь, бросая, как щенят, в воду: выплывут — не выплывут (создавая этим проблемы не столько врачам, сколько их пациентам). У нас не было, как во многих странах, специальной клинической подготовки после окончания учебы.
По состоянию здоровья я имела академический отпуск после 4-го курса. Училась я добросовестно. Мои однокашники, преподаватели, больные относились ко мне хорошо. Я знала, что буду честно работать, но подспудно чувствовала, что со временем буду искать другие профессиональные пути (в институте ни на теоретических кафедрах, ни в клинике я своего места не нашла, хотя и искала).
У нас была друг дома, Э.И., — главврач медсанчасти одного из пригородов Москвы (теперь он давно в черте Москвы). В начале 6-го курса я пожаловалась ей, что мне скоро заступать на профессиональную «вахту», а я боюсь, чувствую себя не в праве брать на себя ответственность за здоровье людей. (А ведь у нас по распределению новоиспеченных врачей засылали и в «тьму-таракань», где до ближайшего цивилизованного пункта — только на вертолете… И там вчерашний студент иногда должен был быть всем: и терапевтом, и хирургом, и акушером-гинекологом. Я хотела проситься, если меня не оставят в Москве, на Курилы, в Норильск, но меня оставили в Москве.)
Э.И. — маленькая, умная, энергичная, очень добрая и отзывчивая, прекрасный врач, не раздумывая, предложила мне работать в ее медсанчасти врачом-дежурантом.
«Никто не будет знать, что ты студентка. Но мой телефон в изголовье моей постели. Мне 5 минут ходьбы до тебя. Я приду на помощь в любую минуту». — Я согласилась
Работала я у нее в течение всего шестого курса: дежурила в ночь с субботы на воскресенье (тогда суббота была рабочим днем) или воскресные сутки, а после дежурства в понедельник ехала прямо на занятия. Ни одной недели я не пропустила. В моем ведении были стационар, поликлинический прием и скорая помощь, детская и взрослая — весь поселок. И я была одна.
Первая ночь — это было испытание, посланное мне Богом. Другой подобной не было за весь год. Я не вышла ростом, и служебный халат, выданный мне, был очень длинным: он скрывал мои дрожащие колени. Несколько раз я подходила к телефону и набирала номер Э.И., но, недобрав до конца, нажимала на рычаг: если сейчас позвоню, так и буду звонить всю жизнь. Нет, справлюсь сама. И я справилась. (Рядом были дежурные медсестры).
Утром, когда я прибежала к Э.И., она ждала меня на пороге. Она тоже сказала, что такая редкая ночь — это жизненное испытание. За весь год я ни разу не позвонила и, к счастью, не наделала ошибок. Мы стали с Э.И. большими друзьями, полюбили друг друга, и, когда она мужественно, в полном сознании умирала, у ее постели были ее сын и я. Так она хотела.
За полтора года до моего окончания института умер мой дедушка. Я долго ощущала после его ухода пустоту вокруг себя
Поликлиника, в которой я работала по распределению, и участок, который мне дали, были рядом с домом, где мы жили, в самом центре Москвы — до Красной площади было 15—20 минут пешего хода. Моя участковая работа — это очень значимый «университетский курс», который я прошла в жизни. Я работала всего 3 года, как того требовало распределение. Вероятно, я могла бы быть хорошим врачом. Но я им не успела стать. Читать специальную литературу практически не приходилось — не было времени. Приходилось довольствоваться тем, что дал институт. Но у меня была хорошая память, и в процессе учебы я старалась не упускать главного. Я всегда помнила заповедь: «Не вреди!». Навредить боялась более всего. Я неплохо знала патологию: кафедра патологической анатомии Академика И. В. Давыдовского давала глубокие знания. Это был первый предмет в институте, который я учила сознательно, глубоко и с удовольствием. Ради этого предмета я не отдыхала на 3-ем курсе ни одного воскресенья: я его проводила в Общем читальном зале Библиотеки им. Ленина. Занятия были в понедельник, а другого места для подготовки в воскресенье у меня не было. За день мне удавалось подготовиться и к другим предметам и порыться в журналах и книгах. Оттуда пошла моя любовь к библиотекам, читальным залам. (Правда, все мои шефы в дальнейшем и сама жизнь держали меня в этом отношении на голодном пайке: «не пускали козла в огород»…)
Теоретической базой в моей участковой работе были студенческие знания, возможно, чуть-чуть больше. Но главным в ней было не это. Главным было то, что я искренне старалась лечить людей, делая все, что было в моих силах. Много лет спустя я поняла, что, в сущности, в обязанности участкового врача и не входило лечить людей (а потому и условий для этого соответствующих не было) — это была служба выдачи бюллетений и лечения непродолжительных заболеваний, не требующих больших профессиональных и временных затрат. Во всех остальных случаях больных отправляли для лечения в стационар.
В те времена у нас в обычных стационарах не было сложных методов исследования, высоких технологий, тотального лечения капельницами под контролем приборов и т.п.. Как лечили в стационарах терапевтические заболевании, я неплохо знала: я довольно много работала на терапевтических кафедрах в клиниках института и, работая на участке, тоже нередко работала в стационаре. (Наша поликлиника была составной частью клинической больницы, в которую еще входили стационар с терапевтическим и хирургическим отделениями и женская консультация). В терапевтическое отделение нашей больницы меня время от времени начальство отправляло поработать, чтобы я могла немного отдохнуть от участковой работы и подправить здоровье: здоровьем я крепка не была, работала много, и начальство больницы это ценило. Так что я неплохо знала, как будут лечить того или иного больного в стационаре, и, если все необходимое я могла сделать на участке, я оставляла больного дома. Это ложилось нелегким бременем на меня и мою медсестру. — Зачем, почему я это делала? — Наверное, по глупости, по молодости, по незнанию. Я считала это своей обязанностью и не считала себя вправе сваливать на других то, что должна делать сама.
Может быть, здесь уместно будет сказать несколько слов о моей медсестре. Как молодому специалисту, мне ее «сбросили». Никто из врачей работать с ней не хотел. Последняя врач сказала, что будет работать одна, но только не с ней. Что такое в условиях напряженной работы остаться без помощи сестры, понять может только врач. У нее, действительно, был очень непростой характер. Я не стала с ней выяснять отношений и ссориться: в условиях ссор я просто не могу существовать. Если она отказывалась что-то делать, я делала это сама, не меняя спокойного и дружелюбного к ней отношения. Постепенно таких моментов становилось все меньше и меньше. Потом она уже старалась предугадывать, что нужно будет сделать, предваряя мои просьбы или указания. Я никогда не задерживала ее на работе: у нее была маленькая дочь. И на участке я старалась не превышать ее рабочую норму, но и расслабляться ей приходилось не часто. Мы проработали с ней 3 года без единой ссоры и расстались друзьями. Иногда моя медсестра говорила мне: «Зачем Вы назначаете этой старухе сердечные, да еще и витамины? Ей пора на тот свет», — «Валя, — отвечала я, — это решать мне. Делай, пожалуйста.» — И Валя делала. Продолжительность моего рабочего дня была восемь с половиной часов — это ставка с четвертью: просто на ставку жить было невозможно. Я работала, в среднем, 10 — 11 часов, а во время эпидемий 12 — 14. Обо всем этом я пишу не для того, чтобы похвалиться, а сказать совсем о другом. Практически все мои больные жили в коммуналках. На моем участке была квартира, в которой, при наличии одной ванной комнаты и одного туалета, жили 44 человека. Была семья из 11 человек, которая жила в комнате площадью в 10 квадратных метров. На ночь все они в ней разместиться не могли: двое уходили спать к друзьям, трое спали за дверью, в коммунальном коридоре. Были люди, которые жили в глубоких подвалах. (Это было в начале 60-х).
Мои пациенты ссорились на коммунальных кухнях. Ругались, наверное, где-то даже дрались. Но сколько добрых слов я слышала в свой адрес от этих людей, сколько благодарности (за всю жизнь столько слышать не довелось), какие светлые лица я видела. Один характерный эпизод я опишу.
Это было во время эпидемии гриппа. У меня на приеме было около 30 человек и около 30 вызовов на дом. На последний вызов я пришла, когда было уже около 10 часов вечера. Звоню в дверь. Сначала через закрытую дверь, а потом уже при открытой происходит следующий диалог:
— Кто там? — спрашивает пожилая мать моей пациентки. Она меня не знает.
— Врача вызывали?
— Врача?! Надумала! Целый день ее ждали, а она является, когда люди спать ложатся.
— Я знаю, что очень поздно. Если вам сейчас неудобно, я приду завтра утром, — говорю я еще через закрытую дверь.
— Ну, ладно. Уж пришла — заходи. Кто это мотается по чужим квартирам в такую поздноту? И помереть можно, пока ты явишься.
— Мама, это Борщевская, — кричит ей больная дочь из комнаты. Но мать не слышит и продолжает мне выговаривать.
— Мама, это Борщевская, — снова кричит дочь. Наконец, мать слышит, замолкает и смотрит на меня.
— Ты — Борщевская? — Ты моя дорогая! Что же ты так поздно ходишь? Сил уж небось нет. Прости меня, дуру старую. Прости меня! Простишь?
— Конечно, прощу, — говорю я и чувствую, что по щекам у меня текут слезы.
(Часто после очень тяжелых дней, когда я приходила домой и бабушка кормила меня ужином, я расслаблялась и у меня текли слезы — просто так, от усталости, от нервного истощения).
Квартира была, естественно, коммунальная. На шум в переднюю вышли соседи. Я ушла из этой квартиры в двенадцатом часу ночи: кому-то надо было измерить давление, кому-то выписать рецепт, кому-то дать совет.
Там, на участке, в общении с этими людьми, с моими больными родилась «оригинальная» утопическая идея (она рождалась, рождается, будет рождаться, а где-то живет сегодня). Мы знаем цену утопиям, но, если утопии вообще исчезнут из жизни, вряд ли это украсит наш мир. Плохо, когда утопиями вооружаются оголтелые авантюристы, но разумные деятельные люди из утопий могут черпать вполне рациональные идеи.
Я видела удивительную силу естественного, нормального, спокойного добра. Оно меняло взрослых, вполне сформировавшихся людей, вызревших и живущих в суровых жизненных условиях, и я думала, как действенно оно должно быть в детском возрасте (как и зло: в детском возрасте оно особенно губительно). Думала о том, что система образования, от ясельного возраста до взрослого, должна быть продумана с этой точки зрения. И это должна быть государственная политика, а не только инициатива частных лиц. Это кажется бредом: для этого надо биологически изменить человечество. Это так и не так. На Западе давно существуют школы и больницы, где лечат добротой и творчеством. На Западе существует фундаментальный лозунг: «Смайл!» — «Улыбайтесь!». Человек, которому улыбнулись, улыбнется встречному, а тот, которого облаяли, толкнет встречного и рявкнет на него. И цепная реакция зла погаснет не скоро.
У нас уже тоже есть школы, где брошенных детей-калек, не нужных ни родителям, ни государству, обучают и воспитывают добром и участием в творчестве и искусстве, и дети чувствуют себя счастливыми и востребованными обществом.
Не нужно отбрасывать идеи социализма только потому, что большевики, ведомые своими преступными вождями, устроили в России мясорубку. Ведь западные страны позаимствовали эти идеи для проведения социальных реформ, чтобы не доводить общество до взрыва.
20-й век убедительно показал, что в общественном развитии не должно быть места революциям. Общество должно идти путем эволюции и реформ, которые не должны опаздывать. Это забота политиков, общественных деятелей, ученых, Церкви, деятелей культуры.
В конце второго года моей работы на участке я вышла замуж за сына моей пациентки. Все началось с занятий математикой и физикой. Он был физик-теоретик, а я уже знала, что все равно буду искать путей продолжить образование и перейти на научную работу. Он помог мне в этом. Брак оказался неудачным. Через семь лет он распался. Но он дал мне любимого сына, (а сейчас у меня три прекрасных внучки и маленький внучонок.) Второй раз я вышла замуж через 15 лет.
Через год после рождения сына я пошла уже на новую работу, на теоретическую кафедру только что открытого нового теоретического факультета в институте, который я окончила.
Мои новые «университеты» были очень не просты. Большинство сотрудников этого факультета имело университетское образование, и медичка, участковый врач им казалась странной и неуместной. Прошло немало времени, прежде чем я попала к человеку, под руководством которого я начала заниматься действительно научной работой. Но все эти годы я старалась учиться, несмотря на семейные и материальные проблемы и сложности. Эти годы были очень трудными для меня. Мой рабочий день длился от 9 до 14 часов (а дома был ребенок, была учеба), но все преодолевалось молодостью и энтузиазмом. Все сотрудники новой кафедры были молодые, неостепененные (заведующий кафедрой был единственным кандидатом наук; теперь он Академик, а большинство тех, кто тогда начинал, — профессора и Член-корры). Все были полны энергии, надежд, интереса к новой науке, доброжелательны и дружны.
Будни наши были нелегки: не было приборов, не было реактивов, студенческие практикумы писались с нуля. (Медико-биологический факультет был на тот момент первый и единственный в мире). Приборы чинили сами. Но не только чинили — их совершенствовали: создавали приставки, камеры, кюветы — в результате чего нередко наши приборы давали более высокие разрешения и более точные данные, чем дорогие и для нас недоступные американские приборы. То, чего не могли сделать сами, иногда заказывали в наших институтских мастерских. Были у нас такие, но это были сборища совершенно спившихся людей, очень часто с золотыми руками, высоких умельцев. Дело в том, что у них не было никаких стимулов выполнять такие сложные работы, какие им заказывали сотрудники института: свои грошовые зарплаты они отрабатывали более простыми путями. А сотрудники не имели ни права, ни возможности платить им за заказы деньгами. Платили спиртом. Поэтому, даже если в мастерскую на работу приходил трезвенник, очень скоро он обрушивался в общую пьяную «яму» (но заказы они выполняли блестяще, любые, самые сложные…)
Работали мы в подвале (все новое рождается в подвалах или на чердаках), работали, не считаясь с недосыпаниями, с усталостью, со временем.
Но зато как прекрасны были наши праздники! Собирались на кафедре или у кого-либо дома, чаще там, где были музыкальные инструменты; устраивали вечера дегустации прекрасных вин (была такая возможность); устраивали пивные вечера, а еще чаще пили горячий глинтвейн, который варили в старой медной глинтвейнице, пели романсы и песни; танцевали мало: тесны были помещения. К таким мероприятиям, дням рождений писались стихи (у нас был «придворный» поэт). Когда пошли защиты диссертаций, мы не отмечали их в ресторанах и кафе (на это не было денег), но зато к этим событиям писались капустники, стихи, создавались мультфильмы, оперы. Хохотали иногда так, что представление приходилось прерывать, чтобы дать народу отдышаться. Много талантов было на кафедре, молодого задора, любви к науке и собратьям по разуму.
У нас на кафедре была такая хозяйка-распорядительница, «матер кафедралис». Она была внучкой известного русского художника, друга Л. Н. Толстого. От деда и ей перепала немалая толика художественных способностей. К каждому Новому году она всем сотрудникам дарила подарки, сделанные собственными руками. Подарки были тематическими, сделаны искусно и остроумно, а потому вызывали всегда большой интерес, а нередко восторг. Иногда это были настоящие произведения искусства. Мы могли бы открыть лавку художественных поделок. Но в те времена подобная практика каралась законом.
Наши научные достижения фиксировались в научных статьях, диссертациях. А вот о наших праздниках можно было бы написать интересную книгу.
Вскоре после защиты кандидатской диссертации я ушла в другую лабораторию, чтобы работать самостоятельно. И работа удалась. Мои биохимические данные позволили интерпретировать результаты исследований, полученные сотрудниками этой лаборатории цитофотометрическими методами. Это было фактически открытие законов клеточного стресса. (Удивительно, но клеточный стресс проходит те же стадии, что и организменный. Когда я писала статью, я еще не читала теорию Селье. Я прочла ее много позже и обнаружила, что мы не только обозначили в процессе развития стресса одни и те же стадии, но и назвали их и описали одними и теми же словами). Такую статью (хотя громких слов в названии статьи не было) должен был подписать Академик или профессор, а не просто старший и младший научные сотрудники. Поскольку интерпретация была моя (мои данные были самыми убедительными) и статью писала я (хотя первой в списке стояла фамилия заведующего лабораторией), мне и пришлось идти за подписью к нашему Академику: он был научным руководителем нашего Отдела и директором нашего научно-исследовательского института внутри большого медицинского института. Академик наш мне сказал: «Не только подписывать — и читать не стану!» — Он не только не подписал — он очень скоро уволил меня, по сокращению штатов, хотя мне уже было недалеко до пятидесяти и я проработала в институте более 20 лет, без единого замечания. Институт уволить меня не дал. Я провалялась с предынфарктным состоянием около двух месяцев, а статья пошла на депонент в ВИНИТИ, где и валяется по сей день где-нибудь в архиве, а, возможно, уже и уничтожена. (Года два спустя после этого, работая уже на другой работе в другом учреждении, я делала доклад по этой моей старой теме в МОИПе (Московское общество испытателей природы). Там я уже ставила все точки над «i». Я уже знала теорию Селье и знала, что клеточный стресс протекает по тем же законам, что и стресс всего организма: природа очень разумно экономична. Я должна была написать доклад в Сборник МОИПа. Я этого не сделала: это уже было выброшено на помойку, как не одно начинние в моей жизни. Возврата не было, а времени и сил, как всегда нехватало. Теперь я об этом жалею. А через некоторое время я сорок минут на помойке жгла мои бумаги — мою несостоявшуюся докторскую диссертацию: книги, пластинки, журналы, газеты («перестроечный» поток), деловые бумаги моего мужа в квартире не помещались…)
Вернусь всё же к ситуации со статьей. Дело было вот в чем. Я работала одна в большой светлой комнате. В ней на обеденный чай собиралась вся лаборатория и еще человека 2 — 3 из других лабораторий (как на грех, все евреи, в том числе моя подруга) время от времени присоединялись к нам. Это был конец 70-х — начало 80-х годов, конец брежневской эпохи — время тяжелого предгрозового удушья, развала, цинизма, воровства и открытого государственного антисемитизма. Отдушиной, доступной почти всем, были анекдоты. Их было невероятное количество и разнообразие: единичных, серийных, политических и неполитических, черный юмор и светлый. Как будто весь творческий потенциал народа хлынул в это русло.
Мой сын из школы приносил каждый день гроздь новых анекдотов (правда, он учился в физико-математической школе: там, наверное, родители заряжали детей этой специфической информацией).
За нашим чаем, естественно, анекдоты лились рекой, с интерпретацией и комментариями, а соглядатаи всегда были, и мы их знали. Но не боялись: благо, Брежнев за анекдоты не сажал, хотя распускать языки не всегда было безопасно. Мой шеф говорил: «Ты знаешь, почему мы должны молчать? — Потому что мы плывем на тонущем корабле.»
Была и еще одна особенность нашей «чайной» компании: процент еврейской крови в ней переваливал за середину. Компания предстала как еврейский диссидентский клуб. Настоящие диссиденты, которые подписывали протестные заявления, печатались за рубежом, выходили на демонстрации, посмеялись бы, но в нашей стране и свободомыслие было недопустимым диссидентством. А наш Академик, как огня, боялся диссидентства, но более, чем огня, он страшился своего еврейства (он, правда, уже давно, как еврей, уехал жить в Германию, но такие люди, как он, при любых режимах, в любых ситуациях держат нос по ветру.) Но тогда он решил демонстративно «раздавить гадину» в ее логове. (Он предал своего друга, сообщив в соответствующие инстанции, что тот собирается уехать в Израиль, задолго до того, как такая возможность у него появилась. Друг был уволен с работы, со всеми вытекающими…)
Никаких перспектив продолжать работу у меня не было, хотя была готова значительная часть докторской диссертации. Наш прекрасный виварий практически перестал существовать — был разграблен. Здоровых животных, которые необходимы были нам для работы, в нем не было. И я ушла на научно-информационную работу в Министерство здравоохранения.
Началась «перестройка». Все сыпалось. Не доработав нескольких месяцев до необходимого возраста, я ушла на пенсию.
«Перестройка» взорвала гнилые структуры нашего существования — во всех сферах нашей жизни. Она же пробудила к жизни все здоровое, что долгие годы скрывалось в глубинах больного общества.
«Перестройку» ждали. — Нет. не «перестройку», и не ждали: предчувствовали; перемены — и не перемены, скорее какого-то краха…
Все долго ожидаемое приходит неожиданно. Перемены ворвались вместе с Горбачевым, с его «хождениями в народ», разговорами об «ускорении», «социализме с человеческим лицом» и мн. др. События развивались стремительно — нас «ускоряли» умело, подготовленно, успешно. Процессы шли навстречу друг другу, потом слаженно, сокрушительно работали вместе.
Это была не «оттепель», не стихи и не песни. Казалось, солнце, наконец, прорвало тучи, взошло над страной, осветило темные углы. Солнце поднималось, тени уходили в прошлое. Появилась надежда на свободу, на правду, на человеческое достоинство.
На 1-ом Горбачевском съезде народных депутатов звучали речи, слова, цифры, факты — за 70 лет о такой свободе слова забыли. Самое острое «затопывалось», «захлопывалось», но звучало, и выступавшего «воронок» ближайшей ночью не увозил навсегда в неизвестность. На Съезде — удивительные лица нашей интеллигенции, которую мы никогда не видели на трибунах, в СМИ.
Потом многотысячные митинги, выступления, речи, сборы подписей, денег, выставки, статьи в газетах, потом книги, поразительные, написанные, наверное, ранее «в стол» или в память — они сначала печатались в журналах. Журналы раскупали, расхватывали. Журнал «Огонек» Коротича стал знаковым явлением «перестройки». Потом пошли книги — удивительные книги: старые, новые — отечественные и зарубежные. К нам в гости поехала интеллигенция Европы и Америки. У нас появились школы-гимназии, школы художественного воспитания детей, студии, конкурсы… И вдруг… — очень скоро все стало сворачивать куда-то не туда.
Наш «свободный» верховный совет превратился в бранчливую помойную, разрушительную говорильню, в свалку компроматов, в сливную яму. Из него постепенно исчезали светлые честные лица: их отстреливали, они умирали, выходили из «игры». Полки в магазинах опустели совершенно. Наши военные заводы, вместо высокотехнологичного оружия, стали выпускать чайники, утюги, в лучшем случае — холодильники. Вместо одухотворенной интеллигенции, на улицы вышли голодные безработные: одни стучали касками, другие били в пустые кастрюли, как в барабаны, третьи выносили на продажу свой нехитрый скарб: старинные чашечки, графинчики, детские игрушки, стоптанные туфли…
Телеэкраны заполнила мерзость, о существовании которой мы практически не знали: бесконечные погони, убийства, кровь, секс в откровенных и изощренных формах. Эта же гадость на дисках заполнила уличные лотки и прилавки магазинов, страницы газет и журналов. Интеллигенция, специалисты, образованная молодежь, спасаясь от беспредела и безнадежности, мощной разрушительной волной хлынули за рубеж. Школа — средняя, высшая, — посыпалась. Гниль и мерзость под маркой свободы «творчества» стали просачиваться на сцены театров. Мат зазвучал на улицах, в транспорте, в школах, на сценах, с экранов телевизоров, стал разъедать литературу, а главное — души людей, более всего молодых, даже малолетних…
Что случилось со страной?! — Сама по себе «перестройка» не обещала легкого выхода из «анти-мира» в мир, но такого обрушения вряд ли кто-то ждал, кроме тех, кто им дирижировал.
Вначале казалось, что это наша внутренняя гниль. Так оно и было. Но почему она затопила все здоровые ростки нашей жизни? Разве их не было? Они мгновенно прорвались в начале «перестройки», но потом куда-то исчезли, и всю нашу жизнь накрыла грязная «пена» всех видов извращений и предательства. И когда это случилось, даже неинформированному глазу и разуму становилось все яснее, откуда «ноги растут» у этого зла, в чьих интересах в стране происходит то, что реально происходит.
Когда началась «перестройка», такие неинформированные, загнанные сложностями очень нелегкой жизни «совки», но неравнодушные легковеры и романтики, как я, надеялись, что, когда рухнет большевизм и Россия перестанет угрожать миру вывозом революций, навязыванием коммунизма, уйдет враждебность и недоверие к нам Запада, кончится «холодная война», мир станет безопаснее и добрее. Наверное, историки, политики, мудрецы так не думали, но мы, «образованцы» Советской России, выросшие в условиях лжи, умалчиваний и тайн, никогда не знали своей истории, тем более, новейшей. Нас воспитали в недоверии, в ненависти к империалистическому миру, к Западу, но мы знали, что нас не случайно называли «империей зла». Знали, что сталинщина наложила свою кровавую лапу не только на Советскую Россию, но и на страны Восточной Европы; на те страны, куда она вывозила свою идеологию, консультантов, оружие, войска; куда мы на танках ввозили «мир». Казалось, когда этот режим рухнет, когда мы станем другими, мир изменит отношение к нам и изменится сам. Но все это виделось через «розовые очки», через которые либеральная интеллигенция Советской России, диссиденты и вообще значительная часть российской интеллигенции смотрела на Запад. Запад оказался не розовым — алым, вернее, красным — не менее красным, а, как показывает время, — более, чем была большевистская Россия. Он никогда не боялся лить чужую кровь — его сдерживала Россия. Когда большевистская Россия рухнула, Запад (США) не подобрел — он «распоясался». Но прежде всего он должен был обрушить Россию — обрушить навсегда! Он долго ждал этого часа и очень долго и очень тщательно к этому готовился. И когда мы с тревогой и надеждой ждали перемен (или обрушения), Запад ждал этого с напряженным радостным оскалом.
Запад сработал чрезвычайно грамотно. Конец 20-го — начало 21-го веков — это время высоких технологий. Западные политические технологии выискали все слабые места, все трещины и трещинки в российских советских структурах, заложили всюду свой ядовитый динамит и обрушили все сразу и очень успешно. Все сделали их деньги и «технологии» руками наших либералов. Но они весь народ взяли в помощники: они разлили в народе, особенно среди молодежи яд презрения к России: они охаяли, оболгали, унизили, запачкали страну и народ. Зазвучали термины «совки», «русский менталитет», «рабы» и мн. др. Но самое главное — они (наши ангажированные и неангажированные либералы — энтузиасты) высмеяли, испачкали, убили российский патриотизм. (Патриотизм — необходимая черта больших народов, участвующих в определении судеб мира, особенно в трудные времена. Российский патриотизм — исторический краеугольный камень. Без патриотизма Россия никогда бы не встала как мировая держава и никогда бы не выстояла в своей многострадальной великой судьбе). Чтобы разрушать страну, бандитски, в щепы, не в войне, а руками ее собственных граждан, нужно было прежде всего убить в них патриотизм, вызвать к ней презрение. Это было мастерски проделано (а либералы испокон веков патриотизмом не страдали, — наоборот), но этим ядом напиталась молодежь, она быстро наполнила им духовную пустоту и с легким сердцем на крыльях улетела в более уютные края. Но улететь могут не всегда и не все, даже остро того желающие. Они остаются здесь разрушать и отравлять.
Я много раз буду возвращаться к этому вопросу дальше. Здесь же хочу только сказать: более всего именно эта разрушительная ненависть заставила меня хоть «краем глаза», все так же, на бегу, заглянуть в нашу историю и задуматься над судьбой, положением и ролью России в мире.
Неизбежность революции?
«Призрак коммунизма» родился не в России, но именно Россия почти в течение столетия пыталась оживить, одухотворить его, превратить в реальность (по крайней мере, так считалось!) и в этих своих попытках, в конечном итоге, потеряла почти все, что создала в течение тысячелетней своей истории. Европейский классовый вирус обернулся для России опустошительной эпидемией.
Наверное, к началу 20-го века человечество так устало от собственного несовершенства, от злодеяний разбойной стадии капитализма, от нищеты, войн, беспросветности, что зарево революций показалось путеводной звездой. Но только Россию эта звезда увлекла в пропасть. Тому способствовали ее «больная» история и трагическое стечение обстоятельств.
На рубеже 19 — 20-го веков Россия ждала и требовала перемен, Россия ждала революцию, но ни в коей мере не большевистскую. Большевизм вспух на теле Февральской революции, как раковая опухоль, быстро распространил свои метастазы по всей стране и, в конечном итоге, погубил ее.
Революцию ждали. По чьему-то образному выражению, «Россия была беременна революцией». Наверное, семя ее было брошено еще Петром Первым, который почти насильственно внедрил в высшие круги российского общества западную культуру. Она легко и быстро прижилась на российской почве. Он же жестче закрепостил крестьян, особенно на производствах.
Российская верхушка становилась в развивающейся, расширяющей свои границы империи не только богатой, но и просвещенной, европеизированной (она даже говорила больше на французском языке, чем на русском); низы же, в массе своей, пребывали в рабстве, бедности, во тьме неграмотности без просвета и надежд. Трещина между верхами и низами разрасталась в пропасть. Образовались практически два народа. Эти два народа мало понимали друг друга, даже когда формально говорили на одном языке. При этом верхи знали свою зависимость от низов. Низы же не осознают своей кровной зависимости от верхов: для них верхи всегда угнетатели.
Во времена больших бедствий общая внешняя угроза объединяла их, но во времена внутренних разладов разламывался народный пласт, и два народа противостояли друг другу, при этом верхние слои, даже в борьбе, не испытывали к низам такой злобы, которую проявляли к ним низы.
Самодержавие слишком долго продержало народ в темноте и рабстве. Поздняя и непродуманная до конца отмена крепостного права «раскачала лодку» больного общества. Самодержавие испугалось. Своими действиями оно продолжало ее раскачивать. И когда, наконец, долгожданная революция случилась и на Россию свалилась неожиданная «чума» большевизма. — наверное, самая большая беда в ее чрезвычайно трудной истории, — большевики идейно и кроваво поставили эти два народа по разные стороны баррикад в смертельной схватке. И, по-видимому, именно эта застарелая беда России обернулась в большевистской революции таким опустошением страны, поруганием ее истории и крахом.
Но это будет потом…
Русскую революцию подготовили: российское самодержавие, не поспевавшее за требованиями времени; русская (протестная) культура; нерешенный крестьянский вопрос и Первая Мировая война как необходимое условие, развязавшее все узлы, выпустившее джина революции на волю.
Россия, как страна испокон веков недемократическая, развивалась исторически не волею своего народа, а волею ее монархов. Все реформы в России спускались сверху и в той или иной степени отражали характер самодержца. Реформы иногда опережали свое время, но чаще отставали и далеко не всегда доводились до конца. А реформа, не доведенная до конца, часто (а возможно, всегда) зло худшее, чем отсутствие реформы. (Как полуправда обычно страшнее лжи).
Наверное, управлять такой огромной и сложной страной, как Россия, непросто, и самодержавие, по-видимому, страшилось проводить реформы, ибо боялось всякой нестабильности в ней. Реформы проводились нередко только тогда, когда само промедление грозило нарушением стабильности; но общество, уставшее от долгого ожидания, отвечало не «благодарностью», а революционным брожением, бунтами (бунт — конец долготерпения), прорывом долго копившегося напряжения и раздражения.
Самодержавие пугалось и давало реформам обратный ход. Оно отвечало реакцией — не анализом происходящего, а завинчиванием гаек, усугублением гнета, репрессиями и казнями. Оно никак не могло решить двух самых главных для России вопросов: вопроса о парламенте и вопроса о земле — о крестьянских наделах, так и не решенного после отмены крепостного права в огромной крестьянской стране. Оно как будто плавало вокруг них, то находя на короткое время точку опоры, то снова соскальзывая с нее в бурный поток «неразрешимых» противоречий. Это раздражало и напрягало общество. Самодержавие боялось ветра — оно обрело бурю.
Наиболее яркий пример — реформы Александра Второго. Именно его великие реформы, не доведенные до конца, и прежде всего, не решенный крестьянский вопрос, сделали революцию в России практически неизбежной.
Александр Второй не был ни радикалом, ни реформатором, но он был умный и просвещенный монарх, и он понял абсолютную необходимость проведения этой давно назревшей реформы.
19 февраля 1861 года позорное крепостное право, тяготевшее над Россией два с половиной века, было отменено.
Эту реформу хотела провести Екатерина Вторая, но не смогла — российское дворянство не готово было ее воспринять. Ее ждали от любимого внука Екатерины Второй — Александра Первого. Но он этого не сделал. Даже Николай Первый хотел ее провести, но не провел. На реформу решился только его сын Александр Второй.
Но реформа опоздала. «Котел» был перегрет и стал вскипать, как только его приоткрыли.
Александр Второй не только отменил крепостное право — он провел множество реформ, которые открыли пути для бурного развития капитализма в России, развития образования, книгопечатания, дал свободу слова и собраний. Термины «гласность», «оттепель» родились при Александре Втором. Количество училищ и гимназий росло, как грибы после дождя. Создавались газеты и журналы, открывались типографии. В учебные заведения хлынула не только дворянская, но и разночинная и даже крестьянская молодежь.
Но самый главный вопрос в крестьянской России — земельный — решен не был. И более всего вокруг этого стержневого вопроса началось брожение. Этот открытый перегретый «котел» активизировал все слои общества, но более всего забурлила молодежь. Тому способствовали данные свободы, свобода слова и вовлечение в учебу огромной массы людей из недостаточно обеспеченных семей. Эти молодые горячие люди, еще не очень отягченные знаниями, культурой и традициями, искали правду и справедливость, жаждали перемен и будоражили общество. Народничество, нигилизм, нечаевщина, марксизм — эта гремучая смесь питала молодые ищущие, возбужденные умы.
Кто может осудить человека, особенно молодого, не наделенного мудростью и глубокими познаниями, но с горячим сердцем за то, что он бросается в бой за строительство новой светлой жизни, когда в окружающем его мире так много несправедливости и страданий. «Если швейцарский студент был озабочен выгодной женитьбой, открытием выгодного дела, российский студент думал о всемирном братстве и вселенском счастье.» (Автора слов не помню). Эти ищущие справедливости молодые люди заглатывали любые теории, заражались и болели идеями нигилизма, «идейного» терроризма, марксизма, анархизма, бесовства. Эти молодые люди не знали эпохи Николая Первого — они сформировались в эпоху александровской «оттепели»
Это было явление какой-то новой суб-культуры или анти-культуры, ибо все это брожение было пронизано идеями якобы «справедливости», человеческого блага, новой «философии», на деле же это была проповедь ненависти и разрушения. Гениальный русский писатель Ф. М. Достоевский прозрел опасность этой нарождающейся беды и описал это в своем знаменитом романе «Бесы». (В. И. Ленин назвал Достоевского «архиреакционнейшим писателишкой»). Такими настроениями должны управлять мудрая воля государственных деятелей, просвещение и Церковь. Но ни самодержавие, ни общество не справились с этим брожением, не нашлось в обществе сил, которые охлаждали бы горячие головы, направляли их энергию на созидание.
На царя-реформатора начались покушения. Самодержавие начало «закручивать гайки». Оно не умело разговаривать с народом. В Польшу царь пошлет усмирителей-вешателей, в университеты — генералов. Был введен институт генерал-губернаторства. Молодежь ответила террором.
Студентов сажают, закрывают кружки (их много). Исключают из университетов. Они бегут из городов за рубеж. Многие бегут в Женеву, которая становится «Ноевым ковчегом» для революционеров. Именно там, в этой среде появится теоретик беспощадного разрушения социальных, общественных и нравственных структур — Сергей Нечаев. Вся Россия начнет прорастать бесовщиной Нечаева. Его влияние на молодежь было очень велико, в том числе, и на Владимира Ленина. Большое количество «образованцев» и «недообразованцев» во время революции стало бедой России. Именно они более всего накаляли атмосферу в обществе перед революцией, именно они стали во главе люмпена, который стал основной действующей силой большевиков после Октябрьского переворота.
Террор в России разрастался. Царем-реформатором, пережившим великий всплеск всенародной любви, теперь недовольны все: одни тем, что мало реформ и много расправ, другие тем, что много реформ и мало расправ.
Начинать реформы опасно, но еще опаснее их прекращать. Суд оправдал террористку Веру Засулич — общество ликовало. Было легализовано право «стрелять по совести». Терроризм становился модным. Но террор разъедает души. Готовя террористические акты, они думают о том, чтобы жертв было больше. Люди бегут из города. Террористы смеются.
Покушения на царя следуют одно за другим. Восьмое достигает цели. 1-го марта 1881 года царь Александр Второй был убит. И, как говорят историки, в тот день Россия подписала себе приговор: революция в России стала неизбежной. (Но именно в этот день Александр Второй подписал документ, который, вероятнее всего, предотвратил бы революцию, — документ о созыве Всероссийского Земства, то есть он, по сути дела, решился на конституцию [1]. Не случись этого убийства, возможно, Россия прошла бы благополучно путем реформ и вошла бы в число передовых стран мира: она шла к этому ускоренным темпом.
У Александра Второго был сын Николай — умный, высокообразованный современный юноша. Он мог бы быть царем, который так нужен был России. Но трагическая случайность приводит его к ранней смерти, в 23 года. На престол восходит Александр Третий, ни по способностям, ни по воспитанию не готовый к такому сложному правлению. При нем правит Победоносцев — мрачный и беспощадный подавитель пробудившейся России, нигилист на религиозной почве, злой гений Александра Третьего. Для Победоносцева Россия — ледяная пустыня, а по ней ходит дикий человек с топором. Александр Третий отменяет почти все реформы Александра Второго. Свободомыслие удушается. Крестьянский вопрос не решается. «Котел» снова запечатывается до нового неизбежного взрыва. (Зерна свободы, проросшие при Александре Втором уже невозможно было убить). Избежать взрыва можно было бы, постепенно решая вопросы и снимая напряжение в «котле». Но этого Александр Третий не умел и не хотел делать. «Самодержавие, православие, народность» — три кита (определенные Победоносцевым), на которых он хотел бы стоять. Но что при этом означала «народность»?
Сыну Александра Третьего Николаю Второму в наследство достались все проблемы, порожденные этими двумя противоположными правлениями, и все тот же Победоносцев — главный советник и наставник молодого государя. Российская активная общественность в течение многих лет боролась с самодержавной формой его правления, требуя создания действующего, реального парламента. Этого требовала интеллигенция всех общественных слоев. Николай Второй, как и его отец, ненавидел интеллигенцию: он, как и отец, считал ее главным врагом монархии. (Они не хотели прислушиваться к просвещенным верхам общества — их смыли низы). Но чрезвычайные обстоятельства вынуждали его соглашаться на созыв (очередной) Думы. Это всегда происходило в предгрозовую пору в преддверии революции или в пору уже разразившейся революционной грозы. Но государственных мужей в самодержавной России было чрезвычайно мало. Думцы умели шуметь, спорить, обвинять друг друга (тем более, что созывалась Дума в чрезвычайно сложные времена), спорить, бороться за власть, за влияние в Думе, но не способны были к созидательной согласительной работе. А если появлялись умные государственные мужи, талантливые, деятельные, российские цари обычно недолго терпели их (Сперанский, Витте, Столыпин…)
Николай Второй тоже не умел и не желал сотрудничать с Думой, как и Дума с царем.
Чрезвычайно показательна история Манифеста 17 октября 1905 года. Этим Манифестом монархия уступила свою главную привилегию — самодержавие, отказалась от сословного строя, наметила постепенный переход земли крестьянам, развитие самоуправления, независимого суда, просвещения и т. д. Манифест не был принят 1-й Думой. Вместо сотрудничества, 1-я Дума объявила Правительству войну… (Воистину Россия достойна своей судьбы!)
В России, которая испокон веков была «страной рабов, страной господ» Петр Первый насильственно вдавил в российское азиатское сословие семя западного просвещения, семя проросло, и при Екатерине Второй в среде уже «не поротых» дворянских и боярских детей оно бурно пошло в рост, набирая силу, увлекая за собой то, что «торчало» из нижних слоев.
19-й век — Золотой век российского ренессанса внес весомый вклад в копилку мировой культуры. За ним последовал век Серебряный. Знала ли какая-либо другая страна такой бурный рост — такое столетие, как в России с 20-х годов 19-го века до 20-х годов 20-го века: такое количество великих поэтов, писателей, художников, ученых, религиозных мыслителей, философов, великих композиторов, музыкантов, великих актеров?!
На больной почве российского государственного неустройства (и прежде всего, крепостного рабства) родилось уникальное явление — «больная» русская интеллигенция.
Российская гражданственность зародилась на Руси в рамках православия в форме святости и юродства. Времена бурного развития в России европейской цивилизации породили российскую интеллигенцию с духом западных свобод и российским обостренным гражданским чувством. (В российском обществе, во всех его слоях всегда было обострено чувство справедливости, — возможно, от извечной несправедливости и беззакония). Русская интеллигенция никогда не была заражена не только делячеством, но почти никогда не знала больших общественных дел. Она знала службу. Она была воспитана на европейской философии и культуре и взращена на отстало-азиатской рабской почве. Это противоречие породило российскую тоску, русское страдание, специфику русской культуры — Достоевского, Толстого, Лескова, Чехова.
Отмена крепостного права в 1861 году взорвала российское общество. Россия прожила без рабства 53 года (с 1861 до 1914 года), но успела за этот период очень много. Россия забурлила кипением чрезвычайно быстрого развития во всех областях общественной жизни: экономики, образования, науки, культуры, общественного устройства. Темпы этого развития были так велики, что ни общество, ни самодержавие за ним не поспевали. Начались «детские болезни» бурно развивающегося организма: реформы, реакция, террор.
Русская интеллигенция излила свое ожидание перемен, свободы, революции, деятельности на благо отечества в культуре, названной позднее Серебряным ее веком (конец 19-го — начало 20-го века. В нем было много протестного и разрушительного, патриотического, прекрасного, много раздумий, боли и язвительного смеха. Но главным в Серебряном веке все же было предчувствие перемен, ощущение их необходимости, ожидание революции, как «огненного крещения» (по словам Ф. Разумовского).
Крестьянство, получившее свободу без земли, потеряло «руль и ветрила». Часть побежала в город, пополняя ряды неквалифицированного люмпен-пролетариата, которых поглощала быстро развивающаяся промышленность. Другая часть осталась в деревне, бунтовала, искала правду, жгла помещичьи усадьбы. «Деловые люди», появившиеся на Руси, открывали в деревнях и городах различного рода дешевые питейные заведения, где искали утешения растерянные, неустроенные, обнищавшие люди. (Возможно, именно тогда была заложена мина алкоголизма, которая в советское время взорвалась и погубила недобитые Сталиным остатки крестьянства, и не только крестьянства: дореволюционная Россия потребляла алкоголя в спиртовом исчислении 5 литров на человека в год, а в 80-е — 90-е годы — 18 литров в год.
Несмотря на сложное стечение исторических обстоятельств, тугой клубок трудноразрешимых общественных «болезней», можно предположить, что Россия трудно, но, в конечном итоге, эволюционно, без тяжелых потрясений, революций и катастроф, решила бы свои проблемы, ибо, несмотря на все сложности, она бурно развивалась, пугая своими темпами и Запад, и Восток. Россия из географического монстра превращалась в цивилизованную державу.
Но разразилась страшная, дотоле не виданная Первая мировая война, она породила новые проблемы, и мягкое разрешение наболевших вопросов стало невозможным.
Николай Второй мог не ввязываться в эту войну. Не прошло еще 10 лет, как Россия бездарно проиграла ненужную ей русско — японскую войну, после чего разразилась революция 1905 года.
Николай Второй колебался. Его ближайшие советники — императрица Александра Федоровна и «Друг» Семьи Григорий Распутин, советам которых он обычно не только следовал, но нередко даже подчинялся, отговаривали его от вступления в войну. Но он в нее вступил. Это решение он принял сам. Он сам избрал свою судьбу, но он избрал ее и для России. Он втянул Россию в невиданную дотоле войну, по масштабам военных действий, человеческих потерь; но, пожалуй, самое главное — по психологическому воздействию на людей, особенно, на молодое поколение. Она изменила их психологию, жизненную философию, — она создала революционную ситуацию во многих странах. Россию, как наиболее пострадавшую в войне, она привела к исторической катастрофе.
После нескольких недель всеобщего патриотического угара и шапкозакидательского ликования стало ясно, что Россия к войне совершенно не готова. Начались поражения, отступления, нехватка продовольствия на фронте и в тылу, нехватка обмундирования, боеприпасов, беженцы и многие другие неприятности и бедствия неподготовленной большой войны.
Под ружье в течение войны было поставлено около 16 миллионов человек, главным образом, крестьян.
Бездарное ведение войны, переход ее в позиционную окопную войну, которая длилась почти 4 года, бесконечно вытягивало из крестьянства живые силы и продовольствие, подрывая до кризиса материальную и моральную базу страны. В этой войне погибло более 2 миллионов российских солдат и офицеров.
И на течении войны и на ее результатах роковым образом сказалось особое состояние Царствующего Дома. Чрезвычайно тяжелая скрываемая от общества смертельная болезнь единственного долгожданного наследника ввела в Дом темного сибирского мужика — мистика и авантюриста, конокрада, целителя, прорицателя, любителя и устроителя фантасмагорических безобразных оргий Григория Распутина. «Полуграмотный мужик, царский советник, греховодник и молитвенник, оборотень с именем Божьим на устах», — так характеризует его Тэффи («Распутин»). Распутин вызывал сильные эмоции и соответствующие характеристики — такова была мощь этой диковинной российской фигуры: загадочной, мистической, разгульной, порочной, наглой, наделенной талантами целителя, психолога, провидца и недюжинной физической силой. Наверное, такой тип мог появиться только в России, и не просто в России, а в Сибири, где все масштабно, противоречиво, ярко и сурово.
Этот мистик, шаман умел «заговаривать» невыносимые боли несчастного мальчика. Он стал ближайшим и самым авторитетным «Другом» истеричной несчастной императрицы. Позицию Николая Второго в этой ситуации, по-видимому, достаточно точно определила М. П. Бок: «Пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы».
Но все было бы не так страшно, если бы не было так серьезно. Авантюрист, конокрад, греховодник вмешивался в государственные дела.
Война обнаружила профессиональную несостоятельность многих министров, снабженцев, военачальников. Почти всякий раз на смену «неудачнику» приходила кандидатура Распутина. «Друг» советовал императрице («маме»); Аликс продавливала эту кандидатуру, даже ломая волю Николая. Как правило, в профессиональных кругах это была самая нежеланная кандидатура. Это вызывало возмущение в обществе.
В эти трудные времена Правительство, Дума и Царь редко умели договариваться между собой и с обществом. Даже в тех редких случаях, когда Правительство и Дума имели общую точку зрения, Царь бывал против.
По настоянию Александры Федоровны был отстранен Главнокомандующий русской армией Вел. кн. Николай Николаевич, которого обожали солдаты. Она же заставила Николая Второго возглавить армию. Распутин вмешивался и в ведение военных действий. Императрица писала Николаю Второму наставления — советы «Друга» (эти письма иногда перехватывала пресса). Советы и наставления «Друга» были таковы, что в обществе утвердилось мнение, что Распутин работает на Германию.
После назначения Николая Второго Главнокомандующим и отъездом его в Ставку (в августе 1915-го) — вопреки мнению Правительства и Думы, — назначение министров и направление деятельности Правительства все больше зависело от Царицы (Распутина). Царица верила только в монархию, была противницей Думы, реформ, диалога с обществом. (Столыпину удалось примирить часть общества с режимом, но с конца 1915 года примирение это стало исчезать. К концу 1916-го его уже практически не осталось). Общество кипело. Была повальная ненависть к Императрице из-за Распутина. Настойчивая, активная Александра Федоровна не любила Россию, но она желала видеть на ее троне своего несчастного сына.
Царь неоднократно пытался исправить положение, хотел назначить Главой Правительства Адмирала Григоровича — единственного оставшегося столыпинского министра, но не назначил — против была Царица. В ответственные моменты колебался, откладывал из-за императрицы решительные необходимые шаги. Несмотря на поворот к самодержавию, ощущалось отсутствие твердой руки, безвластие, несостоятельность назначаемых ответственных лиц — и все это в условиях тяжелой затяжной войны.
Распутин был убит, но поздно. Он предчувствовал свою гибель. Он ее предсказал. Но он предсказал и гибель России. Григорий Распутин навлек на себя ненависть всего российского образованного и активного сообщества и недовольство царским Домом до такой степени, что вынужденное отречение Николая Второго в марте 1917 года не вызвало в обществе ни сочувствия, ни сожаления. На отречении Николая Второго настаивало армейское командование. Окончательное решение было принято тогда, когда стало известно от врача, что Цесаревич Алексей долго не протянет. В этот момент не нашлось никого, никакой социальной или общественной силы, которая не встала, но хотя бы подняла вопрос о защите монархии, Дома Романовых — Дома, трехсотлетие которого несколько лет назад вся Россия праздновала торжественно, пышно и радостно. И во всей большой семье Романовых не нашлось человека, который бы согласился отвечать за судьбу страны в такой страшный час. (Наверное, надо было все же довести ситуацию до такой безнадежности). Быть может, позиция самого царя, его бездеятельность, безразличие расхолаживали и тех, кто должен был бы встать на его защиту.
В момент краха, не только самодержавия, но всей России, он думал не о России, не о революционном Петрограде, не о войне, не о том, что предпринять для спасения Отечества и династии, а о Царском Селе, о том «как тяжело бедной Аликс одной, без него». И путь держал в этот роковой момент не в Петроград, а в Царское Село. (Так в начале своего царствования в день коронации, когда на Ходынском поле погибло более 3-х тысяч человек, он поехал вечером во Французское посольство — на бал!)
Вот что пишет в своих воспоминаниях об этих событиях Зинаида Гиппиус: «А царь? Не покажется ли странным, что я ни слова не говорю о царе?
Пора сказать о нем, хотя это очень трудно. Трудно потому, что царя — НЕ БЫЛО (курс. авт.). Отсутствие царя, при его как бы существовании, тоже вещь сама по себе очень страшная. И царица, и слуга ее верная (Вырубова), и «старец» Гришка все-таки были. Царя же не было. Окончательно и бесповоротно… Оттого с удивляющей легкостью ушли от него почти все, едва было объявлено, что царя нет! Царя нет, от Николая Романова ушли, как от пустого места».
В своей анкете, кажется, в пункте «Профессия» Николай Второй написал: «Хозяин России». — Не был он «хозяином России». Он был мужем своей жены и отцом своих детей, но Отцом России он не был. В весьма трудный час Россия оказалась без государственного управления, без «головы», без опоры…
(Ольга — последняя Вел. кн. в своих мемуарах написала: «Если бы папа (Александр Третий) и дядя (Вел. Принц Уэльский) были живы, не было бы ни Первой Мировой войны, ни революции.» — Так ли? — Так вершится история? История мира?
Февральская революция 1917 года — та, которая назрела, которая должна была случиться, вздыбилась митингами, демонстрациями, забастовками, шествиями, но главное — развалом армии. Ее основные лозунги были: «Хлеба и мира!», «Долой самодержавие!» Солдаты покидали окопы, даже после успешных боев, не подчинялись командирам, глумились над офицерами, срывали с них погоны, бежали, кто в деревню, кто в города, превращаясь в них из воинов и защитников в солдатню и матросню.
Больная российская «народность» даже Февральской революцией поставила солдат над офицерством, бедняцкие массы, чернь — не только над аристократией и буржуазией, но и над интеллигенцией, культурой, традицией, общественной моралью.
Царский Дом перестал существовать. Февральская революция свергла лишь монархию. Она не преследовала цель уничтожать какие-либо слои общества или их благосостояние. Она должна была перестроить устаревшую общественно-политическую структуру. Режим себя изжил. Это был протест не против монархии вообще, но против того стиля и форм правления, которые в последние десятилетия осуществлял царствующий Дом.
Когда царя в России не стало и Февральская революция создала, наконец,
не ограниченное в своей власти Временное правительство, оно не сумело справиться со сложнейшей ситуацией, сложившейся в стране. Министры Временного правительства не были готовы управлять страной в такой трудный час. Керенский, видимо, сам не знал, чего он хотел. Это была личность не того масштаба, которая могла справиться с ролью, которая ему выпала. Он очень гордился своим законом о запрете смертной казни. Этим он развязал руки мародерам и бандитам — тем, кто развалил и разваливал армию, надругательски убивал офицеров, священников, интеллигенцию. Керенский колебался, метался, делал много ошибок. Он освободил из тюрем вместе с политическими уголовников: только из Крестов солдаты освободили 4 тысячи уголовников. Охранка, суды, полицейские участки — запылали. Началась охота за городовыми, убивали городовых и полицейских. Громили не хлебные лавки, а погреба.
После Крестов и Петропавловской крепости оружие вылилось на улицы: вооружены все, даже дети. Солдаты и уголовники грабили магазины. Однако 2-3-го марта революция пошла на убыль. Уличные страсти стали стихать. Но у бескровной Февральской революции появилась уголовная подкладка. (Потом она стала сутью большевистского переворота). Начался разгул террористов, «идейных» бандитов, убийц, психопатов.
Не только люмпен, но и цвет российского общества в 1917 году оказался гораздо более склонным к политическим баталиям, фракционной вражде, манифестам и протестам, чем к созидательной продуманной работе. Общественный «котел» кипел. Нужны были опытные твердые государственные мужи. Их не было. Те, кто был ответственен за судьбу февральской революции «провалили» ее большевикам. Самодержавие не готовило талантливых активных людей к государственной деятельности. К этому оно готовило наследников. Всех остальных — больше боялось, не доверяло. Самодержавие не позволило организоваться действенным и устойчивым государственным структурам. Николай Второй то созывал Думы, то распускал их. Он не умел сотрудничать ни с думой, ни с Правительством, ни с обществом. Когда самодержавие пало, новое неопытное Правительство не могло справиться с тяжелейшей обстановкой в условиях чрезвычайно затянувшейся неуспешной войны, с разбродом в армии, голодом, разрухой, революционным кипением общества, разбоем, преступностью на развалинах многовековой формы государственности при фактическом отсутствии новых форм. (Справились большевики: они разгромили страну, разогнали, утопили ее в крови).
Князь Львов за 4 месяца своего премьерства превратился в дряхлого старика — он пытался противостоять развалу. Керенский ни интеллектуально, ни нервно-психически не был достаточен для той чрезвычайно сложной роли, которую ему выпало играть в истории России. Он был эсэр. Он метался между правыми и левыми, кадетами, большевиками, эсэрами, крайне правыми и крайне левыми, между советами и Временным правительством, отменой смертной казни, развалом фронта, «побединцами» и «пораженцами», между голодом, разрухой, забастовками и митингами. У него не было достойной реальной поддержки. Опереться было не на кого. Он не был семи пядей во лбу. Он почти сошел с ума, не выдержал. Он сделал ряд катастрофических, роковых, непоправимых ошибок.
З. Гиппиус, через дом и сердце которой прошли все роковые события 1917 года (и до и после — много позже), 31-го августа 1917 года пишет: «Керенский — самодержец — безумец и теперь раб большевиков…
Николай Второй — самодержец — упрямец. Оба положения имеют один конец — КРАХ (курс. авт.)».
Она горячо поддерживала Керенского в его первоначальной деятельности на подъеме Февральской революции. Вот что она пишет в своих «Мемуарах»: «Когда история переломит перспективы — быть может, кто-нибудь вновь попробует надеть венец героя на Керенского. Но пусть зачтется и мой голос. Я говорю не лично. Я умею смотреть на близкое издали, не увлекаясь. Керенский был тем, чем был в начале революции. И Керенский сейчас — малодушный несознательный человек, а так как фактически он стоит наверху, то в падении России на дно кровавого рва повинен — он. Пусть это помнят.
Жить становится невмоготу. Написано 8 октября. Воскресенье 1917 года» [3].
Февральская революция вызрела в России. Ее ждали. Ее приветствовали.
Язва большевизма вызрела не в России, а вне ее. И «призрак» коммунизма бродил не по России, а по Европе. И не «социалистическими» проблемами «болела» Россия перед мировой войной. И российские «теоретики» социализма больше жили в Европе, чем в России. Но в роковой для России час эта язва была навязана России немцами.
Февральская революция «прошумела» в российской истории. Большевизм обернулся для России исторической катастрофой.
Ленин, находясь в Швейцарии, о Февральской революции в России узнал из газет. Накануне какой-то аудитории в 12 — 15 человек он читал лекцию, в которой сказал, что революция в Европе произойдет, быть может, лет через 50: нам, старикам, до нее не дожить. И вдруг! История дарит ему такой шанс: Мировая война, революция в России — необходимые условия для раздувания пожара мировой революции. Но сначала — Россия!
Мировая война — необходимое условие для любой революции, ибо в мирное время не попрать устоев общества, которые формировались всей историей человечества, как бы ни были они несовершенны. Но нужен еще разгром, развал общества, нужны вооруженные низы и поражение в войне, ибо победы укрепляют общество, а поражения его расшатывают. (Это условия, необходимые для революции, которая не совершенствует общество, а разрушает его «до основанья»). Необходим был разгром армии. Что он мог бы, этот авантюрист, если бы германский генштаб не вооружил его деньгами, необходимыми и достаточными для развала армии (по плану, разработанному Людендорфом), производств (по планам, разработанным Парвусом), для массовой агитации, для выпуска газеты, прокламаций, всех видов разрушительной революционной работы и в запломбированном вагоне вместе с 29 соратниками он не был бы провезен через линию фронта и не доставлен в российскую столицу?!
И уже 2-го апреля 1917 года он, прибыв в Петроград, на Финском вокзале, где, на те же деньги, организован митинг, поставлен броневичок, с которого Ленин выступает со своими «Апрельскими тезисами» — планом разрыва цепи империализма «в одной, отдельно взятой России».
Большевики не имели нравственных пут. Они должны были разрушить этот мир, и для этого все средства были хороши. И они были полны энергии.
Уже 29 апреля 1917 года на конференции большевиков было решено опутать всю страну сетью большевистских ячеек и отрядов Красной гвардии. Партийные функционеры разъехались по стране поджигать Россию на немецкие деньги.
У них не было современных средств массовой информации, — они заменили их бешеным напором агитации. Работала газета, бесчисленные комиссары, делавшие трибуной любую сцену, балкон, кучу, бочку… Но главным помощником им была война: массовое скопление измученных войной вооруженных солдат в окопах.
По всей России заработали тысячи советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. По всей стране начались массовые забастовки рабочих, митинги, шествия. Газеты, листовки, прокламации, плакаты полны были бунтарских призывов. Основные лозунги: «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!». 3-го июня открылся Первый Всероссийский съезд советов. С трибуны меньшевик Церетели сказал: «Нет такой партии в России, которая могла бы сказать: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет.» — Ленин из зала: «Есть такая партия!» (Большевиков на съезде было 9%).
Но самая разрушительная работа велась в армии. Армия, — в основном крестьянская, — устала от долгой, почти 4-х летней позиционной окопной войны, от вшей и грязи, нечеловеческих условий и бесперспективности.
Но именно в начале 1917-го наметился перелом в войне. Германия терпела поражение. И именно сейчас необходимо было подорвать силы русской армии, ввергнуть Россию в революцию, вывести из войны. Немецкие деньги сработали весьма эффективно. Большевики развернули бешеную агитацию. Ослабевшая морально и физически армия легко поддавалась разложению. Армия побежала. Часть крестьян, имевшая землю, побежала в деревню, безземельные бежали в города воевать за нее. Солдаты оставляли позиции даже после успешных боев и побед, складывали оружие и бежали, удивляя сбитых с толку немцев. Солдаты срывали погоны с офицеров, плевали им в лицо, глумились над ними, зверски убивали, превращаясь из воинов в бандитов. Это явление было столь массовым, что сбивало с толку офицеров и даже генералов. Появилось ошибочное, очень повредившее в конечном итоге Белому движению утверждение: «Народ не с нами — народ против нас.»
Деньги разлагали все. Однако факт их получения перестал быть тайной. Ленин был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Его ждал суд. Ленин бежал и скрывался в Разливе под Сестрорецком в шалаше почти до самого переворота.
Однако, переворот был необходим. Ленину необходимо было отрабатывать немецкие деньги и избежать суда. Поэтому он спешил. Сроки поджимали. Он руководил подготовкой переворота из Разлива. За два дня до переворота он, загримированный под машиниста, на паровозе прибыл в Петроград. День «х» был назначен — 25 октября 1917 года.
Был ли штурм Зимнего? И кто его штурмовал: финны, пленные немцы за немецкие деньги, переодетые в матросскую форму уголовники? — Разные историки описывают это событие по-разному.
Штурма Зимнего не было. Так утверждает доктор исторических наук В. И. Старцев [4]. Зимний почти никто не охранял: 1,5 — 2 тысячи юнкеров, около 300 человек казаков и женский батальон — 136 человек. Когда ушли все, кто не пожелал охранять дворец, осталось около 500 юнкеров, (по другим сведениям, и женский батальон).
Сигналом к началу штурма был залп «Авроры», который почти слился с ежедневным залпом в полдень из Петропавловской крепости — залп оказался внушительным. 10 — 15-минутная пальба из винтовок и пулеметов, 40 залпов артиллерии (3 снаряда попали в Зимний, два из них в одну комнату, в которой никого не было). Потом примерно 500 человек пошли ко дворцу. Наблюдатель, который сидел над царским входом, сказал: «Парламентеры идут.» — Но это были не парламентеры.
Временное правительство не призвало защитников. Оно не имело авторитета. И никто его не защитил. Временное правительство было арестовано. Керенский бежал. Охрана Зимнего: 500 юнкеров, женский батальон — были перебиты (женщины предварительно изнасилованы). Дворец защищали еще раненые: во дворце 1050 комнат, 11 из них, в том числе Малый тронный зал, были заняты под госпиталь (с 1915 года, по распоряжению Николая Второго), причем это был госпиталь не для аристократов — для простых солдат.
Зато большевикам, проявившим бешеную активность, удалось набрать 18 (12) тысяч (по разным данным) для штурма. Это были вооруженные солдаты и матросы, покинувшие окопы и корабли и превратившиеся в разбойный сброд, финские стрелки, пленные немцы, петроградский люмпен, уголовный мир (благо, Керенский выпустил его из тюрем), шпана.
Они подвергли дворец ужасающему разгрому: они резали полотна бесценных картин, испражнялись на персидские ковры и в китайские вазы, били великолепные царские сервизы. 28 октября двум фотографам удалось с большим трудом получить разрешение пройти во дворец. Во дворце был разгром, как после самума или наводнения. 7 дней российский люмпен грабил подвалы и комнаты дворца. Было украдено (кроме общего погрома) драгоценностей на 1,5 миллиона (тех!) рублей. Их перечень составил талмуд в 150 страниц.
(Временное правительство вывозило драгоценности для большей сохранности из Зимнего в Москву, в Оружейную Палату. Две партии они уже отправили, а 3-я была готова к отправке, упакована в ящики. Она была разграблена.)
Петроград был на несколько дней отдан на разграбление «революционным массам»: солдатне и шантрапе. Громили погреба, магазины, лавки, богатые дома: «Весь Петроград пьян», — пишет в своем дневнике Зинаида Гиппиус.
Можно достаточно твердо сказать, что Россия не приняла большевистскую революцию. Она расценила ее, как абсурд. Октябрьский переворот был совершен руками люмпена и принят им. Остальная Россия замерла в бойкоте, в ожидании, что этот противоестественный режим, который не может быть жизнеспособным, рухнет или будет сброшен Белой армией, с помощью Антанты или Провидения. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (в ТВ передаче «Времена», 1997) сказал: «Октябрьский переворот никто не заметил, не принял его всерьез. Поняли, что пришла новая власть, когда начались расстрелы».
Интеллигенция не смогла, не захотела защитить свою революцию, Февральскую, — все подарила большевикам.
Суть, стержень, фундамент трагедии 1917 года в том, что антибольшевистские силы: вся интеллектуальная, деловая, аристократическая, состоятельная Россия — не смогли договориться. Не нашлось сильной Личности, лидера, который смог бы объединить всех, если не вокруг общенациональной идеи (таковой не было), то хотя бы против кучки большевиков, взбудораживших люмпен, возмутивших «дно», чернь, уголовников, поднявших их на разрушение старого мира.
В России все те, кто должен был подняться против чумы большевизма, гораздо больше умели «пестовать» и обострять разногласия, чем объединяться во имя общей цели.
Тем не менее, большевики поняли, что удержать так противоестественно легко завоеванную власть можно только великим насилием. Для этого надо было цементировать их ряды. Они цементировали их агитацией и кровью.
Гениальный тактик Ленин точно определил, какие «куски» надо бросить «массам», чтобы они пошли за ним. Измотанным долгой окопной войной вооруженным крестьянам он бросил лозунги: «Мир народам!», «Земля Крестьянам!». Возбужденным романтикам, авантюристам и честолюбцам он бросил щекочущий нервы лозунг: «Вся власть советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!» Люмпену и черни он бросил жирный кусок: «Грабь награбленное!», «Экспроприация экспроприаторов!».
Люмпен (а в тот момент в России его было чрезвычайно много) всегда готов вдохновенно участвовать в любой кровавой заварухе. Примитивизм и привлекательность лозунгов — тоже особая черта российской революции. Они отразили специфику верхов и низов революции: авантюризм верхних, безграмотность нижних. — Ты, который никто, ты и есть все, ты соль земли, ты носитель справедливости. Без анализа, без различий, без разбора. («Кто был никем, тот станет всем». «Любая кухарка может стать членом правительства» — и при этом не было и речи, что сначала надо перестать быть никем, перестать быть кухаркой, а стать кем-то значимым, стоющим, достойным, способным).
Это тоже определило дух российской революции.
(В США тоже каждый несет в себе законом закрепленную возможность стать президентом, но им надо СТАТЬ!).
После бессилия и бездеятельности Временного правительства большевики демонстрировали бешеный напор активности, невиданную энергию, что на короткий срок — до первых расстрелов — привлекло на их сторону некоторую часть общества, не разделявшего их взгляды. В этом напоре был исходный нравственный изъян — допущение «любой цены»: для достижения цели «любые средства» были хороши. У темных «масс», возбужденных, окрыленных волей и опьяненных кровью, руки были развязаны.
И по мере того, как революция набирала силу, от нее отходила интеллигенция, всё компетентное и прогрессивное, и все большую роль начинала играть входящая во вкус чернь.
Это была не просто война белых с красными или монархистов с демократами. Это была борьба всех, кто ниже, с теми, кто выше. Строили новый мир, противоположный старому. При этом старый предавался анафеме, обжигался жгучей ненавистью, подлежал полному уничтожению, выжиганию, вытаптыванию. Каждый, кто беднее, ненавидел, грабил, уничтожал того, кто богаче. Иногда не грабил, а жег, топтал его добро, кощунствовал, бесновался. Тот, кто не образован, издевался над образованным, издевался со смаком и ненавистью, с гордым осознанием своей правоты. Нищий душой мстил за свою убогость тому, кто был богаче душой. В этой пляске разрушения, ненависти, кощунства пробуждалось, возбуждалось все низменное в человеке. «Высокие» лозунги питали злобу. В этой вакханалии мщения и злобы под лозунгами «справедливости» не было тормозов, кроме внутренних нравственных и религиозных устоев каждого отдельного человека, но энергия толпы и запах крови их ломает.
Как, чем и зачем можно и нужно было так озлобить толпу, что люди теряли облик человеческий: с кощунственной жестокостью и дикой беспощадностью они уничтожали именно то, что было уважаемо, ценно, свято. Они жгли усадьбы, резали полотна картин, били драгоценный фарфор, резали и рубили иконы, снова распиная Христа; они святотатствовали в алтарях, зарывали живем в землю священников, насиловали монахинь, они сбрасывали с храмов кресты и колокола.
Как, какой агитацией можно превратить серых, незаметных, может быть, тихих неудачников в беснующуюся мразь?
По-видимому, слово обладает страшной силой. Энергия злого слова, сказанного в нужном месте и в нужный момент, сокрушительна. Она обладает способностью возрастать стократ в возбужденной толпе.
Был ли истинно набожен российский мужик? Почему так легко стал он зверем и бесом? Не потому ли, что был он всегда рабом в миру и червем пред Богом? И вдруг его объявили солью земли, гегемоном и призвали его к делу великой справедливости: «мир насилья разрушить до основанья, а затем построить новый мир, в котором, кто был ничем, тот станет всем»? К тому же ценности старого мира не были для него ценностями — он их не знал. А разрушать — не строить: для строительства нужны знания, идеи, высокие мысли и чувства. Для разрушения — инстинкты, низменные, темные. Идеи непросто соединить в реализуемые конструкции, инстинкты легко сливаются в разрушительный поток.
Большевики взбудоражили и оседлали люмпен. Но люмпен не имеет права на волю, на свободу инициативы, ибо он не несет в себе созидательного начала и не способен на созидание. В то же время он легко активизируется, когда получает волю разрушать. Ленивое, недеятельное, не способное к чему бы то ни было вдруг оказывается сверхактивным. «деятельным», разгоряченным. Безликое приобретает вдруг лицо, но лицо страшное. Тупое становится жестоким и агрессивным; забитое, холуйское становится надменным.
Эта страшная активность выпущенного из глубин человеческого несовершенства духа ада оборачивается изощренной местью всему лучшему в человеке и Божьем мире: садизмом, кровью, разрушением.
Урок российской революции не новый, но наглядный чрезмерно. Богово и Дьяволово есть в человеке. Большевизм впитал, взлелеял, взрастил бесовство, родившееся из трудной русской истории, и дал ему волю уничтожать Божеское в миру и в человеке. Это был не народ. Народ занимался делом. Это был люмпен: шаткий в добре, нетвердый в вере или отступник, потенциальный слуга дьявола. Не активируйте его. Он должен быть ограничен в воле законом более, чем кто-либо.
Чем более выкристаллизовывался большевизм, тем все более он опирался на чернь и подонков. И в то же время было много энтузиазма, жертвенного, самозабвенного. Чернь, подонки на это не способны — нет, это были российские романтики, заблудшие «святые», платоновские герои.
Революция развернула масштабное полотно возбужденных общественных слоев огромной страны: «дно», люмпен-пролетариат; уставшая от затяжной войны, оставшаяся без руля и без ветрил армия, разложившаяся в зверском глумлении и уничтожении офицеров; одурманенные лозунгами о «свободе, равенстве и братстве», о строительстве новой жизни полуинтеллигенты (интеллигенты 1-го поколения, студенты — недоучки; еврейская молодежь (единственный угнетенный народ в России), возмущенная зверскими погромами, униженная государственным антисемитизмом; крестьянская безземельная беднота, так и не нашедшая своего места на земле после отмены крепостного права. Все это стало быстро активизироваться мощной опарой социального взрыва.
Все смешивалось в революционной «каше»: энтузиазм, святая вера, самопожертвование, корыстолюбие, властолюбие, разбой, садизм, героизм, идиотизм, анархизм, авантюризм, патриотизм — все смешалось в этой исторической катастрофе. Конечно, несовершенство этого мира, пороки российской общественной жизни привлекли в лагерь этих радикалов и многих легковерных, заблудших, растерявшихся в бурном потоке событий или силою обстоятельств вовлеченных в струю большевистского движения. Среди них было много незаурядных, талантливых людей. Этим тоже объясняются многие успехи большевиков.
Энтузиазм — это реальное. весьма значимое явление. — Что это было?! Упоение лозунгами — легковерных, отрекшихся от религии и старого мира, увлекающихся, романтиков, нетвердых, ищущих себя? — (Наверное, у большинства романтиков и «святых» это кончилось тоской и гибелью).
Большевики провели невиданной интенсивности агитацию на выборах в Учредительное собрание: они были уверены, что получат в нем большинство мест. Когда этого не произошло, они разогнали его — первый в истории России всенародно выбранный орган управления, — разогнали под дулами пулеметов, презирая протесты всего общества, забастовки рабочих, митинги на всех крупных заводах, во всех крупных городах России. Вначале большевики сорвали заседание Учредительного собрания, отключив электричество. На следующее заседание, предвидя провокации большевиков, делегаты пришли со свечами и бутербродами. Но большевики заговорили с ними языком пулеметов. Троцкий смеялся над этими дураками — идеалистами со свечками…
После этого ни у кого не осталось иллюзий, что из себя представляет большевистская власть. Сознательная Россия пошла на баррикады. Расстрелы стали нормой жизни. Насилие и разбой, голод и разруха набирали обороты.
Большевики проламывали «стены», сметали все на своем пути, будь то человеческие жизни, исторические, моральные ценности, традиции, устои — это все не имело будущего. Все должно было быть сметено, чем более жестоко и показательно, тем лучше. «Только беспощадный террор может нас спасти». (Ленин). Они были вооружены абсолютным презрением к старому миру, всем его достижениям, к человеку, к России.
Им нужна была власть — ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ И ВЛАСТЬ, для того, чтобы удержаться в истории, куда они так неожиданно и так нагло ворвались.
Зинаида Гиппиус пишет: «Прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было. Да, вот это забывают обыкновенно, а это надо помнить: большевики — ПОЗОР (курс. авт.) России, несмываемое с нее никогда пятно, даже страданиями и кровью ее праведников… Мы думали, что дошли до пределов страданья, а наши дни были еще как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, еще почти не начинался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Попробуют, видят — ничего, осмелеют, хапнут.
Так весной 1918 года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки же мы были церемониться!)
Антибольшевистская интеллигенция — ДРУГОЙ ТОГДА НЕ БЫЛО (курс. мой), исключения считались единицами — оказывалась еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками «словом», угнетенным, правда, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат, она вообразить не могла» [5]. (Вот так благородство не может постичь дна низости, интеллигентность — глубину невежества и хамства; не умея постичь, не могут во-время сделать выводы, принять меры, предотвратить… Позже большевики уничтожили и творцов, и носителей слова…)
Все достойное, интеллектуальное, аристократия, буржуазия — все, что могло уйти, покидало Россию.
В марте 1922 года, по приказу Ленина, ушел за рубеж пароход, на котором из России выдворялся высший цвет ее интеллигенции, все лучшее, что она дала в век своего удивительно бурного развития — ее интеллектуальный венец. К концу года было выдворено за рубеж уже около 300 виднейших русских гуманитариев. «Из имен утвердившихся и прославившихся там были философы Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Ф. А. Стегунов, В. А. Мякотин, И. И. Лапшин; литераторы и публицисты Ю. И. Айхенвальд, А. С. Изгоев, М. А. Осоргин, А. В. Пешехонов». («Архипелаг ГУЛАГ». т.1. с 367). После этого высылки малыми группами повторялись неоднократно. (Ленин очищал Россию от «совести, интеллекта, глаза истины» — Ленин высылал, Сталин позже — просто уничтожал…)
Большевики провозгласили не социальную справедливость, а превосходство люмпена. Сознательно? — Надо полагать, да. С хранителями нравственных и интеллектуальных ценностей этим авантюристам — разрушителям было не по пути.
Марксово учение о прибавочной стоимости большевики трансформировали в боевой лозунг «Грабь награбленное!», в уход от высоких идей к примату материального, желудка, перераспределения — исходно разбойному принципу. Это была первая крутая ступень в бездну.
Ни один из политических лозунгов, за которыми пошел народ: «Власть советам!», «Мир народам!», «Земля крестьянам!» — не был реализован. Народ был грубо, преступно обманут. Лозунг «Грабь награбленное!» возбудил лишь подонков и был реализован вдохновенно, «творчески», с огромным энтузиазмом и изобретательностью в самых различных вариантах, в большом и в малом.
Нравственно нетвердые теоретики-утописты в революционной борьбе, в борьбе за власть превращались в банду, которая, напиваясь пролитой народной кровью, все более и более становится антинародной и преступной, теряя ореол освободительницы трудового народа и даже «возлюбленного» пролетариата.
У меня есть выписки из «Петербургских дневников» Зинаиды Гиппиус. Они дают представление о большевистском Петрограде. Рука не поднимается что-то вычеркнуть. То, что когда-то выписала приведу полностью.
Облавы, обыски, аресты, расстрелы, ограбления, погромы — лицо большевизма, пришедшего к власти. Разруха, разбой.
«Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой — лапоть». «Деревянные дома приказано снесть на дрова». «На студентов особенное гонение…»
«Ощущение ЛЖИ вокруг — ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как-будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.»
«Почти насильно записывают в партию коммунистов. Открыто устрашают… а если кто… Дураки боятся.»
«Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек по 10 — 11 в день. Выводят во двор, комендант, с папироской в зубах, считает, уводит… Этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих помертвевших жен, шутил: «Вот вы теперь молодая вдовушка. Да не жалейте, ваш муж мерзавец был. В Красной армии служить не хотел.»
Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всеобуч». Он явился. Там ему комиссар с хохотком объявил: «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили.»
Зверей Зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных… Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду…
Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевистской статистике — 65%, при 12% рождений, т.е. умирает половина населения.»
«Большевики и сами знают, что будут свалены, так или иначе, — но когда? В этом весь вопрос. Для России — и для Европы — это вопрос громадной важности.
Если большевики падут лишь «в конце концов», то, пожалуй, под вызволившимся окажется «пустое место». Поздравим тогда Европу.
Матросье кронштадтское ворчит, стонет — надоело. Давно бы мы сдались, да некому. Никто нейдет, никто не берет.»
Что бы ни было далее, мы не забудем этого союзникам. Англичанам, ибо французы без них вряд ли что могут. Да что — мы? Им не забудет этого и жизнь сама.»
«В самом деле, каким «вмешательством», в какие «внутренние дела», какой «России» была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что «никто их не берет», сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. (У них автомобили всегда наготове).
(«Прорыв» правды в «Правду». Из дневника Гиппиус. Вместе с орфографией. 30 августа 1919 года.
«Рабочая масса к большевизму относится не сочувственно и когда приезжает оратор или созывается собрание, тт. рабочие прячутся по углам и всячески отлынивают. Такое отношение прискорбно. Пора одуматься. Черехович.»
«Отдел недвижимых имуществ Александро-Невского р-на.»
«Настроение пахнет белогвардейским духом. Из 150 служащих только 7 человек в коллективе (2 коммуниста, 3 кандидата и 2 сочувствующих). Все старания привлекать публику в нашу партию безрезультатны.
14-я Госуд. Типография. Петроград.»)
Арестовали двух детей, 7 и 8 лет. Мать отправили на работы, отца неизвестно куда, а их, детей, в Гатчинский арестантский приют.»
Мы так давно живем среди потока слов — «раздавить», «додушить», «истребить», «разнести», «уничтожить», «залить кровью», «заколотить в могилу» и т. д. и т.д., что каждодневное печатное повторение непечатной ругани — уже не действует, кажется старческим шамканьем».
Закрыли заводы. Выкинули 10000 рабочих. Здесь большевики организовали принудительную запись в свою партию (не всегда закрывают принудительность даже легким флером). Снарядили, как они выражаются, «пару тысяч коммунистов на южный фронт», чтобы через какую-нибудь пару недель догромить Деникина».
Большевики уповают на своих «красных башкир», в расчете, что им все равно, лишь бы откармливали и все позволяли. Их и откармливают, и расчет опять верен».
В ночь сегодня мобилизуют всех рабочих, заводы (оставшиеся) закрываются. Зиновьев вопит не своим голосом, чтобы «опомнились, и не драли. И что „никаких танек нет.“ Все равно дерут.»
Голод полнейший. Рынки расхвачены. Фунта хлеба сегодня не могли достать. Масло, когда еще было, — 1000 — 1200 р фунт.»
26 (13) октября, вторник.
Вот две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ: «Гнать вперед красноармейцев (так и написал «гнать»), а в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом, центральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство. Уж как эти невольники роют — другое дело. Не думаю, чтобы крепки были правительственные баррикады, дойди дело до уличного боя.
Но в него никто не верил. Не могло до него дойти (ведь, если бы освободители МОГЛИ дойти до улиц Петрограда — на них уже не было бы ни одного коммуниста).
Три дня, как большевики трубят о своих победах. Из фактов знаем только: белые оставили Царское, Павловск, Колпино. Почему оставили? Большевики их не прогнали, это мы знаем. Почему они ушли — мы не знаем.
…Армия же Юденича совсем куда-то пропала, словно иголка. Что с ней случилось, зачем она вдруг стала уходить от Петербурга (от самого города! Разъезды белых были даже на Забалканском проспекте!) Когда большевики из себя вышли от страха, когда их машины ночами пыхтели, готовые для бегства… — Не можем понять. Но факт налицо — ОНИ УШЛИ.
Люди так жалки и страшны. Человек человеку — ворон. С голодными хищными глазами. Рвут падаль на улице равно и одичавшие собаки, и воронье, и люди. Едут непроницаемые (какие-то нелюди) башкиры на мохнатых лошаденках и заунывно воют, покачиваясь: средняя Азия…
…Россия сурово молчит; отсюда до Европы доходит лишь то, что угодно сказать большевикам.
А они говорят, и очень громко, и очень настойчиво вот что: у нас — революция; у нас — диктатура пролетариата, а коренной наш принцип — правительство рабоче — крестьянское, мы постепенно вводим в жизнь, воплощаем все идеи научного СОЦИАЛИЗМА, мы уничтожили капитал, уничтожаем частную собственность, идем к уничтожению денег. Мы за полное равенство всех. У нас система СОВЕТОВ — совершеннейший из всех выборных институтов. Перевыборы старых совершаются каждые полгода — народ сам управляет страной. Мы за мир всего мира, но так как враги наши не оставляют нас в покое, то для защиты своего социалистического строя народ создал могущественную красную армию и борется за социализм, не жалея крови, терпит голод, нужду, лишения — только бы не отняли у него его «собственного» правительства. С внутренними врагами русский народ — рабочие и крестьяне — борются посредством созданных им правительственных учреждений, — Исполкомы, ЧК и др.. Все враги советской власти, без исключения, желают отдать фабрики капиталистам, отнять у рабочих, а землю — помещикам, отняв у крестьян.
Революция — это мы.
Поэтому:
Кто против нас — тот против революции, против социализма, против рабочих и крестьян.
Это ЕДИНСТВЕННЫЙ голос, идущий из России. Это единственно они взяли силой, но главный их принцип, которого они не скрывают: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО»
«Через головы всех европейских правительств», как все время говорят большевики, мне хотелось бы обратиться к рабочим всего мира…
Я утверждаю, что ничего из того, о чем говорят большевики Европе, — НЕТ.
Революции — нет.
Диктатуры пролетариата — нет.
Социализма — нет.
Советов, и тех — нет.
Мне хотелось бы предложить рабочим всех стран следующее. Пусть каждая страна выберет двух уполномоченных… пусть они поедут ИНКОГНИТО в Россию. И пусть они, вернувшись… скажут «Всем, всем, всем»: Есть ли в России революция? Есть ли диктатура ПРОЛЕТАРИАТА? Есть ли пролетариат? Есть ли рабоче — крестьянское правительство? Есть ли хоть что-нибудь похожее на проведение в жизнь принципов социализма? Есть ли Советы, т.е. существует ли в учреждениях, называемых советами, хоть тень выборного начала?
В громадном НЕТ, которым ответят на все эти вопросы ЧЕСТНЫЕ люди, ЧЕСТНЫЕ социалисты вскроется и коренной, основной абсурд происходящего… (Равенства тоже нет, ибо нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки — при миллионах нищих.
…Основа, устой, почва, а также главное, непрерывно действующее оружие большевистского правления ЛОЖЬ!»
(24 декабря 1919 года З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский выехали из Петербурга, в январе 1920-го перешли польскую границу. В эмиграции жили в Париже. Похоронены на кладбище Сен-Женевьев де Буа).
Старая Россия уплывала к иным берегам.
Осенью 1920 года из Крыма уходила за рубеж Белая армия Врангеля.
Сколько раз нам приходилось видеть художественные кадры и кадры кинохроники об уходе из Новороссийска за рубеж последних кораблей в ноябре 1920 года. Крым покидала Белая армия и все, кто не мог принять большевизма. (Уже был слышен топот копыт большевистской конницы). И не притупляется, и не может притупиться, ощущение бездонного, бесконечного горя, всеобщей трагедии, непостижимого ужаса происходящего. Переполненные палубы, люди стоят, плотно. Переполнен трап — все поместиться не могут. Крики. Рыдания. На берегу звучат выстрелы: многие из оставшихся кончают жизнь самоубийством. Корабли уходят. За кораблями плывут лошади, покинутые, как Родина, боевые верные друзья. Берег удаляется. Лошади плывут, жалобно, призывно ржут и тонут…
(Когда корабли вошли в Босфор, они дали знать: «Мы 3 дня не ели и не пили.» Их окружили турецкие корабли. С одного из них нарядные дамы в белых шляпах стали весело бросать на палубу куски хлеба. Никто (даже дети) не сдвинулся с места, не притронулся к этим позорным кускам…)
Тогда ушло около 137 тысяч человек. И еще 300 тысяч уйти не смогли, остались в Крыму. Им было обещано помилование, если они зарегистрируются и сдадут оружие. Они сделали это. После этого в течение нескольких дней по всему Крыму было арестовано более 60 тысяч солдат и офицеров. Как пишет Макс Волошин, в течение 3 — 4 месяцев из 800 тысяч населения Крыма было расстреляно 96 тысяч человек: расстреливали городское население (его было 300 тысяч), в основном интеллигенцию, т.е. — каждый третий. Всего же в течение холодной и голодной зимы 1920 — 1921 годов от холода и голода в Крыму погибло еще около 300 тысяч человек — оставшаяся часть Белой армии и те граждане, которые пришли в Крым вместе с ней.
И. Шмелев в «Солнце мертвых» описывает голодный, голый, опустошенный, поруганный, выжженный прекрасный Крым… И гордо, одиноко и трагически бродят по Крыму и умирают голодные лошади, оставшиеся без хозяев…
«Советский Союз после гитлеровского разбоя — все эти ужасы, даже вместе взятые, не идут ни в какое сравнение с тем, что представляла из себя наша Родина после семи неполных лет ленинской тирании. Россия и ее народ были ограблены до нитки. Золото, бриллианты, валюта были прикарманены высшей партийной кастой для «мировой революции», но прежде для самих себя.
Физически было уничтожено дворянство. Уничтожено купечество, предприниматели, интеллигенция, цвет армии — офицерство. Перебиты миллионы крестьян, стерт в порошок рабочий класс, от имени которого якобы и вела свои дела ленинская шайка.
Экономика развалилась, погиб лучший в мире речной флот, гордость российского купечества. Замерли, заросли бурьяном лучшие в мире железные дороги. Порушена, превращена в прах лучшая в мире банковская система. Разграблены и уничтожены тысячи лучших в мире аграрных хозяйств, в которых производительность труда и урожайность были выше, чем в Западной Европе и Америке. Замерла лучшая в мире система народного образования, созданная Александром Вторым и усовершенствованная Столыпиным» [6].
Разорены, разграблены дворянские поместья, купеческие дома, дворцы царствовавшего Дома и знати. Ограблены дома и квартиры состоятельной интеллигенции. Хозяева выселены в прикухонные комнаты или изгнаны, квартиры заселены люмпеном.
Большевики собирались построить рай на земле. И заповеди блаженства были почти христианские: за счастье ближнего не только рубашку и хлеб свой, но саму жизнь. Только это возводилось на ненависти и крови. Кровавый «рай» обернулся адом.
Ленин построил государство «диктатуры пролетариата» в стране, где пролетариата почти не было (4%, по др. данным — 8%), установил атеистический строй на Святой Руси…
Большевики начинали и правили ложью, насилием и страхом. И кончили крахом. Но нескоро. Они обрушили и Россию…
Разрушение церкви
Большевистские Идолы, пришедшие разрушить старый мир, чтобы на его руинах построить туманное человеческое счастье, прежде всего должны были уничтожить Творца старого мира, уничтожить зверски, растоптать, стереть с лица земли, вытравить из памяти народной: слишком велика была в многовековом миропонимании цивилизованных землян роль Бога и Его земной Церкви.
Церковь еще не успела определить своего отношения к советской власти, как начались погромы.
Насилие и надругательства над религией — тысячелетней верой народа, именем которого вершилась революция, не заставили себя ждать. Погромы начались через несколько недель после Октябрьского переворота. Банды представителей новой власти врывались в монастыри и храмы, требовали сдать казну, отбирали церковное серебро, утварь, избивали, убивали церковнослужителей, независимо от их ранга. Этот грабеж и издевательства носили кощунственный, святотатственный характер. Грабеж и убийства сопровождались мерзостью изощренных издевательств, надругательства над верой, церковью и их служителями. В монастырях издевались над монахами и монахинями. В храмах оскверняли святые места. Пытавшихся сопротивляться избивали зверски или убивали на месте.
Протопресвитер Щавельский в статье «Большевизм и Церковь» писал, что нет тех издевательств, тех зверств, которые стеснялись бы применять по отношению к религии и духовенству в советской республике.
В городе Юрьеве, как сообщает протопресвитер, красные палачи топорами изрубили семнадцать священников и епископов, большевики бросали священников и епископов в свалочное место, отрезали им носы и уши, одевали в женскую одежду и заставляли танцевать, распарывали священникам животы и сажали туда живых поросят, одевали лошадей в церковные ризы… вставляли папиросы в рот изображениям святых, устраивали вместо панихид бесовскую свистопляску и т. д. и т. п..
Мощи веками чтимых святых вынуты из хранилищ и преданы поруганию. Злодеи в богохульстве своем не остановились перед поруганием мощей святого Сергия Радонежского, великого печальника земли русской во дни татарского ига и всенародно известили о том в своих известиях» [7].
Вот еще.
«А что сказать о верующих сынах и дщерях, православных чадах донской церкви. Число их, подвергшихся издевательствам, поруганиям, мучениям, насилиям, теперь не может быть указано даже приблизительно. Женщины, девушки и даже девочки подвергаются гнусному насилованию с целью „прививки пролетарской крови“. Мужья, отцы и братья или насильственно мобилизованы или изрублены, изранены, избиты за твердость и преданность христианской вере, долгу, закону, совести.» [8].
«В виде особой кары священнослужители принудительно привлекались к „трудовой повинности“ в виде очищения отхожих мест, улиц, базарных площадей и других черных работ» [9].
«В первые месяцы после революции церковная печать прекратила свое существование, и жесточайший террор принял всероссийский размах». [10].
Над всей Россией гудел набат…
Толпы верующих пытались спасти храмы и священнослужителей. На уговоры, молебны, колокольный звон, петиции духовных соборов, крестные ходы большевики отвечали ружейным и пулеметным огнем. Защищать церкви и монастыри направлялись делегации фабрик и заводов, жители окрестных сел; они осуществляли круглосуточную охрану церквей, семей священников. Женщины бесстрашно вступали в схватку с вооруженными солдатами, но пуля — аргумент веский, категоричный… Это был тот аргумент, который большевики противопоставили всему здравому в России, что им противостояло в борьбе или просто было противно большевистскому духу…
В январе 1918 года во время погромных событий в Александро-Невской Лавре в Петрограде орган социал-революционеров «Воля страны» писал: «Большевики возвращают Россию в Средневековье, ко всем ужасам войны классовой, национальной, партийной, областной и внешней они прибавляют еще войну религиозную, быть может, самую страшную и самую нелепую из всех». [11].
Сопротивление верующих, в котором приняли участие не только простые люди, но и интеллигенция, поразило большевиков, но это не остановило, а лишь раззадорило их.
Гонения на церковь вызвали бурю протестов в обществе. Почти все печатные органы, кроме большевистских, возмущенно писали о событиях, с этим связанных.
Но большевики не спорят — у них есть один язык: насилие, огонь, кровь…
Церковь пыталась сопротивляться. 28 февраля 1918 года Патриарх и Священный Синод писали обращения к пастырям и пастве, призывая их, в соответствии с новыми условиями, защищать веру и святыни Церкви.
По всей России, в обеих столицах, в губернских, уездных городах и селах прошли многотысячные крестные ходы, с хоругвями, иконами, песнопениями, молитвами. В них приняли участие представители разных слоев населения. Но массовость протеста не остановило новую власть.
В 1918 году расстреляно Белого духовенства — 2,5 тысячи, монахов — 2 тысячи, монахинь — 2 тысячи, послушников — 15 тысяч.
В Смоленске в одну ночь закопали живьем на кладбище 40 священнослужителей. Две недели шевелилась земля… Невозможно описать все ужасы, творимые новой властью по всей огромной стране.
Большевикам необходимо было не только уничтожить идею Бога и Церковь Его, но и завладеть богатствами русской Церкви.
Россия имела неисчислимое количество церквей: каждое затерянное в просторах ее село имело свою церковь. Москва имела их сорок сороков, не считая внутренних церквей во дворцах ее знати, в больницах, университетах и других крупных учебных заведениях, на крупных заводах и фабриках и в других учреждениях. И все это сочетало в себе разнообразие архитектуры, мастерство орнамента и живописи, богатство церковного убранства и утвари.
Огромно было количество монастырей в России. Сколько было в этом народного труда, умения, мастерства и таланта, российского аскетизма, святости и благотворительности. Художественный талант народа воплощался в росписи храмов, украшении одеяний и утвари. Сотни этих церквей и храмов — ценнейшие произведения искусства, такие гиганты, как Исаакиевский, Казанский, Александро-Невский и Архангельский соборы в Петербурге, Храм Христа Спасителя в Москве, древнейший Софийский Собор в Киеве, там же Владимирский Собор, древнейший Собор во Владимире, удивительный в святой аскетической скромности гармонии Храм на Нерли и бесконечное количество разнообразных, неповторимых и похожих прекрасных храмов по всей земле русской. Их неизъяснимая красота рождалась из гармонии с русским пейзажем, их своеобразная архитектура сливалась в триединстве простора, куполов и звона…
Это бесценное богатство России рождено было многовековыми усилиями всех сословий российского общества, и все это было уничтожено этой же Русью — в одночасье. Как, почему, кем?! — Да, уничтожал одурманенный лживой пропагандой, опьяненный кровью люмпен, руководимый авантюристами. Но этот ответ не удовлетворяет — он заставляет задуматься…
Была разрушена тысячелетняя культура огромного народа, выжжено святое в душах людей, был вырван из земли, из уклада всей жизни нравственно-бытийный стержень, оставив пепел и руины.
Один из ведущих телепрограммы «Пятое колесо» Виктор Правдюк предложил художественный образ этого явления: сапог, топчущий человеческое лицо (!)
Это бесконечное количество великолепных храмов создал народ-художник, народ-умелец, народ-труженик, но красота храмов, богатство их убранства, орнамента и утвари, красота службы рождала новых художников и мастеров. Это становилось традицией, сутью жизни, национальной чертой характера.
Декоративно-прикладное культовое искусство было очень развито на Руси. Иконы были в каждом доме, даже в самом бедном; иногда иконостасы были в несколько десятков икон.
Богатство, роскошь православных храмов и служб; красота, богатство одеяний церковнослужителей, церковной утвари были чрезвычайны. Сколько золота, серебра, драгоценных камней, сколько искусства: живопись, золотое, серебряное шитье, ювелирное мастерство, письмо по эмали, резьба по дереву и металлу. (Есть ли еще религия, в которой обрядовая сторона так «отягощена» роскошью? — На протяжении веков вся творческая энергия художественно одаренного народа отдавалась почти исключительно Церкви.)
И все это бесценное огромное богатство было уничтожено, разграблено, вывезено из страны.
Во время голода в Поволжье в 1921—22 годах Патриарх Тихон обратился с Посланием к советскому правительству 15/28 февраля 1922 года: «…Мы, почитая долгом своим прийти на помощь страждущим духовным чадам нашим, обратились с посланием к главам отдельных христианских церквей (Православным Патриархам, Римскому Папе, Архиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому) с призывом во имя христианской любви произвести сборы денег и продовольствия и выслать их за границу умирающему от голода населению Поволжья… Желая усилить возможную помощь… мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили Православное население 6 (19) февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено правительством к напечатанию и распространению среди населения…
Но мы не можем одобрить изъятие из Храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается Канонами Вселенской Церкви и карается ею, как святотатство — миряне отлучением от Нея, священнослужители — извержением из сана (Апостольское правило 73, Двукратный Вселенский Собор, Правило 10)».
В ответ на послание Патриарха пишет В. И. Ленин.
Товарищу Молотову
Для членов Политбюро Строго секретно.
Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену
Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на самом
документе.
…Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… Нам во что бы то ни стало надо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей… Все соображения указывают на то, что позже нам это сделать не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который либо обеспечил бы нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется, безусловно и полностью, на нашей стороне.
…изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать…»
19 марта 1922 года
Ленин.
(Сколько цинизма и ненависти! А побаивался все-таки вождь мировой революции народного сопротивления и гнева. Великий тактик! — Сейчас или никогда! Так он провел переворот 25 октября 1917 года. Так он громил Церковь. А занятых рубежей большевики никогда не сдавали.
После таких указаний великого боготворимого вождя что же удивляться той чудовищной жестокости, изощренной, мерзкой, святотатственной, с которой эти ценности были изъяты?! — На голодающих было потрачено лишь 3% их стоимости).
В1922—23 годах прошли массовые аресты и суды над церковниками (с ними арестовывали и наиболее активных мирян). Основное обвинение: сопротивление при изъятии церковных ценностей.
«… в результате декрета об изъятии церковных ценностей… расстрелянных по суду только духовных лиц — священников, монахов и монахинь в одном 1922 году было более 8 тысяч.
Если принять это за треть всех осужденных и расстрелянных, то получим, что при изъятии церковных ценностей было расстреляно более 25 тысяч человек.» [12].
В течение 1924 года все руководящие архиереи Русской Православной Церкви оказались в тюрьмах и лагерях. Епископы обычно арестовывались каждые полгода. Их место занимали люди совершенно случайные. [13]. (Из лагерей вышло на свободу менее 1%).
По-видимому, это был метод многократных «экстракций», который Сталин применил позже, создавая СВОЮ партию…
Совсем уничтожить Церковь большевики не посмели — они создали маленькую, не авторитетную в народе, но им послушную.
Вторая волна разрушения церквей прошла во время коллективизации. Из 55 тысяч церквей, существовавших до революции, к 1937 году осталось 1300 (менее 2,5%).
Уничтожению и разорению подверглись и Церкви других конфессий. В Якутии из 34 буддийских храмов осталось 4. Погибло 15 тысяч лам. В Калмыкии погибли 4—5 тысяч лам. Из 40 монастырей не осталось ни одного. [14].
В Петербурге было уничтожено 487 православных храмов, еще 100 храмов других конфессий [15].
До революции только в Ярославле было более 100 тысяч икон. Ярославскому музею удалось сохранить из них 2800. А 100 тысяч истинных — не дешевых подделок — не сохранилось и во всей России.
Но апофеозом надругательства над Русской Православной Церковью было уничтожение Храма Христа Спасителя в Москве. Это был венец и символ этого злодеяния.
25 декабря 1812 года, когда последние солдаты наполеоновских войск переходили по льду Неман, покидая пределы России, Александр Первый издал Манифест, в котором объявил о своем намерении воздвигнуть в Москве храм во имя Христа Спасителя «в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский и в ознаменование благодарности нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели.» [16].
Храм строился более 40 лет на пожертвования всего народа, участников войны 1812 года (крупные пожертвования богатых людей не принимались).
И Храм был воздвигнут! На пожертвования всего народа! Освящен он был лишь 70 с лишком лет спустя после того, как французы покинули Россию. Огромный храм был величественен снаружи и роскошен изнутри. Он был сложен из огромных плит песчаника на расплавленном свинце, сложен — на века! Только с его куполов большевики сняли около четырехсот килограммов золота. (ОГПУ получило все золото, изъятое из храмов. Возможно, и эти 400 килограммов ушли туда же…)
Храм расписывали и украшали лучшие художники и скульпторы того времени: братья Маковские, Прянишников, Верещагин, Суриков. Это был не просто храм, это был храм-музей, храм-памятник. На 177 специальных мраморных плитах в хронологическом порядке излагалось описание всех сражений, состав войск и командования, имена убитых и раненых «нижних чинов» и офицеров, тексты приказов и манифестов и другие документы войны 1812—1814 годов. Это было скрепление церкви небесной с народной памятью. (Все плиты уничтожены вместе с храмом).
Белокаменный мрамор храма опоясан был скульптурными библейскими и историческими сюжетами.
Храм вмещал без тесноты и духоты более 10 тысяч молящихся. Стены как бы раздвигались, купол уходил в небо и каждый звук был слышен повсюду. Это была загадка Храма.
5 декабря 1931 года большевики взорвали Храм. Взрывали трудно. Храм не поддавался. Потребовался особый план, десятки (может быть, сотни?) тонн динамита. (Сталин и сатрапы его, наверное, наблюдали эту картину из Кремля).
Фотокорреспондент сталинских времен Владислав Микоша снимал разрушение Храма Христа Спасителя. Он пишет, что этот кошмар преследует его всю жизнь.
Храм был взорван весь сразу. При взрыве он одновременно весь запылил и посыпался, как будто был сделан из песка. Лишь луковки боковых куполов упали как-то вразброд, не по команде. И последним медленно и трагически стал падать огромный и величественный его шлем. Незабываемы и кадры толпы, наблюдавшей эту картину: восторженный или злобный хохот (регот) и рукоплесканья подростков и молодежи люмпенского или фанатичного типа, кривые, злобные улыбки неудачливых и обиженных жизнью люмпенов; застывший ужас на лицах верующих, замкнутые уста, непроницаемые лица запуганных; глубокая тоска тех, кто понимал…
Молчал народ и бесновался люмпен…
Наверное, многие в тот момент думали о том, какую кару понесет Россия за это свое святотатство. (Через 10 лет под Москвой стояли немцы…).
А в деревне под Гусь-Хрустальным был огромный прекрасный Храм, подобный Храму Христа Спасителя. Он не был взорван. Он был разграблен, разрушен, осквернен, загажен — постепенно, всеми жителями и их детьми. То-есть, это не была одномоментная акция «идейно-воодушевленных разрушителей».
А в усадьбе князей Тенишевых, превращенной хозяевами в учебно-культурный центр, по личным указаниям владелицы был возведен Храм Святого Духа. Церковь создавалась в содружестве с Н. К. Рерихом. Искались вершины человеческого духа, отраженные разными религиями. Большую часть храма украсили уникальные рериховские фрески. Вход в церковь украшала рериховская мозаика, а семиметровый крест был вызолочен художниками-ювелирами Фаберже.
Храм долгие десятилетия служил зернохранилищем. От рериховских росписей не осталось и следа. Уникальный крест с церкви был сброшен. (А во Франции в 1938 году в десятую годовщину кончины М. К. Тенишевой Русское Историко-Генеалогическое общество издало в память о ней сборник «Храм Святого Духа в Талашкине» с богатейшими иллюстрациями).
Может быть, это святотатство — символ того, что произошло с деревней, с народом, с культурой, с Большой Россией…
Разрушились внутренние структуры мировосприятия, нравственность, устои, структура жизни, взаимоотношения людей и вещей. Мир рушился. Будущее было непонятно, прошлое было оболгано и обругано, настоящее было жестоко, лживо, мрачно.
Очень часто во всех бедах российских винят инородцев — прежде всего евреев. Приводят мерзкую фразу, сказанную Лазарем Кагановичем, одним из верных полуграмотных сатрапов Сталина, по поводу уничтожения Храма Христа Спасителя. Но могли ли инородцы свалить такую махину, как Русская Православная Церковь, по всей огромной России?! — Не буду углубляться в этот вопрос. Он не прост и не по теме. Замечу лишь, что инородцу крушить чужую церковь — что материться на чужом языке. А вот русскому…
Революция — явление страшное, наверное, исторически недопустимое; тем не менее, революции, большие и малые, цветные, кроваво-красные, черные происходят непрерывно в 20-ом просвещенном веке. Но революция российская была самой сокрушительной, для России — почти гибельной, для мира — поучительной.
В российской революции в одной точке сошлось множество предпосылок, а в характере ее осуществления, вероятно, многие специфические особенности России.
Может быть, российский народ исторически незрелый, с детской психологией? Он, как ребенок, еще неучен, легковерен, ленив, послушен и строптив, эмоционален, как ребенок; добр и зол, а главное — несамостоятелен, а потому и нуждается всегда в опоре: ему всегда нужен перст указующий и плеть карающая. И Идол — опора мирозданья: чей перст круче, чья плеть жестче — тот и опора, тот и Идол.
Но народ — это пласт многослойный. И в российском народе были те, которые принимали мученическую смерть за веру; те, кто защищал Веру и Церковь, не щадя живота своего, и те, которые крушили… Эти последние, этот слой оказался в революции довольно мощным. Это были крестьяне, оставшиеся не у дел после реформы 1861 года, — не ставшие рабочими и переставшие быть крестьянами; это были полуинтеллигенты — недоучившиеся гимназисты и студенты, интеллигенты первого поколения из бедных слоев, получившие доступ к образованию в результате реформ Александра Второго, и прочая многочисленная шпана. Большинство из них в условиях войны оказалось под ружьем. Такая мощная волна смывает и втягивает в свой поток все, что не укоренено, нетвердо в своих убеждениях или ищет «приключений». Но главным фактором в российской революции были ее вожди: авантюристы, державшие в руках против народа ЛОМ, против которого, как известно, нет приема: абсолютная беспощадность, «любые средства хороши»…
И Россия разрушила свою тысячелетнюю Веру и Церковь. Несметные богатства Церкви ушли за рубеж — за гроши; часто бесценные произведения искусства шли в лом, в переплав; ими затыкали «дыры» провальной экономики; золото и драгоценности шли на содержание «внутренней армии» палачей, следователей, надзирателей, ВОХРовцев, уничтожавших цвет народа российского. Церкви пригодились не только под склады, но и под расстрельни, а монастыри разоренные — под пересыльные тюрьмы.
На Соловецких островах — святыне Русской Православной Церкви большевики создали один из первых концлагерей — всемирно известный СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), в котором погиб цвет старой русской интеллигенции. В местах массовых расстрелов нельзя было ставить ни крестов, ни часовен. В одном из таких страшных мест выросла береза в виде креста. В это трудно поверить — это надо увидеть. Это одно из чудес Соловецких островов — свидетелей и наследников российской святости и российского сатанинства.
А Россия с тех пор, вот уже почти 100 лет несет тяготы Божьей кары.
А на месте Храма Христа Спасителя большевики хотели воздвигнуть огромный памятник своей Победы и Всевластия — Дворец Советов. Но земля, державшая величественный Храм, не попустила даже начальных этапов строительства: Вавилонская башня преступников построена не была.
Какой-то из светлых российских умников сказал: «Россию нельзя ни завоевать, ни уничтожить — уничтожить себя может только она сама.»
(Народ, уничтожая свои ценности: человеческие, духовные, материальные — руками собственных подонков в азарте разбоя, независимо от того, какой идеей, каким оружием они вооружены, остается на историческом пепелище, на обочине истории, вне ее. Такой народ вычеркивается из исторического процесса. Остается провал, тьма, черное пятно без исторического рисунка.
Мы самоуничтожались почти в течение всего 20 века. Теперь мы мечемся в нравственном гноище и задаемся вопросами: выживет ли Россия, что делать, как поднимать страну, от исторического кафтана которой «один ворот остался».
Вожди (Ленин)
Большевики упорно вколачивали в наши головы, что историю творят «массы», что роль личности в истории ничтожно мала. (За этим утверждением они прятали свою вину за преступления, сваливая ее на массы). Именно большевики, как никогда и никто до них, научились возбуждать массы всеми доступными им методами агитации, нажима, подкупа и насилия и манипулировать ими, направляя их разрушительную энергию на осуществление своих планов. За этой разрушительной лавиной они прятали свои лица, свою руководящую и направляющую роль.
Зато победы и достижения вожди, особенно Сталин, всегда приписывали лично себе, благосклонно оставляя какую-то роль и своей партии. Это несомненно была продуманная историческая «игра». Заодно и массы подкупались и «гегемон».
Долгожданная Февральская революция провалилась. Белое движение, которое, несомненно, поддерживала основная часть населения, потерпело поражение. Большевистская революция, привезенная из-за рубежа, свалившаяся Октябрьским переворотом России, «как снег на голову», выжила, губя Россию, продержалась (и все еще держится) почти век. Почему? Как?
Ни у Февральской революции, ни у Белого движения не было лидеров — тех самых Личностей, которые делают Историю. У большевиков они были, и Личности, весьма достойные внимания.
Главных было трое: Ленин, Троцкий, Сталин. (Правда, вскрытие архивов, возможно, принесет нам и в этом вопросе «сюрпризы»).
О КАЖДОМ ИЗ НИХ НАПИСАНО НЕМАЛО. Сталину в этих записках, как их главному анти-герою, будут посвящены отдельные главы. Здесь же — некоторое количество строк — Ленину.
Еще в детстве он был уверен, что будет вождем. Гимназист-отличник он был исключен из гимназии из-за старшего брата, казненного за террористическую деятельность. Надо полагать, отсюда идет его неприятие этого мира. Он решает идти «другим путем» — не изменять этот мир, а разрушить его.
История подыграла ему. Она подбросила ему разбойную стадию первоначального капитализма, революционную эпоху, марксово учение о прибавочной стоимости, нечаевскую теорию беспощадного и бескомпромиссного растаптывания старого мира, которые он соединил в своем учении, называемом марксизмом-ленинизмом. (Нечаевская революционная мораль допускала любой подлог, убийства, фальсификацию, предательство, ложь, ради достижения цели, отвергая начисто нравственные принципы).
Ленин был одним из основателей социал-демократической партии России, почти в зародыше разделил ее на большевиков и меньшевиков и возглавил радикальное большевистское крыло. За большевистскую пропаганду он был сослан в Сибирь, после чего уехал за границу, где безбедно прожил, на партийные деньги, 14 лет, не посетив Россию до самой Февральской революции.
Узнав из газет, совершенно неожиданно для себя, о Февральской революции в России, получив предательские «иудины» деньги на разрушение России, он едет в Россию (его везут немцы в запломбированном вагоне через линию фронта). У него есть все: Мировая война, революционная ситуация, революционная теория, деньги и присвоенное себе право бога разрушать и творить мир по собственным рецептам и воле. Он едет раздувать пожар мировой революции. Но первой должна пасть Россия, как слабое звено в цепи империализма. «На Россию ему наплевать» Ему нужна мировая революция. Он будет перестраивать мирозданье. — Что это, авантюризм или дерзость безумия?!
Апологеты Ленина приписывают ему гениальную прозорливость, утверждают, что он был гениальным стратегом и тактиком.
Какую гениальность можно приписывать стратегу, который намеревается зажечь революцией земной шар, стереть с лица земли старый мир в течение даже не лет, а месяцев, и, возможно, в течение нескольких лет (а может быть, и месяцев?!) построить новый мир? — Ему не повезло. Не получилось. Он просто «провалился» (его термин) в России. Он считал, что в США можно построить коммунизм в течение 20 лет. Что в России наступит коммунизм, когда на ее полях буде 20 тысяч тракторов. (Когда Россия голодала, на нефтяные деньги закупала хлеб в Канаде, на колхозных ее полях ржавело 2 миллиона (!) тракторов).
Великий тактик, он точно назначил день переворота: «Сегодня еще рано, послезавтра будет поздно.» — Его просто поджимали сроки: Германия ждала отработки денег…
Он ввел НЭП. НЭП предложил не он: Троцкий, Соковников, Иоффе, меньшевики. Ленин сопротивлялся. Он согласился, когда ему пришлось признаться: «Мы сели в лужу»…
Мировая революция, диктатура пролетариата, опора на люмпен и пр. — это не гениальность и даже не авантюризм, а недоумство.
Но этот человек был наделен несокрушимой самоуверенностью, энергией и злостью — ненавистью и беспощадностью ко всему, что противостояло ему в достижении намеченных целей. На базе сырой новоиспеченной теории он строил планы сокрушения мира и кроваво крушил его.
Интеллектуальная Россия оказалась бессильна в споре с ним, ибо он был скор и крут, изворотлив и напорист. Он знал: «Ревизионизм — СМЕРТЕЛЬНЫЙ враг марксизма» (курсив мой) — читай: марксизма-ленинизма. Да, это учение не выдерживает никакой ревизии, никакой критики, и он (и его последователи) ее категорически не допускали. Он был невероятно зорок и быстр в реакции на любую сиюминутную новацию, но он не видел, не знал, не смотрел в глубину. Поэтому в одном труде, в одной статье, не говоря об «учении» в целом, можно найти диаметрально противоположные, взаимоисключающие мысли и утверждения (все — на злобу дня). — Быстрый, поверхностный и беспощадный ум.
Поверхностные знания. Поверхностная теория. Облегченные, освобожденные от нравственных оков принципы; «тяжеловесное», беспощадное, кровавое их воплощение.
«Ввяжемся в драку, а там посмотрим.» — Сначала дело — потом мысль.
«На Россию мне наплевать, нам нужна мировая революция». — Он легко, с беспрецедентным цинизмом сделал Россию жертвой своих вселенских амбиций. Нужна была масса легковерных полуинтеллигентов, способных загореться бредовыми лозунгами. Они и становились чаще всего комиссарами.
Он уничтожал историю России, ее исторические памятники, иногда собственными руками. Ничто ни в России, ни в ее истории не было для него значимым, кроме борьбы классов и ее развития.
Он кощунственно разрушил Церковь, надругался над тысячелетней религией, верой — исторической, нравственной, духовной основой русского народа.
Он выдворил из страны цвет ее интеллигенции — венец ее Культуры, которым украсили ее два удивительных века ее развития — Золотой и Серебряный. (Его ненависть к интеллигенции неисчерпаемо цветиста: «гнилая», «говно», «хлюпики», «дураки», «душечки», «сволочь». Интеллигенцию не любили российские самодержцы, ее ненавидели большевистские вожди, и эта нелюбовь вошла в плоть и кровь российского современного народа…)
Несомненно, эти авантюристы и разрушители могли опереться только на люмпен — на тех, кому нечего было терять, у кого не было ценностей в этом мире.
Россия сопротивлялась. Он заливал ее кровью. Вот отдельные его высказывания и приказы, которые сейчас находят историки в приоткрывающихся архивах:
— «Неужели вы думаете, что мы победим без жесточайшего террора?» — (из беседы с Горьким).
— «Одним ударом пресечь царскую династию.»
— «Расстрел»…
— «Расстрелять!»
— «К расстрелу!»
— «Повесить не менее 100 кулаков, чтобы народ видел и трепетал. Р.S. Наберите людей покрепче.»
— «Надо нанести такой страшный удар по деревне, чтобы они десятилетия не опомнились.»
— «…расстреливайте без идиотской волокиты.»
— «…Вешать, вешать, вешать!»
— «Чем больше расстреляете, тем лучше.»
«Концлагерь» — это его изобретение и его термин. (А возможно, он откопал его где-то в истории). 5 сентября 1918 года Ленин подписал указ об учреждении концлагерей. К концу 1921 года на территории РСФСР функционировало уже 122 лагеря. В 1922 году ВЧК реорганизована в ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление, располагавшее собственными воинскими формированиями и обособленной репрессивной системой, в которую входили тюрьмы, изоляторы, лагеря особого назначения. ОГПУ не подчинялось общегосударственному законодательству и было наделено «правом внесудебной расправы, вплоть до расстрела». 2 октября 1923 года был организован печально «знаменитый» Соловецкий лагерь особого назначения — СЛОН. [18]. (Первый был где-то на Волге).
«Враги народа» — это тоже его термин: зажиточные крестьяне, кадеты…
«Нет таких средств, которые были бы слишком велики для достижения великих целей!» И различные варианты этой мысли: «Цель оправдывает средства». «Для достижения цели все средства хороши». — Любые средства хороши! Гуляй кровавая вольница! Эти принципы легли в основу деятельности большевиков в течение всего 20-го века.
В огромной малограмотной стране в момент крутого перелома общественной жизни, когда воинственно активизировалась огромная темная крестьянская масса, Ленин разрушил, ошельмовал единственную общую нравственную основу — религию. Не просто разрушил — он заложил основы для дальнейшего над ней надругательства. Иначе не могло быть: для того, чтобы присвоить себе право рушить старый мир и творить новый, по собственному усмотрению, необходимо было низвергнуть Творца истинного. Но, если можно было низвергать Бога и Церковь, что же еще святое могло находить на этой земле его воинство?!
(Сейчас готовится к печати 8-томник неопубликованных работ Ленина. Сколько же и чего же написал этот человеколюб такого, что почти 100 лет хранилось в глубокой тайне?!)
В нас всегда вколачивали в детстве сладенькие сказки о том, что Ленин был всегда чрезвычайно скромен, бедствовал вместе с народом, в детские дома отправлял свои пайки и т. п.. В действительности этот человек никогда не бедствовал. В Париже на деньги партии он снимал шикарную квартиру в богатом буржуазном районе на улице Бонье, затем на улице Мари-Роз (там сейчас его музей). Он отдыхал на лучших курортах Франции, Швейцарии, Италии. Он лечился у знаменитых врачей. В это время рядовые члены партии там же, в Париже, голодали, умирали от голода, на что В,И Ленин здраво указывал, что партия — не благотворительная организация, не «Армия спасения», она может помогать лишь наиболее ценным партийным работникам. [18]. Источники же партийных денег были столь разнообразны, иногда весьма сомнительны, преступны, часто кровавы (Камо, Сталин и др.). И Ленин знал это. Но… «Цель оправдывает средства».
Стоит отметить интересный факт: как известно, (и здесь об этом неоднократно упоминается) Ленин узнал о Февральской революции из газет. А накануне в своей лекции сказал, что революция произойдет, возможно, лет через 50 и что нам, мол, старикам, до этого не дожить. Однако это не мешало ему за 50 лет до революции, до которой он не доживет, безбедно существовать на сомнительные партийные деньги.
Но это все мелочь, пустячок, по сравнению с теми воистину иудиными деньгами, которые он получил от Германии для того, чтобы губить Россию.
Генрих Гейне, будучи сам евреем, сказал, что хороший еврей — это очень хороший еврей, но плохой еврей — это очень плохой еврей.
Еврейский народ дал миру великих математиков, физиков, философов, поэтов, музыкантов, шахматистов. Он дал миру Христа, его Апостолов и первых христиан, которые понесли по миру Радостную Весть. Но он дал миру и Иуду, и фарисеев, которые распяли Христа. Так было задумано: без Крестного пути, Голгофы, Воскресения Слово Божие не осталось бы на тысячелетия в сердцах людей, не было бы миллиона мучеников, погибших за веру в пример и назидание грядущим поколениям. Но за Светом Христа черной тенью следует Иуда, за предательство которого платит долгие века еврейский народ великую тяжкую плату, как будто не он же дал Христа.
И вот архивы открывают нам имя еще одного «иуды» (хотя одни историки это всё утверждают, другие — отрицают), и он вносит свою лепту в сокрушение России. В историю он вошел как Александр Парвус, но истинное его имя Израиль Лазаревич Гельфанд. (Все они брали себе псевдонимы — от полиции ли? Наверное, мерзкие дела легче прикрывать чужими именами).
Российский подданный, он хотел получить подданство Германии. Он ей продал Россию.
Как некогда Иисус нашел Петра и сказал: «На камне сем я воздвигну Церковь мою», — так Парвус нашел Ленина — достойный камень, на котором можно было строить любое предательство, глобальное разрушение, гибель стран, народов, мира, если можно было удовлетворить вселенские амбиции, тщеславие, жажду власти маленького картавого лысого человечка.
Германии нужно было вывести Россию из войны: уже было ясно, что победа России над Германией неизбежна и близка.
Великий сценарист и кукловод Парвус понял и донес до германского командования и кайзера: Германия должна дать деньги на организацию революции в России. Остальное (организацию революции) он брал на себя. И он действительно разработал сложные пути денег по воюющей Европе, систему банков, подставных лиц и доставку их в Россию. Перевез Ленина и его соратников через фронт. Он составил весь сценарий забастовок, стачек, демонстраций, развала фронта, братания солдат, массовый исход солдат из окопов и т. д.. И массовая встреча вождя на Финляндском вокзале, и броневичок, и цветы, и лозунги, и выкрики — все было подготовлено. Все оплачивалось по разработанному тарифу.
Подлые деньги потекли на заводы и в армию. Предательство стоило дорого: за участие в стачке платили вдвое больше, чем за рабочий день; активность увеличивала плату в разы (участие — 20 рублей, выкрики — 40, лозунги — 100 рублей, стрельба — 120 рублей. В Россию шли 50 миллионов золотых немецких рейхсмарок.)
Агитация в окопах разлагала уставшую от войны армию. Победившие в бою солдаты складывали оружие и покидали окопы, расстреливая офицеров. Россия побеждала, и так важно было в этот момент заставить армию оставить выстраданные победные рубежи.
На немецкие деньги издавались газеты, прокламации, оплачивались агитаторы и активисты.
Парвус поставил на Ленина. Это был гениальны выбор. В Ленине была энергия пробивать дорогу к власти, отбрасывая с дороги не только врагов, но и соратников. Эта энергия питалась его нетерпимостью, цинизмом, беспощадностью и вселенской злостью.
Но Парвус недооценил Ленина: он надеялся, что за оказанные услуги Ленин поделится с ним властью. Но Ленин отказал ему: Ленин, для которого «чистые» руки революционера — «сапоги всмятку», с изумительным цинизмом сказал Парвусу, что «революцию надо делать чистыми руками». И не сморгнул… (А ведь Парвус деньги только достал, но использовал их Ленин! — Он просто боялся такого сильного «игрока» — ему хватило ненавистного Троцкого…)
Парвус получил германское гражданство, стал сказочно богат. Ожиревший до безобразия, он умер в одиночестве никому не нужный, ни Германии, ни России, на своей роскошной вилле, и могила его исчезла с лица зем — — — ли. [19]. (Так были отвергнуты деньги Иуды, и почернело дерево, на котором он повесился, и место это было проклято).
Парвус умер вскоре после Ленина, в тот же год. Возможно, в мире ином они встретятся и разделят там власть.
Парвус знал силу денег. Конечно, между Иудой Парвусом и победой большевистского переворота 25 октября 1917 года страшная прямая причинно-следственная связь. Но… Деньги — это бумажки. Нужны были еще руки и люди, которые эти бумажки брали, которые за эти бумажки бросали оружие, убивали своих офицеров, оставляли свои заводы, шли на демонстрации, выкрикивали лозунги, крушили и бесчинствовали. Их были тысячи, десятки тысяч. Они — не бумажки, а люди — дали большевикам прийти к власти и удержаться в ней. И причиной тому были не немцы, а самодержавие, наделавшее в последние десятилетия перед войной слишком много просчетов и ошибок и, ввязавшись в войну, оказавшееся несостоятельным.
Приоткрывающиеся архивы вскрывают «странные» связи Ленина с Германией.
В запломбированном вагоне вместе с большевиками-соратниками он привез двоих немецких шпионов для совместной с большевиками работы в пользу Германии [20].
Он пытался передать немцам для борьбы с Антантой Балтийский флот. Военные моряки сделали все возможное и невозможное, совершив беспримерный в военно-морской истории переход из Гельсингфорса, Ревеля и Аландских островов в Кронштадт в феврале — апреле 1918 года и спасли свыше 250 кораблей и вспомогательных судов, за что командовавший флотом царский контр-адмирал Щастный А. М. был в июне 1918 года расстрелян по сфабрикованному обвинению [21].
Есть основание утверждать, что затопление на Новороссийском рейде основной части судов Черноморского флота по прямому приказу Ленина — звено той же цепи [22].
Брестский мир был предательством, а не гениальным успехом Ленина.
«По дополнительному соглашению к Брест-Литовскому мирному договору между Советской Россией и Германией, подписанному 27 августа 1918 года, правительство Российской республики обязывалось уплатить Германии 6 миллиардов марок (из них около 700 тонн (!) золотом), не считая различных продуктов, товаров и сырья. С весны 1918 года с Украины были вывезены по договору тысячи — десятки тысяч тонн, штук, ящиков муки, крупы, масла, жира, яиц, творога, сыра, сахара и других продуктов; рогатый скот, лошади и прочие продукты — всего более 172 тысяч тонн. (Арутюнов приводит списки и количество вывезенных продуктов — это не поддается ни воображению, ни пониманию). Для вывоза этих продуктов было выделено 30757 вагонов [23].
(И не только Германии — 2-му Интернационалу на поддержку революционного мирового пожара шли несметные российские богатства: богатства Дома Романовых, богатого дворянского сословия, купеческие, богатства Церкви — всего русского народа. Шли несчетно чемоданами, ящиками, вагонами — за рубеж.)
До какой же степени нужно было цинично презирать свою страну и народ, чтобы добивать, продавать, предавать их в момент тягчайших бедствий и разрухи. Ленин «убивал сразу двух зайцев»: отдавал «долги» Германии и создавал в России СЛАБОЕ звено в цепи империализма, легкое на разрыв…
Сейчас, в столетней перспективе, становление большевизма в России: переворот, разгром России в период краткого правления Ленина, тридцатилетний террор Сталина _ кажутся невероятными, недопустимыми, ирреальными.
В течение нескольких десятков лет волею нескольких пигмеев духа стерта, зверски уничтожена, обрушена руками самого народа на глазах у всего человечества цивилизация, самобытная, великая.
Брестский мир не дал передышки России — наоборот. Он дал передышку Германии и предотвратил в ней революцию. Не помню, кто из историков полагает, что это нужно было Ленину: революция в промышленно развитой Германии прошла бы по марксовой формуле и отодвинула бы Ленина и его революцию в слаборазвитой России на задворки мирового революционного процесса. Ленин не мог этого допустить. И он, в очередной раз, предал, продал Россию (опять же немцам).
Приехав в начале апреля 1917-го в Петроград, Ленин нашел все места на революционном «олимпе» занятыми. Ему необходимо было расчистить для себя (конечно, самое высокое) место. И он разворачивает бешеную битву за власть: за полгода он выступает более 600 раз, пишет более 300 статей [24]. Из Разлива руководит подготовкой Октябрьского переворота. Главные соперники — Троцкий и Свердлов. Однако, после Брестского мира он был практически отстранен от власти.
30 августа 1918 года в него стреляла не Фанни Каплан. В него стрелял человек Свердлова. По приказу Свердлова Каплан была расстреляна без суда. В течение нескольких дней в Москве и Петрограде без суда и следствия были расстреляны тысячи невинных людей.
После покушения началось возвеличивание Ленина, постепенно перешедшее в идолопоклонство.
Ленин своим предательством погубил Россию, сбил ее с ее исторического пути. На немецкие деньги он сверг Временное правительство, развалил фронт, когда победа России над Германией, такая тяжелая и долгожданная, была уже близка. Революция остановила заводы, по российской земле пошла германская армия, а Россия низвергалась в долгую новую самую страшную и кровопролитную Гражданскую войну, голод, разруху — в новую долгую кровавую губительную вековую эпоху.
Если бы не его предательство, победа Февральской революции и победа России над Германией открыли бы для России трудную дорогу, но дорогу к прогрессу, к выходу в передовые державы мира. Она по этой дороге шла в начале века семимильными шагами. Эта поступь ее была прервана ненужной ей войной. Но и из войны она тяжело, но выходила победительницей.
Но ни Ленин, ни Троцкий не предавали Россию и не служили ни Германии, ни Англии, ни Америке. Им было плевать на всех. Они служили своей идее Мировой Революции. В пламени этой революции они готовы были сжечь все ценности мира, накопленные человечеством за тысячелетия, и на мировом пепелище строить свой бредовый новый мир. И каждый из них (а позже — Сталин) желал править этим миром.
То, что гибла страна, рушилась ее великая культура, немцы топтали уже ее огромную территорию, умывался кровью народ, не задевало никаких струн в душах авантюристов, оглушенных одной идеей. Не Россия погибала — рвалась цепь мирового империализма.
И с такой же легкостью, с какой Ленин крушил Россию, на смертном одре, за несколько недель до смерти он признался: «Мы провалились»…
Он провалился в Ад загробный, а Россия — в ад земной…
Попрание нравственности — погружение во тьму
Можно ли говорить о нравственности в войне, тем более — в революции? — Нельзя? Однако развитие цивилизаций создало законы и для этих кровавых ситуаций: отношение к гражданскому населению, пленным, раненым, больному врагу и так далее… Есть всеобщее бытовое: лежачего не бьют.
Фашизм 20-го века презрел выработанные веками правила кровавых «игр». Но то, что явил большевизм на протяжении своей относительно короткой исторической жизни — беспрецедентно.
Суть этой революции, причина такой ее кровавости, разрушительности, таких трагических последствий в том, что вершилась она руками люмпена, «дна». Образованное культурное общество не приняло эту революцию, отвергло ее вождей. Оно стало по другую сторону баррикад или покинуло страну. То, что не захотело, не успело, не сумело уехать, было большевиками уничтожено. Все материальные, духовные и человеческие ценности большевики отдали на растерзание возбужденному и одурманенному ими люмпену, для которого эти ценности не существовали.
Через века и тысячелетия пронесло человечество 10 Божественных заповедей, высеченных на Моисеевых скрижалях. И человечество существует как цивилизованное общество в той мере, в какой оно им следует. Там, где заповеди нарушаются, начинаются преступления, бесовщина и разруха.
Большевики не стерли их — они их кощунственно попрали.
1-я Заповедь — признание Бога Единого. Признание Бога — это признание Творца и ценности сотворенного им мира. Большевики пришли разрушить этот мир «до основанья».
Признание Бога — это бессмертие, Высший Суд, бессмертие души, бессмертие дела — это фундамент высокой нравственности, не сиюминутной, не исчезающей во всеобщем мутном потоке значимости или незначимости твоего деяния, не избегающей суда людского и Божеского. И человек — не временщик, ему предстоит отвечать за дела его. Бог — это искра Божия совести в человеке, его внутренний нравственный суд на земном пути. Те, кто пришел насильственно, кроваво разрушать этот мир, чтобы построить свой, должны были попрать, стереть эту заповедь, вытравить из памяти людской.
2-я Заповедь — не сотвори себе кумира, не идолопоклонствуй. — Без идолопоклонства большевистские вожди не смогли бы удержать неправедную власть. И над воспитанием, вколачиванием почитания, поклонения им все годы их существования работали специальные службы и деятели.
5-я Заповедь — чти отца своего и матерь свою. И отец, и мать, и весь род человека — все это принадлежало старому миру, и отношение к нему могло быть исключительно классовое. Если они принадлежали к чуждому классу, они должны были быть уничтожены, вычеркнуты, забыты. История зачеркивалась. В новый мир вступали иваны-непомнящие.
6-я Заповедь — не убий. Эта заповедь на протяжении всей истории человечества нарушалась постоянно и более всего. Но та кровавая бойня, которую учинили большевики над народом России на протяжении 70-летнего своего правления не имеет прецедентов в истории цивилизаций.
7-я — не прелюбодействуй. В наш век сексуальной революции, когда блуд стал нормой поведения, говорить о нарушении этой заповеди большевиками вряд ли убедительно. Они в некотором смысле дали этому зеленый свет, но в те времена блуд был грехом в христианском мире, и он не очень прижился как норма бытия в революционной России.
8-я Заповедь –не укради. Одним из основных и, может быть, самым зажигательным для люмпена был лозунг «Грабь награбленное!». И грабили всё: дворцы, имения, магазины, подвалы, купеческие дома, крестьянские дворы, поезда, раздевали на улицах прилично одетых граждан — гуляла российская воровская разбойная вольница!
9-я Заповедь — не лжесвидетельствуй. Вот уж над чем потешились большевики: в пыточных камерах они выбивали из людей ложные показания на сотрудников, друзей, родственников и незнакомых людей. Они опутали всю страну паутиной сексотства. (Хрущев в своем секретном докладе назвал цифру — каждый пятый!). Сексоты подглядывали, подслушивали, доносили, клеветали, за что получали повышения по службе, жилплощадь и другие льготы.
10-я Заповедь — не пожелай жены ближнего твоего, ни дома его, ни поля его, ни вола его… Ответом на эту заповедь была вся марксистско-ленинская философия: бойня, уравниловка, грабежи, предательство и весь букет мерзости человеческой.
Большевики попрали не только заповеди, они кощунственно, святотатственно, зверски уничтожили Церковь и ее служителей. Они надругались над всем, что было свято для народа на Руси — не только верующих, но и неверующих (все воспитывались на христианских традициях, на христианских заповедях).
Они возвели свой «храм» на трех китах: «Религия — опиум для народа», «Грабь награбленное!» и «Нет таких средств, которые были бы слишком велики для достижения наших целей». Они заменили христианские нормы классовой этикой: разрушай, грабь, убивай, попирай, предательствуй: старый мир, классовый враг — подлежат уничтожению.
С чего начинались, из чего рождались социалистические идеи — из ненависти или из любви? Вероятно, изначально из любви, ибо неприязнь к тому, кто имеет больше, не могла бы возникнуть без сострадания к тому, кто обижен. Но так возникала лишь идея, нечто умозрительное. Как нечто активное идея начинала выступать, когда ею вооружали обиженных. В этой среде идея трансформировалась в ненависть, которая рано или поздно становилась действием. Это проходит через все социальные движения. «Социалистические идеи создают идеалисты, воплощают в жизнь романтики, плодами пользуются преступники».
Сокрушительность социалистических движений состоит в том, что вначале в них вливаются и идеалисты, и романтики, и разношерстный люмпен. Первыми из игры выходят идеалисты и случайно вовлеченные в поток умники. Романтики, в основном, гибнут. Наверх всплывают авантюристы, люмпен, «дно», шантрапа — крепкие, устойчивые в кровавых «играх».
Большевики нашли опору в двух слоях населения, в чем-то сходных, в чем-то диаметрально противоположных: с одной стороны, весь вздыбившийся шлак, с другой, — «святых» и «полусвятых», готовых отдать жизнь («…И как один умрем…») за святое дело. Шлак поднялся со дна нищеты, бесправия и невежества в виде люмпена всех сортов, готовых сладострастно крушить и убивать; взмыл он и из небескорыстных, честолюбивых и беспощадных полуинтеллигентов, они стали агитаторами, пропагандистами, комиссарами — идейными вождями революции. «Святые» и «полусвятые» вышли из тех же слоев: из полуинтеллигентов, рабочих и крестьян-бедняков. Бескорыстное святое служение, отшельничество, аскетизм; героизм, космические идеи всегда имели благоприятную почву в неделовой, общинной, сказочно богатой и нищей Руси. Они стали бескорыстными энтузиастами революции, обретшими новую земную религию.
Большевистская революция показала, что любые бредовые идеи могут быть начертаны на скрижалях истории и реализованы на ее путях. Весь вопрос в том, какой кровью они пишутся, каким насилием реализуются. («Успехи» Пол Пота тому убедительное и страшное подтверждение).
Справедливость, по-видимому, первая потребность человека, как только он становится социальной единицей, такая же насущная, как биологическая потребность в воде и воздухе. Несправедливость — постоянная калечащая боль духовного начала в человеке. А потому идея Высшей Справедливости, Божьего Суда — одна из кардинальных, а может быть, главная в религии — исторический стержень духовной культуры человечества. Но до Божьего небесного Суда лежит земной путь, и человек пытается в свое земное существование внедрять Божественные Заповеди, укрепляя их силой гражданского закона.
Потребность в земных законах пропорциональна количеству в обществе отдельных индивидуумов или их сообществ, готовых к самостоятельной социально полезной деятельности.
Рабское общество примитивно по своей социальной структуре, примитивны и жестоки его законы. Справедливый Суд Божий был верой и утешением раба, но в его земной юдоли оставалось еще упование на совесть судьи земного.
К революции Россия подошла как раз в тот момент, когда она бурно и быстро формировалась как правовое государство. Но этот процесс почти не коснулся широких народных масс. Они знали два извечных закона: сила, т.е. жестокость, и совесть.
Большевики призвали их строить справедливое общество. Антирелигиозная пропаганда, разжигание классовой ненависти, призыв к разрушению старого мира исключал совесть как инструмент в таком строительстве. Осталось одно — жестокость. Других законов не знала российская масса. Сегодня сила была на их стороне. И начался жестокий разбой, в основе которого была извечная и законная мечта о справедливости.
Разбой, бандитизм — это было только начало. Потом начался ТЕРРОР. Он набирал обороты, становился организованнее, беспощаднее, профессиональнее. Террор продолжался без малого 40 лет, пока от старого мира практически ничего не осталось. (Среди множества революционных имен: Владлен, Вилен, Стали’на, Трактор было и имя Террор. Наверное, такие имена давали своим детям вдохновенные революционные недоумки…) Но ведь и энтузиасты приняли террор. Они были бескорыстны, беззаветно служили Родине и идее, но они приняли великую кровь (не все, многие энтузиасты были прицельно утоплены в этой крови) или просто закрыли на это глаза…
Но разбой, кровавый угар пьянят, разъедают, калечат душу. Духовное богатство — главное, что есть истинного в человеке: это его иммунитет, его стойкость, его человеческое лицо. Духовное богатство возможно и в необразованном крестьянине. И из них именно духовно богатые оставались и в братоубийственной войне людьми. Именно духовность определяет тот груз, который человек может вынести.
Но большевики опирались на люмпен, на «дно» общества, на уголовный мир — на духовно обедненных нищих людей. Они опирались не просто на «дно» общества — они опирались на дно человеческой души; они разжигали у неудачливых, обиженных жизнью людей низменные инстинкты — зависть, злобу, ненависть. А в кровавом угаре злоба нарастала, облик человеческий обретал звериный оскал.
И методы ведения гражданской войны были дикие — рукопашные: рубили головы, туловища до седла, рубили сотнями — не врагов-пришельцев, убийц и разрушителей, а своих собратьев, соотечественников, односельчан, а то и родных братьев… Так любой народ одичает, а дикий озвереет. Было упоение сабельной битвой в 20 веке! Это новое Средневековье, но совсем не то, к которому призывал Николай Бердяев…
И дичали, и зверели…
Есть люди, которых в кровавую вакханалию втягивает месть или просто случай. Но для всех без исключения существует порог насилия, который они должны пре-ступить. Некоторые перелетают его легко и с восторгом, другие преодолевают его тяжело, но все они оказываются так или иначе в сфере новых законов и правил, из которой многие уже не выходят никогда. Те же, кому удается выйти, несут печать этого пребывания всю жизнь, загоняя ее в тайные закоулки памяти, в подсознание, не имея сил эту память стереть.
В этом отношении чрезвычайно показательна история очень известного советского детского писателя Аркадия Гайдара. Вся пионерия читала его книги. Они учили справедливости, верности в дружбе, взаимопомощи. По его книге «Тимур и его команда» мы учились быть настоящими пионерами: мы хотели, как и его герои, помогать старушкам, семьям воинов, осиротевшим семьям. Они делали это остроумно, захватывающе. Он умел находить в детской пионерской жизни красивую и добрую романтику. Его книги вошли в «Золотую библиотеку» советской детской литературы.
И вдруг оказывается, что, подавляя крестьянские восстания и бунты против разбоя и грабежей советской власти, он сжигал и расстреливал целые деревни: стариков, женщин, детей — расстреливал безжалостно заложников. Топил их в прорубях. Он зверствовал так, что отнюдь не страдающие сентиментальностью карательные органы сначала исключили его из партии, а затем изгнали его из рядов Красной Армии с полным запретом когда-либо служить в ней.
В кровавое месиво Гражданской войны он попал в 13-летнем возрасте, в 14 лет он уже был красным командиром. Никакая война так не уродует, не калечит душу, как гражданская. Стать в этой противоестественной ситуации ребенком-воином, командиром и остаться человеком, не сломаться не под силу никакой психике. Будучи демобилизован, он зверски пил, резал себя, периодически попадал в психиатрические лечебницы и… писал детские книжки. — Не были ли эти книжки тем монастырем, в котором он отмаливал свои грехи?! (Он писал не рассказы для взрослых о гражданской войне, — он писал добрые книги для детей: он ведь ребенком стал зверем.)
Еще хочется напомнить об одном всем известном кино-герое Бумбараше. Молодой, веселый солдат, вырвавшийся из окопов, идет домой, в свою деревню, к своей Гале, мечтая о том, как будет строить с Галей свою новую жизнь, поет и вдруг натыкается на труп своего друга, зверски убитого белыми. И дальше этот веселый молодой солдатик идет, повторяя, как заклинание: «Сколько раз увижу — столько раз убью! Сколько раз увижу — столько раз убью»…
Так ожесточался, ссучивался в заложниках вчерашний крестьянин. А для люмпена, уголовного и полу-уголовного мира, который составлял основную массу большевистского воинства, для озверения долгая школа была не нужна.
У русского простого народа есть одна особенность, ярко проявившаяся в большевистской революции: легкость перехода от героизма и самопожертвования к бандитизму и жестокости, и наоборот. — Откуда это? — Возможно, от темноты, оттого, что рабство и воля уживались в обществе и в душе каждого; от нищеты, убогости, жестокости жизни, которые сочетались с добротой, щедростью, соборной взаимоподдержкой и мн. др.
В этом кровавом месиве люмпенской революции, беспощадно сметавшей старый мир во имя обещанного счастья и справедливости, героизм и бандитизм слились в братском объятии: они геройствовали в бандитизме и бандитствовали в героизме. Они сами шли и убивать, и умирать:
«И все должны мы неудержимо
Идти в последний смертный бой.»
«И как один умрем
За дело это…»
(Из революционных песен)
И убивали зверски, легко… Расстрелы, расстрелы, расстрелы — по всей великой России-матушке… «Ваше слово, товарищ Маузер!» — сказал большой русский поэт, воспевавший революцию (однако все же покончивший с собой, с помощью того же маузера…)
Большевики расстреляли царскую семью — подло, тайно, с детьми, слугами и врачом. И спрятали так следы своего злодеяния, чтобы никогда, через десятилетия и столетия они не могли быть найдены. Но их нашли… (Возможно, это преступление было столь зверским потому, что было отягчено подспудным сознанием его чрезвычайности и страхом возмездия. Отсюда желание надежно, навеки скрыть следы его).
На следующий день после расстрела царской семьи там же, в Сибири, был зверски убит Владимир Палей — молодой талантливый поэт из Дома Романовых.
В 1919 году в Петропавловской крепости были расстреляны 4 Великих князя. Один из них пошел на расстрел со своим любимым котенком.
Революция — это расплата. Это невероятное хитросплетение правды и лжи. Это простор для психопатологической философии и бесовских идей. В ее бурном кроваво-грязном потоке ищут свое место амбициозные психопаты, шизофреники, недоумки, авантюристы и бандиты. Это не только Красная и Белая армии. Это огромное количество «разноцветных» банд, возглавляемых авантюристами, или уголовными, или полу-уголовными элементами и мужского, и женского пола; и целые армии, как армия Махно, которая просто грабила, не зная, к кому пристать.
В этой вакханалии вожди пьянеют от власти и жажды ее, а массы — от крови. Но и те, и другие ПРЕ-ступают черту, за которой кончается Добро и идея его и наступает власть Зла.
Но это были не просто разгромы и пол-потовсого типа погромы — это была БОРЬБА.
Есть расхожее мнение, не только за рубежом, но и внутри страны, что русский человек, русский народ — раб. Но раб не объединил бы вокруг себя такие огромные территории, не удержал бы их и не сумел бы создать на этих суровых землях великую державу, которая в момент ее пассионарного взлета была сбита, обрушена ее внутренними проблемами и внешней завистью. И не была бы утоплена старая Россия в крови революции, не была бы так, почти «до основанья» разрушена, если бы этот «раб» так отчаянно, так стойко не сопротивлялся насилию большевизма.
Разруха, разбой и насилие, которые стали механизмами становления большевистской власти, вызывали протест ВО ВСЕХ слоях общества, а главное, в тех, на которые большевики должны были опираться, во имя которых, якобы, они учинили переворот, поставив общество вверх «дном». Бастовали рабочие почти всех крупных заводов. Крестьяне, у которых насильственно отбирали хлеб, сопротивлялись, поднимали восстания — против грабежей и против насильственной мобилизации в Красную Армию. (И армия нередко присоединялась к восставшим или бастующим). Большевики увольняли, арестовывали, расстреливали сотнями, тысячами рабочих и крестьян. Рабочих лишали хлебных карточек — душили сопротивление костлявой рукой голода. Ряды ЧК пухли, «железная рука партии» крепла в неустанной борьбе с собственным народом.
Крестьянские бунты и восстания вспыхивали непрерывно всюду, где появлялись большевики.
В марте 1919 года в Астрахани большевики с особым остервенением подавили волнения рабочих, к которым присоединились и части Красной Армии, не пожелавшие расстреливать рабочую демонстрацию. Восставшие разгромили горком партии и убили нескольких ответственных работников. После чего ЧК и оставшиеся верными части Красной Армии озверело стали вытеснять мятежников из занятых ими частей города. Когда тюрьмы оказались наполненными до отказа, арестованных и солдат-бунтарей погрузили на баржи и с привязанными на шею камнями сбросили в Волгу. От двух до четырех тысяч пленных было расстреляно и утоплено в дни 12 — 14 марта. Затем принялись за «буржуев». А в общей сложности за одну неделю в Астрахани было расстреляно и утоплено от 3-х до 5 тысяч человек. [25].
Чтобы прекратить забастовки, милитаризировали труд: участие в забастовке приравнивалось к дезертирству.
В Петрограде в конце 1919 года рабочий на военном предприятии получал полфунта хлеба в день, фунт сахара в месяц, полфунта жиров и четыре фунта воблы. В Петрограде зимой 1919—20 годов насчитывалось 33 категории карточек. «Нетрудовые элементы», интеллигенция, «бывшие» не получали почти ничего.
Милитаризация труда приводила к дополнительным протестам и волнениям — к более жестокому их подавлению. Забастовки и выступления рабочих катились неудержимой и непрерывной волной по всем городам, имеющим промышленные предприятия, Центра, Поволжья, Урала. В 1919 году только в 20 центральных губерниях было подавлено 245 крестьянских восстаний.
«Крестьянские восстания начались летом 1918 года. Они приобрели новый размах в 1919—21 годах и достигли кульминации зимой 1920—21 годов, временами вынуждая большевистский режим отступать.
Две причины непосредственно толкали крестьян к выступлениям: реквизиции и насильственная мобилизация в Красную Армию.»
К концу лета 1920 года установленная квота поставок государству могла быть покрыта лишь на 15%. Оплата поставок была чисто символической, ибо рубль потерял 96% своей стоимости по отношению к золотому рублю.
Избегая мобилизации в Красную Армию, крестьяне уходили в леса, число дезертиров росло (в 1919—20 годах их число оценивается в 3,5 миллиона человек), несмотря на то, что большевики ужесточили борьбу, расстреливая их тысячами, делая заложниками членов их семей, которых они тоже беспощадно расстреливали. Система заложничества стала рутинной практикой большевиков. [26]. Зверство нарастало с обеих сторон. Зло порождало зло. Расстрел заложников. Сожжение деревень. Ответом бывали зверские расправы над «коммуняками».
(У тружеников –крестьян — «трудящихся», о счастье которых так горячо пеклись большевики, отнимали хлеб, заработанный тяжелым трудом, — отнимали не излишки, а необходимое, оставляя крестьянам крохи, обрекая их семьи, их детей на голод, а иногда на голодную смерть. Поэтому и борьба была яростной, «не на живот, а на смерть». )
«С конца 1920 года и в течение всей первой половины 1921 года крестьянские волнения жестоко подавляемые на Украине, Дону и Кубани, достигают в России масштабов подлинной крестьянской войны с центром в Тамбовской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Симбирской губерниях. Пожар этой крестьянской войны погас только с наступлением самого страшного голода 20-го века.» [27].
После ухода из Украины немцев и австрийцев и прихода к власти большевиков жесточайшая война с новой властью разразилась на Украине. Вся Украина поднялась против произвола большевиков. Эта война стоила многих десятков тысяч жертв, сотен сожженных и разбомбленных сел и деревень. Война продолжалась с 1919 года до осени 1922 года.
Еще одна страшная кровавая страница истории — расказачивание Кубани и Дона (через 10 лет будет раскулачивание).
В декабре 1917 года (т.е. сразу после прихода к власти) большевики лишили казаков того статуса, который они имели при старом режиме, как заведомо «классовых врагов» — свободное зажиточное крестьянство, испокон веков защитники Отечества, даже память о котором была чужда большевикам, не могли приветствовать большевизм, хотя были за свободные Советы, за свободную торговлю, свободное хозяйствование.
Меры против казаков были особо свирепыми. Из секретной резолюции ЦК от 24 января 1919 года: «Учитывая опыт гражданской войны против казачества, признать единственно правильным политическим ходом массовый террор против богатых казаков, ИСТРЕБИВ ИХ ПОГОЛВНО (курсив мой). ПРОВЕСТИ БЕСПОЩАДНЫЙ МАССОВЫЙ ТЕРРОР по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью.»
«На деле же, как признавал в июне 1919 года председатель Донского ревкома Рейнгольд, на которого была возложена задача «навести большевистский порядок» на казачьих землях, «У нас была тенденция ПРОВОДИТЬ МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА БЕЗ МАЛЕЙШЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ» (курсив мой). [28].
Ответом могли быть только восстания. Большевики расправлялись с восставшими беспощадно. Концлагеря, расстрелы, переселения, выселение, заложничество, уничтожение станиц — использовался весь арсенал отработанных в борьбе с крестьянством средств. Согласно заслуживающим доверия подсчетам, цена сопротивления большевикам, которую заплатили казаки Кубани и Дона, — от 300 до 500 тысяч погибших и депортированных в 1919 — 1920 годах из общего числа населения в 3 миллиона человек. [29].
Но война не окончилась в 1920 году. Она продолжалась еще 2 года с тем, чтобы после передышки вспыхнуть с новой силой.
Если борьба большевиков с рабочими и крестьянами, не признававшими их бандитской власти, была столь жестокой и кровавой, то трудно представить формы и масштабы борьбы с представителями враждебных классов, с «социально чуждыми элементами».
Вот выдержки из первого номера газеты Киевского ЧК «Красный меч», которые приводит на страницах [30] один из ее авторов: «Для нас нет и не может быть старых устоев, «морали» и «гуманности», выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации «низших классов».
Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на светлом идеале уничтожения всякого гнета и насилия.
Нам все разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя закрепощения кого-либо, а во имя раскрепощения от гнета и рабства всех…
Кровь? Пусть кровь, если только ею можно выкрасить в алый цвет революции серо-бело-черный штандарт старого разбойничьего мира. Ибо только полная, бесповоротная смерть этого мира избавит нас от возрождения старых шакалов!» (Писал несомненно вдохновенный недоучка).
«В письме, адресованном Ленину, большевик Гопнер описывает деятельность чекистов в Екатеринославе (письмо от 22 марта 1919 года): «В этой организации, пораженной преступностью, насилием и произволом, УПРАВЛЯЕМОЙ ВООРУЖЕННЫМ СБРОДОМ, (курсив мой) вооруженные до зубов субъекты расправляются с каждым, кто придется им не по нраву, производят обыски, грабят, насилуют, сажают в тюрьму, сбывают фальшивые деньги, вымогают взятки и потом шантажируют тех, кто им эти взятки дал, и освобождают за суммы в десять, а то и в двадцать раз крупнее» [31].
Экспроприации, конфискации сопровождались расстрелами, насилием, откровенным грабежом — награбленное шло прежде всего в карманы чекистов. Издевательство и унижение было повседневной обязательной практикой.
Одесская газета писала 26 апреля 1919 года: «Карась любит, чтобы его жарили в сметане. Буржуазия любит власть, которая свирепствует и убивает. Если мы расстреляем несколько десятков этих негодяев и глупцов, если мы заставим их чистить улицы, а их жен мыть красноармейские казармы, (честь немалая для них) то они поймут тогда, что власть у нас твердая, а на англичан и готтентотов надеяться нечего». [32].
Сопротивлявшихся расстреливали на месте. ЧК широко практиковали чудовищные извращенные пытки.
Апогея массовые убийства достигли в Крыму в конце 1920 года после эвакуации последних белых частей генерала Врангеля и гражданского населения, спасавшегося от большевиков.
«За несколько недель десятки тысяч человек были расстреляны и повешены» [33].
Сколько страниц исписано, сколько заснято пленки об этих последних трагических страницах старой России: люди стоят на палубах, переполнен трап. Крики, рыдания. И не притупляется, не может притупиться ощущение бездонного горя, всеобщей трагедии, непостижимого ужаса происходящего. Остающиеся, те, кто на пристани, практически смертники. Многие из них были расстреляны тут же на пристани. Последние корабли уходят, когда топот копыт красной конницы смешивается (и заглушается) с отчаянными криками людей на берегу. За кораблями плывут кони. Плывут и тонут. Душераздирающий (ибо это символ) кадр: конь плывет за кораблем, на корабле уплывает его хозяин (и боевой друг). Конь изнемогает. Хозяин с борта корабля уже не может выстрелить в коня — расстояние уже не позволяет, и он стреляет себе в висок…
И еще более страшный кадр: белая армия уходит на илистое дно Сиваша. Они идут в амуниции, с ружьями, широким фронтом, врассыпную, как в атаку, и медленно уходят под воду… Красная конница гарцует на берегу, но стрелять бессмысленно — они ушли от расправы…
«Многие сотни портовых рабочих были расстреляны в Севастополе за содействие эвакуации белых. 28 и 30-го ноября «Известия Севастопольского ревкома» опубликовали списки расстрелянных. Первый насчитывал 1634 имени, второй — 1202 [34].
Когда расстрелы прекратились, все жители Крыма должны были явиться в ЧК и заполнить анкеты чуть ли не в 50 пунктов. (Солдаты должны были сдать оружие, Троцкий обещал им помилование, Фрунзе дал честное слово.)
На основе этих анкет все население было разделено на 3 категории: первые подлежали расстрелу; вторые должны были быть отправлены в концлагеря; третьи оставались пока жить. (Побеги были исключены — пути были перекрыты.) [35].
Севастополь описывают, как город «висельников». «Нахимовский проспект увешан трупами офицеров, солдат и гражданских лиц, арестованных на улице и тут же наспех казненных без суда. Город вымер, население прячется в подвалах, на чердаках. Все заборы, стены домов, телеграфные, телефонные столбы, витрины магазинов, вывески оклеены плакатами «Смерть предателям!» На улицах вешали в назидание. [36].
Арестованных, поверивших обещаниям большевиков, держали в подвалах, морили голодом, расстреливали, сбрасывали в овраги, топили в море — офицеров и солдат, независимо от звания и социального происхождения. Их было расстреляно более 47 тысяч. (А детей расстрелянных офицеров они продавали в Греции за доллары в рабство, и вся белая эмиграция собирала деньги и бриллианты на спасение детей).
В Сиваше водолаз увидел сотни, тысячи утопленников, стоявших на дне, как на плацу: их топили, привязав к ногам тяжелые колосники и камни…
Гражданская война — это помрачение рассудка, когда разрушаются устои, традиции, родственные связи, вера; когда то, что хранилось, копилось, ценилось испокон веков, не ставится ни в грош; когда рвутся узы родства, любви и дружбы; светлые общественные идеалы исчезают, их место занимает воинствующая ненависть, возведенная в ранг добродетели. И менее всего ценится сама человеческая жизнь…
Белый генерал Петр Краснов в своих мемуарах пишет: «ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и т.п.» [37].
Когда солдат воюет с чужеземцем, он — воин, защитник. Когда он воюет со своими соотечественниками — он убийца, бандит, даже если его называют революционером. В Гражданской войне и белые, и красные зверствовали почти в одинаковой степени, особенно в конце войны, когда первых ожесточали отчаяние и месть, а вторых — упоение кровавой вольницы и предчувствие победы. Но это то, что происходило на уровне нижних чинов и солдатской массы. На уровне командования у белых были все же сохранены нравственные принципы ведения войны. У красных командиров никаких нравственных начал, кроме классовой ненависти, не было; не было Отечества, его ценностей — было беспощадное, безлико-кровавое: «Бей!», «Даешь мировую революцию!».
Генерал Деникин отменил военные награды: он считал безнравственным награждать за победы над соотечественниками.
«Честнейший генерал Духонин, любя свой народ и армию и отчаявшись в других способах спасти их, шел по пути революционной демократии, заблудившейся между родиной и революцией.
Он отказался дать бой Крыленко, он распустил Ставку, остался один, имея тысячи возможностей скрыться.
«Я не хочу братоубийственной войны, — говорил он командирам. — Тысячи ваших жизней будут нужны родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага и Учредительное собрание от разгона.»
Он думал, что его арестуют и расстреляют. На другой день толпа матросов на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась [38].
Какая истинная школа большевизма! Крыленко не арестовал и не расстрелял генерала Духонина, благороднейшего человека и воина, человека чести и долга. Он не замарал собственных рук — он бросил его на растерзание озверелой матросне — вершить исторический суд масс…
(Так некогда Николай Первый, когда ему дали на подпись смертный приговор, сказал: «В России, слава Богу, отменена смертная казнь», — и приписал 7 тысяч палочных ударов…)
В Гражданской войне было два периода: война красных и белых и война большевиков против собственного народа.
Белая армия боролась героически, но без поддержки: внутренней (у власти были большевики) и внешней (Европа не поддержала, а Германия — утопила), и все же большевистская власть не раз висела на волоске. Достаточно было небольших усилий, и катастрофа не разразилась бы. Почему они не сумели объединить свои усилия?! Их было много: Деникин, Колчак, Корнилов, Краснов, Юденич, Врангель. Но в Белом движении не нашлось вождей с такой энергией ненависти, безнравственности и беспощадности, как у большевиков; таких лозунгов, под которые можно было бы собрать, воодушевить массы.
Генерал Кутепов мог пойти в сентябре 1919 года на Москву и взять ее, но не пошел — всю жизнь не мог себе этого простить. Юденич был почти в Петрограде в 1919 году. Он мог легко его взять, но почему-то повернул назад… А вот латышские стрелки пришли во-время, в последний момент, когда большевики 30 июня 1919 года висели на волоске. (Висела над Россией звезда расплаты?!)
Последняя белая армия Врангеля покинула Россию в 1920 году.
А война с народом продолжалась, становясь все более ожесточенной. Резко изменило (на короткий срок) положение в стране введение НЭПа.
В 1922 году, в тот момент, когда проходил 10-й Съезд партии, вспыхнуло восстание кронштадтских моряков. Моряки, принимавшие активное участие в утверждении большевистского переворота в Октябре 1917 года, теперь жестко выступали против большевистского произвола.
Подавлять восстание прямо со съезда поехали его делегаты… (За дни восстания из партии ушло 900 человек).
Ленину пришлось признать: «Мы сели в лужу», — и согласиться с введением НЭПа.
Введение НЭПа резко сняло предельное напряжение в обществе, экономическое и политическое. Но Гражданская война, война большевиков с народом, не кончилась. Она просто приняла другие формы и продолжалась до падения большевизма в начале 90-х годов 20 века.
Школа ненависти, которую прошли большевики в течение революции и Гражданской войны, была не напрасной. Вся эта армия активных большевистских головорезов Гражданской войны очень пригодилась Сталину в течение его 30-летнего последующего правления. Актив ее пошел в руководящие отряды и прежде всего в «Органы», которые в течение всех 30 лет распухали, трансформировались, жирели, процветали, как правящая элита нового «счастливого» общества — «железная рука» Сталина крепла: структурно, идейно, профессионально, материально. Система «железной руки» была устрашающа и неприступна. Еще при жизни Ленина критиковать, обсуждать где бы то ни было — в прессе, в беседах, на собраниях — работу «Органов» было категорически запрещено. После смерти Ленина эти структуры стали удавкой Сталина, которую он надел на натруженную выю народную.
А масса уголовников, принимавшая такое активное участие в революционном разбое и не способная ни к чему, кроме бандитизма, теперь мешала на воле. Она была отправлена в тюрьмы, где стала, особенно после создания системы ГУЛАГа, жерновами гигантской мясорубки, перемалывавшей актив уже советского общества (вместе с остатками старого).
Революция возвысила уголовников, дала им «путевку в жизнь», сделала «социально близкими», значимыми. Сталинский социализм, созданная им пенитенциарная система (если это вообще можно называть таким спокойным словом) — «система» существования большевизма в России, нищета и бесправие советского социалистического образа жизни (до последнего дня существования большевизма в России) плодили и вскармливали уголовный мир. (Он и по сей день жирует — только у него другое лицо, и жирует он на воле).
«Дно», определившее ход и исход революции, стало управляющим и подавляющим активом сталинской партии и «социально-близкой» опорой сталинской машины уничтожения. «Дно» сделало революцию, теперь оно РУКОВОДИЛО строительством социализма, направляемое, как во времена революции, «мудрой» волей «вождя».
Некоторые итоги (революции и Гражданской войны)
Прежде, чем перейти к следующей российской эпохе — сталинской, сталинского социализма, хочется подвести некоторые итоги революции и Гражданской войны.
Марксистско-ленинская теория рассматривает большую (мировую) войну как необходимое условие революции, и, надо полагать, что не случись на тот момент, когда в России сложилось напряженное ожидание перемен, Мировой войны, не произошло бы большой революции в России. Война катализировала все болевые точки общественного брожения: несостоятельность самодержавия, неподготовленность России к войне; проблемы царской семьи и вмешательство в государственные дела темного мистика и авантюриста Распутина.
Многочисленный неприкаянный деревенский и городской люмпен, порожденный непродуманной и не доведенной до конца крестьянской реформой, оказался под ружьем.
Предательство Германии сыграло, возможно, гораздо большую роль в обрушении России, чем это обычно принято считать.
Германия поставила на Распутина и Ленина.
Распутин, находясь у самого «руля» российского государства, шпионил в пользу Германии (не знаю, есть ли тому доказательства). И в обрушение царствующего дома (а следовательно, и в Февральскую революцию) он внес весомый вклад. Но Германии этого было мало. Временное правительство продолжало войну, и Россия, несмотря на усталость от затяжной, отягченной внутренними обстоятельствами войны, побеждала. Германии необходимо было вывести Россию из войны. На это Ленину Германия денег не пожалела. И он их отработал. Он вывел Россию из войны. (Германия нашла две точки опоры в Российском внутреннем неустройстве: одну сверху, другую снизу, и перевернула мир. Но она перестаралась — она не рассчитала эффект…)
Ленин продолжил так долго ожидаемую в России революцию, но он повел ее «иным путем» — по-ленински, по-большевистски, и она с первых дней приобрела неведомые дотоле черты.
Октябрьский переворот, погромы, разбой, расстрелы, разгон Учредительного собрания отвратили от большевиков тех из добросовестных людей, которые вначале поддерживали их.
Что же касается интеллигенции, то для всех авантюристических, фашистских режимов: российского, немецкого, испанского, итальянского, камбоджийского и прочих — интеллигенция всегда была самым опасным врагом в обществе, ибо идеологи фашизма понимали, что никогда никакая интеллигенция их не примет — никогда! Не материальная, а духовная составляющая опасна для исторических авантюристов. Поэтому с такой ненавистью и остервенением фашистские режимы всегда истребляли и душили интеллигенцию. Интеллигенция естественно не могла принять и не приняла большевизм. Церковь большевики кощунственно разгромили.
РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СРАЗУ ОСТАЛАСЬ «БЕЗ ГОЛОВЫ» И «БЕЗ СОВЕСТИ». ИМЕННО ЭТО ОПРЕДЕЛИЛО ЛИЦО РЕВОЛЮЦИИ И ГОСУДАРСТВА. КОТОРОЕ БЫЛО СОЗДАНО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ ПОБЕДЫ.
Опорой, движущей силой, материальной составляющей большевистской революции стал люмпен — многоликий люмпен всех мастей: выползший из темных углов российской жизни, выпущенный из тюрем, вооруженный люмпен, бежавший из окопов и с кораблей. Ни квалифицированные рабочие, ни деловые крестьяне в большевистскую революцию не пошли. А тех, которые пошли, оттолкнула ее аморальность. Большевикам пришлось их насильно, расстрелами и удавкой голода, загонять в Красную Армию. Их комиссарами и вдохновителями стали недоучки полуинтеллигенты, интеллигенты первого поколения из необеспеченных слоев населения — их на этот момент в России оказалось достаточно много.
Большевики называли революцию то пролетарской, то рабоче-крестьянской. Она не была пролетарской: пролетариат в России в те времена составлял (по разным данным) от 4 до 8% населения; она не была крестьянской: крестьяне, имевшие землю, в революцию не пошли. Безземельные крестьяне приняли в ней участие на первых порах, получили в 1918 году земельные наделы, но все, кто научился на них хозяйствовать, уже с 1919 года стали врагами большевистского разбоя на селе, навсегда крестьянство осталось для большевиков проблемой, которую они не сумели решить.
Большевизм не был принят ни одним сословием — только «дном», которое собирает выбросы всех сословий.
Большевики провозглашали диктатуру пролетариата. Никогда никакой диктатуры пролетариата не было (если вообще такое возможно). Была диктатура партии власти (единственной в стране) и ее Главы.
Что из себя представляла большевистская партия и большевистская власть? — А это было то, что в процессе революции было сформировано ее вождями и теми силами, на которые эти вожди опирались. Это был разноликий многослойный люмпен. И в этом нет ничего удивительного. Вожак стада, как в биологии, так и в социальном мире должен быть членом стада, должен быть той же породы, но он должен быть активнее, воинственней, хитрее. Интеллектуал, мудрец не поведет серую массу — он может быть лидером себе подобных, либо он должен будет опуститься до уровня толпы. Лидер должен выдвинуть примитивную, заманчивую схему действий, в которой основной лозунг реализует ту озабоченность, которая свела и сплотила толпу. В эту толпу входила масса полуинтеллигентов, способных загораться мыслью, но не способных и не стремящихся ее постичь и развить. Они несли бредовые будоражащие идеи в народ, будили, возбуждали его соблазнительными легкодоступными лозунгами, разжигали в нем ярость раздразненного зверя и вели за собой крушить без пощады старый не нужный им мир. Эти невежественные романтики собственными телами готовы были закрывать течь на корабле, который плыл к бредовой цели. Среди этой новой полу-интеллигенции, среди этих «комиссаров революции» была масса талантливых людей. Может быть, и этим объяснялись победы большевиков.
Россия — страна контрастов и крайностей: страна лентяев и великих тружеников, разрушителей и реставраторов, невежд и просветителей, глубокого невежества и высокой интеллигентности и мудрости; воров и бессеребренников, разбойников и святых (нередко в одном индивидууме уживались диаметрально противоположные черты).
Русский национальный характер — это тоже Евр-Азия, история и география России, рабство и вольница, покорность и разбой, героизм и преступления. Высокий полет духа и кровавые дела рук. Светлые дали, заря коммунизма, новое царство справедливости и счастья вдали и разрушительно-кровавый кошмар сегодняшнего дня.
Уродства жизни порождают крайности, крайность порождает ответную крайность. Это необходимое условие выживания. Это патологический круг.
Россия — страна несметных богатств и массовой бедности, рабов и господ, нахлебников и кормильцев, разгоряченных радикалов и твердолобых консерваторов. Крайности и максимализм их проявления — характерные черты России.
У нее был реальный исторический шанс всестороннего развития, которое постепенно стерло бы острые углы и противоречия, но в «Книге Судеб» ей было предписано иное…
«Горький сознавал, что революция будет чисто русским явлением, не имеющим аналогов на Западе. Что русский народ обязательно пойдет за теми, кто предложит самый радикальный, самый бескомпромиссный путь социальных перемен.» [38].
Вожди — авантюристы, комиссары-энтузиасты и тьма люмпенской массы объединились в разбойном фанатизме слепой веры или разгульного безверия в беспощадном крушении империи.
Фанатизм всегда уродлив.
«Овод» — какой великолепный, романтически прекрасный и уродливый образ революционера-фанатика. Войнич наградила его всем светлым и благородным, что только может быть в человеке. Тем более страшен его фанатизм, его нетерпимость, его непримиримость даже в отношении к самому дорогому.
Но та люмпенская масса, на которую опирались большевики, не была отягощена знаниями, чувством прекрасного, воспитанием и благородством. И речь не об уголовниках, а о крестьянах, которые составляли основную массу российского населения и основной контингент большевистского революционного воинства.
Они устали от окопной войны, но агитация большевиков заставила их не просто оставить окопы — они нагло издевались над офицерами и зверски убивали их, своих вчерашних командиров, с которыми они воевали и уже побеждали. Оставив окопы, они превратились в солдатню, сброд, потерявший облик человеческий. Они лузгали семечки, грабили, насильничали, пьянствовали, насиловали женщин, издевались над царской семьей. Безобразничали на глазах у царских дочерей, молодых девушек; гадили в царских покоях — этому перечню нет конца.
Что же это за метаморфоза? Всегда ли так неглубоко прячется дьявол за благополучным обликом человеческим? Что происходит с людьми во время смуты — помрачение сознания?
Удивительно ли, что за этим последовали годы гражданской войны и долгие годы самоуничтожения? — Оборотни… И не только солдатня. — Что это за явление? Закон? Для кого?
Это показывает, как тонок слой благолепия у человека, — вероятно, у большинства. Это проявляется обычно в ситуациях чрезвычайного напряжения, усталости и в присутствии соответствующих катализаторов. У каждого свой порог индивидуальной прочности: кто-то может вынести много, кто-то — чуть-чуть, кого-то никакие обстоятельства не заставят потерять облик человеческий.
Многие из этих солдат на фронте могли стать героями, могли вынести из боя раненого товарища, могли бы быть хорошими землепашцами, растить хлеб и детей. А стали насильниками, разбойниками, погромщиками. А преступления, даже кратковременные, растлевают, губят душу, часто — безвозвратно.
И пошли они крушить собственный народ.
Им сопротивлялась почти вся Россия, все слои общества: аристократия, буржуазия, купечество, интеллигенция, значительная часть крестьянства и разночинцев сражались в рядах Белой Армии. Чиновники, служащие, интеллигенция бойкотировали большевистскую власть на рабочих местах. Рабочие бастовали, митинговали, выступали с оружием в руках. Крестьянство вело войну с большевиками, отвечая на их разбой, до тех пор, пока Сталин не добил крестьян голодомором. Но у большевистской оппозиции не было сильного единого лидера, не было единого объединяющего лозунга.
И большевики утвердились во власти — сознательно не говорю «победили»: они продолжали войну с народом все 70 лет своей диктатуры.
Они оседлали силу идеи (ложной, но привлекательной), ее мощь, ее власть.
«Вначале было Слово». Слово, мысль, идея — это категории формообразующие, направляющие, определяющие. Идея движет человеком и массами. Идея творит, за идею гибнут и убивают. Идея озаряет и ослепляет. Когда идея овладевает умами, бывают прорывы в познании, когда массами — повороты в истории.
В европейской цивилизации, наверное, самым мощным, творческим, эрообразующим было явление христианской идеи, которая, пройдя через многотысячные жертвы и века, овладела западным и восточно-европейским миром и на тысячелетия определила его лицо.
Социальная мысль мира не могла в начале 20 века дать отпор идее социализма. «Призрак» его бродил по Европе и вырастал в грозовую тучу, а «анти-призрак» легко и ненавязчиво парил в виде проблесков мысли, высказываний и эссе, которые не объединялись в единую систему — силу, готовую к противостоянию, а наоборот, стушевывались перед нависшей громадой. А когда разразилась гроза, было поздно, да и некогда было заниматься теоретическими выкладками
Против носящихся в воздухе идей социализма, тогда еще сомнительно опасных, высказывались не последние умы России: Достоевский, Герцен, многие прогрессивные деятели.
Дмитрий Мережковский пишет: сколько светлых российских умов, философов, историков, религиозных философов, писателей, ученых и деятелей искусства анализировали «больную Россию» — остерегали, предсказывали, пророчествовали от начала российской смуты, от первой революции и в разгар Второй, но некому было услышать…
Общество не воспринимает таких предупреждений всерьез. Нависающая угроза недостаточно убедительна; разразившаяся гроза оказывается непобедимой.
Так большевизм обрушил Россию, так Гитлер пришел к власти, так архивный генсек стал Палачом России и Отцом народов.
Чаадаев в своих «Отрывках и афоризмах» писал, что социальное движение большей частью совершается не от размера самих движущих сил, а от степени бессилия общества.
Идеи социализма и коммунизма не так плохи. Оттого так привлекательны. Но люди — хуже этих идей. Разве идея капитализма лучше? Но она ближе человеческой натуре.
Да, светлые мечтатели-гуманисты — теоретики земного общественного рая творили в тиши кабинетов в расчете на совершенство человеческой природы. Исходная позиция объясняла несовершенство людей несовершенством социального устройства общества, а не наоборот. Предполагалось, что в обществе, построенном в одночасье по идеальной схеме, исчезнут (за ненадобностью) людские недостатки и пороки, и так же, в одночасье, родится новый человек — идеальный венец творенья — совершенный хозяин земного рая.
(И российский кровавый большевизм, умело скрывая истинное свое лицо, для многих романтиков на Западе и на Востоке, оставался, несмотря на некоторые «издержки» попыткой совершенствования рода человеческого. И когда Советский Союз пал, это стало для них крушением надежд…)
Большевистское государство было построено на псевдонаучной теории марксизма-ленинизма. Теория провозглашала любовь к человечеству без любви к человеку. Общественная наука, не основанная на гуманности, является в лучшем случае псевдонаукой, в худшем — преступлением с корыстной целью.
Лицо 20 века в значительной степени определила идея коммунизма. Возможно, она поблекла бы и потеряла со временем свою значимость, если бы она не победила в такой стране, как Россия.
Весь технический прогресс, его характер и интенсивность, все революции и войны этого века, социальные реформы, образование новых стран и распад или исчезновение старых — так или иначе, прямо или косвенно, связаны с этой идеей, с ее победой в России.
Самое страшное в этом было то, что внешне ложно привлекательная идея оказалась нежизнеспособной (по крайне мере, в специфическом (сталинском!) ее воплощении в России и многих других странах), но попытки ее осуществить стоили человечеству многих десятков миллионов жизней.
Весь 20-й век — век кровавый, в абсолютных цифрах потерь, возможно, более кровавый, чем все предыдущие века, вошедшие в историю, вместе взятые, и основные потери — это потери российские…
История не знает сослагательного наклонения, однако кровавая цена и нежизнеспособность идеи, возможно, определяются «неинтеллигентностью» (мягко выражаясь) и авантюризмом ее вождей и «механизмами» (!) ее воплощения… Ведь именно Россия, ее народ, с его соборностью, бескорыстием, стойкостью в лишениях мог бы осуществить внедрение в жизнь определенные идеи социал-демократии и социализма. Ведь он строил светлое будущее для грядущих поколений, ложась костьми в его фундамент.
И почти вся русская литература, поэзия, театр, музыка, живопись 19-го — начала 20-го веков были одухотворены протестами и поисками истины, любви, красоты, мечтой о прекрасном человеке будущего в будущей прекрасной жизни, проповедью человечности, справедливости, мечтой о свободе, необходимости трудиться на благо человека во имя прекрасного будущего и верой в это будущее. Это и у Чехова, и у Толстого, у Лескова, Достоевского, Тургенева, Горького. У каждого по-своему, но у каждого из этих великих русских писателей есть стремление к духовному совершенству, душевной чистоте и нигде — к обогащению, расталкиванию локтями и т.п..
И не случайно идеи социализма проросли в умах гимназистов и студентов, особенно из необеспеченных семей. Многие из них стали комиссарами. Они поверили крикливым большевистским лозунгам и стали под их знамена. Других — не было. Они верили в революцию, в светлое будущее. Большевики обманули не только народ, но и их. Большинство из них погибло в революционных боях или в сталинском терроре. Часть озверела в кровавой борьбе.
Большевики утвердились во власти в результате страшного насилия, надругательства над собственным народом. К власти пришел воинствующий люмпен, закаленный в боях Гражданской войны
Эти люди умели разрушать, они не умели строить. Они и пришли в «мирное» время не строить новую жизнь, а крепить новую власть. Многие закоренелые головорезы сразу влились в структуры «железной руки партии» — ОГПУ, НКВД — в «Органы», необходимые для существования нового организма — страны победившего большевизма. Во времена Ленина — Сталина эти «Органы» непрерывно пухли, разрастались, пронизывая все общество, и всасывали в себя все новые и новые силы.
А те, которые не были способны к какой бы то ни было деятельности, — контингент уголовников, который влился в революционный разбой или сформировался в нем, новая власть упрятала в лагеря и тюрьмы (правда, их там долго не задерживали), а при Сталине они стали механизмом уничтожения в лагерях неугодных ему, т.е. специфической «деталью» все той же машины уничтожения старого мира.
Почти все они пришли не строить, а добивать. Этот люмпен, сорвавшийся с цепи, родства не помнящий, святого не знающий, вслепую бежавший на ложный зов своих вождей, снося все на своем пути, теперь направляемый все той же рукой вождя, ОПРЕДЕЛЯЛ ФОРМЫ И ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА.
Конец Гражданской войны относят к 1922 году, к началу НЭПа. К этому времени более 2,5 миллио-нов: аристократия, буржуазия, интеллигенция, казачество — уже покинули Россию. Более 300 профессоров, ученых, историков, философов, писателей — весь цвет блестящей интеллигенции Серебряного века Ленин выслал из России. Церковь уже была разрушена. Добивали оставшихся недобитых. «Новая» Россия осталась без головы. Тысячелетний культурный пласт великой державы был содран. Это тот пласт, который регулирует состояние нижних слоев общества и всю жизнь страны.
Об этой российской трагедии существует огромная литература, написанная в основном русскими эмигрантами за рубежом
А внутри страны одной из чрезвычайно ярких страниц взаимоотношений большевистской власти и русской культуры является судьба знаменитых российских поэтов конца 19-го — начала 20-го века и советской эпохи.
Серебряный век дал бурное развитие русской поэзии, создал поэтов великих, больших, известных, не очень известных и совсем мало известных — десятки.
Судьба великих русских поэтов в большевистской России не случайно вынесена из главы «Уничтожение интеллигенции» в главу «Итоги революции». Поэты — это перлы культуры, это общенациональное достояние. Их гибель — потери невосполнимые. Они на виду у всего интеллектуального общества. Их нельзя уничтожить тихо. Их гибель вызывает общенациональный резонанс.
Судьба почти всех известных поэтов — трагична.
Первой жертвой пал Николай Гумилев. Он был расстрелян в 1921 году в Петрограде без суда и следствия по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности.
Александр Блок приветствовал революцию, ее «диссонансы… ревы и звоны… неожиданные перепады в оркестре». Блок верил в Россию, в ее великую судьбу. Он писал:
«…Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Пусть и заманит, и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои небесные черты.
Ну, что ж, одной заботой боле,
Одной слезой река полней,
А ты все та же: лес да поле,
Да плат узорный до бровей.
Кто же мог подумать, что Россию, такую махину, свалят бандиты — авантюристы, совсем не чародеи. И тут уж «не одной слезой…». И романтическая «музыка» революции обернулась уродливыми воплями, криками, воем отчаяния, кровавым удушьем, от которого он умер в 1921 году, «изнемог на кресте»…
А Макс Волошин на смерть Блока написал:
«Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.»
(«На дне преисподней», 1922 год)
Макс Волошин успел умереть до концлагеря, в 1926 году.
А Сергей Есенин писал:
И кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало — с опытной душой,
Кто твердым в качке оставался.»
А в 1925 году — покончил с собой (или с ним покончили?)
Владимир Маяковский — воспевший революцию, Ленина, строящийся социализм, застрелился в 1934 году.
Осип Мандельштам после нескольких ссылок сошел с ума в ГУЛАГе и умер там от дистрофии.
Марина Цветаева уехала в эмиграцию, но вынужденно вернулась. Ее муж был расстрелян, дочь отправлена в ГУЛАГ. Марина Цветаева повесилась. Не знаю, найдена ли ее могила. Был только камень Памяти ее — в Елабуге…
Анна Ахматова «десять лет ходила под наганом». Муж и сын ее были репрессированы. (Первый ее муж Н. Гумилев — расстрелян)
Она, великая поэтесса, (может быть, она, как Цветаева, предпочитала слово «поэт»), царственно-красивая, была отвержена этим большевизмом, не имела права печататься, писать, работать, жила в нищете, в каморке милостью друзей и смельчаков, которые в России всегда находятся…
Борис Пастернак всю жизнь прожил под большевистским «дамокловым мечом». После Нобелевской премии за «Доктора Живаго» (которую он даже не посмел получить — он от нее отказался) он был исключен из Союза советских писателей, ошельмован, затравлен, подвергнут остракизму и вскоре умер «в своей постели», на что поэт Галич (изгнанный за рубеж и вскоре умерший там от несчастного случая (?), горько написал:
«Как гордились мы, сволочи,
Что он умер в своей постели»…
Поэт Хлебников потерялся где-то после ГУЛАГа на просторах России…
Это только самые большие поэты. Их десятки, может быть, сотни — состоявшихся и еще больше не состоявшихся, уехавших, расстрелянных, умерших от голода и холода, погибших в ГУЛАГе, выживших — сломавшихся и не сломавшихся, позже — погибших в ВОВ — все это многотомная трагическая антология российской поэзии эпохи большевизма.
Люмпенская власть не пощадила даже потомков Пушкина. А. С. Пушкин — краеугольный камень, столп, величие и слава Русской Культуры. Его ближайшие потомки покинули Россию и рассеялись по всему свету, но немногие остались в России. Большевики уничтожили 17 человек, практически всех. Дочь Пушкина Мария Гартунг умирала от голода. Она обратилась за помощью к Луначарскому — большевистскому министру культуры. Луначарский тянул — пособие пошло на похороны.
Жить в большевистской стране (и процветать!) могли только стихоплеты, славившие Идола и его дела.
Хосе Ортега и Гассет в своей книге «Восстание масс» пишет о восстании, торжестве серого среднего человека и опасных последствиях этого.
В России произошло восстание и торжество черни, упоенной своей неожиданной значимостью, выродившейся в воинствующее быдло. В результате погибла огромная, богатейшая во всех отношениях страна.
В 1924 году Иван Бунин писал:
«Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы… Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству, высоко сидел на шее русского „дикаря“ и призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие… Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил миллионы людей, а среди дня спорят: благодетель он человеческий или нет?» [40].
Чернь, взбаламученная большевиками, громила старую Россию. После окончания гражданской войны эти же силы, этот же люмпен добивал ее: «бывших», старую интеллигенцию, российское умелое крестьянство, и они же, эти силы, заматеревшие, били неугодную Сталину Россию новую. Сталин вел Россию лагерными путями, выращивая Россию иную — свою…
Теперь я хочу перейти к своему главному анти-герою — тому, кто в 20-м веке строил социализм в России, и не только в ней, кто определил лицо этого социализма, предопределил его гибель и очень многое определил в сегодняшнем мире, в России и вне ее.
Сталин — путь к власти
Никто не скажет, когда пришла Сталину в голову идея абсолютной власти (возможно, еще в детстве).
Патологический характер, комплексы неполноценности, революционная ситуация в России привели его в круги революционеров. Но в ленинской гвардии он никогда не был не только в первых, но и равным среди равных. Для Ленина он долгое время был «этот кавказец», о котором Ленин вспоминал, когда партии требовались деньги. Какими путями «кавказец» добывал деньги, остается только догадываться. Фазиль Искандер через дядюшку Сандро приоткрывает завесу над этой тайной.
Февральская революция освободила его из сибирской ссылки, в которой он опустился, утратив веру в революцию, в свою судьбу, в свою звезду.
Прибыв в Петроград, он попал в окружение Ленина, но, какую роль он действительно играл в этих кругах, мы не узнаем, ибо историю, из которой мы черпали об этом сведения, он писал сам.
Вероятно, он поддержал идею Октябрьского переворота, которую поддерживали не все ленинские сподвижники и этим приблизился к узкому кругу ближайших соратников Ленина.
Однако он все равно оставался в этом кругу фигурой серой.
В 1921 году Ленин поручил Сталину навести порядок в партийных бумагах (это была чисто бумажная должность). И, наверное, именно на этом посту, получив в руки досье на всех членов партии (и руководителей!), не только российских, но и зарубежных, Сталин почуял аромат власти. Он получил в руки компромат на деятелей партии, знание их биографий, черт характера, происхождение, семейное положение и прочее — все то, что могло быть полезным в борьбе с ними. Он почувствовал силу «бумаги» (ему самому нужно было найти и уничтожить некоторые бумаги в собственном досье). Может быть, поэтому потом, когда он встал у власти, на каждого гражданина СССР, не только на гонимых, ущемленных в правах и репрессированных, было заведено «Дело». и все это хранилось в специальных отделах КГБ.
(Мой шеф однажды полушутя, полусерьезно сказал мне: «Ты знаешь, на каждого из нас существует специальная пухлая папка, в которую в течение всей нашей жизни капают сведения о нас; когда папка достигает определенного веса, нами начинают заниматься специальные люди…»). И так было до последнего дня существования советской власти в России.
Так или иначе, именно на этом посту, среди этих бумаг, надо полагать, зародилась у Сталина идея власти — власти над этими «ленинцами», «приближенными», над «гвардией» (не случайно он позже не просто убирал, уничтожал их — он делал это сладострастно, изощренно, садистски, упиваясь их слезами, мольбами, клятвами, их унижением. Особенно злобно он уничтожал любимца и умника партии Бухарина.)
Свое пребывание на посту бумажного генсека Сталин использовал чрезвычайно плодотворно. Свой путь к власти он начал тихо, незаметно, еще при Ленине. Свою должность он превратил в рычаг управления кадрами партии, их формирования и организации, особенно на периферии, вдали от глаз зорких и опытных партийцев. Ленин это успел увидеть, понять и предупредить партию об опасности, но сам не успел (помешала болезнь, а затем и смерть) провести в жизнь свою настоятельную рекомендацию — сместить Сталина с поста Генсека. Он оставил партии «Завещание», которое, вероятнее всего, сыграло бы весьма значимую роль в судьбах партии и страны. Ленин должен был огласить его на 13-м Съезде партии, но грубый, оскорбительный разговор Сталина с Крупской (надо полагать, совсем не случайный!) свалил Ленина с очередным инсультом. «Завещание» на съезде оглашено не было, скромно обсуждалось лишь в кулуарах. Оно снова всплыло лишь через несколько месяцев после смерти Ленина, снова не было предано огласке, но свою роковую роль оно сыграло. Оно было опубликовано лишь спустя несколько лет после смерти Сталина.
В «Завещании» главным противовесом Сталину в парии Ленин называл Троцкого. (Этим он подписал Троцкому смертный приговор). Слово «троцкизм» стало проклятьем для всех, кто подвергался репрессиям, снизу доверху: клеймо «троцкист», а им клеймили всех так называемых «политических», всех «врагов народа» — тоже было практически смертным приговором. КРД и КРТД — одна буква в приговоре меняла судьбу репрессированного: если он не получал расстрел, он неизбежно погибал в лагере. Именем Троцкого Сталин назовет свой страх и ненависть. Но выступить против Троцкого было непросто: Троцкий имел высокий авторитет в партии, в событиях 1917 года он был второй фигурой после Ленина, их имена произносили рядом: «Ленин — Троцкий». Он был создателем Красной Армии, победителем в Гражданской войне (в отличие от Сталина, весьма неудачно выступившего в роли военачальника). И вообще Сталин выглядел весьма серо на фоне ярких людей, окружавших Ленина, его соратников и друзей по партийной работе.
Но к моменту смерти Ленина Сталин имел уже большую власть в партии, которую он сосредоточил на посту генсека, имел свое верное окружение в ЦК, верные кадры на периферии. Он подготовил себе достаточно твердую точку для восхождения, но для того, чтобы взойти на желанный пьедестал, необходимо было знамя. И он нашел его. Его знаменем стал Ленин. (Ленина он отстранил от власти за 1,5 года до его смерти).
Ленин пытался предупредить партию о страшной опасности, угрожавшей и стране, но его «гвардейцы» слишком были заняты своими амбициями, мелкими дрязгами, распрями и угодничеством. Общие проблемы тонули в этом болоте. Они зашикали «Завещание». Они сами вложили в руки Сталину ленинскую эстафету.
Над гробом Ленина клятву давал Сталин.
Сталин стал хранителем чистоты ленинских идей и заветов. — Ну, что ж… Они заплатили за это дорого, каждый в свой час…
В 1927 году Сталин провел по всей стране политическую дискуссию, которая должна была выявить возможности, мотивы и личностный состав возможной оппозиции. Это помогло ему справиться с Троцким. В том же году Троцкий был выслан из страны. А участников дискуссии он добил всех 10 лет спустя — в 1937-ом: клеймо «троцкизм» он лепил всем, кого хотел уничтожить, но 99% из тех, кого он загнал на тот свет и в лагеря с этим клеймом, не имели ни к Троцкому, ни к троцкизму ни малейшего отношения никогда. А оставшийся 1%, если когда-то и разделял лозунги Троцкого (а большинство революционных лозунгов принадлежали ему), давно отошли от троцкизма в силу опасности и бесперспективности такого рода идей и настроений.
Ленин не оставил четкого плана строительства социализма «в одной отдельно взятой стране» — он его и не имел. (А может быть, имел. Теперь высказываются предположения, что имел, и их, возможно, знал Сталин. Надо полагать, что истинную историю тех событий напишут будущие историки, которым будут доступнее документы (то, что сохранится!), но это будет нескоро, после нас…)
У соратников Ленина мнения и планы на этот счет были разные. Мирового опыта такого строительства не было. Они расходились во взглядах на роль мировой революции и международного пролетариата в этом процессе, на роль российского крестьянства в этом строительстве и союза рабочего класса с крестьянством.
Однако Ленин оставил общие принципы руководства РЕВОЛЮЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ, который Сталин взял себе на вооружение.
Оба вождя российской революции были людьми неистовой, необъяснимой злобы. Оба были нетерпимы и беспощадны.
Похоже, ленинизм — творческое развитие синтеза марксизма и нечаевщины. «Катехизис революционера» Сергея Нечаева гласит: «Наше дело — страшное повсеместное разрушение… Быть беспощадным, но не ждать пощады к себе и быть готовым умереть… („Весь мир насилья мы разрушим до основанья…“ „Интернационал“; „…И как один умрем за дело это…“ — революционная песня.) … Углублять всеми средствами беды и несчастья народа, чтобы исчерпать его терпение и толкнуть на восстания… Соединиться с диким разбойничьим миром — этим ЕДИНСТВЕННЫМ (курсив мой) революционером в России». [41].
Оба вождя считали главным в их деле — власть. Но Ленину была необходима власть партии (его авторитет в партии был непререкаем); Сталину нужна была ЛИЧНАЯ власть — власть над людьми, над соратниками, над партией, над народом, над миром.
Своих идейных противников Ленин не уничтожал физически — он осыпал их витиеватой неистощимой бранью.
Сталин уничтожал противников физически, изощренно, беспощадно, садистски.
Но к КЛАССОВОМУ ВРАГУ Ленин был абсолютно нетерпим и беспощаден. Это его фразы: «Навести массовый террор», «Расстрелять». «Вешать, вешать, и чем больше, тем лучше» — таких фраз, приказов и лозунгов немало хранят тайны архивов, а еще более — не хранят…
Сталин классовым врагом объявлял всякого, кто (как он считал) мог угрожать его личной власти: оппозицией, противоречивым суждением, критическим замечанием, тайной мыслью. И расправлялся с ними по-своему: Ленину и не снилось…
Но особой любовью у обоих вождей пользовалась интеллигенция. Именно она представляла угрозу их утопическим теориям, их бандитскому отношению к истории, религии, вековому культурному наследию человечества, к человеческой жизни. Интеллигенция не принимала, критиковала, отрицала бандитизм, авантюризм, методы этих строителей «светлого будущего человечества».
Ленин изощренно плел нескончаемое «кружево» из бранных слов в адрес интеллигенции: «ослы», «глупцы», «говно», «проститутки», «сволочи», «дерьмо», «дурачье и сволочь», «мерзавец, подлейший перебежчик», «иудушка», «душечки», «гнусная фраза», «интеллигентишки», «гнилые интеллигенты» — это все в полемике, в доказательствах.
(В советские времена существовал анекдот, — а может быть, не анекдот: Труды Ленина подвергли компьютерному анализу. — Ответ машины: очень много бранных слов.)
Сталин не плел кружева — он рубил топором.
Ленин выслал из России весь цвет российской интеллигенции (в период бурного расцвета в ней наук и искусств!) на двух кораблях на Запад.
Вот что пишет по этому поводу Э. Радзинский в своей книге «Сталин»: «На исходе лета 1922 года к пристани Штеттина причалил пароход из России. Приехавших никто не встречал. Они нашли несколько фур с лошадьми, погрузили багаж. И за фурами по мостовой, взявши под руки своих жен, пошли в город.
Шел цвет и гордость русской философии и общественной мысли, все, кто определял в начале 20 века общественное сознание России: Лосский, Бердяев, Франк, Кизеветтер, князь Трубецкой, Ильин… Сто шестьдесят человек — знаменитые профессора, философы, поэты, писатели, весь духовный потенциал России — одним махом были выкинуты из страны. А в «Правде» по этому поводу была напечатана статья «Первое предупреждение». Весь 1922 год Ленин тщательно очищал страну от инакомыслящих. Ленин — Кобе: «Надо бы несколько сот подобных господ выслать безжалостно. Очистим Россию надолго»… готовятся новые и новые списки высылаемых. … Для всех этих людей расставание с Родиной было чудовищным горем. «Мы думали, что через год вернемся… Мы жили этим», — писала дочь профессора Угримова.
В 70-х годах я встретил в Праге глубокую старуху — дочь знаменитого профессора Кизеветтера. Она жила с нераспакованными чемоданами с того самого 1922 года. Ждала.» [42].
Чем чудовищнее перемены, тем более они кажутся временными, ибо они противоречат здравому смыслу. Так было с переворотом 25 Октября 1917 года. Так было с приходом к власти Гитлера. Но, к сожалению, как показала история, преступные режимы бывают чрезвычайно живучи… И они не вернулись на Родину…
Они влились в западную культуру и во многом определили ее развитие в 20-ом веке. Но Россия их потеряла. Это невосполнимый ущерб для русской культуры.
Сталин разделался с интеллигенцией по-своему, позже…
Ленин не рубил головы своим полемическим противникам, но он не терпел инакомыслия, которое задевало его «классовую» позицию. Поэтому инакомыслие было запрещено в партии еще при Ленине. При Ленине 10-й Съезд принял Резолюцию «О единстве партии», постановившую подавлять, не допускать, затем и нещадно карать всякое инакомыслие. При Ленине была запрещена всякая фракционная деятельность — это был ЛЕНИНСКИЙ ЗАПРЕТ НА ИНАКОМЫСЛИЕ.
Сталин запретил ВСЯКИЕ ДИСКУССИИ уже внутри ОДНОЙ ЕДИНОЙ ПАРТИИ.
Сталин взял себе на вооружение ленинскую нетерпимость, но это была нетерпимость сталинского типа.
Еще при жизни Ленина Сталин стал создавать из Ленина бога, но особенно после его смерти — по горячим следам, играя на народной растерянности и горе. При этом он сразу же творил из себя его Первого Ученика и Соратника (от этого потом легко было перерасти в Нового «бога», еще более всесильного, чем Первый). Всюду стали появляться фотографии и картины художников, где Ленин со Сталиным вдвоем или Сталин рядом с Лениным в толпе соратников и т. п..
Смерть Ленина сопровождалась вливанием в ряды партии мощного потока новых членов, так называемый «ленинский призыв».
«Четыреста тысяч от станков горячих —
Ленину первый партийный венок.»
(В. Маяковский, поэма «Ленин»)
Сталин купил «ленинский призыв» своей аллилуйей и верностью памяти Ленина, а также тем, что был ими сразу воспринят как его ближайший ученик, помощник, соратник и последователь, который принял и понес эстафету. Таким образом Сталин сразу после смерти Ленина создал себе огромный авторитет среди большинства.
Сталин уже на 13-ом Съезде партии, в марте 1924 года, т.е. сразу после смерти Ленина (после его «Завещания»! ). стал составлять тайные списки будущих своих жертв. Для этого был создан метод выявления противников. Над этим работали специальные люди. Возможно, этот аппарат создан был еще при Ленине, но в первые месяцы после его смерти он реально заработал. А на следующем (в 1925 году) съезде уже выкрикивались лозунги «Да здравствует великий Сталин!», — за которыми следовали «бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают». Уже в 1925 году он умел готовить такие спектакли. Люмпенский состав съезда, подсадные, подставные, подкупные марионетки создавали соответствующую атмосферу на съезде.
(С этого съезда практика выкрикивания здравиц, бурные аплодисменты, овации, вставание зала стала обязательной для всех партийных съездов, всех появлений Сталина в любых залах (даже в его отсутствие, просто при упоминании его имени). Аплодисменты не прекращались, ситуация иногда казалась безвыходной — все боялись прекратить отбивать ладони, пока специальные «дирижеры» не прекращали этот «спектакль».
Согласно Ленину, «партия опирается на насилие и не связана никакими законами»;
«Для достижения великой цели все средства хороши»;
«Все, что делается в интересах пролетариата — честно».
У Сталина были развязаны руки. Уже в 1930 году он был полновластным хозяином в партии, его так и называли «Хозяин». Но между 1924 и 1930 годами был долгий и непростой путь. Это был путь перерождения партии. Путь подготовки к уничтожению в ней ленинской гвардии и всего активного, яркого и деятельного из того, что влилось в нее в течение 20-х годов, — путь подготовки к созданию партии нового типа, сталинской партии «кнута и пряника». И тут Сталин шел по пути, проложенному его великим Учителем, но шел, как ученик «талантливый», весьма «творчески» развивающий учение Учителя.
Одна из ступеней Сталина на пути абсолютного всевластия — резолюция 10-го Съезда партии в 1921 году, ленинская: запрет на формирование фракций внутри партии, т.е. запрет на оппозицию, на инакомыслие, на любое самостоятельное мнение, не одобряемое Политбюро или Пленумом.
Все, кто когда-либо осмелились стать в оппозицию, вынуждены были потом непременно каяться, зная, что, каясь, они лгут себе и партии; признавать униженно свои грехи и ошибки, (а потом это стало называться ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ).
Сталинские методы руководства страной не могли не вызывать сопротивления в партии и обществе: отмена НЭПа, зверская расправа с крестьянством, раскулачивание, насильственная коллективизация; нереальные темпы индустриализации, провал первой пятилетки, расправы на местах. Его Трон был неустойчив, и он медленно, но твердо, широким фронтом начал наступление на партию и общество.
Стали «распухать» «Органы»: они расширялись, внедрялись во все сферы жизни страны, становились все более значимыми и устрашающими.
«Органы» — это зоркий, злобный, хитрый, презрительный, циничный, преступый глаз, его железная, неустанная, беспощадная рука, на которой долгие годы его правления не высыхала кровь.
Сейчас выходит многотомник «Лубянка — Сталину». Это то, что сообщали «Органы» о положении в стране ему — всегда так неуверенно сидевшему на своем кровавом троне (даже годы спустя, когда он сломал страну, когда он был всевластен), чувствовавшему под собой живой вулкан. А они всё слали и слали бесконечные бумаги о недовольстве в непокорном обществе. Удовлетворения, спокойствия не было нигде: ни в рабочем классе, ни в крестьянстве, ни в среде интеллигенции, ни среди молодежи, ни в религиозных кругах различных конфессий.
(Общество сопротивлялось большевизму с первого дня Октябрьского переворота до крушения системы в конце 80-х — начале 90-х годов. И чем сильнее сопротивлялось общество, тем больше зверели власти, тем более победных реляций выдавали официальные газеты и радио, тем больше славословили вождей записные поэты, песенники, великие и малые лицемеры и подхалимы страны.)
Может быть, Сталин раньше других (как и Ленин) понял, что большевистский режим можно удержать только великим насилием. И он начал давить с жестокостью, темпераментом и хитростью ущербного восточного человека.
Но вскоре понял, что такую интенсивность насилия партия не очень одобряла. С такой политикой в кресле вождя ему долго не усидеть, а советоваться с ленинской партией, сделавшей революцию, он не мог себе позволить, ибо не мог быть уверен в успехе. Хотя уже к середине 20-х годов это была уже не ленинская партия, и по составу, и по духу.
В момент Октябрьского переворота в партии было 24 тысячи ее членов. В период террора Сталин репрессировал 1,2 миллиона членов партии, 600 тысяч из них расстрелял. То-есть, после смерти Ленина его гвардия растворилась в огромной массе новых наборов, сталинских. Новая, люмпенская, партийная масса была легковерная, необразованная, буйная, признававшая и требовавшая только одного — твердой руки. Она не поддерживала дискуссий, ибо не могла в них участвовать в силу своей некомпетентности. Дискуссии массу выдвиженцев раздражали, настраивали априори против всех, кто их начинал, против смутьянов. Толпа чутко улавливала крен, чувствовала более сильную руку (не убедительность и суть аргументов, а силу политической власти) и грубо, резко и убедительно принимала сторону сильного. С точки зрения толпы, любые сомнения, обсуждения выглядят, как слабость. Грубый нажим, сколько бы неправым он ни был, воспринимается, как проявление силы, а следовательно, и правоты.
В этих условиях даже те, кто был способен на протест и борьбу, стушевывались, подчинялись, склоняли головы, а потом и гнули колени, боясь не только потерять свои партийные посты и привилегии, но и просто быть изгнанными из партии.
Он загнал ленинских сподвижников в клетку. Все основные партийные посты были заняты его ставленниками. Основной контингент партии стал сталинским. Им оставалось только подчиняться. Потерять партию — это значило для них потерять жизнь, ее смысл.
В этих условиях он мог начинать борьбу. Прежде всего он должен был уничтожить ленинских сподвижников, потом ленинскую гвардию, а по ходу дела и далее расправляться со всеми ненадежными. В конечном итоге он создал свою, личную, надежную, послушную партию «кнута и пряника».
Уничтожая старую партию, ее вождей, создавая свою, Сталин играл на распрях между вождями. Они не были «рыцарями чести», и в условиях угроз они грызлись между собой. Сталин усиливал эту грызню, направлял, брал в союзники одних против других, потом их менял местами, выбрасывал, вынуждал их предавать друг друга, терять связи, возможность взаимной поддержки, авторитет, честь. Разъединять — это был один из его принципов властвования. Сначала он разъединял партию, позже, при Большом Терроре он разъединял семьи, коллективы, союзы, общество, народ.
Возможно, этому он тоже учился у Ленина: после раскола партии на большевиков и меньшевиков в 1903 году Ленин постоянно поддерживал и углублял этот раскол, несмотря на протесты старых вождей партии — Плеханова, Мартова…
Сталин все делал с дальним прицелом. Он умел отступать, уходить в тень, исчезать, чтобы издали, из тени в нужный момент ударить точно и беспощадно. Он умел ждать, даже годы, даже долгие годы. Но срок всегда наступал…
Подобранный им состав 13-го Съезда «скушал» (по Эдв. Радзинскому) «Завещание», а на собранном после съезда Пленуме ЦК Троцкий, Зиновьев и Каменев, в ненависти друг к другу единодушно изберут Сталина, попросившего отставки, (любимый ход!) Генсеком. Он играет с ними в «кошки — мышки», и они в слепой вражде будут попадать в его сети: они будут терять свои посты, он их будет изгонять, восстанавливать в партии, подготавливая их уничтожение.
На 13-ом Съезде, первом после смерти Ленина, — грызня между вождями. Зиновьев, Каменев, Троцкий — против Сталина, против теории единоначалия, против того, чтобы создавать «вождя». Зал: «Неверно! Чепуха! Сталина! Сталина!»
Сталин на трибуне — воплощение миролюбия, умеренности: «Метод отсечения, метод пускания крови заразителен. Сегодня одного отсечем, завтра другого. А что же у нас останется от партии?» (По Эдв. Радзинскому). — Это он-то?! Он уже тогда знал, к чему он шел.
«На 15-ом Съезде (1927 год) он вышиб из партии почти всех сподвижников Боголенина: Троцкого, Зиновьева, Каменева и еще семь десятков деятелей оппозиции, в том числе Пятакова, Радека, Смияги и прочих под возгласы «правильно» и «бурные аплодисменты» [43].
Но и для этих, которые аплодировали и кричали, тоже придет свой час…
После съезда 1927 года с отречениями и саморазоблачениями выступили 2500 оппозиционеров. 1500 человек были исключены из партии.
В 1927 году Троцкий уже был выслан из страны. Уже в 1927 году он поставил подслушивающие устройства на квартирах руководящих работников. Сталин сам разболтал это в подпитии [44]. (Это уже через 3—4 года после смерти Ленина). Троцкий и Каменев несколько раз, до начала Большого Террора, исключались из партии, высылались на периферию, переводились на другие работы, потом их возвращали, заставляли каяться. Их миловали, восстанавливали в партии (ненадолго), но каждый раз, унизительно каясь, они теряли своих сторонников. Так он хитроумными ходами разрушал партию, авторитет ленинских сподвижников и старых партийцев.
«Сталин перенес на ленинскую партию, на внутрипартийные отношения, на идейно-теоретические споры о путях социалистического строительства принципы и нормы классовой борьбы, тем самым он превратил дискуссии вчерашних единомышленников в расхождения возглавляемой им партии с политической оппозицией со всеми последствиями такой квалификации, если учитывать запрещение в партии фракционной борьбы. Такой подход, весьма важный для И. Сталина, для его личных амбиций и политической расправы с несогласными с ним, не имел ничего общего с ленинским подходом.» [45].
Сталин играл на фетишизации партии. Вне партии не было жизни для старых партийцев.
Когда Бухарина спросили (в 1935 году), почему оппозиционеры подчинились Сталину, — «Мы доверяли не ему, а человеку, которому доверилась партия! Так уж случилось, что он стал как бы символом партии… Вот почему мы все лезем ему в хайло, зная наверняка, что он пожрет нас» [46].
Троцкий в 1924 году сказал: «Никто из нас не хочет быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права… Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала». [47].
Новую партию оппозиционеры создать уже не могли. У них на это не было ни моральных, ни физических сил и не представлялось возможным. А вне партии они себя не мыслили. Вся их жизнь, все силы были отданы революционной борьбе, партии. Без нее они оказывались в чуждом жизненном пространстве, как в невесомости, где нет опоры, нет точек притяжения. Их достоинство было — членство в партии.
Г. Пятаков назвал партию «партией чудес». Его знаменитое «Кредо» передано Н. Валентиновым: «Когда мысль держится за насилие, принципиально и психологически свободное, не связанное никакими законами, ограничениями, препонами — тогда область возможного действия расширяется до гигантских размеров, а область невозможного сжимается до крайних пределов, падает до нуля. Это есть черта, глубочайше отличающая нашу партию от всех прочих, делающая ее партией „чудес“ … Мы ни на кого не похожи. Мы партия, состоящая из людей, делающих невозможное возможным; проникаясь мыслью о насилии, мы направляем его на самих себя, и, если партия того требует, если для нее это нужно или важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из мозга идеи, с которыми носились годами… [Разве это не „катехизис революционера“ Сергея Нечаева?!]. Легко насильственное выкидывание из головы того, что вчера еще считал правым, а сегодня, чтобы быть в полном согласии с партией, считаю ложным? Разумеется, нет. Тем не менее, насилием над самим собою нужный результат достигается… И еще раз скажу. Если партия для ее побед, для достижения ее целей — потребует белое считать черным — я это приму и сделаю это моим убеждением».
(Удивительно ли, что, когда Сталин расправлялся с вождями партии, Пятаков предлагал свои услуги. Но это его не спасло… Они и в лагерях [те, которых он не дострелил] и тюрьмах «сохраняли верность партии. Одни были убеждены, что Сталин и Политбюро ничего не знают о происходящем, другие считали себя не в праве решать подобные дела. Долг повелевал им подчиниться всем приказам партии, включая дачу показаний в суде.» [48].
Эти внутренние метания старых партийцев, сложная обстановка в партии, ослабляли их волю, это приводило к грызне и предательству. А Сталин в своих мягких кавказских сапогах твердо шел по их головам, а позже — по трупам.
Сталин шел неторопливо, но твердо. В политике уничтожения противников он был великий стратег. Он наступал, отступал, заставлял партию признавать ее (его!) ошибки, умело приписывал свои ошибки другим, компрометируя их и укрепляя свой авторитет, журил «виновных», возвращал исключенных и обиженных, но через некоторое время все начинал сначала, но более твердо и жестоко.
Он смотрел далеко вперед.
В конце 20-х годов начались показательные процессы. И ЗДЕСЬ В. И. Ленин проложил ему дорогу.
Суд над партией эсэров проходил летом 1922 года, при Ленине. Он не имел целью выявление правды или установление справедливости. Его целью была широкая и крикливая пропаганда против политических противников. Он должен был положить начало организации ряда «образцовых процессов» для усиления репрессий против вчерашних союзников, ненужных и мешающих сегодня (в тот момент меньшевиков и эсэров). Принципы проведения этого процесса были определены Лениным и даны в тайной инструкции Наркому Юстиции Курскому.
Этот процесс был прообразом будущих сталинских показательных процессов. В нем не соблюдалась законность и права защиты. В число обвиняемых входила группа из 12 человек, которые, по сочиненному сценарию, должны были признать свою вину и обвинить своих бывших товарищей по партии. Для истинно обвиняемых суд закончился приговором к расстрелу, лже-обвиняемые получили разные сроки, которые через день были отменены, и процесс для них закончился банкетом в Кремле.
Устроители шумного процесса организовали перед зданием суда 300-тысячную демонстрацию, требовавшую смерти подсудимых; они были впущены в зал суда, где в течение двух с половиной часов обвиняли огульно подсудимых и требовали их казни.
Сталин развил идею Ленина, но развил «гениально».
В 1928 году прошел процесс «Шахтинское дело», в 1930-ом — процесс «Промпартии». Оба процесса должны были дать объяснения провалам в экономике, процесс «Промпартии» должен был найти виновных провала 1-ой пятилетки.
Уже на этих процессах изобретались и отрабатывались приемы будущих показательных судов над вождями ленинской партии. Уже для этих процессов писались сценарии, писались заранее, еще до ареста «виновных». Роли отрабатывались, подсудимые должны были играть эмоционально, убедительно.
Подсудимые «признавались во всех смертных грехах (которых не было): поломке оборудования, шпионаже, вредительстве всех возможных видов, извращении планов, отравлении колодцев, скота, порче продуктов, заговорах…
На этих первых процессах репетировались обманы, когда за признание несуществующей вины обещалось смягчение приговоров или даже помилование. Подсудимым говорилось, что это необходимо для партии. Что нужно убедить народ в том, что враг не дремлет, что он всегда рядом, что враг виноват во всех превратностях нашей жизни, что врагов необходимо выявлять, что бдительность — это долг каждого советского гражданина. Некоторые из подсудимых поддавались агитации, но никто из них не был помилован.
Эти приемы широко использовались на будущих показательных судах, и там был тот же непременный обман.
(Обвинителем на процессе «Промпартии» выступал Крыленко. Убедительно и яростно вел «спектакль», а в 1938-ом он уже валялся под нарами в Бутырской тюрьме [49].
Партия прогибалась под его сапогом, но и сопротивлялась. Они писали статьи, книги о положении в стране.
7-го ноября 1926 года оппозиционеры устраивают две последние демонстрации против Сталина. Он знал об этом. ГПУ было подготовлено. Демонстранты были избиты и арестованы.
К концу 20-х годов его ближайшим соратникам стало ясно: Сталин — могильщик революции. Троцкий назвал его «термидорианцем». В 1928 году в «Меморандуме Бухарина — Каменева» четко говорилось, что Сталин и его клика «ведут революцию к гибели».
Ученик Бухарина М. Н. Рютин в самом начале 30-х годов написал капитальный теоретический труд «Сталин и кризис пролетарской диктатуры». Труд этот был вскоре арестован и, по-видимому, погиб, как и его автор, но с выводами Рютина мы можем познакомиться по Обращению «Ко всем членам ВКП (б)», составленному Рютиным в 1932 году: «Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой заведены в невиданный тупик и переживают СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ КРИЗИС. С помощью обмана, клеветы и одурачивания партийных лиц, с помощью невероятных насилий и террора, ПОД ФЛАГОМ БОРЬБЫ ЗА ЧИСТОТУ (!) ПРИНЦИПОВ большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие подлинные большевистские кадры партии, установил в ВКП (б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола и поставил Советский Союз на край пропасти…»
Рютин «указывал на развал и дезорганизацию всей экономики страны, несмотря на постройку десятков (добавим сюда из опыта последних десятилетий — сотен и даже тысяч) крупнейших предприятий; авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение заработной платы рабочих и служащих; непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляцию, рост цен и падение стоимости червонца (потом рубля). Уже тогда Рютин увидел и обличал авантюристический дух коллективизации… экспроприацию деревни и удушение крестьян — кормильцев путем насильственного загона их в колхозы… качество продукции в результате погони за выполнением дутых темпов чрезвычайно низко; всякая личная заинтересованность убита, труд держится на голом принуждении, насильственно созданные колхозы становятся убыточными и разваливаются. Цены повышаются на почве бестоварья и расстройства всей экономики страны, пышным цветом расцветает во всех сферах спекуляция. Воспетое идеологами — трубадурами планирование превратилось в сплошное очковтирательство и обман. Всюду происходят неизбежные прорывы, а в это время… «Всесоюзная партконференция» сталинских чиновников, нагло и цинично издеваясь над партией, пролетариатом и всеми трудящимися, заявляет, что мы вступили в социалистическое общество, что у нас растет недостижимыми для капиталистических стран темпами народный доход, уничтожены безработица и нищета. Растут из года в год благосостояние и культурный уровень рабочих и трудящихся крестьян. [50].
(Эту Ложь Сталин заложил в основу своей политики во всех сферах бытия страны, внутри и вне ее. Раз и навсегда! Социализм в Советском Союзе существовал после смерти Сталина еще 36 лет, но до последнего дня он оставался по духу своему и по сути сталинским — таким, каким он создал его в начале 30-х годов. Та же ложь, те же дутые цифры, только меньше крови и больше воровства.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ — два «вороных коня», на которых он мчался во власть и в социализм были сплошной Ложью и Великим Преступлением, как и всё в его правлении.
Единства в партии по этим вопросам не было. Бухарин, Томский, Рыков (Председатель Совнаркома) — за мирное, неторопливое развитие, продолжение НЭПа, союз со средним крестьянством, против коллективизации, сверхиндустриализации, борьбы с кулачеством.
Зиновьев и Каменев — против правого уклона Бухарина. — Все это споры о мирном развитии России. У Сталина, надо полагать, — другие планы. Он помнит о мировой революции, он знает, чего хочет в ней. Ему нужны мощная военная индустрия и надежный тыл. И он проводит и индустриализацию, и коллективизацию — по-своему…
Коллективизацию он провел через фактическое уничтожение всего умелого в крестьянстве, всего того, что кормило не только Россию, но и пол-Европы. Все то, что умело трудиться на земле, было выкорчевано: расстреляно, переселено, выслано на гибель в нежилые края. То, что осталось, он силой загнал в колхозы, но, увидев, что перегнул палку, он обвинил тех, кто выполнял его волю, в «головокружении от успехов» и дал крестьянам послабление (несколько подробнее об этом будет сказано ниже). Колхозы разбежались. Тогда он решил сломать непокорному крестьянству хребет. И устроил голодомор. Устроил его тайно. Только он мог сделать такое. Деревня вымирала тихо. Город, страна, мир об этом не знали, а если что-то знали, не смели об этом говорить… После этого российское крестьянство никогда не возродилось…
На индустриализацию были брошены все ресурсы страны (всё на развитие исключительно тяжелой промышленности). За рубеж шли богатства российских недр. Драгоценные и редкие металлы, золотые запасы, хлеб, отобранный у умирающих крестьян, иконы, церковная утварь, шедевры мирового искусства, бесценные сокровища России, которое она создавала, собирала в течение тысячелетий. Все продавалось с молотка, за бесценок. Комиссионные магазины Запада были завалены шедеврами русского и мирового искусства, вывезенными из России.
От народа потребовалось напряжение всех сил. Гиганты промышленности создавались нищим, полуголодным населением, без необходимого технического вооружения. Сроки выполнения планов были нереальные. Не выдерживала старая техника, ломалась, калечила усталых загнанных рабочих. Инженеров расстреливали за вредительство. Пятилетка была сорвана, однако было объявлено, что она выполнена в 4 года.
Процесс «Промпартии» в 1930 году должен был объяснить народу причины трудностей строительства социализма.
Все это вызывало напряжение в партии и в обществе. Сталин это понимал. Понимал, что надо спешить.
После голодомора 1932 — 33-го годов урожай 1933 года был на редкость высокий. В закрома страны, наконец, потек хлеб. Правда, у крестьян не было сил его собирать. Те, кто дожил до осени и мог дотащиться до работы, умирали прямо на полях. Урожай помогали собирать горожане — учреждения, промышленные предприятия, институты, комсомольцы, пионеры, армия. (С тех пор и до самого крушения социализма урожай традиционно снимали горожане — более всего студенты, сотрудники институтов, солдаты и школьники. Но и это не спасало. Колхозы страну накормить не могли.)
Сталин приписал высокий урожай в заслугу лично себе, своей политике, а не природным условиям. Все было оправдано: смертельное избиение крестьянства, беспощадная гонка в промышленном строительстве. Именно так можно и нужно построить социализм в «одной отдельно взятой стране»!
Сталин дает себе короткую передышку. Потепление, затишье, перед девятым валом кровавой волны террора.
Все, кто был снят со своих постов, высланы из Москвы, были возвращены, но не на прежние должности и с обязательным самобичеванием, самооговорами, унижениями и просьбами о прощении.
В стране славословят вождя, гремят песни, маршируют физкультурники, приветствуют челюскинцев и их спасителей.
Он утверждает проект Дворца Советов. Он должен быть построен на месте взорванного Храма Христа Спасителя. Высота Дворца 400 метров, его венчает 100-метровая фигура Ленина. В голове его будет заседать Верховный Совет. Его рука указует путь в светлое будущее. Торжественный зал должен быть рассчитан на 21 тысячу победителей — строителей социализма и коммунизма.
(Но земля не приняла… И события исторические не позволили. Огромный котлован, простоявший более 30 лет заполненный водой, в 60-е годы был превращен в бассейн с подогреваемой водой.
Теперь на этом месте снова стоит Храм Христа Спасителя, построенный заново по сохранившимся чертежам и рисункам…)
В марте 1934 года он созывает 17-й Съезд партии — съезд победителей!
На съезде дали выступить всем оппозиционерам: Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, Радеку, Рыкову, Томскому, Преображенскому, Пятакову, Ломинадзе. Все речи были выдержаны в ортодоксальном сталинском духе, все пели ему хвалу. Это было невиданное соревнование в покаянных славословиях.
«Ни один из римских цезарей, ни один из русских царей не слышал таких восхвалений. И все — устами бывших врагов… Вся страна слышала, как один за другим признавали свое ничтожество вожди Октября… и славили его мудрость… Это был съезд Победителя.» [51].
Но славили, подобострастно извиваясь, под бурные овации стоящего зала только на трибунах. В глубинах съезда обсуждался вопрос о смещении «Победителя» с поста генсека. При тайном голосовании более всего голосов против получили Сталин, Молотов, Каганович. Сталин получил против 292 голоса. (В отчете счетной комиссии было зачитано против — 3 голоса). Тайно обсуждали кандидатуру Кирова. Киров отказался и сообщил об этом Сталину. «Сталин якобы ответил Кирову: «Спасибо, я тебе этого не забуду». [52].
Он не забыл этого ни Кирову, ни съезду. Он уничтожил их почти всех. Не сразу — несколько месяцев обдумывал.
На съезде было 1596 делегатов. В последующие несколько лет 1108 из них были расстреляны… Из 139 членов и кандидатов в ЦК, избранных на съезде, 98 были расстреляны, большая часть в 1937—38 годах. (А тогда, на съезде, казалось, что худшее позади, ужасающее напряжение и страдания коллективизации позади. Второй пятилетний план в экономическом отношении выглядел уже более умеренным. [53].
«Брат Киров» (так он его называл) был убит первым, 1-го декабря 1934 года. Это убийство стало закваской того великого кровавого варева, которое он затевал. Убийством Кирова он убивал двух зайцев: убирал с дороги основного соперника и открывал путь к уничтожению всего, что могло угрожать или мешать ему внутри партии. Убийством Кирова он развязал себе руки: Кирова убили «враги», «внутренний враг» кругом — мщение, чистка, к ответу! Сталин разыгрывает страдания — все кругом рыдают, мужчины и женщины.
Киров был убит тихо, легко, в коридоре Смольного, как будто нелепо, каким-то Николаевым, но, как это было организовано, почему это произошло так слажено, никогда не стало известно, потому что все, причастные к этому преступлению, даже самые случайные возможные свидетели были очень быстро уничтожены. 8-го декабря начинаются аресты аппарата Зиновьева в Ленинграде. 16-го декабря Зиновьев и Каменев арестованы в Москве. И уже через несколько месяцев четверть Ленинграда сидела по тюрьмам, а большие круги пошли по всей стране. Это начало Великого Террора.
Наконец, настал долгожданный час, когда он мог приступить к уничтожению этой старой партии, ленинской гвардии, в которой приходилось непрерывно проводить чистки, душить очаги возможной оппозиции, исключать, восстанавливать, возиться со старыми вождями; и приступить к созданию новой, СВОЕЙ, послушной партии. И он приступил к этому со сладострастием садиста и циника, ибо «патологически ненавидел революционеров всех мастей, в том числе и своего учителя Ленина» [54], на спине которого въехал в единоличные вожди.
Прежде всего этой старой партии необходимо было отсечь голову. Он мог уже приступить к этому. Подготовительную работу он вел долгие годы. Распутывать сети интриг, которые он плел, дело историков. Они слишком сложные, изощренно, изысканно подлые. Он хорошо знал темные стороны человеческой души, способы и магию оболванивания, власть толпы, силу страха и боли. Эти знания даются Сатаной, но он развивал их, изучая гипноз и оккултные науки (в молодости). Для чего специально ездил к специалистам в Армению и Италию.
То, как он разделался с соратниками Ленина, требует специального исследования, многотомного описания.
В данном контексте не хочу касаться их личностных характеристик — кто они: авантюристы или заблудшие, честолюбцы или романтики, умники или недоумки, герои или бандиты. Все они были соратниками в революции. Те, кого он уничтожал, играли в революции более значительную роль, чем он, ближе стояли к Ленину — вождю большевистского переворота и главе нового государства. Поэтому к их уничтожению он шел долго и трудно: обвинял их, отстранял от должностей, ссылал, потом признавал перегибы, возвращал их в партию, но уже не гордыми вождями, а поникшими, запуганными «бывшими», выдерживал паузу и начинал новую травлю.
Перед тем, как провести показательные судебные процессы над вождями партии, он провел репетиционные суды («Шахтинское дело», дело «Промпартии»). Для подготовки и проведения, наконец, желанных, «выстраданных» процессов, он использовал весь свой талант интригана, сценариста, предателя и садиста.
Процессы были блестяще подготовлены, бывшие создатели государства и вожди его обвиняли себя во всех мыслимых и немыслимых грехах: они были агентами почти всех существующих шпионских разведок, диверсантами; они имели намерения взрывать заводы и шахты, портить хлеб в полях, отравлять питьевую воду в водоемах и колодцах, вызывать падеж скота, продавать государственные тайны и, главное, — они покушались на «его» жизнь. Все свое неумение руководить государством, все свои страхи он всенародно, красочно и убедительно списывал на своих жертв. На открытых судах охватывался весь спектр неурядиц и возможных угроз. И хотя все это могло вызвать очень серьезное недоверие и недоумение, тем более, что все было в сослагательном наклонении — реально ничего похожего совершенно не было; и хотя были «проколы» на показательных допросах, когда подсудимые отказывались от своих показаний, потом, после дополнительной обработки, «признавались» снова; хотя некоторые из них сходили с ума или кончали самоубийством, приглашенные иностранные наблюдатели снова оказывались обманутыми «гениальным» лицедеем и палачом, и он мог торжествовать победу. — Почему? Почему? Потому, что люди безразличны и легковерны? Или так сатанински «гениален» постановщик этих спектаклей?!
(После уничтожения вождей все стало проще. Показательность уже не была нужна. Все стало делаться тайно, массово, продуманно и быстро.)
В августе 1936 года в Октябрьском зале Дома Союзов прошел показательный процесс над троцкистами: Зиновьевым, Каменевым, Смирновым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским, Тер-Ваганяном и др.
В 1927 году Каменев и Зиновьев каялись. Сталин вынудил их отречься от своих взглядов. В 1932 году Зиновьев и Каменев были снова осуждены, исключены из партии и сосланы. В 1933 году они были восстановлены в партии, но ценой еще больших унижений. Эта изматывающая практика унижений, самобичеваний, покаяний разлагала и верхушку, и партию в целом
В 1934 году Зиновьев и Каменев были исключены из партии в третий раз: якобы за подстрекательство Николаева к убийству Кирова. В 1935 году они каялись снова.
Именем партии Сталин ставил всех на колени. Отказаться от идеи партии, которой они отдали всю жизнь, было выше их сил. Это частично объясняет поведение испытанных вождей революции, прошедших ссылки и тюрьмы, на показательных процессах 1936, 1937 и 1938 годов. Они прошли хорошую подготовку унижений и лживого самобичевания. К судилищу они уже были измотаны, обессилены, деморализованы, обезличены. Унижаясь, соглашаясь с ложью, сдавая свои позиции, они лишались морального права судить его (!). — Сталин был СТРАТЕГ.
Процесс проходил как раз тогда, когда многие члены Политбюро были в отпусках. Предварительно был убит Горький. «Ибо проживи больной писатель еще несколько месяцев, он серьезно помешал бы планам Сталина начать процесс Зиновьева — Каменева в августе 1936 года, в период отпусков. Отсрочка начала процесса до того времени, когда члены Политбюро вернулись бы с летнего отдыха, грозило Сталину эффективным сопротивлением в Политбюро и ЦК. Но как можно было заставить замолчать Горького без ареста и неизбежного международного скандала?» [55].
Горький давно раздражал Сталина, ибо все более выбивался из той роли, которую его заставил играть Сталин. К моменту начала процесса он был категорически неуместен, и Горький был убран.
Процесс был подготовлен невероятно долгой, в течение нескольких лет, хитрой работой, с привлечением всех механизмов и сил НКВД, с множеством ходов, наступлением, отступлением, выжиданием. Никакое воображение не может охватить хитроумность и напор «обработки» ближайших сподвижников Ленина и вождей партии, которая привела их на ОТКРЫТЫЙ процесс. Сталину необходимо было их уничтожить — это значит, что обвинения должны были быть чрезвычайными. Сталин не мог обвинить их в таких злодеяниях. Этому вряд ли поверили бы даже самые легковерные. Они должны были САМИ всему народу ОТКРЫТО рассказать о своих чудовищных преступлениях перед партией и страной, которым они отдали всю жизнь.
Ценой своей гибели они должны были оплатить жизнь своих родных и близких, и прежде всего — детей. Это было условие Сталина, которое он не выполнил.
Перед процессом была проведена очередная чистка в партии и обмен билетов. Прошел специальный пленум ЦК — о бдительности: «неотъемлемое качество каждого большевика — умение распознать врага, как бы он хорошо ни маскировался». [Р.К.]. Начался новый тур лихорадочных доносов.
Сталин готовился к этому открытому процессу — «выламывал» согласие идти на открытый суд, привлекая детей, жен, друзей по партии, очные ставки, объятия и слезы, уговоры идти на процесс, ибо за это обещана жизнь всем: «виновникам», их любимым, соратникам, женам, детям. На это ушло несколько месяцев изощренной и грубой работы НКВД. (В апреле 1935 года был принят закон, что за политические преступления в равной со взрослыми ответственностью отвечают даже дети, с 12-летнего возраста — вплоть до расстрела: у большинства его реальных и потенциальных жертв были дети примерно этого возраста и старше (!)).
Зиновьева и Каменева запугивали военным судом и казнью при закрытых дверях, казнью всех оппозиционеров. Каменева запугивали расстрелом сына. Истязали, лгали. Они должны были сознаться в том, чего не совершали, но за что должна была «по справедливости», «по закону» следовать смертная казнь. Они приняли условия Сталина, гарантировавшие жизнь им и их сторонникам и свободу семьям [56]. Все было ложью.
Вся подготовительная огромная долгая, чудовищная работа велась в полной тайне. Процесс явился полной неожиданностью не только для членов партии, но и многих членов Политбюро. Сталин представлял это, как дело прокуратуры и суда.
Перед судом Ягода и Ежов провели совещание с Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским и Тер-Ваганяном. Ежов повторил сталинское обещание, что им будет сохранена жизнь, и тут же предупредил, что любая ИНДИВИДУАЛЬНАЯ попытка «предательства» будет рассматриваться как ЗАГОВОР ВСЕЙ ГРУППЫ В ЦЕЛОМ. [57], (курсив мой). Так они ВСЕ были повязаны АБСОЛЮТНОЙ необходимостью следовать сценарию. Спектакль был задуман настолько чудовищно неправдоподобный, что малейший срыв мог посеять зерна сомнения, и система могла рухнуть с катастрофическими последствиями.
На суде они сидели отделенные друг от друга агентами — провокаторами, якобы связанными по делу. Как пишет Роберт Конквест, этот метод был не нов и применялся во времена французской революции.
Газеты в это время печатали фотографии героев-летчиков, спортсменов: со Сталиным — жизнь прекрасна! Новое поколение — со Сталиным!
То, как чудовищно оговорили себя на открытом суде, в присутствии иностранных представителей участники «троцкистско-зиновьевского заговора» — большевики с большим стажем революционной подпольной работы, прошедшие царские тюрьмы и ссылки, говорит о том, какому давлению они подвергались, какой изощренной ложью их опутали.
Цепь признаний в ужасающих преступлениях против партии и народа начал Мрачковский — потомственный революционер, родившийся в тюрьме, где его мать-революционерка отбывала срок. «Он был воплощением революционного мужества, рожденный и воспитанный в борьбе». Он называл себя «предателем, которого следует расстрелять». За ним последовали другие, проходившие по этому делу. Испытанные в тюрьмах и боях большевики публично признавались в страшных преступлениях, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО, против советской власти и, главное, против вождя советского государства — Сталина!
Р. Конквест пишет: «Люди, особенно те, которых обвиняют в преступлениях, наказуемых смертной казнью, всегда стремятся не признавать себя виновными, даже если против них собрано много доказательств. В прошлом коммунисты отрицали даже очевидные факты».
На «открытых» «показательных» процессах против обвиняемых не было НИКАКИХ улик, кроме их собственных страшных признаний и самобичеваний.
В печати, на заводских и производственных собраниях и митингах специальные люди вопили, брызгая слюной, требуя немедленной казни псам и подонкам, шпионам и предателям — своим недавним вождям.
Открытие представления состоялось 19 августа. — 25 августа они были расстреляны.
Во время суда и казни Сталин был на Кавказе. Он торжествовал победу.
«Через неделю после расстрела Зиновьева и остальных Сталин приказал Ягоде отобрать и расстрелять пять тысяч участников оппозиции, находившихся в лагерях. Большинство оставшихся на Воркуте троцкистов были привезены в Москву и расстреляны. С того времени и до конца 1938 года каждую неделю заключенных воркутинского лагеря расстреливали группами по 40 человек или около, причем расстрелы бывали и дважды в неделю. Жизнь сохраняли лишь детям, не достигшим 12 лет» [58].
Родственники, жены, дети расстрелянных участников процесса были сосланы в лагеря, тюрьмы, многие из них тоже в разное время были расстреляны. (Оба сына Каменева, которых Сталин обещал ему пощадить, были расстреляны: старший, летчик, был расстрелян сразу, Младший 12-летний пионер был расстрелян в 17 лет — не забыл!)
«И тут же взлет молодых советских музыкантов после побед на Международных конкурсах в Варшаве, Вене, Брюсселе: Борис Гольдштейн, Лиза Гилельс, Давид Ойстрах, Марина Козолупова, Эмиль Гилельс. Все они по возвращении в Москву, по личному распоряжению Сталина, получили ордена, квартиры, денежные премии. Многие получили великолепные уникальные музыкальные инструменты из государственных коллекций в пожизненное пользование. Сталину нужны были молодые пропагандисты. [59].
Окрыленный победой судилища над Зиновьевым — Каменевым и др., Сталин в январе 1937 года устраивает следующий процесс над Пятаковым.
Как и на предыдущем процессе, на нем не было ни одного слова правды. Все показания обвиняемых были самооговорами, добытыми под пытками, использованием заложников, подтасовками и непосредственно лживыми обещаниями, в том числе лично Сталина, сохранить жизнь «обвиняемым», если они В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА ПАРТИИ будут давать показания против себя и соратников о террористических актах, шпионаже, вредительстве и т. д.
Пятаков был назван Лениным в числе шести наиболее выдающихся руководителей партии. Он создавал промышленную базу, несмотря на невыносимые социальные и политические условия. Однако на местах, где рабочие жили в условиях тяжелейшей нищеты, где техника безопасности фактически не существовала, а выжимание планов было беспощадным, любой ценой, аварии и катастрофы происходили почти постоянно. Но именно Пятакову, прежде всего, Сталин был обязан успехом в единственной области — в области тяжелой индустрии. (Но власть была дороже успехов…) Под судом оказались практически все главные руководители тяжелой промышленности, химической промышленности, железно-дорожного транспорта и др. — министры, руководители отделов, директора трестов, заводов, шахт, крупные инженеры, ведущие специалисты, руководители промышленных комплексов.
Жена Пятакова, с которой он разошелся, но был в хороших отношениях, согласилась дать против него показания только для того, чтобы спасти их десятилетнего ребенка. Его (Пятакова) ближайший друг и секретарь Москалев согласился дать против него показания для того, чтобы спасти жену и маленькую дочь, оговорив, что делает это только в порядке партийной дисциплины. Пятаков будет расстрелян. Но эти двое — раздавлены собственным предательством. Надо полагать, позже он уничтожил и их. Он не оставлял в живых носителей такой информации. Он пачкал, разрушал, пятнал самое святое, он играл сатанински на лучших и худших качествах человеческих, «повязывая» в преступлениях с собой.
После лживых допросов, фальсифицированных заключений различных комиссий прокурор Вышинский так патетически начинает свою обвинительную речь: «Вот бездна падения! Вот предел, последняя черта морального и политического разложения! Вот дьявольская безграничность преступлений!» [60].
Воистину дьявольская безграничность.
Окончил свое выступление этот лживый верный пес тирана (он, залитый кровью уже многих тысяч убиенных) еще более высокой патетикой: «Они взрывают шахты, сжигают цеха, разбивают поезда, калечат, убивают сотни лучших людей, сынов нашей родины… Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь рядом, со мною, указывая на эту скамью подсудимых… своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили.
Я обвиняю не один! Я обвиняю со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных одной только меры наказания — расстрела, смерти!»
Есть ли в человеческом языке слова, которые дали бы соответствуюшее название этому действу?! Сколько ненависти и злобы! Как общественное явление она была беспрецедентна. Она была столь эмоционально напряжена, что сопровождалась словотворчеством, новыми эпитетами, метафорами, словосочетаниями, порожденными КЛАССОВОЙ ЯРОСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННЫМ БАНДИТИЗМОМ, а более всего невиданным нравственным падением, или просто сатанизмом.
Эта ненависть была ОФИЦИАЛЬНОЙ. Страшными словами, кипучей злобой были наполнены газетные статьи, заголовки, лозунги собраний и митингов, плакаты на стенах учреждений и даже школ.
Эта злоба была ВОИНСТВУЮЩЕЙ. Нельзя было просто прочесть или просто не прочесть, проигнорировать гнусную брань. — Нет, ее надо было заучивать, повторять, обсуждать, демонстрируя свою преданность великим идеалам и Вождю!
Эта мерзкая брань была ЛОЖЬЮ, ибо никакое ИСТИННОЕ явление общественной жизни не может измеряться злобой такой интенсивности. Компьютерный (или другой) анализ соответствующих печатных изданий трех десятилетий сталинского периода по количеству бранных слов и интенсивности ругани, наверное, потряс бы мир: ничего подобного в истории человечества не было (разве только во времена «культурной революции» в Китае, и то сомнительно).
Но никакой народ не может существовать длительно в такой атмосфере (не разлагаясь, не озверевая — что и происходило) — необходимо противоядие. Оно было найдено — перманентно кричащий праздник счастливой страны успешно строящегося социализма. Все было ложью: не было разрушителей-врагов, не было великих достижений.
Во время этих процессов и после них газеты поднимали на своих страницах злобный вой, людей сгоняли на митинги под лозунгами ненависти и требования немедленной расправы.
Сталин более всего боялся сопротивления и душил заранее все возможные очаги оппозиции и протеста.
На февральском Пленуме ЦК 1937 года — последняя попытка сопротивления террору. Сталин предупрежден. Он, как бы невзначай, смешал их ряды — попытка не удалась. Но он «сидел в президиуме, с безразличным видом покуривая свою трубку и делая заметки. Под конец заседания он выступил в мягком тоне, поблагодарив всех за конструктивную критику, но указал на необходимость солидарности и твердости против троцкистских заговорщиков» [61].
Ничего, он скоро доберется до них, он им всем свернет шею, он пропустит их через такую мясорубку, прежде чем они получат свою последнюю порцию свинца.
Но — сначала армия. Сейчас она опаснее…
Поднимавшаяся волна террора, расправа над вождями революции и руководителями государства не могли не вызывать опасного напряжения в обществе. И главной угрозой для него несомненно и прежде всего становилась армия. Надо было спешить. Тем более, что на февральско-мартовском Пленуме все генералы выступили, как противники террора!
12 июня 1937 года был объявлен суд над верховным командованием Красной Армии. Обвинялись в измене и шпионаже маршалы, командующие армиями, корпусами, дивизиями. Среди них — М. Тухачевский, И. Якир, В. Примаков, В. Путна, А. Корк, И. Уборевич, Э. Эйдеман, Б. Фельдман.
Суд над высшими чинами армии был очень скорым. Их расстреливали без задержек: слишком опасной и важной была «игра».
Несмотря на приемы «обработки» НКВД, высокие военные командиры вины своей не признали. Некоторые из них продолжали верить Сталину, обвиняя во всем НКВД. На их письмах из тюрем Сталин и его сатрапы писали мерзкую брань. Они обращались с просьбой помочь их семьям. Он помог…
Почти все родственники крупных военачальников были вытравлены с корнем. Все близкие родственники расстреляны. Малолетние дети были отправлены в детприемники, а позже — в возрасте 14 — 17 лет отправлены в лагеря.
У Тухачевского была большая семья. Она была уничтожена с широким охватом. Сосланы в лагеря или расстреляны были мать маршала, его четыре сестры, два брата и их жены. Другие родственники тоже были расстреляны или отправлены в лагеря. Жены Гамарника и Корка были расстреляны. Жена Якира была арестована, несколько позже была расстреляна с братом Якира, женой и сыном другого брата и другими родственниками. Этот список можно продолжать бесконечно. Так он поступал не только с семьями известных личностей, но вообще с семьями расстреливаемых.
Почему? Зачем? Жены, матери, дети?! — Наверное, во-первых, потому, что в его «счастливом» обществе не нужны были ходячие укоры, боль и страдания, у родственников тех, кто ушел в лагеря, остается надежда (они просто не знают, что ГУЛАГ — это мясорубка). Но расстрел надежды не оставляет… Есть, я думаю, еще одна весьма важная причина: Сталин — кавказец. Он хорошо знает, что такое кровная месть. Далеко не всякой цивилизации присущ такой закон. Но зверская расправа с невиновными вызывает чувство мести у любого человека. Он знал это. Ему не нужны были живые мстители. Не случайно, когда в 1947 — 48 годах начали возвращаться те немногие выжившие в ГУЛАГе, попавшие там в обслугу, политические, он немедленно отправил их обратно в ГУЛАГ или в ссылку в нежилые места: «Они НЕ БЫЛИ нашими врагами — они СТАЛИ нашими врагами», — изрек Палач… Он вытравлял семя своих врагов, выкорчевывал — навсегда. Из лагерей никто не должен был вернуться. Если кто-то выжил, то вернулся — только после его смерти.
(Тухачевский был самым образованным, самым талантливым и самым жестоким из красных маршалов. Его арестовали 27 мая 1937 года. Сутки пыток не дали никаких результатов. Тогда привели его 15-летнюю дочь, и следователь сказал: «Если Вы не подпишите, мы расстреляем Вашу дочь. Живой отсюда она не уйдет. Но прежде, у Вас на глазах наши ребята потешатся с нею.» — «Уведите ее, — сказал Тухачевский, — «я подпишу все.»
29 мая все необходимые бумаги были подписаны Он оговорил себя и еще семерых военачальников высшего ранга. 12 июня все были расстреляны.
Дочь Тухачевского провела в лагере 10 лет. (По другим данным, была расстреляна).
Всего в ходе террора погибли 3 из 5 маршалов (в живых остались Ворошилов и Будённый), 14 из 16 командующих армиями, все 8 флагманов, 60 из 67 командующих корпусами, 136 из 199 командиров дивизий, 221 из 397 командиров бригад, все 11 заместителей наркома обороны и 75 из 80 членов Высшего Военного Совета, а 35 тысяч человек командного состава были расстреляны или брошены в тюрьмы.
В тот момент, когда уже вся верхушка армии ждала на Лубянке расстрела, Сталин выступил с докладом о раскрытии контрреволюционной фашистской организации в Армии, требовал ликвидации не существовавшего в вооруженных силах заговора, готовя таким образом фактическое уничтожение квалифицированных военных кадров.
(На Тухачевского немцы по «его» (Сталина) просьбе подготовили специальное досье, о котором в докладе он побоялся упомянуть.)
На каждом открытом процессе и закрытом следствии подследственные должны были (их вынуждали) замарать тех, кто был намечен как жертвы следующего акта драмы.
После первых двух судилищ над вождями партии и страны было ясно, что главным героем следующего процесса будет Бухарин.
В своем «Завещании» Ленин писал: «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии.»
Так же, как Ленин в своем «Завещании» подписал смертельный приговор Троцкому, противопоставив его Сталину, так он предопределил мучительно-гибельный путь Бухарина.
Конечно, такого надо было раздавить с особым смаком, и Сталин наслаждался, подвергая Бухарина мучительнейшему долгому ожиданию неизбежного ареста, заставил его тягостно унижаться и расстрелял последним.
Бедный Бухарин сходил с ума. Сталин осыпал его милостями, а следствие в это время изучало его «дело», газеты проклинали предателей и шпионов и печатали статьи о связях с ними Бухарина. (Так было определено сценарием). Сталин расставлял ему сети, и он в них попадался. Над его головой сгущались тучи: он знал, что это значит. Он извивался, предавал, открещивался от товарищей, друзей, соратников. В тюрьме Бухарин молил дать ему последнее свидание с горячо любимой молодой женой, просил (хотя бы) фотографию жены с сыном. Он просил передать ей прощальное письмо. (К этому моменту она уже была арестована). Ни одна из его просьб выполнена не была. (Его письмо она получила через 54 года).
Сталин не просто уничтожал врагов — он вгонял людей не просто в состояние страха, он заставлял их терять не лицо — рассудок.
Они все открыто, рьяно плевали друг на друга, на вчерашних соратников по партии, с которыми они прошли сквозь тюрьмы, революции, войны. Они кричали: Распни! Стрелять, как бешеных собак, вешать, четвертовать. Они предавали родных и близких. Они стрелялись, вешались, выбрасывались из окон.
Но Бухарчик — он писал своему мучителю любовные письма. Он написал о нем поэму. — Разве это не вид сумасшествия?
Можно представить, как он ухмылялся или, может быть, смеялся. Он очень любил, когда ему рассказывали, как очередная жертва рыдала, ползала перед расстрелом, просила позвать товарища Сталина. Смеялся, просил повторять [62]. Бухарин был одной из самых «сладких» его жертв.
А вчерашние соратники Бухарина, вторя мерзостной патетике Вышинского и вою газет, говорили о нем и его окружении: «комедийный», «юродствующий прохвост», «трясущаяся бородка», «звероподобная мерзость», «тифозные вши», «кровавые обезьяны» и множество других эпитетов [63].
(Радек обозвал в печати Зиновьева и Каменева «бандой кровавых убийц», зная, что это абсолютная ложь.)
Откуда такая злоба, столько яда, подхалимство, такое унизительное юродство?! Разве может достойный уважения человек изрыгать такую заведомо лживую грязь? — Нет, они не были «рыцарями», они не были людьми «высокой пробы». Все они были «придонные полу-интеллигенты». Но он довел их до полусумасшествия. Он оплел их сатанинскими смертельными сетями и заставил изнурительно, долго и безнадежно биться в них… Он дал им «тему». Они сами творили ее вариации и исполнили чудовищный реквием самим себе.
В феврале 1937 года открылся Пленум ЦК, на котором предполагалась попытка сопротивления террору, о чем Сталин был предупрежден (об этом уже писалось). Сталин выступил первым. Он предвосхитил и отверг доводы, которые должны были прозвучать против него. Он призвал к единству и сознанию ОТВЕТСТВЕННОСТИ в коммунистическом руководстве (курс. мой). Выступивших в защиту Бухарина он обрывал грубо, смял, смешал их ряды. Его клика: Жданов, Ежов, Молотов, Ворошилов, Каганович, особенно Хрущев и Шверник выступили солидарно.
Бухарин и Рыков были арестованы прямо на Пленуме. Ни бурная сцена, разыгравшаяся в зале, ни протесты, ни пламенная и сильная речь Бухарина не изменили хода дела. Бухарин и Рыков прямо со съезда были брошены на Лубянку.
2 марта 1938 года в том же Октябрьском зале Дома Союзов начался новый судебный процесс: Бухарин, Рыков, Кристинский, Раковский, Ягода (Ягоду заменил садист и палач Ежов).
Не знаю, какие стихи писал Сталин в юности, но сценарии процессов он писал грубо, топорно. (Нет, он писал то, что необходимо было ему, — то, что нужно было бросить оболваненной толпе.) В них валилось все — особенно на процессе «горячо им любимого» Бухарина, Рыкова и Крестинского: шпионаж, вредительство в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, финансовой сфере; подрыв советской военной мощи, провокация нападения на СССР, расчленение Советского Союза, восстановление капитализма в России, покушение на видных партийных и общественных деятелей и на «самого» и мн. др.. Никаких тонких интриг, захватывающего сюжета: все, в чем можно обвинить, вся крамола, которую можно придумать, — все свалено в общую корзину, без смысла, ибо невозможно было делать столько всего сразу. Вполне уместно предположить, что у Сталина были помощники — сценаристы, но они уничтожались так же тщательно, как и герои их сценариев, не доживая до «представлений». И несмотря на то, что факты такого вредительства не были представлены, признания были получены, процесс успешно завершился. и ленинские сподвижники — враги социалистической России понесли «заслуженное наказание».
А Бухарин — любимец партии и Ленина был обвинен в том, что в 1918 году пытался захватить власть, убив Ленина и Сталина.
И все же, если с точки зрения литературно-художественной это было убого, с точки зрения политической и с точки зрения личных интересов Сталина, это был чрезвычайно богатый материал: в вину подсудимым были вменены все провалы в экономике, промышленности и сельском хозяйстве; вся неразбериха в управлении, все просчеты, недочеты и неумение управлять страной — все было вплетено в единую троцкистскую вредительскую программу, все были вплетены в единую вредительскую сеть и весьма хитроумно успевали всюду вредить.
Надо все же признать, что во всем этом были хитросплетения судеб и сюжетов, связей с фашистами с подготовкой восстаний, созданием террористических групп, свержений власти, крупных катастроф и предательств — все это требовало несомненно специфического таланта. В эту фантастическую сеть удивительным образом было вплетено очень большое количество людей, которых Сталину необходимо было уничтожить (в том числе и военных генералов). И в каких только преступлениях не признавались руководители партии и правительства на показательных допросах! Для их совершения нужны были особое воображение, великий энтузиазм и страшная ненависть! Что же это была за партия?! Что за руководители?! Но главное — все во всем «сознались». Как нужно было для этого обрабатывать людей, остается только догадываться, хотя очень многое известно.
Провалы на открытых процессах бывали, подсудимые сбивались, отказывались от своих показаний, однако их «обрабатывали» дополнительно, и они отказывались от своих отказов. Некоторые подсудимые сходили с ума или погибали под пытками, но это все умело заглаживалось, и процессы завершались победой Сталина под искренние и фальшивые аплодисменты страны и Запада.
Пафос преступно-лживой заключительной речи Вышинского убедительно рисует физиономии этих исторических личностей: хозяина-сценариста и режиссера, скрывающегося за занавеской (не смог отказать себе в удовольствии тайно лично присутствовать на процессе Бухарина!) и его верного пса, вдохновенно и заливисто лающего в зале.
Вот выдержки из этой речи, которые приводит Роберт Конквест: «Троцкисты и бухаринцы, то-есть „право-троцкистский блок“, верхушка которого сейчас сидит на скамье подсудимых, это — не политическая партия, не политическое течение, это банда уголовных преступников и не просто уголовных преступников, преступников, продавшихся вражеским разведкам, преступников, которых даже уголовники третируют, как самых падших, самых последних, презренных, самых растленных из растленных.»
Перемежая свои доводы эпитетами типа «зловонная куча человеческих отбросов», Вышинский протянул контрреволюционную линию вспять к «Шахтинскому делу» и процессу «Промпартии». Ошельмовав всю прошлую деятельность Бухарина и остальных, прокурор перечислил их теперешние «преступления». О Зеленском он, например, сказал так: «Здесь я только укажу на эту позорнейшую практику подбрасывания в предметы продовольствия стекла и гвоздей, в частности, в масло, что било по самым острым жизненным интересам здоровья и жизни нашего населения. Стекло и гвозди в масле? Это же такое чудовищное преступление, перед которым, мне кажется, бледнеют все другие подобного рода преступления».
Далее Вышинский объяснил:
«В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказывался в недостатке…
Теперь ясно, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас, при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники…»
Прокурор накинулся на Бухарина — «эту проклятую помесь лисицы и свиньи», — и на Рыкова. (Вышинский был особенно раздосадован тем, что Бухарин и Рыков отказались принять на себя ответственность за убийство Кирова…)
«Бухарин и Рыков признали, что у них в плане были намечены убийства руководителей партии, правительства, членов Политбюро… Почему мы должны допустить, что Бухарин исключает из этого списка подлежащих умерщвлению одного из влиятельнейших членов Политбюро, зарекомендовавшего себя непримиримой борьбой с троцкистами, зиновьевцами и бухаринцами? Где логика такого поведения? Этой логики нет». [64].
Логика, наверное, есть.
Подписавшись под всем грузом взваленных на них преступлений, которых они не совершали, почти все подсудимые отказались признать себя соучастниками убийства Кирова.
Почему? Наверное, в высоких партийных кругах знали или догадывались, кто истинный убийца Кирова. Это убийство Сталину было необходимо. Именно с него началась истерия поиска «врагов народа» и наступление на партию. Поэтому Сталину очень нужна была легенда этого убийства, под которой бы подписались на открытом суде его «враги», которых он уничтожал. И несмотря на то, что неоднократно происходившие «сбои» в отрепетированном течении процесса удавалось уладить после закулисной обработки действующих лиц, этот сбой оказался непреодолимым. Здесь старые партийцы вспомнили свои боевые принципы.
Зато как сразу стало ясно, почему в такой богатой стране, при таком изобилии продуктов (которого никогда не было) «нет того, другого и даже десятого», а если выразиться коротко и точно, — нищета.
Заключение прокурора было: «Расстрелять, как поганых псов! Требует наш народ одного: раздавите проклятую гадину!»
Требование «народа» было выполнено, «Проклятая гадина» — голова ленинской партии была раздавлена. Теперь можно было приступать к уничтожению тела партии.
И все же остаются вопросы. Кто они, эти люди? История взаимных предательств вождей ленинской гвардии под прессом сталинской «железной руки» и злобной его воли (все они: Каменев, Зиновьев, Пятаков, Бухарин, Радек и другие — предавали друг друга многократно) говорит о том, что они вряд ли были людьми чести, большими романтиками, мечтавшими о благе человечества (не говоря уже о главных — Ленине и Сталине!) скорее это были авантюристы, бунтари, честолюбцы, властолюбцы, псевдотеоретики, которым история, по случаю, предоставила сцену, на которой они и разыграли каждый свою роль…
Романтиками были те, безвестные, которые пошли за ними и сложили головы в гражданской войне и в ГУЛАГе: недоучившиеся студенты-разночинцы, рабочие, романтическая молодежь, падкая на красивые лозунги.
Большевики взбаламутили «дно»; обманули, пообещав землю, крестьян, находившихся под ружьем по случаю войны; обманули солдат в окопах, пообещав им мир; поставили общество на дыбы, и «сопло» революции и Гражданской войны всосало в себя всех, выбитых из колеи или сбитых столку.
Они (вожди) предавали друг друга, своих шефов и учеников, подло, иногда талантливо, вдохновенно, надеясь подлостью купить жизнь себе и близким. Играли фальшивые роли на открытых процессах, писали громкие лживые статьи в газетах, поливая грязью всех и себя…
Карл Радек написал «признания» — хитроумнейшую ложь, уничтожавшую Троцкого. Он знал: его творчество отправят Хозяину, и тот оценит услугу. И на суде Радек был блистателен, беспощадно разоблачал себя и соратников.
Присутствовавший на этом процессе немецкий писатель Лион Фейхтвангер впоследствии писал: «…Если бы этот суд поручили бы инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности…» Что ж, у спектакля был великий режиссер. И у него были отличные «актеры» [65]. Сталин любил театр!..
Радек получил 10 лет лагерей. Расстреляли его уже там…
Те, кто еще на воле, клеймят арестованных, отрекаются, проклинают. Страх деморализует всех. Одни застыли, другие задергались в предательстве, третьи стали выходить из «игры»: стреляться, вешаться, выбрасываться из окон…
Они не только предавали друг друга — они предавали себя, унижаясь, прося прощения, самооговаривая и казня себя, писали слезливые письма (40 писем Бухарина Сталину, Ворошилову).
Почему, почему они так предательствовали, ненавидели, клеветали, боялись, унижались? Была какая-то магическая сила в партии, в Сталине?! Ведь ТОЛЬКО страх не вынуждает людей так унижаться и так предавать.
Под дулом пистолета человек парализован, беспомощен, слаб. Страх смерти — жизненный инстинкт самосохранения. Но это был не только страх смерти — это был страх гибели мучительной, позорной. И самое главное — страх за любимых, родных и близких. — Он все предусмотрел.
(На войне люди умирая, знают, что защищают их, защищают Родину. И на смерть идут сознательно, мужественно, даже гордо. И сколько революционеров, веривших в святость своего дела, умирали так! А вожди — не выдержали… И в этой огромной мясорубке не все большевики были сломлены. Среди большевиков не столь высокого ранга было немало таких, которые встретили смерть достойно. Быть может, они были меньше измотаны до суда, от них меньше требовали, меньше пытали и обнадеживали?)
Но в запое осуждения, изощряясь в эпитетах и метафорах, судьи и Верховный Судия не осознавали, что плюют себе в лицо. Не было, наверное, преступлений, которых они не приписали уничтожаемым «врагам», не было мерзкого эпитета или ярлыка, который не был бы им приклеен. Грязные, мерзкие слова сыпались, как из рога изобилия. Ими пестрели газеты, их заставляли повторять на митингах и собраниях. Взрослых и детей, слесарей и ученых. Но он, Главный судия, забывал, что это были его соратники, соратники Ленина, которого славословили, ибо Сталин — это Ленин сегодня. Их связывали годы дореволюционной работы, ссылки и тюрьмы. Кто же были эти люди? — Нет, «не высшей пробы». Но они не были теми, кем он заставил обозвать их перед народом, потомками и историей.
«Черная книга большевизма» на 7-й своей странице пишет: Сталин «патологически ненавидел революционеров всех мастей, в том числе и своего учителя Ленина, особенно его жену Крупскую. Но как законченный циник и прагматик, лучше других понимал, что в единоличные вожди можно въехать только на спине Ленина, поэтому объявил себя лучшим его учеником, продолжателем дела; вбил в мозги партийцев, что «Сталин — это Ленин сегодня». (Он вплыл в историю на волне революции, и ему необходимо было удержаться на ее гребне).
Но никто из них не дал оценку ему! Не могли — за это расплатились бы их семьи… (Хотя расплатились и без этого).
Самое удивительное, что все диверсии, в которых были обвинены подсудимые, совершены не были, а как бы предполагались быть совершенными, чему так же не было никаких доказательств. Диверсии придумывались, кого-то под пытками заставляли подписать доносы на тех, кого нужно было ликвидировать, и, уже ссылаясь на эти доносы, на эти выбитые лживые показания, подсудимых заставляли «сознаваться» в преступлениях, которые якобы готовились. Великий Мастер Интриг и Сценариев умело плел сети, плел их часто с очень дальним прицелом. (Каждый показательный суд набрасывал легкую, но зловещую тень на «героев» следующего показательного представления. Так вилась непрерывная нить процесса уничтожения).
Им же приписывались и действительно имевшие место аварии, которые часто происходили на заводах из-за плохого состояния оборудования, отсутствия техники безопасности, низкой квалификации рабочих и усталости в гонке.
А что же народ? На их глазах казнили вчерашних вождей, героев революции, руководителей государства. Вчерашние уважаемые люди, творцы новой российской истории оказались злодеями невиданного масштаба. Как это можно принять? «Он» обо всем подумал. Он был хороший психолог. Особенно хорошо он знал теневую сторону человеческой натуры.
Во-первых, народ никогда ни о чем не задумывается. Он живет своей жизнью, особенно, когда жизнь так трудна, что основная проблема — выжить. Народ не задумывается. Задумываются другие, а решают все за него — третьи.
Еще задолго до начала процессов Сталин пронизал все общество страхом. Он не развеялся после насилия революции и Гражданской войны, продразверсток, раскулачивания, коллективизации. Он крепился бесконечными чистками, ползучим террором, расстрелами; постановлениями, газетной трескотней о бдительности, о «внутренних врагах», о «врагах народа», о вражеском окружении.
Уже не трудно было заставить кричать на митингах и собраниях (ведь борьба продолжалась!): «Расстрелять поганых псов!», «Раздавить гадину!», «Предателям — смерть!». Это выкрикивали специальные люди, а другие специальные люди наблюдали, как на это реагирует зал. Все это уже знали. Высказать иное мнение было СМЕРТЕЛЬНО опасно не только в партии, но и в обществе, любом — большом и малом. Это тоже люди уже знали.
И процессы прошли на «ура!».
Но не только страхом он душил возможное сопротивление. В стране шел непрерывный праздник. Победы спортсменов и музыкантов, перелеты через Северный Полюс, покорение Полюса, социалистическое соревнование, чествования победителей, победные, бодрые веселые песни и марши, парады и славословие: газеты, журналы, песни, кинофильмы, кинохроника славили Вождя и Учителя, Великого и Мудрого — творца всех наших побед.
Так будет во все годы его царствования. Чем теснее будут забиты камеры тюрем, чем больше тысяч узников будет ложиться костями в вечную мерзлоту бескрайней российской тундры или в раскаленные пески казахских пустынь, тем тише будут шуршать шины ночных «марусь», тем бодрее будут марши и песни, тем громче будет греметь слава Отцу народов.
И все же, то, что происходило в партии, на показательных процессах, то, что еще будет происходить во времена Большого Террора, могло случиться только в стране, тем более великой, с большой культурой, — только в стране, попавшей в ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЕ условия: Россия была поставлена вверх «дном». «Дно» оказалось вооружено, активизировано, оно оказалось у власти. Верхи общества –то, что создается, выкристаллизовывается веками; то, что определяет лицо народа и жизнь страны, ушло за рубеж, было туда изгнано или уничтожено. Страна осталась без головы, без культуры, без религии, без совести — во власти инстинктов возбужденной толпы, возглавляемой авантюристами и корыстолюбцами того же «дна» и Верховным Палачом. Этот палач был сатанински мудр. Он установил свой трон на четырех чудовищах.
ПЕРВОЕ — ЛОЖЬ (и тайна). С годами лжи не становилось меньше, но тайна распухала непомерно. Вся империя — это был айсберг.
ВТОРОЕ — СТРАХ. Им были опутаны все, даже дети — дух страны всасывался с молоком матери. Сталинские службы слежки и уничтожения были всемогущи, вездесущи и беспощадны.
ТРЕТЬЕ — ИДОЛОПОКЛОНСТВО. Ни один правитель мира за всю историю человечества не знал такого идолопоклонства.
ЧЕТВЕРТОЕ — фальшивый непрекращающийся ПРАЗДНИК в стране строящегося коммунизма.
Все эти чудовища были раздуты, украшены, размалеваны, утонченно (или, наоборот, убойно) ядовиты.
Ложь раскрашивалась яркими красками и эпитетами человеконенавистничества, подтверждалась криками собраний, лозунгов, газет, радио.
Страх — естественный жизненный инстинкт многократно усиливался страхом за близких: матерей, жен, детей. Всякий, попавший в сталинскую мясорубку, знал: он погубил своих близких.
Страх, Ложь, Человеконенавистничество порождали РАЗОБЩЕНИЕ общества — еще одну мощную опору его трона.
Идолопоклонство вколачивалось с ясельного горшка; укрыться, уйти от него было невозможно: оно било в глаза, в уши, отравляло сознание — в любом уголке страны, под любой кровлей и под открытым небом.
И оболваненный, истекающий кровью народ под праздничный треск барабанов и победное пенье труб радостно шел в светлое будущее.
Сталин — личностные характеристики
Наверное, над загадкой явления «Сталин» еще много будут биться историки (и не только историки!). Биться — изучать, чтобы понять, какие сатанинские силы нужно было собрать в себе и разбудить в народе, чтобы заставить народ почти самоуничтожиться.
Нет, народ остался. (Правда, в количестве почти в половину меньшем, чем могло бы быть). И это особый, ДРУГОЙ народ. Естественно, что сам народ этого понять не может: он не видит себя изнутри. А извне он видится народом — рабом, почитающим своего тирана и палача, ущербным, неблагополучным, порочным, недостойным тех природных благ, которые ему отпущены исторической судьбой и Богом: богатств его недр и территорий, и талантов, которые он все еще рождает в своей больной среде.
В этих записках уже предприняты попытки пройти по окровавленным ступеням той лестницы, по которой он шел вверх (на самом деле — в Преисподнюю!).
Пусть потерпит читатель и простит повторения.
Вознесенный мутной революционной волной в ряды большевистской партийной верхушки он возжаждал вдруг власти ЛИЧНОЙ и АБСОЛЮТНОЙ. Он возжаждал подмять под свою единоличную власть огромную страну, не имея на это ни наследственных, ни партийных, ни каких-либо иных законных прав. Он возжаждал власти над партией, в которой он был серой фигурой, не отягченной ни способностями, ни заслугами, ни авторитетом.
(Какой-то профессор психиатрии сказал: «Если человек жаждет власти, значит, он психически нездоров. Можно сказать иначе: он во власти князя тьмы. Из всех смертных грехов этот — самый тяжкий; убийство есть крайнее проявление власти, насилие — осуществление власти.»).
Он возжаждал единоличной абсолютной власти в стране, только что пережившей всеразрушающую революцию, одним из основных лозунгов которой был лозунг: «Долой самодержавие!» — революцию, сокрушившую вековечный самодержавный строй в России, обрушившую Дом Романовых, правивших Россией 300 лет.
Он возжаждал ее тогда, когда Россия встала на дыбы, когда она дышала (так считалось!) духом свободы, когда она вырвалась из рабства и вознамерилась построить светлое царство справедливости.
Он, сын сапожника и прачки, маленький, почти уродливый (обезображенный оспой, сухорукий, с врожденными уродствами — уродства не бывают единичными), с рыжими змеиными глазами, с неровными зубами, не одаренный особыми способностями, плохо говоривший даже по-русски, плохой оратор, возжаждал власти над огромной страной, над человеком и человечеством.
(Когда известный всей России врач Бехтерев — очень известный медицинский авторитет — осмотрел Сталина, возможно, более внимательно, чем того желал бы пациент, — он был вечером того же дня отравлен в кремлевском буфете.)
Эта жажда противоречила всему: законам истории, законам времени («текущего момента»), законам здравого смысла. Эта идея была извращением, чем-то «АНТИ-». Для ее воплощения в жизнь, нужно было создать АНТИ-МИР. И он его создал. История подыграла ему. Такой анти-мир можно было построить только на пустом месте — на развалинах. Развалины он имел. Ленин расчистил место. — Он довел все до совершенства.
Для этого нужны были особые строители — строители анти-мира. Он их нашел в лице взбудораженного, ожесточенного, нанюхавшегося крови и готового в бой российского рабского люмпена — разрушителя. Этот мощный разрушительный потенциал необходимо было структурировать и «одухотворить».
Но прежде всего ему нужно было найти рычаги управления партией и обрести в ней авторитет, чего он не имел.
Умело воспользовавшись силой «бумаги» — «досье» он сумел превратить должность бумажного секретаря партийной канцелярии в главную руководящую должность в партии — ГЕНЕРАЛЬНОГО секретаря, Генсека! Пользуясь тяжелой болезнью Ленина и рычагами руководства партии, которые он создал, находясь на должности секретаря, он начал медленно, но неуклонно отодвигать Ленина от власти и присваивать себе его функции и авторитет. Он сделал себя правой рукой Ленина, его первым помощником, а после его смерти его первым учеником и верным продолжателем его дела.
Интересно отметить, что в переломные исторические моменты, когда Ленин принимал неожиданные судьбоносные решения: о перевороте 25 Октября 1917 года, о введении НЭПа в 1921 году, — когда Ленина поддерживали далеко не все его ближайшие соратники, Сталин его поддерживал. Возможно, это был продуманный вход в тесный круг сподвижников Ленина, куда он не входил. (А возможно, этого и не было, ибо мы это знаем из истории, которую писал Сталин.)
После смерти Ленина авторитет Ленина, почитание и поклонение ему резко возросло. Ленин, как римский цезарь, после смерти стал богом. Сталин раздувал это поклонение и тем резко поднимал свою собственную значимость в партии и стране. Он СОЗДАЛ исторический тандем Ленин — Сталин, которого в действительности никогда не было.
Он раздувал авторитет уже мертвого Ленина как главного вершителя, вдохновителя и организатора всех дел партии в революции и государстве, низводя партию на вторые роли, делая ее лишь придатком, послушным орудием Вождя. Вполне вероятно, что Ленин мечтал ПЕРЕДЕЛАТЬ мир, но Сталин мечтал мир ПОДЧИНИТЬ. (Вряд ли идея ПОДЧИНИТЬ или ПЕРЕДЕЛАТЬ МИР может зародиться в трезвой здоровой голове. Это само по себе уже признак патологии. Или бесовства). Ленин был тактиком, Сталин оказался великим стратегом, и он небезуспешно сыграл на поле, созданном Лениным.
Уже в первые годы после смерти Ленина его первенство в партии, его авторитет были почти непререкаемы. Его стали называть «Хозяин». (Ему очень помог «ленинский призыв» — несомненно сделанный не без его воли или непосредственно его распоряжения. «400 тысяч от станков горячих — Ленину первый партийный венок». Они растворили в своей массе ленинскую гвардию, и их неоспоримым кумиром стал Сталин. (Свет Ленина постепенно мерк в лучах сталинской славы).
Теперь можно было приниматься за «дело». И он принялся.
Он создал «Органы». Какое удивительно точное название! Это ЕГО «органы» — продолжение его железной руки, мертвой хватки, злобной воли.
На протяжении всего его правления они распухали своей массой, значимостью, почестями, привилегиями, материальными благами, тяжелели собственной внутренней армией, вооруженной самым современным оружием; грузом наград.
Эти «органы» на протяжении всех 30 лет его правления уничтожали «врагов народа» — «его» личных врагов, — ибо все они были угрозой его ЛИЧНОЙ власти, т.е. всех тех, кто мог не одобрять МНЕНИЕМ, ВЫСКАЗЫВАНИЕМ или МЫСЛЬЮ строительства анти-мира. После того, как он отправился к праотцам (или в Преисподнюю), «органы» стояли на страже построенного им «социализма», пока он не рухнул. Он построил мощную, всеохватывающую, всепронизывающую антинародную государственную машину.
Сталин призвал к своей преступной деятельности, к этому строительству анти-мира — мира, направленного против человека, его свободы, свободы мысли, свободы передвижения, права на жизнь, права на творчество, на познание, на комфорт, на благополучие — практически все общество: не только его «серость», не только преступный мир и «дно», но и ту часть квалифицированного общества, которое необходимо было оставить — ПОД НАДЗОРОМ, но на воле, ибо без определенного количества таких людей держава не может существовать.
Это было не только всепронизывающее сексотство, но и всеобщая активность партийных, производственных собраний, газетный вой, лозунги, кино- и радиопропаганда, митинги — всеобщая истерия, которая предшествовала и сопровождала каждую кампанию уничтожения.
Это была вакханалия самоуничтожения в угоду властолюбивому ничтожеству.
Это было не только оплевывание и оговаривание, но и самооплевывание, самооговаривание, покаяние в несовершенных грехах под одобрительный вой толпы. После этого порядочные люди превращались в гражданские и политические трупы (часто — в физические). «Толпа» наливалась самоуверенностью и злобным опытом. Нельзя было просто молчать, голосовать «за» — надо было поносить, вопить, проклинать, призывать к расправе…
Для этого общество надо было сковать смертельным страхом. И он это сделал. Он хорошо знал силу Страха!
Он создал специальную теоретическую базу уничтожения.
Вооруженный теорией, «органами» и участием всего народа он создал НОВОЕ ОБЩЕСТВО — СВОЕ, ПОД СЕБЯ. Создал НОВУЮ, СВОЮ ПАРТИЮ, партию «кнута и пряника», послушную, не имеющую отношения к подготовке и осуществлению революции в России, партии Ленина. Идеологический монолит партии стоял на фундаменте вполне материальном, на привилегиях, и цементировался страхом.
Он создал СВОЮ АРМИЮ. Красную армию, созданную во время Гражданской войны, он уничтожил — весь ее комсостав, вплоть до взводных. Новая армия создавалась на полях сражений ВОВ. Это унесло в общей сложности около 50 миллионов жизней и стоило разрушения всей европейской части страны.
Он Создал СВОЙ НАРОД. Он очистил его от инакомыслия, а следовательно, от мысли. Мышление стало стандартным, которое гордо называлось МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ЕДИНСТВОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА. Этот подлый результат его «железной» удавки, мясорубки, страха преподносился как великое достижение счастливого нового общества. Он уничтожил (и на протяжении всего своего царствования уничтожал) цвет, верхи, «сливки» народные, которые народ создает веками своего культурного развития. Оставил безопасную «серость», «дно», уголовный мир. Он создавал государство «серых» и порочных людей, их руками уничтожая лучших, активизируя худших, поощряя их пороки. Он ссучил народ. Он сделал каждого пятого сексотом, предателем, доносчиком. Он заставил десятки тысяч людей неистово визжать на собраниях, писать доносы, подслушивать, подглядывать. Подонки заходились в упоении предательства. Порядочные люди, вынужденные предавать, стрелялись и вешались. Своей преступной властью и волей он калечил, ломал, «строил» людей. В те времена ходил популярный анекдот: «Сталин — великий химик. Он из любого выдающегося государственного деятеля может сделать дерьмо и из любого дерьма — выдающегося государственного деятеля». [66]. Необходимое стране, которая хочет казаться великой, количество интеллектуалов — в основном представители точных наук и инженерно — конструкторский корпус, — требуемых для создания вооружения, было загнано в «шарашки», закрытые города — под строжайший контроль «органов».
Творческая интеллигенция, наука, искусство, культура задыхались под идеологическим прессом. Он создал СВОИХ ПИСАТЕЛЕЙ и их Союз — «инженеров человеческих душ», вколоченных в «прокрустово ложе» социалистического «реализма». (Он и РАПП уничтожил по инициативе самих писателей. Для этого ему понадобился Горький. Сначала он сломал и подмял Горького. Когда Горький понял и попытался вырваться, он стал не нужен и был уничтожен.)
Тирания не может опираться на достойных и сильных. Она держится на низменных и слабых — способ удержаться на них: запугивать и покупать.
Он создал СВОЮ ИНДУСТРИЮ — более 90% ее работало на войну. Интересы человека в ней представлены фактически не были. (Трактора и комбайны — примерно 10%)
Он создал свое КОЛХОЗНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, в котором «кастрированное», генетически выбитое, как и весь народ, крестьянство никогда не кормило свою страну (она всегда жила впроголодь) и постепенно полностью выродилось, спилось и вымерло. (Трактора и комбайны положения не меняли: на колхозных полях не было хозяина — крестьянина.)
Он создал СВОЮ МОЛОДЕЖЬ, которая от ясельного горшка воспитывалась в угаре славословий и идолопоклонства, которая выковывалась на наковальне марксистско-ленинской идеологии.
Все 30 лет своего чудовищного властвования он, не покладая рук, упорно трудился топором на плахе, молотом на наковальне и грубым резцом скульптора, создавая СВОЙ НАРОД.
Он создал страну, состоящую ИЗ ДВУХ ЗОН: Большой (Б) и Малой (М).
В Б. зоне жили «свободные» рабы. Они строили социализм, пели песни, маршировали, соревновались и славили, славили, славили своего Тирана, своего Идола. (Только рабы могут славить своего тирана. Свободная личность не может уважать насилие. Они и не были свободными. И они не жили — они выживали. От окружающего мира они были отделены непроницаемым «железным занавесом»).
В М. зоне, (которую А. И. Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ»), отделенной от Б. колючей проволокой, вымирали рабы — смертники. Там Сталин уничтожал цвет народа, миллионы, десятки миллионов. Они умирали на «стройках коммунизма», который бесплатно, в голоде, в холоде, в муках сталинской мясорубки строили и добывали то, что необходимо было ему для войны, ложась костьми в мерзлоту бескрайнего русского Севера и в тяжелые пески Казахстана. (История не знает прецедентов массового превращения собственных граждан в рабов. — Следует оговориться: десятилетия спустя этот опыт воспроизвел в собственном варианте Пол Пот; но масштаб страны был иной)…
Он создал страну, в которой все было подчинено ЕМУ, его воле, его власти, где все работало на него — ПРОТИВ человека, против его свободы, его права на жизнь, на счастье.
Лицо мира, его красоту; материальное, духовное, культурное богатство определяют прежде всего люди творческие, активные. Именно этим людям необходима свобода. В цепях не может быть творчества, созидания, успеха. Свобода была ЗАПРЕЩЕНА категорически в стране Сталина. Это было общество не Личностей, а рабов — противочеловеческое общество — АНТИ-МИР. (Недаром нам с детства вколачивали в голову, что «свобода есть осознанная необходимость»).
В этом анти-мире все было извращено. Все было Ложью, Тайной, Насилием, Кровью. В атмосфере тотальной рубки, всеобщего психоза и страха наиболее защищенным оказалось самое незаметное: пассивность, посредственность, тупой конформизм. И прикрыто это было песнями, плясками, маршами, празднествами одураченной серости и расчетливой услужливости, оболваненной «счастливой» молодежи — «пиром во время чумы».
Механизмы строительства этого анти-мира, формы его существования, способы одурачивания и уничтожения в нем всего активного и яркого в основном известны. Хотелось бы заглянуть в сатанинские глубины его вдохновителя и создателя.
Какие черты позволили ему подмять и надругаться над великой страной, ее культурой, ее народом, ее генофондом, ее материальными и культурными богатствами, ее интеллектуальным потенциалом, традициями, ее свободой, надеждами — что позволило ему превратить ее в нравственные и генетические руины?!
Известно, что в детстве он хорошо учился, даже писал стихи, но всегда был ущербен, зол, хитер, безмерно завистлив, жесток, злопамятен и мстителен.
Из семинарии он был исключен, как писал журнал «Столица» в одном из своих номеров в 1991 году не за чтение революционной литературы, не за мелкие кражи, которые он постоянно совершал, а за то, что испражнялся в алтаре. (Так мелкие пакостники вырастают во вселенских злодеев).
Известно, что он добывал деньги для партии. Фазиль Искандер устами героя своего дядюшки Сандро приоткрывает нам завесу над тайной сией: он добывал их разбоем, не гнушаясь «мокрыми» делами. Когда к нему пришла главная всепоглощающая страсть его жизни — жажда власти — цинизм, злость мстительность, хитрость обогатились, обросли многими другими развившимися чертами: беспощадностью, подозрительностью, мнительностью, подлостью, лживостью, вероломством и великой трусостью — и нет им числа в закромах черного сатанинства…
Восхождение к вершинам абсолютной власти, необходимость ее удерживать и укреплять требовали постоянной бдительности, напряженной работы и постоянной активности всех способностей подлой души.
Он изучал опыт тиранов всех веков и народов. (Он изучал гипноз, занимался оккультными науками, для чего специально ездил в Армению и Италию, в юности). Из российских тиранов ближе всех ему был Иван Грозный. Во время ВОВ он даже иногда подписывал секретные бумаги его именем: Иван Васильевич, а иногда просто — Васильев. Книги об Иване Грозном испещрены его пометками на полях. Наиболее выразительные: «Не дожал!», «Не дорезал!».
Уничтожая партию, соратников Ленина, его гвардию он шел медленно: наступал, отступал; когда «зарывался», находил «рыжих», журил ретивых, карал за «головокружение от успехов», за поспешность в расправах. Наказывал показательно. Сам прятался в тень, выжидал и в нужный момент бил непременно наверняка и насмерть.
Он умел молчать. Трубка помогала молчанию. Усы скрывали злорадные ухмылки.
В мягких сапогах на шестипалых его лапах он часами шагал, плетя паутину своих интриг. Он был и сценаристом, и режиссером, и актером в своих преступных спектаклях. Что это — шекспириада, достоевщина или сатаниада?! Он изобретал изощренные пытки, экзотические способы арестов. Спектакли, роли, способы арестов создавались для значимых партийных и государственных деятелей. Чем выше было место жертвы в обществе, тем красочнее должно было быть представление.
Он изобрел такие пытки: человека выпускали, а на следующий день или через день снова арестовывали; утром выпускали — вечером арестовывали. И так несколько раз. И несколько фальшивых расстрелов перед последним, окончательным.
«Сотни людей были арестованы только за то, что в прошлом по отношению к ним была допущена несправедливость.» [67]. Это был общий принцип: «Если они не были нашими врагами — они стали нашими врагами». По этому принципу все, кто так или иначе соприкоснулся с его идеологической удавкой, его «железной» лапой, с особенностями его сатанинской личности, не имели права на существование. Если выживали, место им было в лагерях или ссылках.
Иностранцев он боялся смертельно. Они могли добиваться права выехать на родину и «вывезти сор из избы». Все, приехавшие в Россию строить социализм по линии Интернационала, были расстреляны или уничтожены в лагерях. Тех, кого трудно было арестовать (чей арест слишком сложно было объяснить общественности), он убивал ядом: Горького, Крупскую, профессора Бехтерева, Павла Аллилуева и мн. др.. Тех, кто не был на виду, арестовывал тихо, ночью, по одному сценарию.
Своих врагов он заставлял унижаться, каяться, лгать, оговаривать себя, своих друзей и соратников. Он их соединял, разъединял. Бил их вместе и порознь. Он заставлял их ползать перед ним, плакать и молить о пощаде. Он знал разрушительную силу покаяний, предательств, унижений. Он сладострастно превращал человека в «лом» — всегда именно известных, уважаемых, заслуженных… Это не просто борьба за власть. Это удовлетворение низменных инстинктов, сладострастие садизма черной души.
С наслаждением выслушивал рассказы о том, как плакали его вчерашние соратники перед расстрелом и просили позвонить товарищу Сталину, просил повторять такие рассказы по несколько раз. И наливался злобой, когда узнавал о достойном поведении уничтожаемых партийцев. Он великолепно знал изнанку человеческой души, лучше сказать — анти-душу. Зависть, страх, злоба … — как много струн, на которых может играть Подлость, Низость… Он, как структура, состоял из всех этих струн, созданных Тьмою в извечной борьбе со Светом. Он знал досконально их низменное мрачное звучание. И высшим наслаждением для него было заставить звучать эти струны в других — именно в тех, кто более всех противился их звуку, кто был устроен иначе, был выше, чище, светлее.
Он знал, что уничтожал всех, кого считал для себя опасными. Он знал, что уничтожал невиновных. Но на их просьбах о помиловании или рассмотрении их дел он и его подельники писали матерную брань…
Он был инициатором самых страшных законов. Он подписывал расстрельные списки самых известных и значимых людей в партии и в стране. (Без его подписи таких людей не расстреливали). Многие списки он составлял сам.
У него не было друзей и оппонентов. (Иначе и не могло быть). У него были враги, реальные или потенциальные. Как сказал Троцкий, «Сталин стремится ударить своего оппонента не по его идее, а по черепу». Сталин не полемизировал со своими противниками. Он находил их слабые места и бил топором, обухом, ножом — так, чтобы противник не встал, не оправился от удара. Позже, в нужный момент он уничтожал его физически.
С «братом Кировым» за два дня до того, как он его уничтожил, он вместе смотрел в Художественном театре свой любимый спектакль «Дни Турбинных».
Нередко очередной жертве накануне ареста он звонил по телефону и весело «дружески» болтал. Он изобретал экзотические способы арестов: в ресторане, в поезде, в театре, после спектакля, в застолье. Он убивал человека — потом, склонив голову, нес его гроб и разыгрывал над гробом глубокую скорбь… (Он любил мертвых, тихих, безопасных. Он был некрофил).
Он работал неустанно: создавал «узоры», хитросплетения своих сценариев мести и расправ. Обычно он работал ночью: это время активности князя Тьмы… Ночью он вызывал с докладами. Ночью шли допросы и пытки… Его огромная внутренняя энергия, снедающий дьявольский огонь; непрерывно бодрствовавшая, не знавшая покоя мрачная темная дьявольская жизнь анти-души непрерывно бурлила в нем.
Мне вспоминается одно стихотворение, которое я не раз слышала в детстве — помню только его смысл: ночь, погашены огни, спит страна спокойным сном, но есть одно окно — в Кремле — в нем свет. Там не спит великий человек, Учитель и Отец — он думает о своей стране, о своем народе, о том, как сделать страну сильной, а народ счастливым.
И теперь мне видится это окно в Кремле. Этому человеку, действительно, не до сна. Он ходит неслышно, дымит трубкой, — наверное, страшны его глаза: он плетет сеть интриг, обрывает недостаточно прочные нити (до поры!), вплетает новые, увязывает со старыми, смотрит вдаль, злобно улыбается в усы, предвкушает… В паутине жалко, исступленно бьются жертвы, затихают… навек. Кровь, кровь, кровь.
Идут годы. Долгие годы. Бесконечная паутина. Реки крови. Немеряное горе в огромной стране…
Своих подельников он уничтожал — всех, мелких и крупных, рано или поздно.
Об Ягоду, об Ежова он вытер свои окровавленные руки, обвинил их во всех зверствах и перегибах, бросил их на растерзание «Органам» и вышел из кровавой вакханалии, которую он устроил, «весь в белом». (В его «ведомстве» не было самодеятельности — все делалось под его неусыпным контролем и по его инициативе).
Чем больше знал «подельник», тем более жестоко в нужный момент его уничтожали.
Он уничтожил и своих друзей, и свою родню. Он не мог оставить их в живых: рано или поздно они вопросительно взглянули бы ему в глаза.
Уничтожая партию, кадры в республиках, он особенно тщательно «чистил» Грузию, потому что Грузия его знала.
Роберт Конквест пишет [68]: «Когда следователь пытался выудить у Мдивани (Мдивани — старый большевик, бывший председатель Совнаркома Грузии) признания, он сказал: «Вы меня уверяете, что Сталин обещал сохранить жизнь старым большевикам! Я знаю Сталина 30 лет. Сталин не успокоится, пока всех нас не перережет, начиная со своего не признанного ребенка и кончая своей слепой прабабушкой.»
Он окружил себя подонками. В его ближайшем окружении все были неучи или недоучки, кроме Маленкова. Он ненавидел их, как и они его, не доверял им и держал их на коротком поводке: у всех у них были арестованы жены или ближайшие родственники, и все они были его заложниками. Его секретарь Поскребышев, который постоянно дежурил под его дверью, — без его ведома никто и ничто не попадало в кабинет к Сталину, — рассказывает: Сталин выливал чернила на стол, возил по этой чернильной луже физиономию Поскребышева, а потом, насладившись, брезгливо говорил: «Пошел вон, свинья!»
Сталин запоминал навсегда каждое слово, каждое мнение, расходившееся с его мнением, даже молчаливое несогласие. Мстил иногда через несколько, через много лет, но мстил ОБЯЗАТЕЛЬНО и ЖЕСТОКО. Чаще всего — уничтожал.
Неистовость его злобы и мстительности демонстрирует история его отношений с Троцким.
Ленин в своем «завещании» противопоставил Троцкого Сталину и предложил ЦК заменить Сталина на посту Генерального секретаря Троцким. Этим он сразу подписал Троцкому смертный приговор. Троцкий мог быть избран, но он отказался, предложив оставить на этом посту Сталина. (Правда, если бы он был избран, он неизбежно скоро попал бы в автомобильную катастрофу или провалился сквозь землю…) С этого момента началась бешеная травля Троцкого. В 1927 году Троцкий был выслан из СССР.
Все, что Сталин так неистово уничтожал в стране, он называл его именем. Всех «политических» судили по бесконечно емкой 58-й статье. Они практически все были смертники. КРД — контр-революционная деятельность; КРА — контр-революционная агитация; КРТД — контр-революционная троцкистская деятельность — эти были непременные смертники. Буква «Т» — как девять граммов в сердце…
Охота на Троцкого началась за рубежом. Сталин организовал на него 7 покушений. Эта охота продолжалась много лет. После ряда неудач «планирование убийства Троцкого было поручено многолюдному штабу в Москве, где все было разработано до мельчайших подробностей. В здании НКВД на улице Дзержинского, 2 этот штаб и особое досье Троцкого занимали 3 этажа» [69].
В охоте на Троцкого, в покушениях на него были задействованы, прямо или косвенно, сотни людей, сотрудники НКВД, явные и тайные, и люди, не имеющие к этому никакого отношения. Сталин держал это под личным контролем и проявил в этом деле сверхчеловеческую изобретательность, упорство и злобу. Он оказывал давление на правительства и руководство компартий тех стран, где находил убежище Троцкий. Если руководство компартии не проявляло восторга по поводу его планов, он добивался смены такого руководства.
7-е покушение оказалось успешным. Троцкий был убит в Мексике 20-го августа 1940 года сыном испанской коммунистки. Он нанес Троцкому в его собственном доме смертельный удар ледорубом по голове. 21-го августа Троцкий скончался.
Кремль ликовал! Исчезла, наконец, личность, вечной тенью нависавшая над Сталиным, отпустила долгие годы давившая злоба неосуществленной мести.
Убийца Рамон Меркадер получил Героя Советского Союза, право жить в СССР со всеми почестями и привилегиями. Уничтожена была вся семья Троцкого, вся его родня, даже няня его внука.
Сталин залил страну кровью, сковал ее смертельным страхом: человек с пистолетом у виска парализован, послушен любой воле. Пока Сталин царствовал, все затихло, затаилось, замерло. Кричало только то, что славило его, его мудрую политику, «успехи» строительства социализма под его великим руководством. Активным было только холуйство и фальшивый праздник счастливой жизни.
Но в этой скованной страхом стране самым большим ТРУСОМ БЫЛ ОН САМ. Тираны, бандиты, разбойники, как правило, трусы. («Кто многим страшен, тот должен многих бояться»). Они нападают только, когда риск минимален, а крупные «людоеды» никогда не нападают сами: за них «охотятся» другие.
В той крови, которой он залил страну в перманентном и Большом Терроре его правления он рук не замарал. Он был в «белом». Но он знал масштаб своих злодейств. Он внутренне дрожал всегда. Он дрожал так, как не дрожала залитая кровью, скованная страхом, смятая им страна. Он никогда не принимался за еду, пока ее у него на глазах не пробовал сам повар или Поскребышев. Когда он выходил гулять в собственный сад, за каждым кустом сада прятался охранник. (Начальником его охраны был Паукер — парикмахер и брадобрей Будапештской оперы. — Он его тоже расстрелял. В нужный момент.) Он не верил НИКОМУ.
(Вот эпизод с бронированным лимузином, сконструированным и собранным специально для него особым конструкторским бюро. — 7,5 тонн стали, гагачий пух в сиденьях, хромовая кожа и полная защищенность. При въезде в Кремль машина, которую 5 ее создателей привезли (все они были внутри) неожиданно была расстреляна из автоматов — такая была проведена проверка…
Когда он ехал на Ближнюю дачу (в Москве), его путь охраняли более трех тысяч агентов и автомобильные патрули [70].
Если он ехал отдыхать на юг, в этом направлении одновременно шло несколько поездов, и никто не знал, в котором из них едет он.
Он никогда не купался в открытом море. У него под землей было искусственное море, искусственный пляж, искусственное солнце. Он прятался в сатанинском своем подземелье. Надо полагать, в СССР существовала, — была создана в сталинские времена, — огромная и сложная подземная империя на все случаи жизни…
Он не жил — он существовал в угаре своих злодеяний и в страхе возмездия. Он и в кругу своих сатрапов не чувствовал себя спокойно: удавка на шее каждого из них давала ему какие-то гарантии безопасности.
Во время ВОВ, когда немцы стояли под Москвой, он, надругавшийся грязно и разрушительно над верой и Церковью, приказал (или разрешил) облететь Москву самолету с иконой Казанской Божьей Матери на борту. [71].
Он никогда не выезжал за рубеж. Только 2-я Мировая война вынудила его дважды выползти за «железный занавес».
На Тегеранскую встречу в 1943 году и Черчилль, и Рузвельт приехали открыто. Их встречали и сопровождали по городу толпы людей. Но как в Тегеран попал Сталин, покрыто абсолютной тайной. (Где-то когда-то (не помню, где) я прочла, что его привезли в Тегеран в сундуке. Наверное, это чепуха, но, вероятно, что-то похожее имело место).
А вот как была обставлена его поездка на Потсдамскую Конференцию в 1945 году. Описывает Дм. Волкогонов: «Десятки тысяч человек были подключены к операции по доставке и жизнеобеспечению вождя. За две недели до поездки на стол Генералиссимусу положили документ, который нельзя переоценить для понимания отношения Сталина к собственной персоне. Вот он:
«Тов. Сталину И. В.
Тов. Молотову В. М.
НКВД СССР докладывает об окончании подготовки мероприятий по подготовке приема и размещения предстоящей конференции. Подготовлено 62 виллы (10000 кв м и один двухэтажный особняк для товарища Сталина (15 комнат, открытая веранда, мансарда,400 кв метров). Особняк всем обеспечен, есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки. Созданы 3 подсобных хозяйства в 7 километрах от Потсдама с животными и птицефермами, овощными базами, работает 2 хлебопекарни. Весь персонал из Москвы. Наготове два спецаэродрома. Для охраны доставлены 7 полков войск НКВД и 1500 человек оперативного состава. Организована охрана в 3 кольца. Начальник охраны особняка — генерал–лейтенант Власик. Охрана места конференции — Круглов.
Подготовлен специальный поезд. Маршрут длиной в 1923 км (по СССР — 1095, Польше — 594, Германии — 234). Обеспечивают безопасность пути 17 тысяч войск НКВД, 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии следования будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД.
Для Молотова подготовлено двухэтажное здание (11 комнат). Для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков.
2 июля 1945 года. Л. Берия.» [72].
Комментарии излишни. И ведь это через 1,5 месяца после окончания страшнейшей войны: страна, истекшая кровью, в руинах, нищете, голоде, вдовстве, сиротстве… А жить — то как научились благодетели трудового человечества, строители светлого будущего! И народ научили жить: в нищете, полуголодными, полуодетыми, в хижинах, бараках, коммуналках, клоповниках, а лучших — в «М. Зоне» умирать на каторге. И всех — за колючей проволокой, за «железным занавесом». (История таких прецедентов совершенствования общества не знала и, будем надеяться, не узнает…)
Этот животный страх превращал его подозрительность, его «чувствительность» в «сверхчувствительность». Он зверел, искал новых пыток, увеличивал сроки, требовал новых арестов. Чем больше боялся, тем больше сажал; чем больше сажал, тем больше боялся.
Царь Ирод убивал и заливал грех алкоголем, напиваясь до бесчувствия. Иван Грозный убивал, а потом разбивал лоб в покаянных молитвах, пил, бесчинствовал, юродствовал. Возможно, это были уродливые пляски больной совести. Сталин не пил: его не мучила совесть. Совесть — Божественное начало в человеке. У сатанистов ее нет. Он трясся и зверел…
(В «Записках из мертвого дома» Достоевский пишет: «Тиранство есть привычка… оно развивается, наконец, в болезнь… ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН ГИБНУТ В ТИРАНЕ НАВСЕГДА. И возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен» [73]. (Курсив мой).)
Он не колебался и не комплексовал — он твердо совершал ошибки и преступления. Расплачивались за них — другие…
Даже в его любви к искусству было что-то садистское. Он любил «Дни Турбинных». По тогдашним временам, да и вообще, спектакль совсем не советский, если не сказать анти-советский. Его снимали со сцены, возвращали вновь, потому что его любил Сталин. Это спектакль о том, как погибала Белая армия, как рушилась старая жизнь, старый стиль отношений, благородство, красота.
Он мог испытывать сладострастное торжество, как победитель: они, эти ненавистные старые интеллигентишки вытравлены из этой жизни, как тараканы. Их нет… Симпатию у него вызывать они никак не могли — только злобу. Да и испытывал ли он симпатию к кому-либо?! (А спектакль он смотрел 7 раз…)
Он любил фильм «Кубанские казаки». Он знал, что казачество уничтожено особенно тщательно и беспощадно. Что, он совсем не знал, как живет колхозная деревня? — Тогда грош ему цена — этому Отцу, Родному и Мудрому! Что он не знал, что у колхозника, так же, как у еще свободного крестьянина во времена продразверстки, отнимают практически все зерно (а на посевную государство хранит зерно в своих закромах)? Деревня бедствовала и вымирала по его вине. Он смотрел этот фильм много раз! Как и «дни Турбинных»! Есть в этом несомненно дух некрофильства…
Удавку страха на своей шее Сталин пытался ослабить двумя способами: усиливая террор и стимулируя идолопоклонство. Идолопоклонство должно было быть столь мощным, чтобы забивать, заглушать стоны, расслаблять напряжение, бедствия насилуемой страны. И он не жалел на это средств. Как и не жалел усилий и злобы на террор и подавление.
Художники, которые рисовали его портреты, создавали его бюсты и скульптуры; писатели, поэты, композиторы, которые писали о нем книги, стихи, поэмы, песни, оратории, — получали право вступать в свои Союзы, занимать там почетные и руководящие места, получали квартиры, дачи, привилегии. Кинорежиссеры и режиссеры театров, которые создавали о нем фильмы и спектакли, имели те же почести, «зеленую улицу» своим творениям и государственные заказы. Наиболее «заслуженные» получали Ленинские и Сталинские премии, ордена и медали.
И «творческая» братия не жалела сил. Те, кто этого не делал, были гонимы в Союзах (если они там состояли), не имели права печататься, выставляться, не имели доступа к киноэкранам и театральным сценам. Они бедствовали, рисовали для чердаков, писали «в стол», работали дворниками и сторожами — в лучшем случае, в худшем — отправлялись в ГУЛАГ…
И не было в огромной стране ни одного производственного помещения: комнаты, цеха, аудитории, класса — на заводах и фабриках, учреждениях, институтах и школах, детских садах и яслях, сапожных артелях и гаражах, где не висел бы «его» портрет. Не было города, городка, поселка, где на каждой площади, в самом маленьком сквере, перед зданием школы или института не стоял бы его бюст или памятник. Массовыми тиражами выходили песенники с песнями о нем. По радио они звучали постоянно. Любой концерт — на большой, на малой сцене, на школьном утреннике начинался с песни о нем. Ему выкладывали, писали цветами, камнями, красками «славу!» вдоль железных и автомобильных дорог, каналов, на склонах гор.
Не видела, но слышала, что на Волго-Донском канале стояла его статуя, которая могла бы поспорить (а может быть, и превосходила его) с Колоссом Родосским — одним из семи чудес света.
(И все же лавры Гитлера, наверное, не давали ему покоя. Надо полагать, он видел фильмы Лени Рифеншталь. Несмотря на все наши парады и аллилуйю, такого «триумфа воли» он продемонстрировать не мог, такого монолита народного подчинения: в российской толпе всегда найдутся зеваки, любопытные, лукавые и «гнилые интеллигентишки», которые нарушат «стройность рядов» и фанатическую строгость «лица» всенародного.)
Все газеты и журналы были полны его портретами. (В советские времена не существовало туалетной бумаги. Вместо нее трудовой народ употреблял газеты. И ретивый сексот всегда мог сообщить в соответствующую инстанцию, что его сосед использовал в постыдных целях газету с портретом Вождя. В качестве поощрения мог даже получить за это его комнату… (Такие случаи бывали).
После окончания ВОВ прошла большая серия фильмов о войне, о том, как Великий и Мудрый ковал нашу победу. Кажется, в фильме «Падение Берлина» он прилетает в Берлин, выходит из самолета в белом кителе Генералиссимуса, и победоносное советское воинство в экстазе приветствует своего «полководца» — Он никогда там не был! И армия, и народ это знали, но кадры эти вырезаны не были…
Ни одно собрание: в Академии Наук, в сапожной артели, на большом заводе или в пионерском отряде не проходили без здравиц в его честь. Его именем открывали, его именем закрывали собрание. Всякое упоминание его имени сопровождалось аплодисментами. В больших аудиториях и залах это обычно были «бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, все встают» …Большие собрания и эти «спектакли» имели своих дирижеров. Люди не знали, когда можно прекратить отбивать ладони (и боялись это сделать, потому что всюду были соглядатаи) и продолжали хлопать, пока «дирижеры» не давали отбой…
Каждый доклад, на научной конференции или на уроке в школе, начинался со ссылки на его труды и цитат из них, в лучшем случае — из трудов классиков марксизма-ленинизма. Почти все научные открытия, во всех областях науки, «уходили корнями» в русскую почву. (Интеллигенция определяла это кратко: «Россия — родина слонов»).
Он сам угорел в чаду раздуваемой им собственной славы. Он стал писать «научные» труды в разных областях знания, внедрять в них марксистско-ленинскую теорию, диктовать, «вычищать» и уродовать фундаментальные науки. Он писал уже не только историю партии, «экономические проблемы социализма», проблемы языкознания, но внедрялся со своими псевдонаучными идеологизированными представлениями и «вырезал» (вместе с людьми) целые разделы наук: генетику, кибернетику; курочил, рубил историю вместе с головами ученых. И цитировать уже нужно было его не только как классика марксизма-ленинизма, но и как главного теоретика чуть ли не во всех областях познания. Он отбросил во многих областях нашу науку на 30 — 50 лет назад
В 1949 году Советский Союз (полагаю, что весь коммунистический мир — по его тайному настоянию) долго, широко, бурно праздновал его 70-летие (он родился 21 декабря — в самый короткий день!). Средства массовой информации как будто взбесились или вскипели. Все газеты и журналы (и «Пионерская правда», и, наверное, «Мурзилка») ежедневно печатали его портреты, фотографии и рисованные картины обо всех событиях этой «великой жизни». Они ежедневно печатали поздравительные телеграммы и письма изо всех уголков и закоулков страны и мира. Поток приветствий начался за год до «великой даты» и продолжался еще 3 года после, до последних дней его жизни. Кроме телеграмм и писем шел поток подарков. Под выставку подарков, присланных и непрерывно поступающих, был отдан Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина — весь мир должен был видеть, как народ (и весь прокоммунистический мир) любит своего Вождя! И народ шел на выставку нескончаемой вереницей. От обилия и разнообразия экспонатов притуплялось восприятие, начинала болеть голова.
Подарки из стран социалистических и капиталистических, со всех материков и частей света, от стран и производственных объединений, учреждений и научно-исследовательских институтов, артелей, заводов, школ, от вышивальщиц, оружейников, ювелиров — кинжалы, шпаги и кортики, столовые и чайные приборы и сервизы, расшитые костюмы, ковры, макеты городов, заводов, шахт, паровозов, пароходов, танков и самолетов, Кремля, Кремлевских башен; город из сахара, Спасская башня из чего-то конфетного; портреты рисованные, вышитые, мозаичные; письмо из 60 слов на рисовом зерне, изделия из слоновой кости, стали, фарфора — всего не перечислить.
Все это свидетельство того, что Сталин не зря трудился: угар идолопоклонства едок и ядовит: он разъедает барьеры внутреннего сопротивления интеллекта и сердца, границы государств и идеологические барьеры и отравляет не только слабых, но и достаточно сильных, если они не защищены знаниями, информацией, нравственной устойчивостью.
В Сталине было сатанинское не только в его злодеяниях, но и в его воздействии на людей.
Невысокий, некрасивый, с рябым лицом. он не зажигал речью: говорил с сильным акцентом, примитивными рублеными фразами.
Почему люди входили в экстаз при виде его?
Вот рассказ одного из делегатов 18-го Съезда партии: «В момент, когда я увидел нашего любимого отца, я потерял сознание. Долго гремело, не смолкая, „ура!“, и, очевидно, шум зала привел меня в чувство.» [74].
Подобное воздействие на них описывают К. Чуковский и Б. Пастернак. Мы знаем, какое впечатление он производил на Черчилля, который, несомненно, знал ему цену, хотя всего, конечно, знать не мог: Сталин умел прятать свои дела.
Мы знаем обаяние святости, святых российских старцев. А это что за феномен? — Обаяние сатаны, гипноз или воздействие ежедневной, непрерывной, с утра до ночи, годами, десятилетиями долбежки, славословий, песнопений, здравиц, которые он направлял и контролировал.
Что это — физика, метафизика, психология, гипноз или явление сатанинства?!
Он умел романтиков превращать в палачей, а вчерашних революционеров, ослепленных желтым светом его ядовитых глаз — в дрожащих кроликов.
Он хорошо знал темную подноготную человека, но играть умел и на темных, и на светлых сторонах человеческой натуры.
Все, кого он приглашал в СССР: Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Эмиль Людвиг, Анри Барбюс, Ромэн Роллан, Лион Фейхтвангер — все были очарованы им. (Нерон тоже был актер, и Иван Грозный, и Гитлер…)
Фейхтвангеру он подарил Инкунабулы — бесценные древние книги. Анри Барбюса на юбилейном заседании, посвященном Горькому, он посадил на свое место, сам спустился в зал и устроил ему овацию…
То, что, вернувшись домой написали о нем эти умные, знаменитые люди, чрезвычайно далеко от истины и даже противно ей. Они написали так, как надо было ему…
Что же удивляться тому, что то, что надо было ему, писали, изощряясь, советские писатели?
Летом 1933 года, «по инициативе» Горького, 120 писателей со всего Советского Союза совершили экскурсионную прогулку по только что законченному Беломорско-Балтийскому каналу им. Сталина. «Нанятые» писатели не покидали борт парохода. Не слышали стонов и проклятий умирающих. Они увидели и восславили в рабском труде «пафос созидания», «геройство и энтузиазм» в лживой лицемерной книге «Канал им. Сталина». Этот ненужный, заброшенный канал построен на костях цвета российской интеллигенции, ценой мучительной гибели 700 тысяч человек.
Вот как величие Сталина объясняет Михаил Капустин: К. Симонов, хорошо знавший Сталина и оставивший посмертно опубликованную своего рода летопись, вкратце определил его так: «Велик, но страшен». Объяснить подобное восприятие личности можно следующим образом: велик, потому что сверхстрашен… Таинственная бездна, заполненная, используя гоголевское определение, «страхами и ужасами России», в необозримом количестве на всем ее громадном пространстве маячит за его по-диктаторски мелкой фигурой, с узкими плечами, рябым невыразительным лицом, узким лбом и желтыми глазами. И вот она-то — бездна! и вызывает безмерный ужас. [75].
Наверное, этим ужасом, изгнанным из сознания в подсознание, объясняется гипноз его личности, обмороки и слезы восторга. В сознание было вколочено поклонение и страх, а из подсознания вставал темный туман «обаяния» власти и ужаса. Многие пишут, что от него исходило магнетическое излучение (сатанинское?).
Масштаб и успехи его преступлений поражают. Это под силу только «черному гению». Но «гений и злодейство — две вещи несовместные». Это утверждение, по-видимому, абсолютное. Исключения, «но» — не существуют. Если поверхностное знание обнаруживает «но», более глубокий анализ его уничтожает. — Все, что требовало не хитрости, не игры на пороках и слабостях человеческой натуры, а требовало ума, мудрости, знаний, он проигрывал (или за него выигрывали другие). Он умел строить только НА КРОВИ. Все, что казалось или приписывалось ему как успехи, выигрыши, было ИСТОРИЧЕСКИМИ ПРОВАЛАМИ.
Его злодеяния так страшны и беспрецедентны, что не имеют определяющих терминов в человеческом языке. Слова «тиран», «кровавый», «палач», «людоед» настолько невыразительны, что кажется, более соответствуют термины «отец родной» или просто «СТАЛИН» … СТАЛИНИЗМ.
Сталин — крестьянство
Трудно сказать, какое из самых масштабных преступлений Сталина страшнее: уничтожение интеллекта страны; обезглавливание, разоружение и расформирование армии в условиях реальной угрозы близкой большой войны или коллективизация. Одно страшнее другого, и по масштабам, и по последствиям. Каждое из этих преступлений рассматривается в соответствующих главах. В этой главе — вопрос о российском крестьянстве.
Уничтоженный носитель интеллекта оставляет на земле след в виде книг, мыслей, учеников (если, конечно, успел). Эти зерна прорастают, рано или поздно. Есть незаменимые, неповторимые, и их уничтожение оставляет пустоты в сферах науки и искусства, которые заполняются нескоро, может быть, и никогда. Если выбивать интеллект долго и прицельно, можно оказаться в духовной пустыне, в пещерах, в шкурах.
Благодаря просчетам и преступлениям «гениального полководца» Сталина страна потеряла в ВОВ около 50 миллионов человек и подверглась невиданной разрухе. Она не вернула погибших, она не сделала здоровыми десятки, сотни тысяч калек. Но она очень быстро восстала из пепла — так велика была жажда израненной, измученной, но не убитой страны снова начать жить.
И выжившие в страшных битвах, и выдержавшие напряжение тыла, отдававшие в годы войны все силы фронту, и вдовы, и сироты в условиях голода и послевоенной разрухи с российским энтузиазмом, героизмом и бескорыстием, закатав рукава своих рваных рубах, взялись поднимать страну из руин. И подняли. Без помощи извне. Подняли достаточно быстро.
С коллективизацией крестьянства дело оказалось хуже.
И в случае с уничтожением интеллигенции, и с кровавой победой в войне, независимо от воли «гениального» Вождя, оставались живые ростки. Коллективизация, проведенная с невиданным зверством и безмозглостью — чисто по-сталински, не оставила живых ростков и почвы для их выживания, и великое крестьянство России, ее кормилец, ее становой хребет. 84% населения Российской империи перестало существовать как значимое явление российской экономики и общественной жизни. Осталось как больной призрак.
Эта катастрофа — результат отношения большевистского государства к крестьянству, его идеологии и личного отношения к крестьянской проблеме Сталина, проводившего коллективизацию и руководившего ею. (Ведь не зря именно ему приписывают коллективизацию как одну из его великих побед!)
Революция в России была пролетарской. Пролетариат — это те, кому «нечего терять в борьбе», это революция не умелых и деятельных, но лишенных прав, а не умеющих и не имеющих. В эту революцию рванул мощной волной разнородный люмпен и уголовный мир, привлеченный лозунгом «кто был никем, тот станет всем». Временное правительство (Керенский) очень «вовремя» выпустило из тюрем всех уголовников, которые азартно влились в революционный разбой.
Но удержать власть силами незрелого и еще не очень многочисленного пролетариата и силами уголовного мира было невозможно. Необходимо было призвать в ряды революционной армии крестьянство, составлявшее основную массу российского населения.
Момент был подходящий: значительная часть крестьян находилась под ружьем. Крестьяне, оторванные от своих хозяйств, уставшие гнить в окопах в долгой позиционной войне, активно откликнулись на большевистский лозунг «Мир народам!», безземельные крестьяне — на лозунг «Земля — крестьянам!». Крестьянин пошел в революцию. Революцию называли и рабоче — крестьянской.
В 1918 году был действительно, передел части российских сельскохозяйственных земель, и крестьяне получили земельные наделы «подушно». Но революция от этого не стала крестьянской. Через 10 лет эти земли были у крестьян отобраны, а те, кто показал, что умеют на ней хозяйствовать, были уничтожены. Пролетарской революции был чужд «мелкобуржуазный» крестьянский дух…
Как только большевики закрепились во власти, начался поход против крестьянства.
Прежде всего было уничтожено православие — нравственный хребет народа, центральный стержень деревни.
Разоренная страна голодала. Стране, городу нужен был хлеб. Но никакие экономические механизмы, которые регулировали бы отношения между городом и деревней, созданы не были. Большевики знали один, но безотказный метод — НАСИЛИЕ. Началось насильственное изъятие хлеба у крестьян, оно было названо продразверсткой.
(Можно сколько угодно говорить о рабской душе российского народа, а это прежде всего о российском крестьянстве, но ретивые политики, историки и просто любители поболтать о русском менталитете должны помнить: российское крестьянство не сдалось — оно просто погибло в этой борьбе. Борьба с крестьянством была долгой, упорной и чрезвычайно жестокой. Это был наиболее глубокий корень России, и он был вырван… — Как там у древних греков: «Мы тут погибли все…»).
Изъятие хлеба у крестьянства проводилось, главным образом, силами ВЧК и их методами. У крестьян насильственно изымалось практически все зерно. Крестьянину оставалось зерно только на посев и на то, чтобы его семья не умерла с голоду. Естественно, крестьянин, собственным тяжелым трудом вырастивший этот хлеб, не мог мириться с тем, что семья его должна была голодать. Нарастало ожесточение обеих сторон. Крестьяне прятали хлеб, иногда сжигали. Чекисты отбирали — все! Крестьяне бежали в леса, примыкали к «зеленым».
1919 — 1922 годы — это массовые бунты и восстания, подавляемые самыми жестокими методами. Особенным упорством и жестокостью подавления прославились восстания крестьян на Тамбовщине под предводительством Антонова. Против них были брошены части Красной Армии (в том числе артиллерия и танки), которыми командовал Тухачевский, талантливый и самый образованный в Красной Армии военспец, будущий Маршал, расстрелянный Сталиным вместе со всей верхушкой Красной Армии в 1937 году.
Крестьян травили газами, расстреливали целыми семьями и деревнями, использовали подлейшие методы заложничества и предательства. (Ирония истории: в 1917 году тамбовские крестьяне громили помещичьи усадьбы, гнезда усадебной русской культуры, а в 1921-ом те, кто позвал их на этот бунт, травили и выбивали их газами, танками и бомбами).
(Несмотря на зверские методы подавления, сопротивление крестьян в некоторых областях продолжалось вплоть до 1941 года).
Крестьянин не поддавался. Хлеба в стране не было. Голод нарастал. Ленин ввел НЭП. Через 2 года голод ушел. Но власть давила налогами. Хлеба стране нехватало. (Его нехватало Советскому Союзу всегда, до самого падения советской власти).
1927 — 28 — 29-й годы — повышение поборов, налогов, высылки, аресты, расстрелы, раскулачивание. Коллективизация. 1932—33 годы — голодомор.
В крестьянских проблемах Сталин искал механизмы борьбы не только с сопротивляющейся деревней, но и с оппозицией в партии и беспокойством в обществе. Оценивал силы сопротивления, отрабатывал способы их разобщения и возможности их уничтожения и самоуничтожения.
«Устранение политических противников, обвиняемых в правом уклоне, и экономистов — кооперативщиков, чье учение было отнесено к взглядам буржуазного толка. Внедрение в массы рабочего класса идеи обязательности скорой коллективизации и нагнетание в городах и селах финансово-товарной напряженности через политику цен, пресловутые „ножницы“, систематическое искусственное обострение отношений между бедной и зажиточной частями крестьянства, поддержка левацких настроений в деревне. Вот почему зимой 1930 года жестокому процессу, в который вылилась сплошная коллективизация, сопротивлялась только кулацко-середняцкая часть крестьянства, т.е. жертвы. Рабочий класс, интеллигенция, рабоче-крестьянская Красная Армия, пресса, партия не возмутились массовыми преступлениями, нарушением законности, пренебрежением коренными интересами десятков миллионов людей. Посчитали, что так должно быть. А вслед за этим общество смирилось с выселением на Север, с преданием забвению трагедий коллективизации, с игнорированием массового голода среди крестьян в 1932—33 годах.» [76].
(Один из неизменных сталинских методов борьбы: разъединение, противопоставление, натравливание. В борьбе с крестьянством он его использовал в полной мере, расслоив, разрушив историческое единство крестьянской общины.)
Как могла коллективизация проходить так, как она проходила: как смерч, который не только корежил души людей, уничтожал их физически, но уничтожал материальную базу будущих колхозов — достояние (теперь уже) государства — той святыни, во имя которой чинилось любое злодеяние, которой приносилось в жертву все, безоговорочно, безапелляционно.
В какой стране могли бы сгонять скот под открытое небо, на плац, на прямую погибель? Пусть обезумевшие крестьяне, сознавая свой смертный час, конец света, погибель, гнали своих кормильцев и выкормышей в общий котел погибать в общем аду: кур, свиней, коров, лошадей, жеребят, телят, поросят — на холод, под дождь, на бескормицу. — Все равно конец света, крах… Но те, которые считали, что это не конец, а начало, те — жрецы светлого будущего человечества, строители новой колхозной жизни — как же они это делали столь разрушительным образом?!
Каждый, кто в деревне имел дело: кузнечное, кожевенное, столярное, маслобойку, мельницу — подлежал уничтожению вместе с их кузницами, мельницами, мастерскими. Что это: бескультурье, тупость, безмозглость, рабская покорность приказу, безразличие, бандитизм, идиотизм, бесконечный страх, садизм?
Вот письмо в редакцию газеты «Надднипрянська правда» в мае 1929 года. 60 лет оно хранилось в спецхране, нигде никогда не публиковалось. Рассекречено в 1990 году:
«Мы, иностранные моряки, представители Германской, Английской и Французской партий социал-демократов, — члены международной организации… Мы удостоверились в крайне бесправном состоянии и рабочего, и крестьянина в Советском Союзе… Мы убедились, каким насилиям и преследованиям подвергаются и религия, и все без исключения слои населения. Мы встречали бродящих в степи (в жестокую стужу среди зимы) обезумевших крестьян, разоренных и выгнанных из своих лачуг. Некоторые из них, как дикие звери, целыми семьями живут в вырытых норах, пещерах… Мы с ужасом внимали их кошмарным рассказам, до чего довела страну советская власть…
Мы увозим с собой советские газеты с десятками публикаций, где дети отрекаются от отцов своих, отцы от детей, священнослужители богохульствуют, снимают с себя саны, лишь бы дети их не были гонимы и не умерли с голоду…
Из бывших хлебных амбаров в степи за городом доносились плач и крики обезумевших крестьян… Мы узнали, что амбары набиты битком крестьянами, которых в стужу держат в нетопленных сараях, дети и женщины умирают от стужи и голода, мужиков расстреливают, отводя на несколько саженей от амбаров. Мы лично видели разрытые голодными собаками ямы, из которых торчат обглоданные животными части наспех засыпанных землей трупов. Мы сделали несколько снимков, которые опубликуем с соответствующим пояснением в западной прессе… Мы глубоко убеждены, что под руководством компартии большевиков СССР обречен на загибель». (Секретная делегация для обследования районов Украины. Международная социал-демократическая организация Запада с иностранного судна).
А вот выписки из крестьянских листовок 1929 года:
«…пусть будет Петлюра, поляки, Англия. Царь, меньшевики, кто угодно, лишь бы не эти грабители.»
«…мы голые и босые, а у нас отбирают последний хлеб… Советская власть обдирает последнюю шкуру… Колхозы и совхозы не приносят никакой пользы… нам советская власть не нужна.»
«Коммуны нужно разгонять, мы нищие.»
«Сегодня историкам известно о 7976 массовых выступлениях против коллективизации только за период с января по март 1930 года. А вот в 1930 году ОГПУ зафиксировало 13755 массовых выступлений в деревне, в них приняло участие почти 2,5 миллиона человек. В ряде случаев крестьяне организовывали вооруженные отряды. 176 выступлений 1930 года, по данным ОГПУ, носило «повстанческий характер. Этим термином обозначались широкомасштабные организованные восстания, которые охватывали порой целые районы и приводили к свержению там советской власти. В результате на места была послана директива о смягчении курса, где признавалось, что над режимом нависла угроза «широкой волны повстанческих выступлений» и «уничтожения половины состава низовых работников».
«…На сопротивление крестьян Сталин ответил статьей „Головокружение от успехов“, замедлением темпов коллективизации, возвращением к жизни закрытых храмов». [77].
(Он отступил, на время, — он еще им покажет!). Он обрек крестьян на вымирание, а страну на голод. Это был, как всегда его прямой просчет. Он мог переиграть. Его, как и во время войны, спас этот тупо, привычно героический народ, на протяжении веков своей истории гордо льющий, как водицу, свою кровь. Но никогда, даже во времена Чингиз-хана, он не лил ее так обильно, как в 20-ом веке.
Тупоумному, трусливому и кровожадному Идолу нужны были тупоумные, трусливые и кровожадные поклонники и служители. И он ковал их обухом тупоумных лозунгов в кроваво-удушливой атмосфере страха и лжи. Он извлекал их со дна бытия, увлекал их ядовито-сладостной приманкой справедливости и их руками душил, стрелял, истязал, обрекал на мучительную гибель тех, кто и был народ, его костяк, его суть, его цвет…
Молотов удовлетворенно вспоминал: «Коллективизацию мы НЕПЛОХО провели… Я сам лично разметил районы выселения кулаков. Выслали тысяч четыреста.» [78]. (Курс. мой).
Но Сталин гордо заявил в беседе с Черчиллем, что кулаков было уничтожено 10 миллионов.
Но почему, почему это можно было проделать с крестьянством ТАК?! Что причиной тому: бескультурье, вековое рабство и покорность или те невиданные кровавые формы насилия? — ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА. Но кто же были те, кто это делал?
(Банда Пол Пота в 500 человек, вооруженная камнями, заступами, ломами, в течение нескольких месяцев превратила в руины древнюю культурную страну, уничтожив или загнав в концлагеря почти половину ее населения (3 миллиона из 8)!)
Те, которые раскулачивали — это были представители сельской бедноты, партийный люмпен сталинского призыва, чаще молодежь, вооруженные не только пистолетами, но и кипучей «классовой» ненавистью к богатеям, носителям ненавистной буржуазной сущности, тормозящей приход светлого социалистического рая, равенства и братства.
Они безжалостно выбрасывали из домов хозяев, стариков и детей; без времени на сборы грузили их на подводы, а дальше — битком набитые вагоны для скота, зимой и летом, без питья и еды, без уборных, где живые лежали рядом с трупами, везли их в неведомые, в основном нежилые края, где большая часть из них была обречена на гибель. Их выбрасывали и летом и зимой, иногда прямо в снег, неодетых детишек и немощных стариков. Сопротивлявшихся расстреливали на месте, на глазах у всей семьи. — Как это представить, как измерить унижение, горе, боль?! Есть ли такие мерки? — А выселяли раскулаченных в самые тяжелые районы промышленного строительства: на лесозаготовки, добычу руды, каменоломни, торфоразработки. Не все выдерживали такую работу. Некоторые стрелялись, другие — зверели…
(«В селе крик и больше ничего» — из частного письма солдата, вернувшегося из рядов Красной Армии в родную деревню в 1928 году. Листовка «Союза освобождения Украины» «Ко всем, всем!» — призывала к оружию: «Кто не хочет гибнуть с голода, тянуть большевистское ярмо и отрабатывать крепостное право, — к оружию! … Ни одного пуда хлеба большевикам!» [79].
По-видимому, в деревне, действительно, произошло несправедливое расслоение уже после раздачи земли крестьянам в 1918 году. Те, кто смог избежать участия в гражданских битвах, остался на земле и стал хозяйствовать и богатеть. А те, кто вернулся с войны, опаленные и искалеченные, застали свои хозяйства в разрухе и зачастую уже не могли догнать тех, кто ушел вперед. В худшем положении оказались семьи тех, кто отдал борьбе за справедливость здоровье или жизнь. Возможно, это в значительной степени определило жестокость раскулачивания, но, надо полагать, в значительно большей степени ее определило «классовое чутье», отточенное агитацией, СТАЛИНСКИМИ ТЕМПАМИ «перевоспитания» крестьянства и участие в этом процессе люмпен-уголовного элемента.
Только помрачением мозгов и души можно объяснить такую жестокость, надругательство над собственным народом, которое учинено было в «прославленной» кампании раскулачивания и коллективизации, заложенных в фундамент российского социализма.
Когда религия была вытравлена из душ и место христианского милосердия заняло «классовое чувство», в основе которого лежат зависть и ненависть, а не чувство справедливости, ибо последнее требует более высокой культуры души и ума, чем первые два, российский массовый разрушитель был создан и, вдохновляемый соблазнительными легкодоступными лозунгами и указующим перстом Вождя, приступил к делу. В процессе разрушения он пьянел от дыма и крови, зверел, как и его Правитель, и, в конечном итоге, этот НАРОД, озлобленный собственным разбоем, превратился в САМОУБИЙЦУ.
Подлые, беспощадные методы борьбы с народом ожесточали его, разлагали, ссучивали. Заложничество и предательство (а это надежно работает только под страхом смерти твоей или твоих родных и близких) — самое подлое, что можно было придумать вдобавок к массовым расстрелам, концлагерям, сжиганию деревень, отравлению газами, артиллерии, авиации и танкам. (В борьбе с крестьянством на разных этапах утверждения своей «правоты», большевики использовали все возможные в те времена методы войны.)
В Сибири, в этом богатейшем крае, были крепкие крестьянские хозяйства. Это были в основном активные переселенцы из России и Украины столыпинских и достолыпинских времен. Все эти хозяйства были разрушены большевиками, как кулацкие.
Из тех 15—20% вывезенных на таежные болота крестьян, которые сумели выжить в нечеловеческих условиях, некоторые сумели обжить нежилые земли и завести хозяйство. Они были раскулачены снова. (В августе 1931 года раскулаченные спецпереселенцы были переданы в ведение ОГПУ).
Но наиболее жестоко Сталин расправился с казачеством.
Казаки никогда не были рабами — наоборот, это было наиболее вольнолюбивое сословие. Его основали беглые люди, которые бежали от оков «крепостей», непосильных налогов и поборов, разбойничали и селились на далеких границах государства Московского, подальше от Центра, от возможной жестокой кары за побег, осваивали вольные земли, ставили свои хозяйства. Они создали свое самоуправление, свой твердый уклад и традиции и со временем стали самыми надежными защитниками российских рубежей, верными царю и Отечеству.
Во время революции, сбитые поначалу с толку новыми революционными веяниями, они скоро опомнились и повели упорную борьбу с большевиками. Значительная часть боровшихся вынужденно ушла за рубеж.
Точная статистика казачьей эмиграции отсутствует. Последний Донской атаман А. П. Богаевский в 1928 году заявлял, что за границей находится примерно3000 казаков всех казачьих войск, но назывались и другие цифры — 25000 одних донских казаков (еще раз к вопросу о достоверности цифр).
Оказавшись за рубежом, без денег, без знания языка, при отсутствии нужных профессий, страдая от безработицы, они стремились к объединению и взаимопомощи. Они создали множество казачьих станиц. В 1926 году официально зарегистрирован французскими властями Казачий союз, в который в 1928 году уже входило 100 станиц, хуторов и групп донских казаков в 18 странах мира. Правление стремилось объединить казачью массу «на том основном, что должно быть дорого каждому казаку: казачий быт, история, казачьи права и вольности, лучшие казачьи традиции, их уяснение и закрепление. [80].
Оставшиеся в России казаки были почти полностью уничтожены. Казачья автономия к концу Гражданской войны была упразднена, а казачьи земли заселялись переселенцами из других областей.
Во время коллективизации казаки подвергались самым зверским расправам. После того, как некоторые станицы восстали, последовали драконовские меры. Мятежные станицы бомбили и стирали с лица земли. Летчиков, которые отказывались сбрасывать бомбы, расстреливали на месте. (Расстрел — самый распространенный аргумент большевистской «правоты»). Некоторые станицы были окружены солдатами, мужское население уничтожено, а женщин, стариков и детей погрузили в эшелоны и отправили в лагеря. Иногда их загоняли в сараи и сжигали. Иногда выжигали целые станицы.
Исконные казачьи земли разделялись, передавались вновь образуемым автономным и национальным республикам. Уничтожались следы их существования.
(Но Сталину мало было этой расправы. Людоед должен был добить свою жертву.)
На Ялтинской конференции он потребовал возвращения эмигрантов, уже не являющихся гражданами Советского Союза. «Победитель» ставил условия союзникам. Запад уступил. Было репатриировано более 5 миллионов человек, в том числе более 70 тысяч казаков. Все репатриированные были частично расстреляны, остальные отправлены в лагеря, в лучшем случае — на поселение.
Казаки сопротивлялись отчаянно. Они вынужденно покинули родину, укрылись от железных кровавых лап в чужих землях, выжили, но «он» достал их. Не желая идти на погибель по «его» воле, они расстреливали свои семьи и кончали жизнь самоубийством, выбрасывались из машин, сбрасывались с мостов. У реки женщины бежали к реке с детьми и тонули в реке вместе с ними. (Наблюдавшие эту страшную картину англичане… смеялись… Европа!). Большинство из них было расстреляно сразу после пересечения советской границы. (Об этом уже говорилось в другой главе).
Роберт Конквест в книге «Жатва скорби» в главе «Судьба кулаков» пишет, что к моменту раскулачивания большинство кулаков уже были бедняками, и вся антикулацкая кампания затронула большие группы крестьян разного достатка. Раскулачиванию подлежали «подкулачники», т.е. люди, по определению, не имевшие статуса «кулаков», а все, кто имел самостоятельность и смелость мысли или действия за религию, за совесть, за соболезнование, за сопротивление разбою. (Ведь появилась же такая официальная формула «подкулачники»).
«Цель сталинского удара по крестьянству состояла в устранении естественных лидеров деревни в ее борьбе против подчинения коммунистам». [81].
Естественно, коммунистов среди крестьян поддерживать мог только люмпен, нетрудовое бедняцкое меньшинство. В такой огромной сельскохозяйственной стране, как Россия, строить казарменный уравнительный социализм сталинского типа было невозможно, оставив в тылу столь мощного потенциального врага. Россия могла пойти по сложному пути послереволюционного развития по социал-демократическому типу, развивая и совершенствуя механизмы, работавшие при НЭПе. Но это требовало демократического руководства и демократического общества, научных разработок, реформ, времени, быстрого роста культуры общества в целом. Все это было несовместимо с культом единоличной власти. Сталин рассчитал верно: чтобы диктаторски править этим народом, ему необходимо было сломать хребет. Социальную сущность крестьянства могли сломать только колхозы. Но в колхозы могли пойти только те, «кому нечего терять»… Кампания предполагала крупных уничтожить или вывезти, более мелких «ободрать», чтобы им тоже «нечего было терять».
Крестьянин, хозяин, сопротивлялся большевистской уравниловке, разбою, коллективизации. Несмотря на раскулачивание, расстрелы, ссылки, переселения зажиточной части крестьянства, оставшиеся середняки и бедняки тоже в колхоз не пошли, они резали скот, прятали и жгли хлеб, дробили хозяйства, но в колхоз не шли. Загнанные в колхозы силой, они не стали в них работать и сеять хлеб. Тогда был дан отбой. Коллективизация провалилась.
Сталин свалил в статье «Головокружение от успехов» (каких?!) вину на тех, кто по-большевистски, тупо и беспощадно выполнял его волю.
Крестьяне почувствовали себя победителями. Они вышли на поля, засеяли их и собрали хороший урожай. (Урожая на Украине хватило бы на 2 года). Тогда большевики отобрали у них урожай ВЕСЬ. Не оставив даже зерна на посев, обрекая их на голодную смерть. За утайку нескольких килограммов зерна — безапелляционный расстрел. У них был отобран скот, даже солома.
То, что последовало за этим, не поддается человеческому воображению. Сколько бы ни было об этом написано, правда была страшнее. (Когда провалилась продразверстка, Ленин ввел НЭП. Когда провалилась коллективизация, Сталин ввел голодомор (!)).
Раскулачивание, коллективизация проводились открыто, шумно, под крикливыми лозунгами. ГОЛОДОМОР БЫЛ ТАЙНЫМ.
Голодные села были «запечатаны» охраной. Тропы из них в города, в которых был хлеб, были перекрыты. О голоде не писалось в газетах, не упоминалось в докладах. Голодающим не должна была оказываться и не оказывалась помощь.
Собранный на Украине в 1932 году урожай не вместили элеваторы. Зерно гнило, прорастало, сваленное под открытым небом. За рубеж хлеб продавали по бросовым ценам. В 1932 (голодном) году СССР экспортировал 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.
Крестьяне умирали целыми деревнями. Мертвые лежали в избах вместе с живыми — выносить трупы было некому. Иногда крестьяне сами рыли себе могилы и сидели на краю, пока не падали в них. Мертвая мать лежала на земле, по ней ползали ее дети и сосали ее грудь… Нередки были случаи каннибализма. Дети ходили между трупами со вздувшимися животами, опухшими ногами и обтянутыми кожей черепами. Они были смертниками. Даже подобранные, они уже не могли быть спасены.
А отобранное зерно нередко стояло тут же, в амбарах, но амбары охранялись, и каждого, кто пытался к ним приблизиться, расстреливали. Станицы, деревни охранялись, пока в них все не вымирали.
Крестьянам нечего было терять, и они по ночам прорывались в города. По утрам их по улицам городов подбирали труповозки. Иногда матери прорывались к железнодорожным станциям, пытаясь подбросить своих детей в проходящие поезда. И вдоль железных дорог в голодающих районах: на Украине, на Северном Кавказе, в Поволжье, в Казахстане — лежали трупы.
Весной 1933 года только на Украине ежедневно умирало 25 тысяч человек. Всего на Украине во время голодомора погибло от четверти до трети населения.
(Россия пережила еще ранее страшный голод в Поволжье в 1921—22 годах. Никто не знает причин этого голода: в закромах государства было достаточно хлеба. Горький организовал Помгол (помощь голодающим). Помощь шла и из разных районов страны (помогала интеллигенция, более всего помогала недобитая Церковь), и из-за рубежа. Были собраны значительные средства. Помгол был запрещен. Из средств, собранных Помголом, в помощь голодающим было передано менее 3%. По разным подсчетам тогда в Поволжье умерло не менее 3 миллионов человек, по другим данным — около 5 миллионов.)
И казахов-кочевников большевики решили превратить в земледельцев (уничтожения российского крестьянства было недостаточно…). Согнали их с кочевьев на плодородные земли. Казахи уничтожали свой скот, сопротивлялись. Во время этой акции 25% казахов вымерло. Уничтожен был многовековой уклад целого народа. Земледельцев из них не получилось. Народ был изуродован.
А те, которые были выселены в нежилые места, повинуясь самому мощному инстинкту живого и силе духа человеческого, пытались выжить. Голыми руками, кирками и лопатами строили они зимой землянки, а летом дома — саманные, из дерна и глины, из сырого дерева — они потом рассыхались, становились непригодными для жизни в тайге и тундре. Строили доходяги и дети. Более старшие, сильные были на тяжелых работах по 12, а иногда и по 16 часов. Без одежды: то немногое, что смогли захватить с собой, быстро изнашивалось — в грязи, в стуже оно было и одеждой, и постелью. На ногах — плетеные лапти.
В 1931-32-33 годах голод царил во всей стране. В спецпоселениях голод был несовместим с жизнью. Дети умирали первыми. Потом старики пухли от голода или высыхали до костей. Умирали крепкие деревенские мужики, не выдерживая голода и тяжести работ. Хоронить мертвых часто было некому. У кого еще были силы, работали; женщины –доходяги и дети были не в силах, особенно зимой долбить мерзлоту. Хоронили кое-как, без креста, едва присыпав землей и камнями, часто не запоминая места…
Темные скупые слухи о страшном бедствии в Советской России просачивались на Запад. Общественность волновалась. Советская пропаганда активно развеивала эти слухи. Даже допускала делегации взволнованных в СССР. Им показывали «потемкинские деревни», водили по шикарным ресторанам, и они, умиротворенные, отправлялись во-свояси.
А на январском Пленуме ЦК 1933 года Сталин с гордостью говорил: партия добилась того, что в продолжение каких-нибудь ТРЕХ ЛЕТ она сумела организовать более 200 тысяч коллективных хозяйств и около 5 тысяч совхозов… Партия добилась того, что колхозы теперь объединяют более 60% крестьянских хозяйств с охватом свыше 70% всех крестьянских площадей, что означает ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ пятилетки в 3 РАЗА… Партия уже добилась того, что СССР уже преобразован из страны мелкокрестьянского хозяйства в страну самого крупного сельского хозяйства в мире. [82].
Для мало-мальски мыслящего ума было ясно, что это разбой, надругательство над крестьянином, что это уничтожение многовековой культуры сельского труженика, разгром крестьянской России. Но пустоголовые фанатики разрушения бурно, в экстазе отбивали ладони, аплодировали вождю, а разгромленная, надругательски разграбленная деревня вымирала от голода, не имея возможности, не смея крикнуть о своих муках, позвать на помощь своих торжествующих (и не торжествующих) соотечественников — никого, кроме поруганного Бога… (отвернувшегося от грешной страны).
Перевод сельского хозяйства на путь крупного обобществленного производства одномоментно (с ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ пятилетки в 3 РАЗА — как гордо!) силой, в надежде улучшить положение с хлебом, сельскохозяйственной продукцией могла планировать только шайка авантюристов, не имеющая ни малейшего понятия и не умеющая мало-мальски задумываться над проблемой: над вековыми устоями в обществе, над биологией и психологией человека. Поэтому ломали через колено, со зверской беспощадностью, не просто по-большевистски — по-сталински.
За что? Почему? Зачем? Во имя светлого будущего? — Какого? Кто и как его должен был построить? Без них, без этих лучших трудяг оно не могло быть построено.
Но они и не строили; строили те, кто вел эту армию «строителей» светлого будущего человечества. Ленин реализовывал свою идею мировой революции, Сталин, оседлав эту идею, строил и крепил свою личную власть. Оба торопились. Ленин видел коммунизм в России, когда на ее поля выйдет 20 тысяч тракторов. (Когда Россия закупала хлеб у Канады на нефтяные деньги, на ее полях ржавело 2 миллиона тракторов!) Сталин готовил мировую войну и мировую революцию, вероятно, видя себя во главе Всемирной советской социалистической республики. Но жизнь коротка. Грандиозные планы заставляли спешить. И он спешил…
От искусственного голода, организованного Сталиным в 1932—33 годах, в Советском Союзе, по разным данным, вымерло от 8 до 15 миллионов человек (ТВ-передачи, «Пятое колесо», Доклад Ю. Черниченко в обществе «Мемориал», интернет-данные и др. материалы).
(«Аны сабатыровали. Аны далжны были падохнуть», — мне кажется, эти слова Вождя, (о них сказано в другой главе), Отца народов, строителя социализма — «светлой мечты человечества» — достойны страниц истории…)
Те, кто не «падох», стали колхозниками. Но они навсегда утратили чувство собственного достоинства, чувство земли, хозяина земли и радости труда. Они своими руками под руководством безмозглой и бездушной охлократии разрушили и уничтожили все: богатейшие земли, луга, леса, реки и озера, скот и сады, тысячелетним трудом выведенные сорта и породы — выжгли вековую культуру земледелия в душах своих, в народе, в стране. Потомкам своим 3 поколения колхозников оставляют выжженную землю и пустые души своих детей. Социалистическая колхозная Россия даже хлеба никогда не ела досыта.
Партийные пленумы ежегодно решали вопросы ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ урожайности колхозных полей, газеты печатали победные статьи, в Центральное статистическое Управление шли дутые цифры, причем ложь росла год от года: каждая дутая цифра рождала следующую — она должна была быть выше предыдущей, так что в итоге никто, даже правительство, не знало истинного положения дел в сельском хозяйстве.
Колхозы давали только кормовой хлеб. (Для населения хлеб закупали за рубежом — благо, в России богатые недра). На прилавки магазинов ложились уродливые несъедобные кормовые культуры свеклы, моркови, помидоров, капусты, огурцов. Такие же несъедобные плоды давали изуродованные гибнущие колхозные сады. Все это сдавалось государству для отчета, а потом гноилось на базах, на прилавках магазинов или выбрасывалось сразу на помойку.
Появились колхозные куры каннибалы. Коровы стали давать по 0,5 — 1,5 литра молока в день. На телевидении старая колхозница рассказывала: «Доишь корову, а она уже не стоит — лежит на боку и стонет… (А когда скот по железной дороге везут на бойню, иногда по 2—3 недели, чтобы не убирать вагоны, его не кормят и почти не поят. На километры разносится из этих вагонов рев несчастных животных. На бойню уже привозят стрессированные скелеты. Какое же это мясо?!)
На Северном Кавказе мне пришлось видеть такую картину (в 1977 году): колхозная деревня, более 100 домов. 30 коров в стаде. Полуразрушенный хлев, загон огорожен низким забором из редко набитых горизонтальных досок. В загоне стоят несколько коров почти по колено в навозной жиже. Животы в навозе, по бокам, как ватерлиния на кораблях, засохшая короста навоза: по-видимому, в этой жиже коровы лежали…
Рядом с дачным поселком, в котором у меня дача, деревня. В первые «перестроечные» годы там еще существовал уже умирающий колхоз крупного рогатого скота. Коровы уже, по-видимому, из общего стада были розданы в отдельные хозяйства. Когда пастух пригонял стадо, его не встречали хозяйки, и коровы, недоенные, бегали по деревне, жалобно мыча, а хозяйки пьяные валялись по домам. (Но еще страшнее, когда захлебывался в колыбели охрипший от крика грудной ребенок. Мокрый и голодный, он мог кричать часами, а молодая мать в пьяном беспамятстве валялась рядом. Приходя в сознание, она кормила его своим ядовитым пьяным молоком…
В колхозном стаде корова существовала год — полтора, иногда и полгода. Потом она переставала доиться, и ее отдавали на убой. Ее место занимала новая с такой же печальной судьбой. И все это на пышных, сочных, неистребимых травах Смоленщины.
Сейчас нет этого колхоза. В деревне всего несколько коров, прекрасные молочные продукты. Но их хозяйки — беженцы из других республик, которые никогда не были крестьянами (колхозниками).
А по ТВ в первые перестроечные годы я видела документальный фильм о финской молодой фермерской семье: отец, мать, маленькая девочка. У них 80 коров. В хлеву идеальная чистота. Чистые, сытые, довольные коровы. Им недоставало только бантиков на рогах. Видела и стадо швейцарских холеных коров с венками на головах. (А в Подмосковье в 70-е годы хозяйки продавали молоко не литрами, а стаканами и очень дорого — его покупали только маленьким детям. А на Полтавщине в те же годы очередь за магазинным молоком, разбавленным, очень плохого качества, хозяйки занимали в 5 часов утра).
Все это только отдельные мазки к картине российской крестьянской трагедии…
Для крестьянина земля — мать-кормилица. Она питает и тело его, и душу. Он с ней — единый организм. Людоед перегрыз эту пуповину, и крестьянин погиб. Он бежал в алкоголь от своего сиротства. Он не живет поэзией и музыкой, Он живет землей, но он должен быть на ней хозяином. Он ухаживает за ней, трудится на ней и собирает плоды, которые она ему дает и которыми он живет. Земля — мать строгая. Хочешь есть досыта — трудись в поте лица своего. Щедро она одаривает только большого труженика. А труженик, которому не принадлежит не только земля, но и плоды трудов его — не крестьянин. У него нет корней, нет связи с землей, нет желания на ней трудиться.
Российское крестьянство не просто спилось — оно генетически выродилось и нравственно разложилось в алкогольном угаре, без религии и облагораживающего влияния земли.
Вот что пишет Алексей Киева: «… только во время искусственно созданного голода в 1933 году погибло (на Украине) от четверти до трети населения. Несколько раз отстреливалась украинская интеллигенция. Результаты господства большевизма на Украине, может быть, будут нагляднее всего, если сказать, что в районах, где геноцид проводился особенно жестоко, сегодня катастрофически высок процент неуспевающих учеников. Кстати, это же касается и районов России с аналогичным прошлым.» [83].
В соседней деревне, о которой я уже упоминала выше, та же ситуация: некоторые дети отданы в специальные интернаты для умственно отсталых детей. Деревенские дети, которые живут в семьях и учатся в деревенской школе (с очень хорошими учителями, бессеребренниками, преданными своему делу) не блещут успехами и нередко сидят в одном классе по 2 — 3 года, хотя учителя работают с ними почти индивидуально, так как детей в школе мало.
Первые слова, которые дети слышат — мат. И первые слова, которые они произносят, не «мама» и «папа», а слова матерные. И в школе, как и в жизни, тяжелее всего им даются гуманитарные предметы, особенно язык и литература.
А мужское население деревни, и старое, и молодое, за последние 10 — 12 лет почти исчезло: кто-то погиб в пьяной драке, кто-то замерз пьяным, кто-то повесился, кто-то просто умер, кто-то попал в тюрьму. И это — не «глубинка» — это недалеко от Москвы. А по всей России стоят десятки тысяч вымерших деревень, как и тысячи опустевших лагерей ГУЛАГа — памятники незабвенной сталинщины…
(А наш народ, под руководством Отца народов совершивший самоубийство, стал, в целом, безразличен к десяткам миллионов мученически уничтоженных людей — лучших людей их родины. Воображению такие картины не поддаются. Попытки сопереживать вызывают запредельное торможение у тех немногих, кто пытается проникнуться, соприкоснуться с этим кошмаром. Куда как проще пожалеть обиженного вора, экономического преступника, даже убийцу. За его обиды не только пожалеть, но и возлюбить его, можно даже выбрать в руководители. Это у нас на Руси очень водится — события «перестроечных» лет дали тому немало примеров. И это при абсолютном безразличии к миллионам потопленных в крови невинных соотечественников в недавней нашей истории. Раньше не знали, теперь могут знать, но не хотят, а если и знают, это ничего не меняет.)
Все годы советской власти деревня не жила — выживала, умирая. Ни вкладываемые в сельское хозяйство миллиарды рублей, ни техника, ни наука не работали без хозяина.
Большевики сами попали в сталинский капкан: кто не умел хозяйствовать на своей земле, тот не мог и не хотел научиться этому на общественной.
Деревня обнищала материально, оскудела духовно, выродилась генетически. Из де; ревни русской шли традиции, песни, праздники, ремесла; крепкие здоровьем телесным и духовным люди, оттуда шли богатства русского стола, оттуда приходили в город умельцы-самородки. С новой деревней государство воевало или ее поднимало — и то, и другое — тщетно…
Колхозное хозяйство было абсолютно непродуктивно. Колхозы, как правило, не выполняли государственных планов (тем более — дутых!), поэтому на трудодни крестьянам оставались крохи или вообще ничего. Практически это превращало крестьян в рабов, труд которых не оплачивался и прожиточный минимум не обеспечивался: крестьянин не имел права иметь приусадебное хозяйство, которое позволяло бы ему не голодать. Даже имея какую-то скотину, крестьянин не имел права косить траву. Траву можно было рвать только руками и только по неугодьям. И так во всем. В таких условиях удерживать существование этой системы можно было только насилием.
По закону от 7-го января 1932 года за хищение колхозного добра полагался расстрел, при смягчающих обстоятельствах — 10 лет тюрьмы.
2-го июня 1948 года вступил в действие указ о выселении в отдаленные районы колхозников, не вырабатывающих обязательного минимума трудодней. Во исполнение этого указа 26-го июня МВД отправило из европейской части России в Норильск, в район вечной мерзлоты на предприятия горнорудной промышленности эшелон крестьян в количестве 1178 человек. Через 4 дня туда отправился такой же эшелон [84].
Социалистическая деревня — это почти постоянное полуголодное или голодное вдовье существование. Мужчин отобрали войны, тюрьмы (по архивным данным, в деревнях каждый второй мужчина сидел), алкоголь. А потому появилось в деревнях такое распространенное преступление — «колоски». Женщины тайно выходили на поле после сбора урожая и собирали оставшиеся на поле колоски. Вот за эти колоски они получали 7 — 8 лет лагерей. Как правило, это были женщины, имевшие детей… Таких осужденных женщин в сталинских лагерях были тысячи.
«Доля ты, русская долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать», —
писал поэт Н. Некрасов в 19-ом веке.
Мужчина российский никогда особенно не баловал женщину-крестьянку своей заботой. К тому же бесконечные войны втягивали в них множество крестьянских мужчин, отрывая их от дома, взваливая основные тяготы жизни на женские плечи. Это труд от зари до зари. 20-й век, большевизм в России практически оставил деревню без мужского населения, и тяжесть беспросветного и безрезультатного труда, крайняя нищета, сиротско-вдовье выживание — все легло на плечи советской женщины-колхозницы. Это труд от зари до зари. Нищета. Война. Потеря мужей, отцов, сыновей, братьев, женихов. Они износились до времени от тягот жизни. Но те, кто не спились, сумели сохранить доброту и память о прошлом.
Сбор колхозного урожая — это особая страница советского бытия. Даже свой небольшой, иногда жалкий урожай деревня никогда не могла собрать самостоятельно. Собирали всем миром: пионеры, комсомольцы, солдаты, сотрудники различных учреждений, студенты, преподаватели, профессора университетов и институтов и даже академики. Почти каждое учреждение имело свой ПОДШЕФНЫЙ колхоз. А у студентов и у школьников бывали еще дополнительные трудовые семестры, когда они работали на посевной или на прополке. И уж, конечно, вся эта армия «добровольцев» работала руками, чаще всего не имея даже элементарного средневекового инвентаря. Но и собранный с таким трудом, всем миром, урожай очень часто оставался гнить на полях или железно-дорожных станциях, потому что нехватало (из-за головотяпства и бесхозяйственности) бензина, автомашин, вагонов, запчастей, мазута, шин и т.д..
(Хочу описать один эпизод из нашей «колхозной» жизни. В конце 70-х — начале 80-х годов лаборатории нашего НИИ ежегодно выезжали в подшефный колхоз на несколько дней на уборку картофеля. В один из таких заездов после нескольких часов работы на нормальном поле нас неожиданно загрузили в огромные грузовые машины и перевезли на поле, где картофель был собран и лежал по всему полю большими и малыми островерхими кучами, «терриконами». Это был картофель, собранный в прошлом году, но не увезенный с поля. Этот картофель замерз, благополучно сгнил и невыносимо смердел на всю округу. Его нужно было просто раскатать по всему полю, как очень ценное удобрение, но нам предложили собрать его в мешки и отвезти в хранилище.
Кроме небольшого количества ведер, у нас не было ничего, даже перчаток. Когда мы нашими «рабоче-крестьянскими» руками прикоснулись к этому картофелю, оказалось, что это просто зловонная жижа. Мы потребовали вилы. Безликая девица — распорядительница, оседлав семи- или десятитонку (наверное, какой-то «Белаз»), уехала за вилами. Мы ждали, Она вернулась и привезла вилы — один экземпляр. Этим даже невозможно было возмущаться — только смеяться. Наверное, это добавило нам сил: имеющимися у нас ведрами мы загрузили это мерзкое месиво в мешки, и «Белазы» увезли его в хранилище. На следующий день другие бригады вывезли этот «картофель» из хранилища на то же поле: колхоз должен был его априходовать как собранный урожай, а уж потом списать его на удобрения…
Этот случай с вилами долго веселил нас. Позже появился анекдот с игрой слов «вилы» и «виллы»…
(Случай с картофелем — не из ряда вон выходящий: заурядный пример положения дел не только в сельском хозяйстве, но и во многих отраслях советской социалистической экономики.)
При Сталине за это расстреливали или отправляли в ГУЛАГ, но это дела не меняло. Крестьянин работать умел, но не хотел. Как правило, они мастера на все руки, но ни душа, ни руки «не лежат» к чуждому делу, а в угаре алкоголя все постепенно вырождается. Вот легкий штрих к характеристике их отношения к труду. Однажды один из сельчан копал у меня на участке яму под мусор. Когда он кончил и назвал мне сумму оплаты, я сказала: «Саша, ты копал ее полтора часа.» — На что он мне ответил: «В колхозе я копал бы ее два дня.»…
В старой деревне тоже пили, но по праздникам. И ругались матерно, но в сердцах. Пьют и сквернословят все народы. Западный мир пьет, и пьет немало, но умело. Южные народы пьют виноградные напитки, северные — яблочные и ягодные, в жарких странах пьют кофе и другие напитки — так или иначе люди себя тонизируют, веселят или лечат в забытьи.
В России не было виноградников, но был суровый климат, длинные дороги и тяжелая жизнь. И ей нужны были горячительные крепкие напитки. Такие она и создавала, главным образом из злаков, трав и меда. И пила Россия немало. Но разрушительного пьянства не было. Значительное усиление пьянства было связано с отменой крепостного права, когда появились свободные крестьяне, свободные от дел и от земли, неприкаянные, потерявшиеся, когда они поплелись в города на новые, быстро растущие заводы. Но повальное разрушительное пьянство — это результат сталинщины.
В советской деревне пьют все и всегда: пьют не ради веселья, пьют от тоски. Пьют мужчины, женщины, старики и даже дети. Мат — это их нормальный язык, другого они почти не знают, матерятся изощренно, витиевато, грязно, почти не употребляя других слов. В этом смраде алкоголя и мата рушатся прежде всего самые тонкие человеческие структуры: интеллект и нервная система. В этом обществе извращена и система ценностей. Одна деревенская женщина как-то сказала мне: «Если придешь просит взаймы на хлеб, могут отказать, но на водку — дадут из последнего»…
Это глубокое нравственное вырождение, опустошение души поруганного человека на поруганной земле. Это самоистребление людей, отторгнутых от среды обитания — от земли и веры. Они всю жизнь прожили в нищете, бесправии и тоске.
Крестьянство отмирало, вымирало как общественная категория. В 1926 году крестьянство составляло 75% населения России, в 1939 — около 50%, в1959 — около 32%, в 1981 — 13,8%, 1989 — 12%. [85]. И это не по причине технического оснащения сельского хозяйства, внедрения новых технологий, достижений биологии, как это происходило и происходит во всем мире. Колхозное крестьянство не воспринимало даже тех немногих новаций, которые пытались сверху внедрить в сельское хозяйство. Для новаций не было «мест посадки». Даже элементарная техника в колхозах погибала.
И не только мертвые деревни и лагеря ГУЛАГа, но и немногие еще живые старики — памятники эпохи сталинщины. Некоторые, самые старые, еще помнят расстрелы и то, как выбрасывали на снег… И то, что было потом… Они живут в ветхих лачугах или разваливающихся когда-то добротных домах, в нищете, которой они, по привычке, почти не замечают.
В одной из журналистских кинозарисовок для ТВ была старушка, которая проработала в колхозе более 50 лет. Ее нищая халупа была почти пуста. Одета она была скорее нищенски, чем скромно. Она показала журналистке единственное свое богатство, заработанное тяжелым трудом: она достала из сундучка сверток — в чистую белую простынку было завернуто то, в чем ее должны были положить в гроб — ее «смертное». Оно было чистое, качественное, не сравнимое с тем, что было на ней. Оно предназначалось для другой, лучшей. жизни — там… Здесь жизни не было…
И вся периферия России, кроме столиц и районов спецобеспечения, выживала, как могла…
И когда Исландия, не имея ничего, кроме камней и льда, кормила себя досыта; маленькая северная Швеция не знала, куда девать свой хлеб и масло, а Япония могла бы освоить Луну, в погибающей огромной, занимающей шестую часть суши России были абсолютно пустые прилавки магазинов (даже в столицах), талоны на сахар и водку, километровые очереди за всем, что иногда «выбрасывали» на прилавки; мертвые и полумертвые деревни, в которых жили старики, алкоголики и уголовники; заболоченные или спекшиеся земли, загубленные бесценные черноземы; облезлые полудохлые овцы; куры, которые в тесных вонючих колхозных загонах клюют собственный помет и трупы своих собратьев; тощие коровы, масть которых не видна под коростой нечистот и огромные свалки неработающей техники.
Но эта катастрофа не пробила броню большевистской идеологии. Большевики оставались сталинцами.
Когда на романтической волне «перестройки» энтузиасты-горожане поехали поднимать сельское хозяйство, и еще не обустроенные, без денег, необходимого инвентаря и техники 2,5% фермеров в первые 2 года стали давать10% сельскохозяйственной продукции, коммунисты, которые тогда составляли большинство в верховных советах, задушили их налогами, процентными ставками кредитов и ненавистью к «буржуазной идеологии». Энтузиасты вернулись в города…
А сельские жители не пошли на выборы в местные советы. Эти мертвые, убитые души ни во что не верили и ничего не желали…
А Израиль доказал, что и колхозы могут быть жизнеспособны, полезны и привлекательны, если делать их не по-сталински…
Уничтожение партии — начало большого террора
К тому моменту, когда Сталин начал уничтожение партии, почти все руководящие государственные посты, большие и малые, были заняты ее членами. Вместе с партийным руководителем вычищались все его помощники, все яркое, заметное, деятельное, активное в любой организации — то, что могло задумываться, сопротивляться, защищаться, протестовать. Таким образом, уничтожение руководящих партийных кадров с самого начала обернулось тотальным Большим Террором.
Катастрофы, социальные или стихийные, обычно уносят очевидцев, способных рассказать о них и проанализировать. Это, как правило, выпадает на долю энтузиастов, которые по крохам, по останкам, по остаткам, по пылинкам веков пытаются восстановить картину прошедшего. Чем крупнее катастрофы, тем меньше остается очевидцев. Русская большевистская революция — российская историческая катастрофа особенно прицельно и тщательно уничтожала всех, кто мог бы поведать миру о случившемся. Они ушли в северные болота, в колымскую мерзлоту, в неведомые безымянные могилы; из расстрельных камер и подвалов — в дымы кремационных печей. Их прахом густо сдобрена бескрайняя российская земля.
Но мир держится на святых, на тружениках, собирателях, энтузиастах.
Подвиг А. И. Солженицына, удивительные труды Р. Конквеста, В. Суворова, создавших масштабные картины происшедшего в России, по крохам собравших доступное в открытых документах и памяти людей в условиях абсолютной засекреченности всего, что давало бы стимул, повод и материал для обозрения и анализа, тем более для исторических выводов, — их труды дают нам сегодня возможность прочесть некоторые страницы нашей недавней истории. Сюда же вливаются ручейками информации записки немногих выживших в аду ГУЛАГа, хранившиеся на чердаках, в сараях, иногда и в письменных столах.
Архивы — то, что в них сохранилось, — только сейчас начинают открываться. Но это пища для будущих историков.
Начнем с того, что, как и показательные процессы, было доступно для всех.
Вот список (и судьбы) членов Политбюро ЦК 1919 — 1938 годов [86].
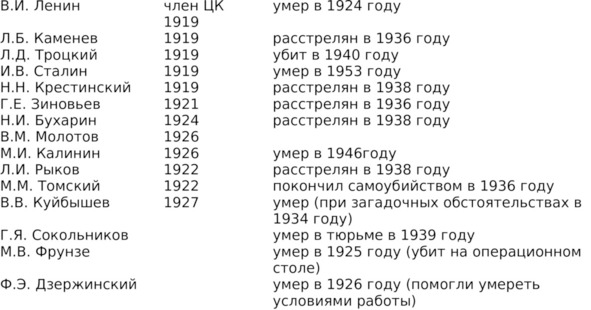
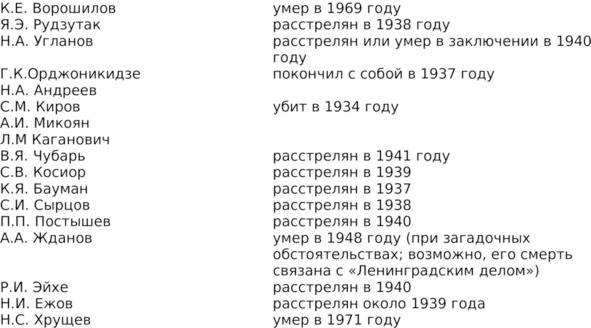
В списке 32 человека: Ленин, Сталин + еще 30. Из них 12 человек — ленинская гвардия — они расстреляны все, кроме Дзержинского, который успел умереть сам, хотя есть мнение, что ему «помогли» умереть.
Это ближайшие сподвижники Ленина, это руководители партии, которая совершила революцию и возглавила созданное ею новое государство. Почему их нужно было уничтожить? — Их нельзя было исключить из состава Политбюро или ЦК, их нельзя было перевести на другую работу или сослать — рано или поздно они всплывали бы на политическом горизонте — слишком велик был их партийный вес. Пока они были живы, «ОН» не мог чувствовать себя спокойно в кресле единоличного Хозяина партии. Их необходимо было уничтожить — расстрелять.
Под Большой Террор Сталину необходимо было подвести теоретическую базу: в сущности, необходимы были два новых положения — в истории и правоведении.
Первое. Необходимо было доказать, что по мере строительства социализма классовая борьба обостряется — поднимается «внутренний враг» — «враг народа». Для этого он написал новую историю партии — «Историю ВУП (б)».
Второе сделал Вышинский — страшная фигура Большого Террора. Верховный Прокурор и Главный Обвинитель всех показательных процессов 1936 — 1938 годов. Он подвел новый краеугольный камень под большевистское (сталинское) правоведение: ОСНОВНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ВИНОВНОСТИ ПОДСУДИМОГО ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ. Остальное было делом «ТЕХНИКИ», и техника развивалась невиданными темпами, обгоняя темпы строительства социализма.
И третье. Необходимо было заставить общество МОЛЧАТЬ. Для этого была создана система устрашающего насилия и тотальной слежки: «сексоты» проникали во все без исключения производственные коллективы и ячейки, вплоть до детских садов и ясель, в коммунальные квартиры, дружеские компании и семьи. Общество сковал страх. Большой Террор создавал свою логику развития: чем больше жертв, тем сильнее должен быть страх. Волна террора должна была перехлестывать потенциальную волну сопротивления. Страх всегда должен быть сильнее протеста.
И еще. Перед тем, как пойти на решающую схватку с партией и страной Сталин провел репетиционные показательные процессы.
В 1928 году — «Шахтинское дело». На скамье подсудимых оказалось пятьдесят русских и трое немецких инженеров и техников угольной промышленности. Все они обвинялись во вредительстве. Ликвидация таких опытных специалистов могла расцениваться как экономическое преступление.
«Политический замысел Сталина заключался в том, чтобы дискредитировать бухаринский курс на мирное сотрудничество с беспартийными специалистами, представив доказательства обострения классовой борьбы.» [87].
Председательствовал на процессе Вышинский, вел обвинение Крыленко.
В ноябре — декабре 1930 года прошел показательный суд-спектакль — процесс «Промпартии». Большинство обвиняемых были крупными работниками куйбышевского Госплана, сорок восемь служащих которого… были уже расстреляны. Обвиняемые якобы работали на президента Франции Раймона Пуанкаре, на английского полковника Лоуренса, на нефтяного короля Генри Детердинга и других, с целью расшатать индустриальную мощь страны Советов и подготовить почву для иностранной агрессии. [88].
«В марте 1931 года был проведен процесс меньшевиков. За одним единственным исключением все посаженные на скамью подсудимых меньшевики давно оставили политическую деятельность и использовались как экономисты или по другим специальностям.» [89].
В основном это был удар по трезвым экономистам, которые мешали Сталину провозглашать ударные (невыполнимые) темпы пятилетних планов, честно учитывая реальные возможности экономики страны.
«Последний большой показательный процесс, предшествовавший большому террору, привлек особое внимание Запада, потому что из восемнадцати обвиняемых шестеро были британские граждане. Это был нашумевший процесс специалистов фирмы „Метрополитен — Виккерс“ в апреле 1933 года. Задача была доказать, что британские инженеры организовали вредительскую сеть.» [90].
(По-видимому, это было начало тотальной борьбы с иностранцами).
Все четыре процесса были «сшиты» по единому образцу. Во всех случаях судили невинных людей, в которых Сталин видел своих потенциальных противников. Во всех случаях признания не существующей вины выбивались физическим воздействием. Для всех процессов были подготовлены специальные сценарии, все они шли, как показательные политические спектакли.
На всех спектаклях были «проколы»: признавшие свою вину в залах суда отказывались от своих показаний; их «дообрабатывали», и они снова признавали себя виновными. Некоторые кончали самоубийством, некоторые исчезали со скамьи подсудимых, возможно, умирая под пытками.
«Проколы» иногда бывали столь бесспорными, что Запад не смог не заметить подлогов, особенно, в процессе «Метрополитен — Виккерс», который, естественно, был наиболее мягким, но они были к нему более внимательны.
Все процессы шли на фоне такого злобного газетного воя, что в двух случаях сыновья требовали расстрела своих отцов.
Все эти «спектакли» были школой как для сценариста, так и для исполнителей главных ролей. Здесь отрабатывались приемы физического и морального давления, хитросплетения лжи, способы выхода из затруднительных ситуаций и т.п.. Сталин готовился сам и готовил свой аппарат уничтожения к Большому Террору 1936 — 1939 годов.
Все эти процессы уже шли на фоне тихих расправ.
«Начиная с 1930 года, в области экономики и культуры было проведено немало закрытых судов или просто бессудных расстрелов. Так, например, в августе 1930 года состоялся закрытый суд над группой видных бактериологов, обвиненных в том, что они вызывали падеж лошадей; в сентябре 1930 года сорок восемь работников пищевой промышленности во главе с профессором Рязанцевым были расстреляны без суда по обвинению в порче продовольственных запасов… в феврале 1931 года ряд крупных историков, в том числе Тарле, Платонов, Бахрушин, Лихачев были негласно осуждены на долговременное заключение (оставшиеся в живых были освобождены и в последние годы вернулись на кафедры); в марте 1933 года тридцать пять директоров и ответственных работников совхозов были расстреляны и сорок заключены в тюрьмы без суда, но по обвинению в принадлежности к «контрреволюционной вредительской организации»; в том же марте 1933 года тридцать пять руководящих служащих Наркомзема вместе с замнаркома Конаром были расстреляны без суда (в данном случае складывается впечатление, что Конар в самом деле был иностранным шпионом). [91].
С самого начала все карательные акции, большие и малые, были поставлены Сталиным в положение недосягаемости для критики и протестов. Любые попытки оспорить действия НКВД рассматривались как нападение на государственную власть, с соответствующими последствиями.
Этим разгорающимся террором Сталин, прежде всего уничтожал всех возможных противников своей единоличной власти, своих далеко идущих планов и одновременно объяснял народу причины его бесконечных бедствий и трудностей (результата неумелого руководства, ошибок и преступлений правительства и, главным образом, Правителя), вколачивая ему еще одну свою расхожую, топором рубленую фразу: «Мы имеем врагов внутренних, мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на минуту.»
Сталин наступал на актив общества широким фронтом. «Органы» распухали, матерели, опутывая своими железными щупальцами все общество.
Всеобщий страх усиливался всеобщей незащищенностью: подвергнуться репрессии мог любой, каждый, ибо арест не требовал (и не предполагал!) наличия вины, а беспощадность, беззаконность, кровавость этой «железной» большевистской руки была известна всем слоям общества.
И тем не менее, после громких показательных процессов широкая волна террора стала тайной. Аресты производились ночью. «Черные маруси» тихо подъезжали к подъездам. Двое — трое понятых, обычно сторож, дворник и кто-либо из соседей, стук в дверь, обыск и, тихо шурша шинами, «маруся» увозила из развороченной, поруганной квартиры, из разбитой жизни очередную жертву, как правило, навсегда.
Аресты проводили жестоко, цинично, подло. Людям не давали как следует одеться, переодеться, проститься с родными, с детьми. Быть может потому, что знали, что обычно это смертники, и ничто земное им уже не нужно. Или просто рассматривали, как врагов, подлежащих так или иначе истреблению. Оставшиеся среди руин старой жизни, разбросанного белья, книг, бумаг, фотографий члены семьи увезенного вскоре или следовали за ним, или в ссылку, или просто выселялись из квартиры. В любом случае, они становились изгоями в обществе: их сторонились, с ними не здоровались, к ним не ходили в гости, им не звонили. Одно упоминание чьего-то имени, сколь угодно крупного, в компании с опальными было почти равносильно приговору. Оставалось ждать ночных гостей. (Новые поколения вряд ли в состоянии представить этот накал страха…) Друзья рвали их фотографии и письма, как правило, не из неприязни, а из чистого страха: завтра жертвами могут стать они, и связь с ранее осужденным отягчала бы пытки и приговор. Люди жгли библиотеки: трудно было сказать, кто из авторов завтра станет крамольным. Подонки шипели вслед несчастным, подглядывали, доносили (доносы стимулировались материально).
Страх — защитная реакция организма, данная всему живому природой, или Богом. Но в этих противоестественных условиях страх был уродлив и разрушителен. Он калечил психику человека, унижал, разрушал его. Страх рвал естественные человеческие связи: производственные, товарищеские, дружеские, родственные, даже любовные.
Разобщенное общество легче держать в повиновении, им легче управлять: «Разделяй и властвуй!» — лозунг древний.
Но в этих условиях подлее всего вели себя сталинские функционеры. Они угодливо беспрекословно подписывали любые бумаги, расстрельные списки своих вчерашних товарищей, изощрялись в пытках, доносах, клевете, творили кровавые беззакония, угодливо заглядывали ему в глаза в жажде одобрения. Что это? — Страх убивает разум, честь, совесть? Они понимают, что творят или расплавленные мозги при утрате совести принимают грозную волю, как абсолют, без критики, без включения собственного сознания? (Это, конечно, поведение под дулом пистолета…) Когда ситуация изменилась, многие из них заговорили трезво (не будем употреблять слово «честно»). Но большинство стояло и сейчас стоит на своем. — А это что? Полная неспособность освободить мысль из «прокрустова ложа»? Она закостенела в нем? — Нет, это тоже защитная позиция «убежденности». Несовершенно творение Господне: оно неустойчиво, трансформируемо, несамостоятельно, а может быть, наоборот, весьма хитроумно и приспособляемо…
Сталин писал сценарии показательных процессов. Но и аресты он сатанински изобретательно варьировал.
При арестах известных людей, членов Правительства, видных деятелей партии и культуры, высоких армейских чинов он сочетал наглость безнаказанности с извращениями своей садистской психики: одни исчезали внезапно прямо со своих рабочих мест, других сначала переводили на новую работу, в отдаленные области, потом возвращали, понижали в должности, потом арестовывали; кому-то он давал предварительно отдохнуть в санатории, кого-то он арестовывал прямо в поездах при их следовании к местам новой работы или отдыха, в гостиницах, под праздники, на праздниках в момент праздничного застолья и т.д.. Его «фантазия» была безграничной и изощренной. Яна Рудзутака [92] — одного из высших партийных руководителей, арестовали за ужином после театра. С ним арестовали всех присутствовавших на этом ужине. В своих вечерних туалетах, женщины в растерзанных бальных платьях, на каблучках, — они ушли, кто на расстрел, кто по этапу в сибирские снега и морозы. (Подобное описано у А. Солженицына, у Е Гинзбург и других).
Это сбивало с толку, устрашало, деморализовывало, смазывало «картину».
Более «мелких сошек», которые не были на самом верху, на виду, арестовывали сотнями и тысячами тихо, по ночам. Масштабы и темпы арестов сводили людей с ума. А утром страну будили черные тарелки радио песней:
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.»
Днем в квартирах и на площадях гремели песни и марши, сообщения о новых победах советских героев, энтузиастов, строителей коммунизма «на земле, в небесах и на море»…
Массовые аресты проходили тихо. Но трудно не замечать темные окна домов, опечатанные квартиры, кабинеты, лаборатории. В знаменитом правительственном «Доме на Набережной» в 1937 году было опечатано 280 квартир из 500. «Арестованы наркомы: тяжелой промышленности, финансов, земледелия, торговли, связи, военной промышленности, юстиции, просвещения, все Правление Госбанка. Молотов потерял всех своих заместителей в Правительстве, Каганович — всех руководителей железных дорог… На ответственные посты назначались молодые люди.» [93].
Террор продолжался… Но квартиры и комнаты в условиях тяжелого жилищного кризиса долго не пустовали: их отдавали прежде всего работникам «Органов» и еексотам, особенно активным и бдительным… Часто доносчики в качестве награды получали жилплощадь и (или) имущество своих жертв. (Это тоже был продуманный стимул подлости!). Да и кабинеты долго не пустовали — Вождь ведь изрек: «Незаменимых — нет!»
Истребляя старую партию, «он» проводил экстракции на местах: в областях, краях и республиках.
Вот что пишет Р. Конквест [94] об уничтожении партийных кадров в республиках: «Ход террора в национальных республиках поражает одной страшной особенностью. Она состояла вот в чем: по тщательно разработанным предварительным планам люди, присланные из Москвы, хладнокровно уничтожали имевшуюся в республике партию, создавая вместо нее из работников и новичков особый набор энтузиастов, представлявших собой уже не партию, а некую новую организацию террористов и доносчиков. Необходимо подчеркнуть именно размах операции, полноту уничтожения всей партийной иерархии. Есть логика в таких тотальных арестах: нельзя арестовывать руководителей, специалистов, военачальников и оставлять свидетелей, которые знали арестованных как достойных, честных, грамотных. Нужно было убрать все сознательное окружение, очистить место для новых людей, пришлых, незначительных, неумных или подлых.
Есть логика и в темпах арестов: нельзя было дать опомниться… Но эти масштабы и темпы сводили людей с ума. Происходили вещи, не поддающиеся здравому рассудку. Все усердствовали, торопились, спасая себя. Продавали сослуживцев, соседей, товарищей. Как правило, это не спасало. Спасало лишь мелких подлецов. Крупная дичь рано или поздно попадала в сети.
В Центре, в Москве, Сталин уже создал свои кадры и протащил их на все высокие посты… в Москве тоже предстояли грандиозные опустошения. Однако здесь сохранялась видимость непрерывности руководства, поскольку кучка самых высших сталинцев пережила террор, а инструментами власти Сталина были более молодые работники. В республиках же «черный ураган» вырвал с корнем всех старых «партийно-сознательных» сталинцев-ветеранов, представлявших некую непрерывную линию руководства и связь с подпольной дореволюционной партией, с революционерами 1917 года и участниками Гражданской войны. ЭТО БЫЛА ЕЩЕ ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ — НЕ СТОЛЬ ЗАМЕТНАЯ, НО НАСТОЛЬКО ЖЕ ПОЛНАЯ, НАСКОЛЬКО И ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ЕЙ ДРУГИЕ КОРЕННЫЕ ИЗЕНЕНИЯ В СТРАНЕ.» (Курсив мой).
Надо сказать, что и в Центре Политбюро ЦК было чисто сталинским — от ленинской гвардии, делавшей революцию, кроме него, не осталось никого. Все были уничтожены.
В Украине [95] «в течение года были арестованы все члены Политбюро, Оргбюро и секретари ЦК КП Украины, за исключением одного Петровского. Из 102 членов украинского ЦК выжили только трое. Были арестованы все 17 членов украинского правительства. Пали жертвой все секретари обкомов на Украине.
Террор прокатился по всем абсолютно республиканским учреждениям. Промышленные предприятия, местные советы, учебные заведения и научные учреждения — все теряли руководителей буквально сотнями. Союз писателей Украины был практически уничтожен.»
Это была первая волна. За ней последовали вторая, третья, четвертая…
Шла вакханалия арестов, доносов, клеветнических измышлений, все более изощренных. «… один член партии Азербайджана написал 14 доносов на видных коммунистов, в том числе на 3-х секретарей ЦК компартии Азербайджана и бывшего председателя Совнаркома республики, сам при этом оставался уважаемым партийным функционером. Уже в 1962 году в свое оправдание он сказал: «Мы думали, так нужно. Писали все». [96].
Писали не все. Но очень многие. Этот режим стимулировал в людях ненависть и подлость — страхом и материальными благами. И еще он развивал тупоумие. Одна хорошо знакомая мне женщина (у нее было трое детей, жили они в нищете, как почти все, кроме партфункционеров) говорила о своем муже: «Он иногда высказывал такие мысли, что я хотела на него донести.»
Аресты шли повальные. Каждая очередная волна смывала только что выдвинутых партийных и советских руководителей сверху донизу — всю сеть руководителей производств, специалистов — всех, кто как-то выделялся, «торчал» из вынесенных на поверхность предыдущей волной или, наоборот, не смытых ею. Согласно Рою Медведеву, (пишу по памяти: читала его труд о Сталине более 40 лет назад в Самиздате, в машинописном виде — труд посвящен был партии) таких волн или «экстракций» было от трех — четырех до девяти в разных республиках — они прошли от больших «свободных» республик до самых захолустных мест огромной страны и уничтожили до 80 — 90% старых партийных кадров. При этом они смели под расстрелы или в лагеря ученых, инженеров, врачей, писателей, художников, актеров, учителей школ, студентов и даже школьников. На каждого репрессированного члена партии приходилось 8 — 10 простых советских людей [97].
Несмотря на то, что старые здания тюрем набивали битком: часто в камерах люди стояли, не только спали, но и сидели по очереди — тем не менее, помещений нехватало. Арестованных загоняли в гаражи, сараи, склады, а иногда просто рыли ямы в земле, сооружали какую-то кровлю и загоняли туда людей.
Удивительно или нет, но собратьев по партии Сталин уничтожал с особой страстью, более жестоко (быть может, с тайным упоением), чем любые другие социальные элементы.
Ленинградских и грузинских коммунистов он уничтожил с особым тщанием. Наверное, к тому были особые причины. Ленинград более упорно противостоял (если это можно назвать противостоянием, — по крайней мере, не приветствовал) его террору; а в Грузии его, вероятно, коммунисты знали лучше, чем в других местах.
Из тех, кого арестовали в 1936 — 38 годах, выжило вряд ли даже десять процентов. Эту цифру подтверждает, например, советский историк Рой Медведев. По его подсчетам, в лагерях до войны погибло 90% заключенных. А по подсчетам Академика Сахарова, процент погибших был значительно выше. Он пишет: «Лишь в 1936 — 39 годах было арестовано 1,2 миллиона членов ВКП (б) (на одного члена партии — 8 — 10 беспартийных) — половина всей партии. Только 50 тысяч вышло на свободу, — остальные были замучены на допросах, расстреляны (600 тысяч) или погибли в лагерях» [98]. Половина всей партии — это значит все руководство, весь цвет, остались рядовые, незаметные. Из них ковалась новая сталинская партия. А самые главные — 600 тысяч (!) — были просто расстреляны. Выжило 4%. — Что значит, выжило? — Искалеченное здоровье, искалеченная жизнь, личная, профессиональная. Многие вернувшиеся вскоре умирали, не выдерживая ни радостей, ни печалей, которые ожидали их по эту сторону колючей проволоки. (Но половина партии — это в 1939 году. Но аресты продолжались и в последующие годы).
С таким же остервенением, с каким Сталин истреблял старую партию, он истреблял армейский комсостав. После расстрела верховного командования началось повсеместное уничтожение кадровых военных.
1-го июля 1937 года были расстреляны комкоры Гарькавый и Геккер. Были также расстреляны 20 более молодых командиров в одном только Московском военном округе. Было арестовано почти все командование Кремлевской военной школы…. Волна арестов прокатилась по Военной академии, которой до казни командовал Корк. Почти все преподаватели были уничтожены… Слушателей Академии также хватали целыми пачками: «В служебных характеристиках появился обязательный пункт об активности в борьбе с врагами народа»… Репрессировались и те слушатели — а их было множество — которые перешли в академию из соединений, где были арестованы командиры… В Киевском военном округе около этого времени было арестовано 600 — 700 командиров из «Якирова гнезда». Новое руководство Киевского военного округа развернуло активную компрометацию и массовые аресты военных кадров. Чем больше было арестованных, тем труднее верилось в предательство, вредительство, измену.» [99].
Армии расформировывались, их военачальники перемещались в новые соединения: их безопаснее было арестовывать там, где солдаты их еще не знали.
С вооружения были сняты автоматы, «Катюши», новые модели танков и самолетов. (Многие из их создателей оказались в тюрьмах или были расстреляны).
Печать и радио ежедневно выли о вредительстве, диверсиях и шпионаже. Заказные писаки врали, брызгали слюной, шипели о том, чего нет. Не писать было невозможно, Все были объяты страхом. Ситуация требовала не просто бдительности, но активного уничтожения «врага». Выход из этой игры был один — самоубийство. Надо было участвовать и надеяться на то, что чаша сия обойдет тебя стороной, а еще лучше попытаться поверить, что «нет дыма без огня»: наверное, и в самом деле, враг активизировался внутри и вне страны и «у нас зря не сажают».
На Украине были уничтожены все партизанские базы, подготовленные под руководством Якира на случай возможной войны.
«Террор не миновал даже ветеранов в отставке. Известно, что в Киевской внутренней тюрьме допрашивали генерала Богатского, известного героя Гражданской войны. В свое время белые изувечили жену Богатского, ослепили его сына, а сам генерал потерял в бою правую руку. Теперь этого человека, которому было уже за шестьдесят, пытали новые палачи. Они прикололи ему к груди булавкой нацистскую свастику, вылили ему на голову плевательницу, пытаясь добиться признания, что генерал готовил покушение на Ворошилова. [100].
28 июня был расстрелян в Минске комкор Сердич.
Политуправление армии, возглавлявшееся Гамарником, понесло от террора наибольшие потери. Высшие руководители управления были взяты поголовно… почти все начальники политуправлений и большинство членов военных советов округов были также арестованы… В 1967 году известный журналист Эрнст Генри (С. Н. Ростовский) в письме к Эренбургу перечислил число жертв высших политработников в Красной Армии по званиям: погибли все 17 армейских комиссаров, 25 из 28 армейских комиссаров, а из 36 бригадных комиссаров террор пережили только двое.
К началу 1938 года количество политработников в армии составляло одну треть от штатного расписания — около половины из них не имело никакого политического образования (более 20 тысяч были арестованы или погибли). Потери армейских коммунистов составляли 125 тысяч человек. Исчезли все без исключения командующие военными округами. (А на Западе в это время крепла и росла мощь гитлеровской военной машины…)
В результате всех этих экстракций, истреблений и чисток на руководящие посты приходили самые серые, послушные, безопасные. Они легко подчинялись его кнуту, его воле, не имея своей и не желая ее иметь. Это была уже ЕГО партия, им созданная, необходимая ему. Она формировалась в условиях террора, страха и предательства, на костях вчерашних товарищей, руководителей, начальников, возможно, уважаемых и авторитетных. Это была особая партия. И он не оставил ее без «пряника». Теперь уже не только «Органы» пухли от высоких зарплат и льгот, но и руководители, большие и маленькие (в соответствии с их положением в номенклатурной сети) ЕГО карманной партии. Эта «послушность» воле Палача и Идола и «пряник» из окровавленных рук воспитывали в членах новой партии беспринципность, беспощадность, подлость и корысть.
На высокие руководящие посты вместо уничтоженных специалистов, назначались чины из «Органов» — чем кровавее, (следовательно, вернее) тем выше. Наркомы внутренних дел, а не секретари ЦК, становились Главами республик.
В 1934 году Секретарем Союза писателей был назначен А. С. Щербаков — ближайший сподвижник палача Жданова, сам палач, которого ненавидели больше, чем Жданова. В 1937 — 38 годах его сделали разъездным надсмотрщиком по террору. [101]. На его совести разгром и уничтожение партийных кадров в Ленинграде, Сибири, на Украине и в других местах. Такая замена кадров — норма Большого Террора…
Сталин заменил фанатов партии корыстолюбцами. (Фанатами, идейными, убежденными, преданными управлять очень сложно — он их просто уничтожал, он их ненавидел. Корыстными управлять легко). Вместо фанатизма — цинизм. Тут нет идеи. Тут есть корыстолюбие, честолюбие, властолюбие. Черты вполне естественные, хотя и не привлекательные, но, основанные на лжи — на идее, в которую никто не верит, КОТОРАЯ НЕ НУЖНА ЕЕ ПРОПОВЕДНИКАМ, — эти черты становятся преступными, ибо все это — замес из лжи, цинизме и алчности, реализуемые через лизоблюдство, рабскую покорность, готовую на любую подлость и жестокость из страха и корысти.
В новой партии никогда, до окончания ее существования, никогда не обсуждались принципиальные вопросы, никогда не бывало принципиальных возражений. Все решалось наверху (практически одним лицом, позже — очень узким кругом лиц). Принималось все всегда — единогласно. Абсолютное послушание демонстрировалось, как единство партии, сплоченность ее рядов.
У всех его подручных, у всех членов его Политбюро руки были в крови, все это были проверенные палачи и соучастники его преступлений; все они, каждый в свой час, направлялись в те или иные республики, где намечалась хотя бы легкая тень сопротивления террору, или просто нужно было быстро уничтожить руководящие партийные кадры, — и уничтожали под корень, подчистую. Они все были повязаны с ним кровью. Но ему этого было мало: почти у всех у них были арестованы жены или другие ближайшие родственники (в любой момент они могли быть отпущены или арестованы, как и они сами, — они это знали, и он не давал им забывать об этом.. И несомненно, чем выше, чем ближе к Тирану, тем сильнее сковывал страх его сатрапов, тем более осатанело, кроваво, беспощадно осуществляли они его волю, спасая свою шкуру…
Мой шеф рассказал мне историю, которую ему поведала сотрудница нашего института, дочь Поскребышева (секретаря Сталина, его верного пса, всегда находившегося под его дверью. Через его руки проходили секретные бумаги, расстрельные приговоры, которые Сталин подписывал сам. Однажды в таком списке он обнаружил фамилию своей жены. Он бросился в ноги Сталину, ползал, молил, но Сталин отрезал: «Все могут, и ты сможешь» … Когда он вернулся домой, дверь ему открыла незнакомая женщина. Он спросил: «Кто Вы?» — «Ваша жена» … «Это была моя будущая мать», — закончила свой рассказ Елена Поскребышева. (Кажется, ее имя Елена. Передала точно, как слышала. Судя по скудным впечатлениям моим от мимолетных митинговых наблюдений, Елена была несомненной сталинисткой.)
Новая партия — это был сталинский чиновничий аппарат, исполнявший его волю. И чем выше сидел партийный чиновник, тем больше в нем было цинизма и лжи, тем жирнее и слаще был его пряник, тем дальше он был от первоначальной идеи построения светлого будущего человечества. Со временем они спрятались за высокими заборами своих охраняемых спецохраной особняков и дач. Их спецраспределители, спецбольницы, спецсанатории, спецбани, спецугодья для охоты и рыбалки были засекречены, скрыты от глаз окружающих, неприступны. Они жили, действительно при развитом, процветающем преступном «социализме» (даже с элементами коммунизма).
В конце 60-х — начале 80-х мы снимали дачу в правительственном месте. Прекрасная природа и нищая обслуга правительственных дач. Правда, магазин там обслуживался не так, как в Москве. (Как говорила моя сестра: «Чтобы слуги не смотрели в рот господам»)
Иногда, опоздав на электричку (поезда там ходили нечасто), мы выходили «голосовать» на правительственное шоссе. (На нем не было иных машин, кроме черных). И порожний шофер иногда подхватывал нас. Дорога развязывает языки, и шоферы иногда рассказывали нам, как враждуют партийные боссы, если один получает 3-х-звездочный коньяк, а другой 5-звездочный, и т.п.. Сталин положил этому начало, он предопределил их путь, по которому они шли до самого краха. Но это все впереди, а при жизни его главные «качества, необходимые членам новой партии Сталина, — пресмыкательство и безжалостность», [102].
Между знаменитым 17-м Съездом Победителя в 1934 году и 18-м — в марте 1939 года прошло 5 лет, в течение которых Сталин создавал свою партию. 5 лет Большого Террора. Сталин больше не рискует. Он собирает съезд уже другой партии. От партии 1934 года остались серенькие «рожки да ножки», от ленинской — практически никого. (После убийства Троцкого в 1940 году из соратников Ленина он остался ОДИН).
Из 1966 делегатов 17-го Съезда 1108 были обвинены в контрреволюционной деятельности и практически уничтожены. Из оставшихся только 59 человек стали делегатами 18-го Съезда, из них 24 — члены ЦК, а рядовых всего 35, менее 2%. Из 139 членов ЦК и кандидатов 115 исчезли, из них 110 были уничтожены.
Почти перед открытием съезда неожиданно (очень во-время) при неясных обстоятельствах умерла Н. К. Крупская. А на похоронах Сталин сам нес ее урну. (Сталин ее ненавидел). При жизни после смерти Ленина она была практически лишена всех прав и возможности влиять на события.
Следующий съезд он созовет только в 1952 году, за год до своей смерти.
Широкая волна Большого Террора накрыла страну, смывая с ее лица и тела краски, драгоценности талантов и достоинств, оставляя серость, убогость и нищету, материальную и духовную.
В сталинском терроре была твердая линия и непрерывная нить: в основе ее был троцкизм (ненавистное имя Троцкого дало определение всему, что он истреблял с особым тщанием и зверством). Потом они слились в терроризм, вредительство, шпионаж. Всех сплетали в единую нить заговоров и вредительства. Крупные деятели и скромные специалисты сплетались в одну сеть, сливались в один кровавый поток.
Периодически менялся и аппарат НКВД. Ягода — Ежов — Абакумов — до Берии. (Этот удержался дольше других, до конца: есть предположение, что он опередил Сталина перед новой заменой, опередил навсегда…)
Периодически их необходимо было уничтожать: они слишком много знали.
По отношению к ним их сменщики были так же жестоки, как и они к своим жертвам. Они хорошо знали свою «кухню», поэтому многие предпочитали свой выход из «игры» — самоубийство.
«Как сообщают, в 1937 году были казнены три тысячи бывших сотрудников Ягоды в НКВД» [103]. Одновременно был обновлен аппарат Вышинского. Чистка прошла по всей стране. К началу весны 1937 года, после тотальной чистки рядов НКВД и органов юстиции машина была в полном порядке. «Старые коммунисты в полицейском аппарате и в прокуратуре, при всей их беспощадности, уже не годились для новой фазы террора. Тем советским гражданам, которые думали, что страна к тому времени уже была в руках террористов, еще предстояло узнать, что такое настоящий террор» [104]. Это ведь пришли свежие силы НОВОЙ, СТАЛИНСКОЙ, партии! (Как бесконечны выси взлета светлого человеческого гения, так бездонны провалы зла!)
«18 марта 1937 года Ежов выступил на собрании руководящих работников НКВД в их клубе на Лубянке. Обвинил Ягоду в том, что тот был в свое время агентом царской полиции, вором и растратчиком… [105]. Это правда, или полуправда, или голая ложь — не знаю. (Мы знаем, как ковались обвинения в НКВД!). Но ведь и Сталин был агентом царской охранки, — существуют такие утверждения, — и вором, добывавшим крупным разбоем деньги для партии (см „Сандро из Чегема“ Фазиля Искандера!). Какова доля истины в открытом и что сокрыто от суда истории?! Но это „их“ лица… И Ленин делал революцию на деньги Германии, с которой Россия в это время воевала — деньги подлые… „Все средства были хороши“ … А Вышинский в 1917 году требовал суда над Лениным, как над немецким шпионом и предателем. (Вышинский уничтожал наиболее активных деятелей и вождей ленинской гвардии с поразительной ненавистью и презрением). Складывается впечатление, что все исторические деятели той кровавой эпохи: Ленин, Сталин, Троцкий, Вышинский и, надо полагать, очень многие другие — были больны всеохватывающей ненавистью. Наверное, только такие и могут ломать мир, уничтожать миллионы людей и друг друга. И они взялись строить светлое будущее человечества! — История показала, что» можно построить ненавистью и злобой и такими средствами… Что это было? — Дьяволиада?
Как некогда Достоевский прозрел гибельность бесовских идей, так и высокооцененный, но все же, наверное. недооцененный Булгаков это увидел, прочувствовал и описал в мистических своих творениях. Беснование «шариковых», возбужденных и опьяненных явлением Антихриста…
Большой террор
Когда-то меня потряс фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (книгу я не читала). Много дней ходила под впечатлением от этого фильма и далеко не сразу поняла, в чем его сила. — Он отошел от статистики, к которой мы так привыкли, от больших цифр, великих битв, сражений; картин наступлений, отступлений, пожаров, обстрелов, разрушений целых городов, гибели сотен, тысяч людей. Он рассмотрел, как под микроскопом каждую отдельную судьбу. 5 девочек — девушек. Каждая со своими мечтами, своей жизнью, каждая со своей незаметной такой героической смертью. Так нельзя увидеть цветок в букете. Только сорвав один отдельный цветок в саду или в поле, можно (при желании) увидеть его удивительную гармонию, его бесконечную красоту — не только в розе или в виоле, но и в незабудке и даже в лютике.
И когда я думаю о том, что вся эпоха большевизма: и Гражданская война, и Большой Террор, и ВОВ (по вине Сталина столь кровавая) — что это миллионы, десятки миллионов бесконечно трагических судеб, чувствую, что сердце может не выдержать…
Но самое высокое напряжение в этой трагедии — Большой Террор.
Отец народов говорил: «Один человек — это трагедия, а тысяча — это уже статистика» … А если миллионы, а если десятки миллионов?! — Это уже история, это судьба народов и стран.
Мне хотелось бы в этой Великой трагедии попытаться приблизиться и к отдельным судьбам, и увидеть общую картину эпохи, историческую судьбу России и ее народа.
Общая картина Большого Террора — это когда МИЛЛИОНЫ НЕВИННЫХ людей каждый день, каждую ночь ждут ареста, мучений и казни. Сколько раз описан ужас, который охватывал людей, когда они в ночи просыпались от шуршания шин под окном, топота сапог в подъезде и, наконец, оглушительного звонка в дверь.
Кто-то успевал спустить курок пистолета, затянуть готовую петлю в туалете, выброситься из окна, умереть от разрыва сердца. Тех, кто этого не успел, уводили, предварительно перевернув в обыске квартиру на глазах у испуганных детей, обезумевших матерей и жен. Уводили в большинстве случаев — навсегда… Потом забирали семью: отправляли в лагеря, в ссылку. Жен часто расстреливали, как и мужей. Иногда расстреливали всю семью, даже детей, сестер и братьев арестованного. Детей чаще отправляли в колонии или специальные дома для «детей врагов народа». Там они погибали от голода и холода, особенно младенцы. Выживавших позже нередко отправляли в лагеря или расстреливали.
Родители и дети, которым посчастливилось выжить в этом аду, как правило, потом не могли отыскать друг друга, потому что на протяжении многих лет не имели никакой связи, никаких сведений друг о друге (а в некоторых детдомах детям меняли имена и фамилии и воспитывали из них фанатичных большевистских манкуртов, ненавидевших своих родителей).
Не все одинаково уходили под конвоем в бездну. Чаще уходили бледные, молча. Иногда просили родных не волноваться, ибо вины за ними нет, — разберутся, и они вернутся домой. Некоторые сопротивлялись, возмущались несправедливостью ареста. Некоторые знали, что происходит и что их ждет, спешили сказать любимым самое главное. Иногда просили детей отречься от них, а если было возможно, кого-то просили детей усыновить, чтобы уберечь из от судьбы ЧСИР (члены семьи изменников родины).
Так и на расстрелы одни шли спокойно, другие плакали, требовали разрешить им свидание со Сталиным, славили его…
А он плел паутину интриг, требовал дознаний, новых пыток, творил свои «сценарии». Интриган и лицедей, он выработал особый язык. Перед убийством Кирова Сталин многократно вызывал к себе на беседу Ягоду: Ягода получил задание как можно бдительней ОХРАНЯТЬ Кирова. Ягода понял… Через несколько дней Киров был убит.
В начале 1936 года «В НКВД собирают специальное совещание верхушки, зачитывают сообщение о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стоят Троцкий, Зиновьев, Каменев и прочие руководители оппозиции (…). Все собравшиеся, конечно, знают, что никакого заговора нет, но они понимают „глубокий язык“: партия требует, чтобы заговор был, так нужно для успеха борьбы с международным империализмом и раскольником Троцким. В заключение прочитан секретный циркуляр Ягоды: нарком предупреждает о недопустимости применения к обвиняемым незаконных методов следствия, как-то: угрозы, пытки. На „глубоком языке“ это означает: применять необходимо, ибо придется беспощадно ломать подследственных.» [106].
Воистину, НКВД — «Министерство любви».
А что сохраняется в архивах? Как читается «глубокий язык» многие десятилетия спустя? И где дешифраторы? А ведь вполне вероятно, что этот лицедей и стратег всё это делал для истории: потомки скажут: Сталин невиновен, зло творили «органы» вопреки его воле. Он ведь и весь народ втянул в свои преступления, чтобы свалить всё, как всегда, на массы.
В начале террора «Органы» искали какую-либо зацепку: «неправильное» происхождение, поездка за границу, родственники за рубежом, Какое-то высказывание на собрании, в докладе, участие в оппозиции десятилетней давности и т.п.. Но очень скоро выбитые палачами «оговоры» и доносы сексотов оплели огромную часть населения страны, особенно, городского — до 20% и более. «Органы» «закатали рукава» — проблем с арестами не было.
Сам террор постоянно создавал поводы для арестов: недостаточная активность на митинге, клеймящем «врагов народа», проживание на одной лестничной клетке с иностранцем, присутствие на лекции арестованного профессора (иногда арестовывали всю аудиторию) и т.п..
А «мясорубка» ГУЛАГа работала бесперебойно, и «Особая экономическая зона» требовала поставки новых рабов.
И «Органы» трудились в поте лица своего, изобретали новые способы дознания, вынесения приговоров, пухли, жирели, сатанели.
Обвинения, которые обычно предъявлялись попавшим в лапы НКВД жертвам в основном сводились к трем темам: шпионаж, диверсии и попытки покушений на членов Политбюро или «самого». Однако сотрудникам этого учреждения нельзя отказать в фантазии, и вариаций на эти темы было множество, в том числе и экзотические, хотя они редко выходили за рамки, прочно установленные в 1931 году.
Один хирург «сознался» в намерении отравить реку Днепр. Юрист сначала «сознался», что взорвал мост, потом — что вынашивал террористические планы и, наконец, в том, что он японский шпион. Инженер-электрик собирался мобилизовать артиллерийскую батарею, чтобы расстрелять рабочие кварталы Днепропетровска…. Один из руководящих работников лесной промышленности на Украине … «сознался», что умышленно не выполнял план лесозаготовок, так как стремился к восстановлению прав бывших помещиков и хотел сохранить принадлежавшие им леса. … При повторном аресте он «сознался», что приказал вырубить слишком много деревьев, чтобы погубить леса. Другой работник лесной промышленности подписал обвинение, согласно которому он приказал прорубить в лесах дороги для входа польских и немецких танков. Одна женщина получила 10 лет за то, что сказала после ареста Тухачевского, что он был красивый мужчина. Художницу по керамике обвинили в апреле 1936 года в том, что она исподтишка вписывала знак свастики в узор на чайных чашках, а также держала под матрацем два пистолета с целью убить Сталина.
Следует заметить, что никогда ни к каким делам не прилагались материальные или другие доказательства вины, кроме выбитых «показаний» — самооговоров или оговоров. Так и здесь — никаких чашек со свастикой, никаких найденных под матрацем пистолетов….
«Профессор Киевского университета… был объявлен шпионом — в своем учебнике он привел данные о глубине Днепра в различных местах. Другой профессор — еврей, бежавший из Германии, — „передал немецким агентам данные о судоходстве на реке Обь“. Третий был связан с немецкой разведкой — „он передавал сведения о политических взглядах еврейских детей.“ Киевский рабочий сознался в намерении взорвать мост через Днепр (длиной в километр) с помощью нескольких килограммов мышьяка, но ему пришлось отказаться от своих планов из-за дождливой погоды…. Пятьдесят украинских студентов обвинили в создании организации с целью убийства Косиора…. Но в 1938 году стало известно, что сам Косиор арестован как троцкист — и все решили, что студентов выпустят. Но начались новые допросы. Для начала студентов избили за дачу ложных показаний органам НКВД, вместо Косиора был назван Каганович… и студентов отправили в лагеря». Профессора Штеппу, историка Киевского университета, допрашивали 13 следователей в течение 50 дней и установили, что он готовил покушение на Косиора. После падения Косиора Штеппа… был объявлен японским шпионом. (Проходные заготовки были всегда под рукой)…
Некоторые заключенные особенно тяжело переживали необходимость выдать «сообщников», т.е. запятнать ни в чем не повинных людей. Один армянский священник, обладавший прекрасной памятью, назвал сообщниками всех соотечественников, которых он похоронил за последние три года.» [107].
Революция и Гражданская война извратили нравственность и мораль «масс». Война, братоубийство, разбой, надругательство над верой, разрушение всей структуры бытия создали большую группу людей, готовых к любому насилию из «идейных» или иных побуждений — именно из таких набирался аппарат «железно руки партии». И все же к сталинскому масштабу террора готовы были немногие. Кадры НКВД создавались и воспитывались до последних дней жизни Сталина и стали проклятием, которое 3 десятилетия висело над страной, над всем ее активом.
Уже в 1927 году Троцкий был выведен из состава ЦК, затем выслан, сначала в Среднюю Азию, а затем из страны. и в течение 13 лет шла на него охота сталинского НКВД, пока, наконец, очередное покушение не принесло долгожданный успех — в 1940 году Троцкий был убит ледорубом мексиканским коммунистом.
Троцкий был уничтожен как знамя, руководитель противостояния, оппозиции, которых не было, но, прикрываясь пугалом троцкизма, очень кстати попавшим ему в руки, Сталин уничтожал и уничтожил всех, кто мог бы, даже в мыслях, не одобрять его политику, его планы, его террор, кто мог бы угрожать его абсолютной личной власти. Для этого ему пришлось уничтожить, оставив лишь абсолютно необходимое для существования страны (и для будущей войны), все мыслящее, активное, деловое, талантливое.
НО ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ НЕВИДАННЫЙ МЕХАНИЗМ УНИЧТОЖЕНИЯ.
Предстояла Великая кровь. Но большевикам, тем более большевистским вождям, к крови не привыкать. Революции — всегда дело кровавое, но у всякой революции в этом своя мера. Победа российской революции была чрезвычайно кровавой, так как это не была победа революционных масс над правящими верхами общества — это была победа большевиков, в результате переворота захвативших власть, над основной массой народа, над всеми его социальными слоями. Власть большевиков утверждалась тяжелым насилием, а сталинщина довела его до не поддающихся здравому рассудку масштабов.
В 1927 году вступает в силу знаменитая 58-я статья, по которой миллионы советских граждан будут расстреляны или пойдут в лагеря ГУЛАГа на верную гибель.
В этом году Сталин проводит широкую политическую дискуссию, чтобы проверить настроения и выявить потенциальных оппозиционеров в среде интеллигенции и молодежи, прежде всего, студенческой. (Через 10 лет, в 1937-м он всех участников дискуссии уничтожит).
С этого, 1927 года, начинаются чистки в партии.
Но настоящее напряжение во всем обществе: массовые расстрелы, аресты, выселения — вызывает крестьянская политика Сталина: раскулачивание, коллективизация и, наконец, голодомор.
Именно в этой борьбе с крестьянством закладывается краеугольный камень новых сталинских карательных органов. Многочисленные крестьянские протесты, восстания и бунты подавляются карательными органами с особой жестокостью. Чекисты превращаются в клику карателей. За верную службу они получают привилегии, почести и чины, постепенно превращаясь в самый привилегированный слой нового общества.
В 1930 году массовый поток в лагеря арестованных крестьян вызвал необходимость учреждения нового органа в карательной системе — знаменитого ГУЛАГа: Главного управления исправительно-трудовых лагерей во главе с Ягодой — тоже весьма знаменитой фигурой, открывшей несколько позже эпоху большого террора.
Интересно мнение о Сталине одного из работников НКВД: «Из товарища Сталина был бы отличный чекист. Мы, чекисты, чувствуем это в нем. Он и душой, и телом один из наших. Мы друг друга без слов понимаем. У нас общий язык, общие методы работы. Понимаете, что я имею в виду? В самые трудные моменты Сталин обращался за помощью к чекистам, и каждый раз чекисты оказывали ему эту помощь. Многие из его друзей и соратников изменяли Сталину, но ни один чекист не изменил ему никогда! И Сталин умеет это ценить.»
Да, он ценил это! Армия подавления разрасталась до сотен тысяч — до 1,5 миллиона. Их учили, оттачивали их ненависть и беспощадность к «врагу» и преданность Вождю. И увеличивали их тайные привилегии, неведомые, недоступные никаким иным чинам, заслугам, подвигам ни в одной из сфер народного хозяйства и культуры, ни одному общественному слою.
По мере разрастания террора увеличивалась законодательная база (специальные законы, указы), развязывавшая все больше руки палачей, хотя от основания их организации их руки были развязаны всегда. Тем не менее, выискивались все новые возможности давить на жертвы. И эти возможности подкрепляли соответствующими законами. Так, в марте 1933 года было дано официальное право ОГПУ расстреливать людей; 20 июля 1934 года специальным декретом был утвержден принцип заложничества, т.е. под узаконенное преследование попадали родственники арестованных; в апреле 1935 года был принят закон о расстреле детей с 12-летнего возраста (примерно в таком возрасте были дети его «врагов» — вождей партии, которых он наметил к уничтожению) — вождей нужно было уничтожить вместе с детьми!.
Для того, чтобы сломать хребет стране, чтобы перемолоть цвет ее в кровавой мясорубке и не вызвать протестов, нужно было сковать ее СМЕРТЕЛЬНЫМ страхом. (Каждый что-либо понимающий человек чувствовал пистолет у виска.)
НО В ЭТОЙ АТМОСФЕРЕ ВСЕОБЩЕГО СТРАХА САМЫМ БОЛЬШИМ ТРУСОМ БЫЛ ОН САМ. ОН НЕ МОГ НЕ ПОНИМАТЬ, ЧТО ТВОРИЛ. ОН ЗНАЛ, ЧТО ОН ПО ГОРЛО В КРОВИ. ПОЭТОМУ ОН НЕ ЖИЛ — ОН УПИВАЛСЯ ВЛАСТЬЮ И ДРОЖАЛ. От этого еще более зверел, был более беспощаден и изобретателен.
И в этой ситуации НКВД — это была не только его «железная рука», это была его охрана.
«Личная охрана Ленина состояла из двух человек и была увеличена до четырех после покушения Фани Каплан. Личная охрана Сталина состояла из нескольких тысяч человек, и НКВД держал, кроме того, резервные части в постоянной боевой готовности.
Дорога на дачу Сталина, протяженностью свыше 30 километров, охранялась тремя тысячами агентов, снабженных автоматами, телефонной связью и т.п.. Когда Сталин в самом деле ехал по этой дороге, она находилась на военном положении.
Безопасность Кремля охранялась особенно строго. Проверка документов была чрезвычайно тщательной и не допускала исключений даже для крупнейших руководителей НКВД» [108].
Ленин был горячим поклонником якобинского террора. Неприятие масштабного насилия в рядах партии Ленин называл интеллигентской «близорукостью».
Уже 20 декабря 1917 года, менее. чем через 2 месяца после переворота, была создана ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, получившая с самого своего основания право казнить людей на месте, без суда и следствия. Кровавая вольница развращала чекистов. Они зверели, требовали права ПЫТАТЬ людей ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ, пороли крестьян, раздевая их донага, изощрялись в беспощадности.
Весной, 8 марта 1921 года кронштадтские мятежники в «Известиях» Временного Революционного Комитета, матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта писали, что ленинский режим принес рабочим вместо свободы вечный страх попасть в «застенки ЧК», ужасы которых «во много раз превосходят охранку царского времени.»
К тому времени в ВЧК было уже около 31000 сотрудников.
В том же 1921 году отнюдь не мягкотелый чекист Лацис писал: «… работа чрезвычайных комиссий, протекающая в обстановке физического воздействия привлекает аферистов и просто уголовный элемент… Как бы честен ни был человек и каким бы кристально-чистым сердцем он ни обладал, работа чрезвычайных комиссий, производящаяся при почти неограниченных правах и протекающая при условиях, исключительно действующих на нервную систему, дает себя знать. Только редкие из сотрудников остаются вне влияния этих условий работы.» [109].
А в 1923 году Дзержинский, «подлинный пролетарский якобинец», по определению Бухарина: «… святые или негодяи могут служить в ГПУ, но святые уходят от меня, и я остаюсь с негодяями» [110].
Уже в 1918 году появилась идея концентрационных лагерей.
Так зарождалась и крепла «карающая рука» партии, которая потом стала сталинской удавкой.
Наверное, 1927 год можно считать началом твердого наступления Сталина на партию, на страну в его набиравшей силу борьбе за единоличную власть
В «органах» проходили постоянные «чистки», смена состава палачей и следователей. Некоторые кончали самоубийством: одни не выдерживали накала жестокости, другие — чтобы избежать ареста. Они попадали в ту же мясорубку, с ними обращались часто даже более жестоко, чем с остальными арестованными. И обычно — ликвидировали.
Р. Конквест пишет: «В основной своей массе офицеры НКВД… обращались с заключенными, как со скотом — о сочувствии не могло быть и речи. Но бывали и исключения, свидетельствовавшие о том, что даже в этих условиях исконная русская человечность неожиданно прорывалась наружу. Двое бывших заключенных отмечают, что «среди работников НКВД всех уровней, от простого надзирателя до начальника тюрьмы и даже самих следователей, встречались люди, которые нередко шли на нарушение правил. Рискуя собственной свободой, они отыскивали возможности, чтобы улучшить участь заключенных, тайно передавали им продукты и сигареты или старались ободрить словом.
Очевидец рассказывает, что в Бутырской тюрьме с командиром РККА Васильевым был однажды такой случай: «Когда окровавленного Василька — такое прозвище дали ему сокамерники — отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним и вместо того, чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Василек подставил голову под кран — и рыдал, не столько от боли, сколько от пережитых оскорблений и издевательств, а дежурный стоял над ним, по бабьи подперши щеку ладонью: „Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем не сладко живется, а терпеть надо. Ну, избил он вас почем зря, а вы пренебрегите: его черной душе теперь может еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вы сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?“ Мы удивились: избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть веселый…»
В 1937 году среди раннего поколения офицеров НКВД еще сохранились люди, которые сочувственно относились к старым большевикам. Антонине Левкович, арестованной в 1937 году «жене врага народа», не раз приходилось встречаться с добротой, хотя обычно это ни к чему хорошему не приводило. Высланная с группой женщин из Москвы в Киргизию, она встретила в Джамбуле работника НКВД, который старался спасти ее и высланных с нею женщин от голода. Он был обвинен в «непозволительной жалости к женам врагов народа» и застрелился, чтобы избежать ареста.
(Как редкие светлые пятна в мрачном аду в историю ГУЛАГа вошли имена Начальника Владимирской тюрьмы, Начальник Дальстроя, — кажется, его фамилия Берзин, — он заплатил жизнью за свою «неуместную» доброту; начальник Карагандинского лагеря для жен и детей «изменников родины» и, наверное, немногие, другие. Они за доброту платили особенно дорого, и они хорошо знали, что их ждет…).
«…Нормой была безжалостная жестокость или в лучшем случае — тупое безразличие к смерти и страданиям. Е. Гинзбург пишет, что «не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством, шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступеням от человека к зверю.» [111].
Сталин работал над тем, чтобы не было ни доброты, ни самоубийств. Состав и дух этой службы менялся и укреплялся. Систематические чистки и аресты меняли состав НКВД. Вместо старых, среди которых еще встречались «сердобольные», приходили новые, воспитанные Сталиным, его «твердостью» по отношению к «врагам», подкованные его теорией об «обострении классовой борьбы», а главное — вооруженные новыми привилегиями, зарплатами, званиями, чувством своей великой значимости и осознанием первостепенной роли в обществе.
Постепенно из рядов НКВД исчезли те, кто знал, что обвинения абсолютно ложны, кто испытывал уважение к старым большевикам и заслуженным партийцам, кто мог сочувствовать заключенным и даже стараться иногда облегчить их страдания, особенно женщинам. На смену им пришли вышколенные, специально обученные, хорошо откормленные палачи, уверенные в своей КЛАССОВОЙ правоте, жестокие и неспособные к состраданию. Если вначале большинство сотрудников НКВД знали об абсолютной лживости обвинений или сомневались в виновности заключенных, то последующие поколения палачей, следователей и надзирателей не сомневались и не задумывались. Это была сталинская гвардия, «железная рука» новой сталинской партии.
НКВД стал не только аппаратом истребления и устрашения, но и школой палачей, многоуровневой, во главе которой стоял он Сам, главный сценарист и режиссер.
Нижние, младшие чины и службы — ВОХР — эти воспитывались примерно так же, как их псы. Им вбили в их безграмотные пустые головы и души ненависть, презрение и беспощадность к этим «врагам», нелюдям, которых они охраняли. Почему враги, почему нелюди — они не понимали, но сбить их с этого отношения было практически невозможно. Они без всякого сожаления держали их по несколько часов на 50-градусном морозе или 50-градусной жаре, они волоком (лошадьми) тащили на работу полумертвых, которые уже не могли идти, и умирали по дороге или тут же на работах, — и никаких при этом движений души (да там души и не было) — как и у их собак…
Безжалостность к заключенным поддерживалась, питалась, ожесточалась тем, что их же организация, НКВД, была к своему собственному персоналу, к своим собственным функционерам и верным псам не более «жалостлива», чем к «врагам народа». В их рядах шли периодические чистки, и их уничтожали чрезвычайно жестоко.
Вот цитата из Р. Конквеста: «В большинстве крупных лагерных районов существовали такие особые и совершенно секретные «центральные изоляторы», обслуживавшие целую группу лагерей каждый. Есть свидетельство, что за два года — 1937 — 1938 — в центральный изолятор Бамлага (Байкало-Амурский комплекс лагерей) переведено около пятидесяти тысяч заключенных и там уничтожено. Жертвы связывали проволокой, грузили, как дрова, на машины, везли в укромные места и расстреливали.
Венгерский писатель-коммунист Лендьел, ветеран-заключенный сталинских лагерей, описывает один из таких лагерей уничтожения возле Норильска в своем рассказе «Желтые маки». Закрытие этого лагеря было выполнено так: СПЕРВА РАССТРЕЛЯЛИ ВСЕХ ОСТАВШИХСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, А ПОТОМ ПРИБЫЛИ СПЕЦКОМАНДЫ НКВД И РАССТРЕЛЯЛИ ПЕРСОНАЛ И ОХРАНУ ЗАКРЫВАЕМОГО ЛАГЕРЯ. Из-за вечной мерзлоты похоронить убитых было невозможно, и из трупов сделали естественно выглядевшие холмики, сложив их кучами и засыпав привезенным на грузовиках грунтом. Даже в ближайших лагерях об этом ничего не знали — и даже тогда, когда бывший лагерь смерти заняла тюремная больница [112].
Надо полагать, что эти, расстреливавшие всех подряд, врагов и своих, потом были расстреляны тоже. И расстрельные команды НКВД вряд ли были «долгожителями» в этой системе.
Массовость и беспрецедентность преступлений НКВД требовали постоянного отстрела «перегруженных» «впечатлениями» и «опытом» сотрудников. Иначе существование организации и ее дисциплина осложнились бы самоубийствами, сумасшествиями или неудержимым садизмом.
Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин» пишет, что он проверял по документам, действительно ли Сталин был сценаристом и режиссером показательных процессов и наиболее громких расправ. — Да, действительно, был, — был Сам! В архивах сохранилось немало расстрельных списков, подписанных Сталиным, а иногда не им одним, а и его сатрапами: Молотовым, Кагановичем, Хрущевым. Списки самых видных деятелей Центра и Союза, идущих под расстрел, он подписывал сам. На гребнях террористических волн такие списки он получал почти ежедневно. Но наши архивы не только не раскрывают всего до конца, но и хранят далеко не все. Многие распоряжения и в Центре, и на местах давались устно, многие документы уничтожались сразу, многие — в напряженные моменты истории. Сталин уничтожал не только мертвые бумаги, но и живых соучастников своих преступлений не только в системе НКВД, но и гражданских исполнителей его указов: тех, кто подготовил и провел убийство Кирова; врачей, которые оперировали Фрунзе; врачей, которые помогли так во-время уйти Крупской, Горькому, профессору Бехтереву — несть им числа. (Последние трое были отравлены. Изучение и широкое использование ядов в НКВД было поставлено нижегородским аптекарем Генрихом Ягодой.) Причем, уничтожались дочиста, широко, чтобы нигде никто никогда не сумел что-либо конкретное сказать или вспомнить…
«Сталин, судя по всему, дал официальное указание о применении пыток еще в начале 1937 года. Тогда эта инструкция осталась секретной, но после снятия Ежова… Сталин подтвердил прежнее указание, и постфактум и на будущее, в ШИФРОВАННОЙ телеграмме от 20 января 1939 года», [113]. (Курс. мой).
(И в расстрельных списках стояли номера — сейчас историки занимаются их расшифровкой).
С сотрудниками НКВД, особенно со следователями и палачами, «он» расправлялся весьма жестоко. Их часто меняли, убирая старых. Наверное, это тоже нужно было умело организовать, чтобы новое пополнение не знало обо всем и могло надеяться избежать такой судьбы.
Большинство следователей, особенно в начале террора, как правило, знали, что пытают невиновных. Далеко не всякий может долго выдерживать такой груз. Среди работников НКВД было много самоубийств и помешательств. (Предполагают, что к концу своей карьеры и Ежов сошел с ума). Это все было очень опасно. Их надо было «убирать» раньше.
Сталинские кадры были много «закаленнее» старых. Это была банда сатанистов, которая спокойно гоняла невинных людей по одному из самых страшных кругов сталинского ада — самооговоров. Самооговор — это сатанинское изобретение (как и многие другие извраты, изощрения лжи, коварства и насилия ЕГО «Органов». )
Самооговоры и оговоры — это тоже не только имена и подпись. Человека заставляли не просто подписать ложь на себя, а написать под диктовку схему или план широкого заговора против советской власти, против советского народа, в который была втянута широкая сеть конкретных, ни в чем не повинных и ни о чем не ведающих лиц, подлежащих по планам «Органов» (Сталина) уничтожению. Так вилась непрерывная цепь кровавых дел, ибо завтра арестовывали всех перечисленных в подписанном «документе» (а зачастую они уже находились в соседних камерах с истязаемым.)
Глава Ленинградского НКВД в годы террора Заковский хвастал, что «если бы ему пришлось допрашивать Карла Маркса, то он быстренько добыл бы признание, что Карл Маркс был агентом Бисмарка.» [114].
Конечно, «железная рука» партии, а особенно «рука» Палача собирала подонков «низшей категории», любивших в следствии, как и их вождь, не поиск истины, а власть над ближним, пытки, кровь, унижение и уничтожение человека. Вероятно, это форма психопатологии или дьяволиада.
Но не всегда этими жерновами, перемалывавшими народ и лучших его представителей, становились заведомые подонки.
Мира Линкевич в своих воспоминаниях [115] описывает, как двое парней, деревенский и городской, способные сочувствовать и улыбаться, у нее на глазах, в очень короткий срок, превращаются сначала в грубых следователей — роботов, потом более изощренных и жестоких. Их интенсивно дрессируют, вооружают недоверием, презрением, цинизмом и беспощадностью. Так юноши, которые были «задуманы», как добрый человеческий материал, превращаются в человеческие отбросы. Они были «чистой доской», на которой «органы» не вписали — вколотили свою программу. Они постепенно утверждаются в злобе, в своей правоте. А потом наступит и их час…
Основной особенностью «органов», их сути, их роли в общественной жизни страны, их собственной судьбы был «он» Сам — их Учитель, Вдохновитель и Отец. Он определял весь стиль их работы, законы, по которым они жили и исчезали из жизни. И наиболее успешными были те, кто умел соответствовать его духу и воле.
Он вооружил их неограниченным правом истязать людей. Поощрялась особая жестокость, изобретательность и изощренность пыток. Малое количество оговоров считалось потерей бдительности, притуплением классового чутья — такой сотрудник подлежал ликвидации. Это стимулировало совершенствование палачей, повышение их «садистской квалификации», развивало «воображение», изобретательность.
Чтобы уничтожить миллионы невинных людей (играя в «правосудие»! ), каждому создать необходимое «дело», нужна была недюжинная фантазия.
Несомненно, в этой бойне, как в любом большом деле было немало «творческих» личностей. Изощренность пыток, разнообразие способов психологического давления и мн. др. не принадлежат ему одному: «он» вдохновлял — они творили.
По методу Ежова, задача НКВД состояла в том, чтобы ЗАСТАВИТЬ «СОСТРЯПАТЬ ДЕЛО» САМОГО АРЕСТОВАННОГО. Для этого была отработана особая система допросов и пыток — так называемый «конвейер».
«Конвейер мог сломить любого за 4 — 6 дней, но большинство выдерживало только 2 дня» [116].
В книге «Архипелаг ГУЛАГ» А.И Солженицын описывает некоторые виды пыток. Например, человека поджаривают в камере, где и так почти нет воздуха; температуру поднимают до тех пор, пока из тела начинает выступать не пот, а кровь; увидев это в глазок, арестанта на носилках несут подписывать приговор. Или бросают в темноте в бассейн с нечистотами.
В 1937 — 38 годах, ввиду особой ситуации, следователям была предоставлена неограниченная свобода в выборе и применении пыток.
(В 1939 году, в связи со снижением интенсивности террора, широкое разрешение было снято; самое жестокое время — середина 1938 года). Но уже с конца войны — снова был разрешен широкий диапазон пыток, особенно в отношении определенной категории арестантов. [117].
«Когда темпы репрессий опередили ПРОИЗВОДСТВЕННУ МОЩНОСТЬ следственных органов, был введен БОЛЕЕ ПРОСТОЙ МЕТОД ИЗБИЕНИЯ. (Курсив мой). Дата этого нововведения в Москве, Харькове и других местах известна точно: 17 — 18 августа 1937 года». Заключенные ЗАЛЕПЛЯЛИ УШИ ХЛЕБОМ, чтобы не слышать криков избиваемых женщин. В Бутырках в это лето был освобожден для ночных допросов целый этаж одного крыла. С 11 вечера до 3 часов утра женщины в расположенных поблизости камерах не спали — стоял страшный шум. «Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Одна из молодых женщин чуть не сошла с ума, думая, что узнала голос своего мужа», — рассказывает Е. Гинзбург [118].
Применение этих пыток было прямым указанием Сталина. [119].
Пыткам нередко предшествовала предобработка.
Венгерский коммунист Иожеф Лендьел рассказывает, как он был переведен из обычной камеры в особую, еще более ужасную, чтобы «прийти в форму» перед встречей со следователем. В первой камере 275 человек жили «на, между и под 25 железными койками» Новая представляла собой «герметически замкнутое пространство», где было влажно и жарко. Свежий утром хлеб был покрыт плесенью к полудню. У некоторых заключенных начинались сердечные приступы. Другие сходили с ума. Сам он подхватил желтуху и какую-то накожную болезнь, от которой руки и ноги покрылись язвами. Когда Лендьел вернулся в прежнюю камеру, товарищи его не узнали.
Еще страшней была «нора» на Лубянке… темное и душное помещение в подвале размером около 25 квадратных метров, где не было никакой вентиляции, за исключением щели под дверью. Туда загоняли по 60 человек и держали неделю, а иногда и больше. У всех начиналась тошнота и сильное сердцебиение, многие страдали экземой. [120].
Людей превращали в кричащие, корчащиеся куски мяса, которые клеветали, оговаривали себя и других. Кусок мяса, который уже не человек — это страшнее трупа, он не может ставить подписи. Но это была цель! Разобщить душу и тело, умертвить, разрушить душу, изувечивая искусно тело. Есть ли более абсолютное сатанинство?!
Тот, кто лишает человека жизни — преступник перед людьми и перед Богом; но тот, кто превращает человека в кусок измученного мяса, кто лишает его человеческого облика, — преступник десятикратно!
Под такими пытками невинные люди «сознавались» в том, что они немецкие, японские шпионы, что они отравляли зерно, воду в реках, портили сталь, ломали станки, готовили покушения на Членов Политбюро и Самого Сталина и мн. мн. другое — некоторые оговаривали себя так, чтобы ускорить расстрел и прекратить мучения.
Некоторые заключенные, уже умудренные опытом, со своей стороны, помогали новеньким придумать определенную версию преступления.
Пытки «по конвейеру» — это был непрерывный допрос, продолжавшийся часами и днями, которые вели сменные бригады следователей. Многодневные непрерывные пытки ломали почти любое сопротивление. Наступало физическое отравление от усталости, не менее мучительное, чем пытка. Были допросы, продолжавшиеся без перерыва 11 дней, причем последние 4 дня — стоя. Заключенные падали в обморок каждые 20 минут, их отливали водой или били по лицу, и пытка продолжалась… Если человек не умирал под пытками и не подписывал нужных бумаг, применялся традиционный, излюбленный прием палачей, попирающий человеческое достоинство, который ломал самых стойких: измученному человеку плевали в лицо, заталкивали лицо в плевательницу, мочились на голову…
«Один командир дивизии показал, что он завербовал всех командиров в своей дивизии, до командиров рот, включительно. Таких примеров можно привести множество.» [121].
(Особенно упорных переправляли в Лефортовскую тюрьму — она славилась своими особыми зверствами.)
Применялись и более изощренные, психологические пытки: водили на ложные расстрелы, устраивали «случайную» встречу в коридоре тюрьмы с дочерью подсудимого в руках стражника, или сумочка жены оказывалась на столе следователя…
(У моего мужа был сотрудник Бенцион Ильич Лурье. Он был почти слеп: зрение у него было что-то около минус 13. Он потеря зрение в детстве. В 6-летнем возрасте его избивали и истязали в НКВД в присутствии родителей, чтобы те подписали на себя компромат. Они подписали все, что от них требовали, и оба были расстреляны.)
Поскольку поток арестованных не должен был прерываться, пытаемый обычно должен был оговорить не только себя, но и своих «сообщников». Эту необходимость «выдавать» ничем не повинных людей заключенные переживали особенно тяжело.
А один арестованный под пытками оговорил полгорода: он решил, что этот абсурд заставит верхи обратить внимание на методы дознания. Наивный человек — он не понимал, что ТАЙНО, наверное, ВСЕ, до последнего охранника, знали, что все дела СФАБРИКОВАНЫ, ЛОЖНЫ. Другое дело, что большинство из них видели в арестованных врагов, может быть, потенциальных, и при необходимости показания несчастного «идеалиста» могли быть использованы против многих из тех, кто был в его списке.
В этих условиях обвинения, оговоры и самооговоры были и чудовищными и фантастическими».
Были единицы, которым удавалось устоять, не подписать ложных обвинений. Они получали смягченные приговоры, иногда даже выходили из тюрем и лагерей, но, как правило, очень скоро снова попадали в эту мясорубку и исчезали.
Кроме пыток физических и психологических, которые осуществляли заплечных дел мастера, была еще пытка условиями содержания. Об этом пишут все, кто прошел через эти мучения и выжил, все, кто так или иначе приближался к изучению этого вопроса.
Тюрьмы России и СССР не были готовы к наплыву такого количества «врагов народа», когда сам народ оказался врагом самому себе.
Камеры тюрем были переполнены настолько, что не всегда все в них находящиеся могли одновременно сесть. Сидели, тем более спали, — по очереди. Если все одновременно могли впритирку на боку улечься на полу, — это был уже почти курорт.
В Ленинградских «Крестах» в камере, предназначенной для одного, сидело 16.
К осени 1937 года в Харьковской тюрьме, рассчитанной на восемьсот человек, находилось двенадцать тысяч. [122].
В Бутырской тюрьме осенью 1937 года в камере, рассчитанной на 25 человек, находилось 275 женщин. Иногда скученность достигала такого предела, что половине заключенных приходилось стоять, пока другие спали.
На периферии было еще страшнее, чем в столицах. В Сибири, например, когда арестованные ни при каких усилиях не утрамбовывались в камерах, в земле выкапывали ямы, покрывали крышей и сгоняли туда арестованных. Периферия не отставала от столиц, работала широко, свободно и творчески…
Такой обвал арестов, переполнение тюрем требовали быстрого вынесения приговоров. Необходимо было найти новые формы судопроизводства. И они были найдены: в условиях абсолютного беззакония это было несложно.
«Большая часть приговоров «политических», по подсчетам одного заключенного, около 90% [123] выносилась Особым совещанием (ОСО). В Москве и столицах союзных республик оно состояло из заместителя Наркома внутренних дел (Наркома внутренних дел соответствующей союзной республики), начальника Главного управления милиции, Генерального прокурора СССР или его заместителей. ОСО ВЫНОСИЛО СОТНИ ПРИГОВОРОВ В ДЕНЬ. («ГУЛАГ» приводит цифры: 789, 872 и даже 980) [124].
На периферии с августа 1937 года стали действовать «тройки» — их функции напоминали деятельность чрезвычайных трибуналов во время Гражданской войны.
«Тройки» ввел Сталин, когда стены тюрем трещали, а следователи не успевали выносить смертельные приговоры, чтобы отстреливать избыточных в камерах. «Тройка» состояла из первого секретаря местного парткома, представителя НКВД и прокурора. В отличие от ОСО, у нее были полномочия выносить СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ. Они выносились в течение нескольких минут, были окончательными и приводились в исполнение НЕМЕДЛЕННО. Поскольку 99,9% не имели вообще никакой судебно-наказуемой вины, приговоры осужденных зависели от прихоти той волны террора, которая их накрыла: иногда все вкруговую получали «вышку», иногда 25 лет, иногда — 10. Иногда дела вообще рассматривались заочно. ПРАВО НАКАЗЫВАТЬ НЕВИНОВНЫХ, т.е. когда состав преступления фактически отсутствует, закреплено было ЗАКОНОДАТЕЛЬНО (в статье 22 «Основ уголовного законодательства»). Многие были уничтожены без суда и следствия, ибо сам Вышинский утверждал, что «если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить.» [125].
В отдельные периоды, когда накал террора зашкаливал, выходя за пределы допустимого, «тройки» неустанно трудились по всей стране и в тюрьмах, и в лагерях. «Тройки» расстреливали «по альбому» и «по списку» — сотнями, тысячами, без суда и следствия. Примерно с середины 1937 года в местные управления НКВД стали поступать официальные разнарядки по количеству лиц, подлежащих аресту и расстрелу. Кровавая вакханалия приняла такой размах, что ВЕРХ спустил распоряжение упразднить «тройки» (28 ноября 1938 года новый хозяин НКВД Берия подписал соответствующее распоряжение). Количество смертных казней резко сократилось, но поток заключенных в ГУЛАГ оставался непрерывным и мощным. Этот поток лился на сталинские «великие стройки коммунизма».
Все члены этих «троек» позже были тоже расстреляны.
Все свидетели, исполнители нечеловеческих преступлений должны были исчезнуть; документы засекречивали, самые страшные уничтожали или писали специальным языком, когда форма предполагала противоположный смысл.
Великая мясорубка работала бесперебойно и слаженно. Сегодняшние убийцы завтра становились жертвами, на их место приходили новые убийцы и новые жертвы. ТАК УНИЧТОЖАЛАСЬ И САМОУНИЧТОЖАЛАСЬ ПАРТИЯ, УНИЧТОЖАЯ СОБСТВЕННЫЙ НАРОД.
А весь народ на митингах требовал новых жертв.
«Он» не сам вершил геноцид — он призвал к этому всех: сами «сознавались», сами подписывались, сами вершили суд. Так что, не вините его, люди, — он был гений сатанинства. Он все преступления совершил ВАШИМИ РУКАМИ. Он создал сценарий невиданной большой долгоиграющей пьесы. Он долго создавал ее, учился у себя и у других, проверял, отступал и наступал снова. Он создал роли и определил исполнителей. У каждого актера (как и у каждого зрителя) курок был у виска. Альтернатив не было, даже если конец роли угадывался или был известен (хотя живому человеку свойственно надеяться…) Многие спускали курок сами, не доиграв. Самоубийство — это было специфическое закулисное сопровождение пьесы. Надо сказать, что и пьеса вся игралась за закрытым занавесом.
Виды «соучастия» были чрезвычайно разнообразны. В 1937 году аресты ответственных работников должны были подписываться руководителями их ведомств: на производстве, в науке, в культуре. Сталинский террор заставлял не молчать в смертельном страхе, а кричать (!) — об опасностях шпионажа и вредительства, о необходимости уничтожения врагов, о мудрости Вождя, о радости жить в самой свободной стране победившего социализма.
Сталин заставлял видных партийных деятелей быть палачами своих товарищей. — Доходил ли до таких «глубин» Хозяин Ада?! — Нет, эти новые «круги» создало его земное человекоподобное отродье!
Сталин любил театр. И сам был «сценаристом» и «режиссером». Он создавал великие трагедии, но не шекспировские — там судьбы вершили люди, эдесь вершил Сатана: и сцена, и кровь, и страдания, и «изыски» мучительства здесь были иных масштабов.
В 1937 году праздновали 20-летие ВЧК. СТАЛИН ПРЕВРАТИЛ ЭТО В НАЦИОНАЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО, КОТОРОЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЦЕЛЫЙ ГОД (!!!) В «Правде» от 21 декабря 1937 года («его» день рождения!) Микоян в своем докладе к 20-летию ЧК-НКВД огласил лозунг партии — ее цель: «КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН СССР — СОТРУДНИК НКВД» [126]. (Курсив автора). Это значит, каждый — соглядатай, доносчик, предатель, провокатор, если не ВОХРовец или палач.
Это торжество происходило на самом пике Великого Террора, самого страшного в истории человечества. И воспевалась залитая кровью народа «железная рука», которая в этот момент особенно ожесточенно и яростно кромсала и мучила народ.
«…12 ноября 1938 года Ежов на клочках грязной бумаги (нет времени — расстрелы идут днем и ночью) торопливо пишет: «Товарищу Сталину. Посылаю списки арестованных, подлежащих суду по первой категории» (расстрел). И резолюция: «За расстрел всех 3167 человек. Сталин. Молотов.»
Подпись Хозяина на 366 списках — это 44 тысячи человек.
Редко, но он вычеркивал людей из страшных списков. Так он вычеркнул Пастернака, Шолохова — еще пригодятся в хозяйстве. Он работал без устали, разгоняя маховик репрессий» [127].
Остановись на минуту, читатель! Что было бы в нашей стране, если бы в ней действительно было 44 тысячи (даже 4, 44) преступников, достойных смертной казни: шпионов, диверсантов, предателей! — у нас были бы взорваны все заводы и шахты, проданы врагам все научные и военные секреты, отравлена вода в водопроводах, загублена рыба в реках и т. д. — без конца… но нигде, ни в одном деле не фигурирует, не предано гласности какое-либо конкретное крупное вредительство. Всегда какие-то «замыслы», «связи», «встречи» с какими-то зарубежными троцкистами и прочая бесконечная чушь, которая никогда не проявлялась действием.
Это 44 тысячи расстрелов, подписанных самим Сталиным. (В этих списках — самые значимые!) А сколько десятков тысяч подписано по всей стране разгулявшейся, опьяневшей от кровавых оргий энкавэдэшной шантрапой?! А сколько расстрелов без всяких бумаг и подписей в безумии уничтожения народа?
Как-то ночью по ТВ шел фильм (не помню его названия –было предупреждение: слабонерным и детям не смотреть!) Фильм именно об этом. — О расстрелах во времена разгула террора где-то на периферии.
На глазах у зрителя расстреливают нагло, цинично, как скот, около сотни достойных людей, в основном интеллигенцию, раздевая их догола, всех скопом: старых, молодых, мужчин и женщин — под музыку патефона. Расстреливает молодая энкавэдэшная шваль, смеясь и кощунствуя. — Впечатление от этого кошмара не проходит долго и не забывается никогда. А если не на экране, а в жизни? А если не сотня, а сотни тысяч?!
Кровавые оргии достигали иногда такого накала, что кадровые пустоты грозили глубокими провалами в экономике. Тогда дирижер приостанавливал «торжество», изрекая: «Кадры решают все»; «Сын за отца не отвечает», — испугавшись, что рьяные сатрапы в исступлении холуйства и страха передушат весь народ, и Отец народов повиснет над пустотой.
В сталинской давильне практически не было возможности протестовать. Любое выражение недовольства, несогласия, даже сомнения грозило неминуемым арестом и, соответственно, почти неминуемой гибелью (90% политических репрессированных погибли).
Известен случай с девочками — ученицами 9-го класса одной из школ. Когда арестовали их любимого учителя истории, они посмели выразить недоумение и усомниться в том, что такой прекрасный учитель и такой прекрасный человек мог быть «врагом народа». (Это не было протестное выступление — только сомнение). Им дали окончить и 9-й, и 10-й классы. Но на выпускном балу их арестовали. В тюрьму, на этап, в ГУЛАГ они так и ушли в белых бальных платьях…
Можно было не соглашаться, протестовать внутри, но этот внутренний протест всегда был опасен возможностью неожиданного прорыва.
В этот период было много самоубийств. Но такой «не запланированный», самовольный выход из «игры», такая демонстрация неблагополучия не устраивала власти, и официальная пропаганда резко осуждала самоубийства. Но не всякий даже отчаявшийся человек мог позволить себе такую «роскошь». По-видимому, психологические проблемы для людей, скованных разобщенностью, одиночеством, слежкой и страхом реально нависающей опасности были сродни тем, которые были весьма существенны для узников так называемых внутренних тюрем — их окрестили «могилами». В них не было такой скученности, грязи, духоты, смрада, как в обычных тюрьмах, но было почти полностью запрещено всякое общение, угнетало почти постоянное наблюдение через глазок, строгий режим сна, поведения и т. д. Обычно в них отбывали срок важные политические заключенные, не подлежащие немедленной ликвидации — в том смысле, что они нужны были для новых процессов.
Советы, как выжить в таких условиях, артиста Большого театра Орловского, проведшего в такой тюрьме 5 лет, приводит Роберт Конквест: «Во-первых, вы должны полностью отрешиться от действительности — перестаньте думать о себе, как о заключенном. Вообразите себя туристом, который на время попадает в непривычную обстановку. Не признавайтесь себе самому в том, что условия здесь плохие, потому что они могут быть еще хуже, и вы должны быть к этому готовы. Старайтесь не вникать в повседневную жизнь изолятора — не слышать его звуков, особенно ночью, не чувствовать его запахов. Старайтесь забыть о существовании часовых, не смотрите на них, не обращайте внимания на выражение их лиц. Перестаньте мечтать о том, что вскоре. вам, возможно, удастся покинуть изолятор. Не пытайтесь вновь обрести свободу такими методами, как голодовка или признание своей вины, или мольбой о жалости. Престаньте тосковать о друзьях, которых вы оставили на воле.» [128].
Возможно, многие из тех, кто понимал, что происходит, но оставался на воле, впадали в такой «охранительный» ступор.
Основная же масса, не утруждающая себя мыслью, жила своей жизнью: слушала радио, ходила в кино, радовалась успехам социалистического соревнования, славила Вождя, старалась выживать.
Многие из тех, кто видел аресты, но стоял достаточно далеко от тех, кого загребала «железная рука», чувствовали себя спокойно и в безопасности, вооруженные еще одной крылатой и очень своевременной, как всегда, сталинской фразой: «У нас зря не сажают.» Очень удобно и утешительно: нас не тронут. А те — виновны — ну, и поделом им…
Все так называемые «политические» дела подпадали под 58-ю статью. Она была настолько ёмкой, что под нее можно было подвести ЛЮБОГО человека, которого НКВД решило репрессировать. И рамки ее расширялись по мере разрастания террора.
Под политическую 58-ю можно было подвести любое уголовное преступление: хищение имущества (государственного или частного), нападение (например, на пионера, члена партии, ударника социалистического труда, советского работника), поджог (соседские разборки, месть) и т.п.. Широко и печально известен закон о «колосках».
«Вышинский заявил, что не существует общеуголовных преступлений, что сейчас эти преступления превращаются в преступления политического порядка. Он предложил пересмотреть общеуголовные дела в целях предания им политического характера.» [129] Это ужесточало наказания, увеличивало сроки. Это был значимый довесок к основной массе сфабрикованных «политических» дел при отсутствии преступления и вины. Все это, безусловно, делалось для нагнетания психоза в стране, для усиления страха.
«Поучая прокуроров «искусству распознавания вредителей», Вышинский утверждал, что это достигается не путем полной, всесторонней оценки собранных по уголовному делу доказательств, а «политическим обонянием». [130]
Вынесение приговоров, как и следствие, было таким же бандитизмом, возведенным в рамки специально быстро испеченных законов.
«…в суд попадала только небольшая часть дел. В статье 8 «Исправительно-трудового кодекса» говорится, что «лица, приговоренные к заключению в исправительно-трудовые лагеря, направляются туда: а) по приговору суда; б) по постановлению административного органа».
Новизна и темпы социалистического строительства сопровождались появлением множества аббревиатур. Скорости штампования приговоров не могли не использовать это облегчение делопроизводства. Вот они: КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность; КРД — контрреволюционная деятельность; (в книге А. И. Солженицына «В круге первом» машинистка, любившая заключенного «шарашки» при высылке его в лагеря, печатая его бумаги, «нечаянно» пропустила «Т» — это значительно смягчало его судьбу: «троцкизм» — самый страшный термин сталинских репрессий); КРА — контрреволюционная агитация; ЧСИР — член семьи изменников Родины; ПШ — подозрение в шпионаже; СОЭ — социально-опасный элемент; СВЭ — социально-вредный элемент.
Даже еще в начале 1937 года приговоры «врагам» были относительно мягкие: 3 — 5 — 8 — 10 лет. Постановление от 14 сентября 1937 года дало возможность налагать наказания за контрреволюционную деятельность без всякого соблюдения судебных норм. Приговоры стали строже, сроки длиннее. Более того, дела арестованных в 1933 — 35 годах пересматривались без ведома заключенных, и сроки заключения их определялись новыми правилами 1937 года.
Людей судили группами, у судей нехватало времени оформить необходимые документы для отправления их в лагеря.
Сроки приговоров, так же, как аресты, дознание и прочее, не зависели от вины (ибо ее не было, и она была не нужна) — зависели от очередных указов сверху (сталинских). Когда в накале посадок сроки увеличились до 25 лет, их получали все, по кругу: бывший посол в Китае, генерал ВВС, солист Большого театра, военнослужащие, интеллигенты, мужики, баптисты. [131].
Смертные приговоры составляли не более 10% от общего числа. Но большинство арестованных было расстреляно без суда и следствия. Сам Вышинский был сторонником этого метода. Он неоднократно повторял, что «если ставить вопрос об уничтожении врага, то мы и без суда можем его уничтожить». Эта расстрельная оргия набрала крутые обороты в 1937 году. Подвалы Лубянки, где совершались казни, были разделены на отдельные комнаты, расположенные вдоль коридора.
Так было по всей стране. Но людей расстреливали не только в специальных расстрельных камерах, но и в подвалах больших домов, в разрушенных церквях, в пригородных лесах.
Особой формой приговора было «10 лет без права переписки» — эти люди исчезали в лагерях и тюрьмах без всяких следов.
Опустошив, обескровив верхние слои общества, террор спустился вниз, в рабочее — крестьянский пласт. Люди в большинстве случаев ничего не понимали из того, что с ними происходит.
«В сентябре 1937 года в Харьковскую тюрьму неожиданно привезли 700 колхозников. Начальство тюрьмы не имело понятия, за что они арестованы. Колхозников избили, чтобы заставить их хоть в чем-то сознаться. Но они не могли сказать ничего путного — они сами ничего не знали. Тогда быстро состряпали дело. Обвинения были довольно просты: большинство заставили сознаться в контрреволюционной агитации и диверсиях». До самого конца ежовщины колхозники стали составлять основную массу заключенных. [132] «Е. Гинзбург пишет, что к лету 1937 года «нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены донельзя, они бегали, метались, что называется, высунув языки. Нехватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии». [133]
Противодействие равно действию. Сталин понимал, что заставить страну терпеть великое насилие можно только великим страхом. И он железной давильней заставил страну замереть в страхе и молчании. Но, похоже, более всех страхом был пронизан он сам. Он уже уничтожил партию, создал свою. Он обезглавил армию. Он обескровил, истощил интеллигенцию. Чего ему было бояться? — Крестьянства? — Он сломал его раньше. Загнанное в колхозы и порабощенное, оно не способно было не только на политическую активность, но даже на исконную — сельскохозяйственную. Объяснить вал репрессий требованиями «Малой зоны» (она тоже работала на его амбициозные военные планы)? Но труд рабов Малой зоны» был значительно менее производителен, чем труд вольных в тех же условиях. Жизнь зэка имела на этих стройках продолжительность 2 — 4 месяца. Дольше выживали те, кто попадал в обслугу, на сельскохозяйственные и бытовые работы. Но эти места занимали, как правило, уголовники, кроме тех, которые требовали специальных профессиональных знаний. Да и труд доходяг был совершенно непроизводителен: он стоил той баланды, которую они за него получали.
Что толкало его на новые бесконечные, бессмысленные репрессии? — Страх! Кровавый угар!
«Офицер НКВД, арестованный в ноябре 1938 года, говорит, что уже за шесть месяцев до этого НКВД стало ясно: дальше такими темпами репрессии продолжаться не могут…
К этому времени половина городского населения уже была занесена в черные списки НКВД. Арестовать их всех было нельзя. С другой стороны, всякие различия исчезли: было столько же оснований взять одного, как и другого и третьего… О тупике свидетельствуют новые репрессии внутри самого НКВД. Там стали поговаривать, что аресты производились без всякого разбора, и теперь никто даже не знает, что с этими людьми делать.
К моменту падения Ежова было арестовано не менее 5% населения — каждый двадцатый.» [134]
Но это в целом по стране. В действительности, был выкошен весь актив общества. В кругах образованных, общественно значимых, это был каждый десятый, пятый, третий — в зависимости от концентрации интеллектуального потенциала. В особо высоких и значимых кругах: в партии, армии, в писательских кругах, в научно-исследовательских институтах, университетах, кафедрах, конструкторских бюро, министерствах — сталинская коса «выкашивала» нередко всех подряд.
«В 1938 году Сталин решил, что так дальше продолжаться не может. Следователи по-прежнему спрашивали обвиняемых — кто ваши сообщники? Таким образом, за каждым арестом автоматически следовало еще несколько. Если бы репрессии продолжались еще некоторое время… то новая волна поглотила бы 10 — 15% населения, а потом 30—45%. Существует много теорий относительно мотивов действий Сталина на протяжении всего этого устрашающего периода. Многие исследователи до сих пор задаются вопросом — почему Сталин прекратил террор на этой стадии? По нашему мнению — просто потому, что террор достиг крайнего предела. Продолжать было невозможно — экономически, политически и даже физически: следователей больше не было, тюрьмы и лагеря были забиты до отказа. Но между тем, массовый террор выполнил свою задачу. Страна была подавлена. [135]
Народ, состоящий из одних «врагов народа» оказался врагом самому себе. Он приблизился к самоуничтожению.
Сроки были от 5 до 10 лет (по мере разрастания террора они удлинялись). Однако из лагерей почти никто не возвращался. Большинство просто не выдерживало адских условий и погибало в лагерях. Осужденные ОСО (если они выживали) по истечении срока из лагерей не выходили: они или получали новые сроки или отправлялись в бессрочную ссылку, обычно в зоны, не пригодные для выживания. «Заключенный не присутствовал на суде Особого совещания и ничего о нем не знал. После суда ему при случае вручали приговор.» [136].
(Иногда ситуация, (главным образом, во время войны) вынуждала Сталина возвращать из лагерей недорасстреляных, недоумученных специалистов: военные чины, конструкторов вооружений, авиаконструкторов, ученых, физиков).
(«Десять лет без права переписки», — по-видимому, сталинские сатрапы, — а может быть, это «его» собственная формулировка, — считали, что 10 лет разлуки без переписки стирают в памяти и душе след человека. Зачем же термин «расстрел»? — Просто ушел навсегда…)
Сейчас известно уже немало мест, где покоятся тела сотен и тысяч таких расстрелянных: в пригородах, рощах, оврагах — но большая часть их, надо полагать, неведома уже никому. А в будущем какие-то из них, быть может, станут предметами печальных находок и памятниками нашему времени.
(Дача Ягоды находилась рядом с полигоном, где было расстреляно 6 тысяч человек. Вряд ли это его смущало, а возможно, было предметом особой гордости и вдохновляющим моментом в профессиональной деятельности.)
Сталин уничтожил старый состав партии, создал новую; обезглавил армию. Но главный улар был нанесен по «возлюбленной» интеллигенции. Цифры говорят, что на каждого члена партии приходится 8 — 10 беспартийных. 99% из них составляла интеллигенция «высшей пробы».
Этот особый контингент заключенных во многом определял обстановку в тюремных камерах. В этих нечеловеческих условиях, подвергаясь зверствам палачей и надзирателей, часто не поддающихся воображению, поражает мужество заключенных.
Интеллигенты: профессора, писатели, переводчики, ученые, инженеры, журналисты, художники, артисты — весь спектр интеллектуального труда и творчества был представлен в этом аду. И все возрасты: от глубоких стариков до почти детей — они сели за своих детей, мужей, братьев, друзей. Они были вырваны из относительного или полного благополучия, ни за что, внезапно, чаще всего среди ночи, оторванные от своих семей, детей, иногда малолетних, даже грудных, и брошены в это месиво измученных немытых тел, в голод и холод, под пытки, в ложь и непредсказуемость судебных приговоров, во мрак неизбежности страшной своей судьбы. Большинство из них не понимало, что происходит и что произошло с ними. Это казалось абсурдом, небывальщиной, но чем дальше, тем больше они убеждались в реальности всего происходящего.
И в этих условиях боли, тоски, физических и нравственных мук, в унижении, в набитых до отказа камерах, без воздуха и света, задыхаясь от вони параши и скученных немытых тел, они пытались держаться, помогать друг другу, наполнять чем-то темную пустоту бесконечно тянущегося тюремного времени.
В мужских камерах читались лекции на самые разнообразные темы, рассказывались всевозможные истории, кинофильмы, книги, читались стихи, поэмы — наизусть. Цвет нации сидел в этих камерах. Многие старались заниматься, решать задачи, играть в шахматы, сделанные из хлеба, изучать языки (в перерывах между допросами — иногда они бывали продолжительными, иногда на допросы вызывали ежедневно и не один раз в день).
А когда с допроса приносили тяжело избитого, люди, сидевшие впритирку, вставали, чтобы на лучшие места положить страдальца.
Не знаю, кому тяжелее в тюрьмах и лагерях, мужчинам или женщинам. Но мне кажется, в записках (выживших в этом аду) женщин света несколько больше, чем в записках мужчин. (Может быть, их все-таки меньше пытали?).
Женщины более эмоциональны, более склонны к сочувствию, к дружбе, даже в тех страшных условиях, где каждый был переполнен собственным горем.
Женщины умудрялись вышивать, делая иголки из рыбьих костей или из зубцов расчесок, распуская на нитки старые чулки и белье. В тюремных камерах они тоже учились: математике, языкам, — но самое главное отвлечение от действительности давали пересказы художественных произведений. Были в тюремных камерах пересказаны лучшие произведения русской и мировой классики, сотни стихов Пушкина, Лермонтова, Ахматовой. Гумилева, Блока, десятки рассказов Чехова и мн. др. А рассказывать было кому…
Насыщение интеллектом и памятью лубянских и бутырских камер было весьма высоким. И интеллектом не только российским, но и других стран. Все, кто имел отношение к Коминтерну или приехал в Союз из симпатии или интереса к стране строящегося социализма, — все оказались, пройдя через тюремные камеры, в ГУЛАГе (те, кто не были просто расстреляны).
Вот срез одной из камер.
«Камера, в которой начались мои „университеты“, как и все тюрьмы в те годы, являла собой торжище маленького Вавилона. В ее четырех стенах были заперты вместе русские, украинцы, белорусы, евреи, немцы, венгры, французы, англичане, кавежединцы. Молодые и старые, пожилые и юные — все это текло и сменялось беспрерывным потоком.» [137].
Вот еще оттуда же несколько специфических зарисовок.
«Первая ночь в камере… Вот тогда-то я впервые и услышала крики из подвала. Где-то близко из-под пола, у своих ушей. Кричал мужчина. Как зверь, которого убивают… в смертной тоске. Оттолкнувшись от пола, опершись на локоть, я приподнялась. Кругом все спали. «Привыкли», — с ужасом подумала я. Крики повторились… режущие, протяжные. Сердце бешено стучало. Вдруг я почувствовала сзади чье-то прикосновение. Лежавшая рядом бабушка из Подмосковья смотрела на меня ввалившимися печальными глазами.
— А ты не слушай, хорошая моя… не слушай… нельзя это слушать — сердцем изойдешь. Они, почитай, кажну ночь кричат. Ох, больно тяжко, чего там говорить! Под нами-то — подвал. А там — допрос. Есть ведь — и не подписыют… А следователь-то от этого звереет… пуще бьет…
— А если сознаваться-то не в чем?
— Все одно… люди говорят, — добавила она, — кажному живому охота остаться… своих еще увидать. Не знай чего подпишешь! Ведь и в лагерях люди живут, чать не волки.»
Да, были и люди, но чаще — звери, хуже волков.»
Вот еще оттуда же. Возьму весь эпизод полностью — уж очень он убедителен.
«Однажды юмор все же проник к нам в камеру. Загремели засовы, и на пороге оказалась маленькая старушка…
Кто-то задает ей вопрос — за что она в тюрьме. Старушка оказалась словоохотливой — ей, видно, уж очень долго пришлось молчать.
— За сыночка… за сыночка своего родименького. И что там случилось — досе невдомек. Може, вы, бабоньки, мне, старухе беспонятной, потолкуете. Привезли-то меня индо за сотни верст из деревни. Конвойный солдат вез в каком-то закуте. Я ему, значит, говорю: за что ты меня, милай, волочешь-то, в какие такие дальние края? Да с ружьем? Да по чугунке — страх-то какой! А, батюшки! «Молчи, — говорит, — бабка, мне с тобой говорить не положено! И ничего я не знаю, окромя, что есть ты народный враг!»
А как приехали сюда — то, так меня в маленьку клетушку и затолкнули…
А утресь — разом на допрос и потащили. Заждались, что ли? Засуетилась я, закрестилася… чистым платком повязалась и пошла. А солдат, что вел меня, руки мне за спину велел заложить. Пришли, это, мы в горницу. За столом мужик военный сидит.
«Как твое фамилье? — спрашивает. — Зовут как?»
«По уличному нас Феклистовыми зовут. Матрена я, Прохорова».
«Садись, — говорит, — бабка. Я — следователь.»
Гляжу я на него: сидит, молчит, бумаги на столе перебирает. И чего-то он вдруг туманиться стал. Потом как вылупит на меня зенки — ну, чистые бурова, ей-богу, не вру! — и говорит:
«Сказывай, бабка, когда заербовалась?»
«Чего это? — спрашиваю.
«Когда заербовалась, отвечай!» — кричит.
А я нешто знаю, чего он от меня хотит?!
«Батюшка, прости ты меня, Христа ради! Не пойму ведь я тебя никак, старуха темная.»
«Сын твой тебя ербовал?»
Вижу, совсем осатанел. Глаза бешены стали… дрожу вся. «Ну. думаю, — пусть лучше по его будет.»
«Ербовал, батюшка, ербовал», — говорю.
«Вот видишь! Ербовал, значит, а говоришь, не понимаешь! Обмануть хочешь?!» — Да зубами-то как скрипнет, словно чумовой какой!
«Ну, и ты, понятное дело, заербовалась?!»
«Заербовалась, батюшка, заербовалась! —
Пес знай, чего говорю, не знай чего на себя валю. Потом крестик за неграмотностью на бумаге, где он писал, поставила. Он сразу словно снова в себя зашел, успокоился. Отпустил. А я и рада — радехонька — авось уж Господь Бог спасет, помилует меня, старушонку.
Было ей тогда за семьдесят. Вскоре ее вызвали на приговор с вещами. И угнали в чужие земли. Что, кроме гибели, могло ждать ее там?» [138].
И еще, из тех же воспоминаний Веры Шульц. Уж очень они впечатляют…
«Однажды в камеру привели новенькую. У дверей, возле параши, как я когда-то, стояла маленькая седенькая старушка с круглым личиком и носом пуговкой. Выцветшие подслеповатые глазки смотрели ласково с просящей, неуверенной полуулыбкой. Она вся лучилась добротой, неиссякаемой и успокаивающей. Вот это и была Татьяна Павловна Акутина.
Одинокая, не осталось у нее ни кола, ни двора, старая крестьянка притулилась в жизни в подмосковной сельской местности у другой, зажиточной старухи — домовладелки домовницей… Связывало их еще то, что обе были баптистками. Жили потихоньку, никого не трогали. В 1938 году их обеих забрали.
Маленькая, невзрачная, часто помаргивая слезящимися глазками, она подходила ко мне и тихо, нерешительно просила:
— Верынька, доченька, поищи ты у меня в головушке, сделай милость, — мочи нет, чешусь… завшивела, видать, окаянная. Глаза у тебя молодые.
Я распускала жиденькую луковку волос на макушке. Перебирала желтовато-седые пряди, искала и давила вшей…»
Вторая их встреча произошла в ссылке, в Аральске.
«Как-то с трудом шагая в зной по пескам, я увидела издали ковылявшую мне навстречу старуху. Шла трудно, с палочкой, и, когда я подошла к ней уже близко, узнала бабушку Акулину.
Я бросилась к ней.
— Бабушка! Татьяна Павловна! — обняла ее. Увидев ее, обрадовалась, как родной — Вот и пришлось нам свидеться.
Она подняла на меня глаза.
— Никак ты, Верынька! Здравствуй, доченька! И не чаяла больше тебя увидать… а вот сошлись пути-дороженьки. Радость-то какая нежданная!
Бабушка Акулина рассказала, что несколько дней назад их партию заключенных привезли сюда.
— Выгрузили, это, нас. Все больше старухи. Конвоиры и повели нас сдавать. Как увидели мы: кругом ни дерева, ни травинки… — пали мы им в ноги. «Куда, — говорим, — привезли вы нас? Кругом песок да ветер. Что делать будем? Как жить? На погибель только привезли. Сразу лучше пристрелить!».
В следующий раз Вера Шульц увидела бабушку Акулину уже в морге.
КАК, ПОЧЕМУ ТАКОЕ МОГЛО ПРОИСХОДИТЬ?! ИЛИ КТО-ТО ПРИКАЗАЛ «МЕСТИ ДОЧИСТА», ИЛИ «ЗАСТАВЬ ДУРАКА…», ИЛИ НУЖНЫ БЫЛИ ЦИФРЫ, ПОКАЗАКТЕЛИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА — СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЕДЬ…
А вот еще запомнившийся случай. Арестованный класс. Г. Б. Волчек вставила этот эпизод в «Крутой маршрут» по пьесе Е. Гинзбург, хотя в пьесе этого эпизода нет.
Это о девочках 9-го класса (о которых я писала выше). Они позволили себе усомниться в том, что их любимый учитель истории «враг народа». Их арестовали после окончания 10-го класса. (Зачем?!) Их арестовали на выпускном балу — всех! (Не забыли!) В тюрьму их отвезли в бальных платьях, в туфельках на высоких каблуках. Возможно, в этих нарядах они попадут и на этап. (Известно, что по сибирским сугробам в 30-градусные морозы шли женщины в летних платьях или в легких пальто, в туфлях на высоких каблуках. Вряд ли им удавалось много пройти, но их и привезли туда, чтобы они рано или поздно легли в те снега или топи.) (В большом водном бассейне северной реки Печоры (там было много лагерей) есть построенный зэками на вечной мерзлоте город Печора. В нем есть театр, который строили архитекторы зэки — ученики знаменитого архитектора — создаеля театра Ла Скала. Акустика в этом театре лучше, чем во многих самых известных театрах мира. И играли на сцене его тоже знаменитые артисты-зэки. Многих из них взяли прямо на сцене (иногда прямо со спектакля снимали сразу группу актеров), и в тюрьмы, в ГУЛАГ по этапам они пришли в своих театральных костюмах. Музей театра хранит эти костюмы. На некоторых из них есть штампы: «Большой театр»…)
Таких «перлов» не счесть в разбушевавшемся кровавом море. Как найти этому названия, где взять верные слова? — Их нет в языке человеческом, ибо это все выходит за рамки здравого смысла и воображения.
В этом буйстве бесовщины более всего пострадала русская культура В САМОМ ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.
ДЕТЕЙ Сталин также не обошел своими «заботами».
Наследием Мировой и Гражданской войн стало огромное сиротство и беспризорничество. Беспризорные дети обитали в подвалах, на чердаках, в канализационных ямах, в подъездах. Они нападали на прохожих, грабили их, отнимали кошельки, шубы, воровали в магазинах, разбойничали на рынках. Они стали национальным бедствием больших городов. В какой-то момент советская власть занялась решением этой проблемы. Стали организовываться детские дома, приюты и колонии. Когда оказалось, что организованные детприемники не вмещают всех беспризорных, Сталин приказал всех детей, которым нехватило мест, расстрелять [139]. По закону, принятому по прямому указанию Сталина в апреле 1935 года, подвергались всем видам судебного дознания и расстрелу дети с 12-летнего возраста.
Многие вожди и крупные деятели партии подписывали заведомо ложные расстрельные «признания» в обмен на обещание сохранить жизнь детям. Сталин слова не держал, за редким исключением. (Он любил делать исключения, ибо они подтверждают правило; любил «исправлять ошибки»: из тысяч невинно осужденных он освобождал одного, и это позволяло ему провозглашать лозунг: «У нас зря не сажают!» Ошибаемся — исправляем…
Ретивым палачам нередко, особенно на периферии, было тесно в рамках звериных законов НКВД. В Ленинске-Кузнецком в 1939 году четыре работника НКВД и прокуратуры получили по пять и десть лет заключения. В общем сто шестьдесят детей, главным образом, в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет были арестованы и после строгих допросов признали себя виновными в шпионаже, террористических актах, измене и связях с гестапо. Добиться от них этих признаний было сравнительно нетрудно. Один десятилетний мальчик капитулировал после одной ночи сплошного допроса и признал себя уже с семилетнего возраста членом фашистской организации. Аналогичные массовые процессы детей имели место и в ряде других городов.» [140].
На мой взгляд, это уже не просто за рамками здравого смысла — это, безусловно, психопатология палачей: наверное, в кровавом угаре массовых пыток и арестов они теряли ориентиры и рассудок.
Это ситуации чрезвычайные. Но «нормальная», обычная судьба детей репрессированных родителей была не менее трагичной. Они относились к категории ЧСИР: членов семей изменников Родины. Дети постарше, уже сформировавшиеся, возможно, еще сохраняли какие-то человеческие черты в тех условиях, в которые они попадали (правда, очень многих из них по достижении необходимого возраста — 14—16 лет — переводили в обычные лагеря), но дети маленькие, младенцы, — немало было и грудных, — в большинстве своем в этих домах умирали, а, если и выживали, в них было мало человеческого: их не учили говорить, не развивали их. Из них вырастали зверушки, не готовые жить в человеческом обществе, иногда, возможно, уголовники, короткоживущие. Возможно, и в этой сфере случались исключения из правил, и очень многое зависело от людей на местах (как всегда!), но человечные и добросовестные люди там надолго не задерживались и нередко сами отправлялись в лагеря. И этих детей были десятки, сотни тысяч, может быть, миллионы — никто никогда не скажет, сколько… Вряд ли их тщательно считали, тем более, они были недолговечны. Матери (чаще матери, а не отцы), которым посчастливилось выйти живыми из лагерей, как правило, детей своих не находили, даже следов их…
Большой террор — общее
Среди этих отдельных «зарисовок» кровавого исторического полотна Сталинского Большого Террора хочется выделить его некоторые характерные черты.
У сталинского террора были свои — фундаментальные особенности. Мне хочется сказать, что сам Сталин — это и есть Террор, это его воплощение, его суть.
Принято говорить о терроре 1937 — 1938 годов. Но это был лишь ПИК террора, в котором особенно ярко проявились его основные черты.
Сталинский террор был ПЕРМАНЕНТНЫМ, ползучим. С первого дня его утверждения на партийном престоле и до самого последнего его дня, когда насильственно или естественно прервалась эта страшная жизнь.
Волны его террора то вздымались, то спадали, то смертоносным девятым валом накрывали страну.
Наверное, коренным, определяющим многие другие его особенности, явлением этого террора было то, что он уничтожал НЕВИНОВНЫХ!
Этим были определены его основные черты, и прежде всего — МАССОВОСТЬ И СТРАХ.
Отсутствие необходимости вины, позволяло расстрелять или отправить на медленную смерть в лагеря 20 — 30%, даже 50% народа — предела этому не существовало.
С другой стороны, такое невиданное насилие невозможно было осуществить над здоровым свободным народом. И он медленно, но очень надежно сковал народ СМЕРТЕЛЬНЫМ СТРАХОМ.
Арест в сталинском терроре означал практически верную гибель: расстрел или мучительную смерть в лагерях. И страх этого был не только смертельным, но и ВСЕОБЩИМ, ибо НИКТО не был защищен: арест не требовал вины. Единственная вина — это заметность, выделение на общем фоне активностью, яркостью, талантом. Этот страх замкнулся в патологический круг: чем больше было арестов, тем мучительнее становился страх; чем надежнее был страх, тем большее насилие становилось возможным.
Любая попытка протеста, любой смелый поступок, даже героизм был бессмысленным. Он был бы пресечен в корне, тихо, без огласки. Героя ликвидировали бы вместе с родными, близкими, друзьями, заставив оговорить еще десяток невинных людей, а репрессии только ужесточили бы.
У сталинского террора такая же «ЖЕЛЕЗНАЯ» ЛОГИКА, как и его «рука».
Необходимая Сталину массовость истребления людей влекла за собой новые требования к этому процессу.
Во-первых, для этого потребовался огромный АППАРАТ ИСТРЕБЛЕНИЯ — его знаменитые «Органы» (ГПУ, НКВД, КГБ). Но никакие «Органы», никакие, самые могущественные государственные учреждения не могли бы справиться с таким объемом «работы». СТАЛИН ВОВЛЕК В ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРАТИЧЕСКИ ВЕСЬ НАРОД. Огромный штат следователей, палачей, ВОХРовцев дополняли миллионы «секретных сотрудников» — «сексотов» (у нас, детей тех страшных лет, слово «сексот» было презрительным ругательством, хотя смысла его мы не знали). «Сексоты» пронизывали все общество: все учреждении, большие и малые, производственные и учебные коллективы, коммунальные квартиры, дружеские компании и даже семьи. Наблюдение было перекрестным, а потому надежным.
Каждый из соглядатаев, сексотов, даже, если не хотел, боялся не донести, так как знал, что наблюдение ПЕРЕКРЕСТНОЕ: если он не донесет, донесет другой, и он ответит за «недонос». А что значит ответит, знали все.
Наверное, тогда и обогатился наш язык крылатой, сомнительно звучащей поговоркой: «Лучше перебдеть, чем недобдеть» … (Эпоха террора, ГУЛАГа, «Зоны» весьма «обогатила» наш язык…). Хрущев в своем Докладе на 20-ом Съезде партии, говоря о «сексотах», назвал цифру — каждый пятый! Это было узаконенное, материально поощряемое, а нередко и насильственно внедряемое предательство и подлость. Отказ означал неминуемый арест.
В эту подлость Сталин вовлек весь народ. (Не помню фамилию священника, который в телевизионной передаче сказал, что в архивах хранится 17 миллионов доносов! А сколько не хранится?!. Ведь часто достаточно было намекнуть, «стукнуть», чтобы гибель вошла в чьи-то судьбы. И термины соответствующие появились в те времена: «стучать», «стукачи»).
Но это грязное, подлое явление, развращавшее весь народ, реабилитировало Сталина перед судом истории: НЕ ОН, А ВЕСЬ НАРОД БОРОЛСЯ С ВРАГАМИ НАРОДА, — он лишь направлял этот процесс, как Глава государства.
Он втянул в это дело и своих сатрапов. Он заставлял их подписывать расстрельные списки: все крупные государственные, партийные, общественные деятели приговаривались к расстрелу, немедленному или отсроченному (!) — «10 лет без права переписки». Все самые значимые расстрельные списки он подписывал сам. Его подписи было достаточно, но он заставлял своих ближайших сатрапов подписывать вместе с ним: ТОЖЕ НЕ ОДИН, А С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОН УБИРАЛ ВСЕХ СВОИХ ПОДЕЛЬНИКОВ, больших и малых. Эти тоже имели основания предполагать, что их черед тоже настанет. Он их держал «у ноги»: почти у всех сидели жены или близкие родственники. Они ползали перед ним, люто его ненавидели и боялись. Когда приблизился их час, похоже, его опередили…
Каждый очередной этап террора, каждая очередная кампания начинались с резолюции очередного партсъезда или партконференции в Центре, потом на местах; С ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА», затем начинался ВОЙ В ПЕЧАТИ И МАССОВЫЕ МИТИНГИ согнанных на них рабочих и служащих, которые под страхом ареста, а некоторые вдохновенно и взахлеб клеймили, проклинали, призывали карать беспощадно. (Если кампания была тайной, то партийные решения и инструкции спускались по этапам тайно.)
Сталин явно не завершил задуманных им земных дел. Масштаб их несомненно готовил ему весьма заметное место в истории, и, похоже, Сталин готовил себя к этому и к непременному суду истории, ибо весь путь его, и пройденный и задуманный, но не осуществленный, был залит кровью.
Сталин и его «Органы» могли арестовать, расстрелять, отправить в лагеря без суда и следствия любое количество народа, однако большая часть из них проходила через «суды» и «подписанные» приговоры — Зачем?
Террор истреблял «врагов народа» — политических. Приговоры им были очень суровы — подсудимые не должны были вернуться в нормальную жизнь: они должны были быть расстреляны или погибнуть в лагерях. Они обвинялись во вредительстве, шпионаже, покушениях на членов Правительства и «Самого», в попытках свержения советской власти и т. п. Заставить людей подписать смертельные приговоры было непросто. Для этого применялись пытки, беспощадные, изощренные, которые совершенствовались и усложнялись в процессе разрастания террора.
ПЫТКИ — это еще одна особенность сталинского террора. Они были им узаконены. (Хрущев на 20-ом Съезде партии говорит о шифрованной телеграмме ЦК партии от 20 января 1939 года, направленной секретарям обкомов, крайкомов, республиканским ЦК партии, руководящим органам НКВД: «Центральный Комитет ВКП (б) поясняет, что применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, было разрешено Центральным Комитетом партии». [141]. Однако документа в архиве нет — он был уничтожен [142].
Человек должен был под пытками ОГОВОРИТЬ себя и ОБЯЗАТЕЛЬНО своих «СООБЩНИКОВ» (человеку, как правило, палачи подсказывали их имена — это были уже намеченные жертвы следующих арестов).
Этим Сталин достигал необходимой НЕПРЕРЫВНОСТИ процесса и его МАССОВОСТИ.
И перед судом истории он снова был чист: он не судил невиновных — они сами поставили свои подписи под списком своих преступлений. Их кровь, стоны и крики ушли в вечность, а бумага осталась… (Он знал цену «бумаги»! ). ОН НЕ ЗАПАЧКАЛ РУК КРОВЬЮ. НАРОД УНИЧТОЖАЛ СЕБЯ САМ — руками энкавэдэшников (которые сами непременно и с чрезвычайной жестокостью перемалывались той же мясорубкой) — их руками, но его неукротимой волей…
У пыток была еще одна, ЛОГИЧЕСКАЯ, особенность: более чем сломать физическую структуру человека, они стремились раздавить его ЛИЧНОСТЬ, надругаться над его человеческим достоинством, навсегда лишить его чести и уважения к себе. Прежде всего эту роль играло вынужденное, выбитое изощренными средствами предательство таких же невиновных людей, как он сам; обычно это были сослуживцы, друзья, родственники, даже члены семьи, — которых теперь, по его вине, ждет такая же, как у него, страшная участь. И сам характер пыток был изощренно унизителен. С таким грузом оставаться жить было нелегко. — Зачем было нужно это надругательство? — Полагаю, у этого тоже была своя ЦЕЛЬ.
Сталин Великим Террором разделил страну на 2 ЗОНЫ: Большую и Малую. Количество репрессированных было так велико, что огромная территория, занятая лагерями, которую А. И. Солженицын назвал «Архипелаг ГУЛАГ», была сопоставима с так называемой «свободной» территорией. Зоны были разделены колючей проволокой.
