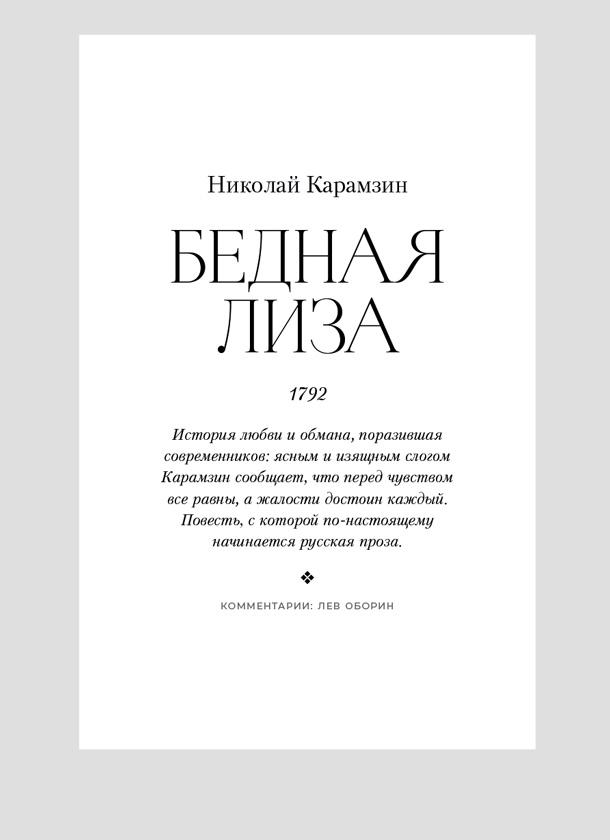кітабын онлайн тегін оқу Полка: О главных книгах русской литературы. Тома 1, 2
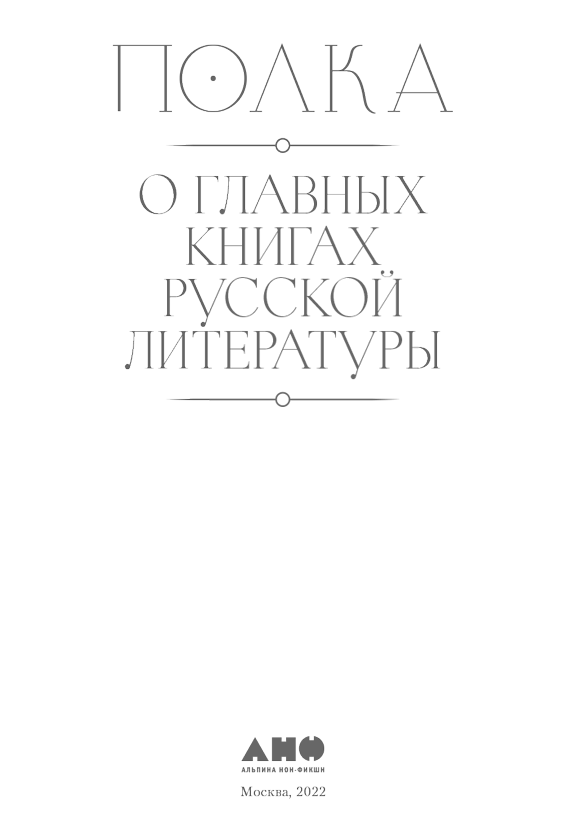
Предисловие
В эту книгу вошли статьи, написанные авторами проекта «Полка»: появившийся в 2017 году, этот проект поставил своей целью определить важнейшие произведения русской литературы и предложить современное их прочтение. Команда «Полки» во главе с Юрием Сапрыкиным обратилась к большому сообществу экспертов — писателей, литературоведов, издателей, критиков, преподавателей — и сформировала список из 108 произведений, которые оставили след в истории, расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке, вошли в русский литературный канон. Это романы, повести, рассказы, пьесы, поэмы, литературные мемуары. За пределами списка остались поэтические сборники, исторические и философские тексты, нехудожественная литература. Нельзя объять необъятное, но каждое из 108 произведений мы старались поместить в широкий литературный контекст, рассказать о других текстах, которые повлияли на него и на которые повлияло оно. Мы верим, что канон — это не данность, а изменчивое явление и он не должен подменять собой всё сложное и постоянно прирастающее поле литературы. Вместе с тем в процессе работы нам стало яснее, где пролегают границы того, что можно назвать классикой: старейшее произведение в списке «Полки» — «Слово о полку Игореве»; новейшее — «Чапаев и Пустота» Виктора Пелевина. Между этими точками умещается восемь столетий — и главный расцвет, как увидят читатели, приходится на XIX и XX века. У нас был не один, а два золотых века литературы.
В статьях мы старались ставить вопросы, которые могут возникнуть у читателей русской литературы: и у тех, кто читает Пушкина, Некрасова, Платонова или Петрушевскую впервые, и у тех, кто перечитывает их вновь и вновь; и у тех, от кого требует знаний школьная или вузовская программа, и у тех, кто читает классику для себя, для собственной радости. Мы старались рассказать об этих книгах ясно и доступно. Мы опирались на обширную научную и критическую литературу, но, работая над статьями, сами каждый день совершали свои маленькие, личные читательские открытия — и надеемся, что и вы совершите свои собственные.
После нескольких лет существования в интернете теперь «Полка» переходит на бумагу, в ту полновесную форму, которую создатели проекта так любят и ценят, — форму книги. Мы от души благодарим издательство «Альпина нон-фикшн», поддержавшее идею издания книги ещё в самом начале работы. Мы очень надеемся, что бумажная «Полка» поможет нам, а самое главное, нашим любимым книгам найти новых, внимательных читателей.
Первые два тома нашего издания — это 60 текстов, русская литература со времени Древней Руси до 1917 года. Впереди, надеемся, — тома о книгах XX века. В тома 1 и 2 вошли статьи приглашённых авторов — Алексея Вдовина, Михаила Велижева, Виктории Гендлиной, Кирилла Зубкова, Игоря Кириенкова, Вячеслава Курицына, Майи Кучерской, Дениса Ларионова, Михаила Макеева, Александра Маркова, Игоря Пильщикова, Дмитрия Сичинавы, Александра Соболева, Игоря Сухих, Татьяны Трофимовой, Ивана Чувиляева, Валерия Шубинского — и сотрудников «Полки»: Юрия Сапрыкина, руководившего проектом до 2021 года, редакторов Варвары Бабицкой, Льва Оборина, Елены Макеенко (1986–2019) и Полины Рыжовой. За подбор иллюстраций отвечала фоторедактор «Полки» Катерина Мигаль; над материалами и изданием работала также команда «Полки» — Мария Андрюкова, Лианна Акопова, Елизавета Подколзина, Аделина Шайдуллина, Светлана Цепкало, Ирина Колычева.
«Полка» не состоялась бы без поддержки Анастасии Чухрай и автора идеи проекта Дмитрия Ликина — и, конечно, без интереса читателей. Спасибо всем, кто пройдёт вместе с нами этот путь — от «Слова о полку Игореве» до Пелевина и ещё дальше.
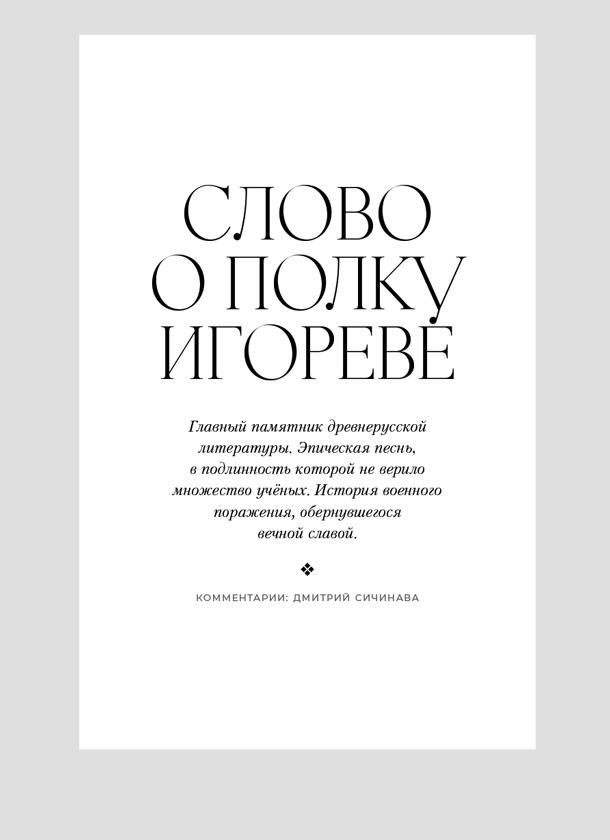
О чём эта книга?
«Слово о полку Игореве» — это героический эпос не о победе, а о поражении: об отважном походе (пълкъ по-древнерусски и значит «поход») князя Игоря Святославича (1151–1201/1202) на половцев из города Новгорода-Северского. Поход этот состоялся весной 1185 года. Вопреки грозным предзнаменованиям — таким как солнечное затмение, — Игорь ведёт свои войска против всей мощи Половецкой степи. Его армия, после первых успехов, разгромлена, он ранен и попадает вместе со своей роднёй в плен. Автор как будто бы не удерживается от осуждения его безрассудства. Но всё же князю — при помощи сил природы (птиц, зверей и реки Донца) — удаётся бежать, и рассказ кончается радостью и здравицей Игорю, его брату, сыну и дружине. Этот неоднозначный эмоциональный фон очень важен для произведения. Как писал русский поэт Владислав Ходасевич, лишь мимоходом высказавшийся о древней литературе, «почти всё «Слово» подёрнуто мрачным, пепельным светом солнечного затмения, с описания которого оно начинается. Но сквозь мрак, точно из-под тучи, пробиваются косвенные лучи солнца. <…> Надо отдать справедливость: кто-то из исследователей сказал, что в «Слове о полку Игореве» радость и скорбь «обнимаются». (Ходасевич имеет в виду филолога Е. В. Барсова; эти слова были известны ему, возможно, по комментированному школьному изданию «Слова».)
Вылазка Игоря показана на грандиозном фоне истории Руси и её взаимоотношений со Степью, княжеских усобиц. В ней есть ряд отступлений, посвящённых эпизодам из жизни князей XI и XII веков, зловещий сон киевского князя Святослава и плач жены Игоря Ярославны, просящей у стихий вернуть её милого. А ещё автор обращается с призывом к князьям — современникам Игоря, прося их забыть внутренние распри и дать бой половцам, отомстив за Русь и раны Игоря. При такой насыщенности содержанием «Слово» — очень короткий текст, всего примерно 2700 слов и 14 200 с лишним букв. Если не делить на абзацы — только пять страниц двенадцатым кеглем.
Когда она написана?
Вопреки мнению скептиков, «Слово о полку Игореве» — это подлинное древнерусское произведение. Оно не подделано в 1790-х годах, когда стало впервые известно образованной публике. И даже то обстоятельство, что его единственная рукопись сгорела в 1812 году, не мешает сделать однозначный вывод.

Битва Игоря Святославича с половецкими войсками на реке Каяле. Поражение русских войск.
Две миниатюры из Радзивилловской летописи. Около XV века [1]
Откуда мы это знаем? Это показывает лингвистика — самая точная из гуманитарных наук. В языке «Слова» много древних языковых черт, которые люди XVIII века никак не могли подделать. Эти черты были выявлены только наукой последующих веков, некоторые — совсем недавно. Кроме того, «Слово» очень похоже на «Задонщину» — произведение XV века (или, может быть, конца XIV) о Куликовской битве: в них почти совпадают целые фрагменты текста, но при этом язык «Слова» гораздо архаичнее. Значит, по крайней мере в XV веке «Слово» уже существовало и пользовалось определённой известностью (кстати, сгоревшая в 1812 году рукопись, судя по деталям орфографии и диалектным чертам, примерно тогда и была переписана, причём где-то в псковском регионе), а автор «Задонщины» Софоний Рязанец, переделывая «Слово» в новое сочинение, модернизировал и язык в соответствии с тем, как сам говорил. Ситуация совершенно стандартная для средневековой книжности. Версию, согласно которой фальсификатор XVIII века, наоборот, мог «перевести» «Задонщину» (никому тогда не известную и опубликованную только полвека спустя) на ранний древнерусский язык, исправив в ней десятки тонкостей на то, что было обычно для домонгольского периода, лингвисты всерьёз не рассматривают. Тогда получится, что это был некий научный гений, создавший целую дисциплину с нуля, опередивший её на два века, не выдавший себя ничем и тщательно скрывший все свои достижения от потомства. Наиболее подробные доказательства этого принадлежат двум великим русским лингвистам ХХ века — Роману Якобсону и Андрею Зализняку.
Итак, «Слово» написано раньше XV века — и, конечно, после весны 1185 года, когда Игорь ходил на половцев. А можно ли сказать точнее? Лингвистика отвечает: не позже XIII века, потому что целый ряд представленных в «Слове» древних признаков позже не встречается в рукописях вообще. А точная датировка остаётся предметом менее строгих гипотез, которые выдвигают историки и литературоведы. Например, часто звучит такой аргумент: произведение должно было быть актуальным для слушателей, значит, князья, которых автор зовёт на половцев, тогда были живы, а многочисленные намёки на события предыдущих лет — понятны без комментариев. Князь Ярослав Галицкий, которого автор «Слова» называет «Осмомысл» («в том смысле, кажется, что один его ум заменял восемь умов», как сказал Карамзин), отец Игоревой жены Ярославны, умер в 1187 году. Вот и очень хорошая узкая датировка, с точностью до двух лет; если вспомнить, для скольких древнерусских памятников у нас нет и этого, в принципе, тут можно и остановиться. Многие исследователи считают, что «Слово» написано вообще по горячим следам, в самом 1185 году, когда Игорь только вернулся из плена, успев договориться о браке своего освобождённого позже сына и дочери половецкого хана (это событие тоже упоминается в тексте). Некоторые авторы, однако, признавая древность «Слова», считают, что злободневность для него необязательна и его могли написать уже после смерти Ярослава и даже Игоря. Лев Гумилёв, известный и другими экстравагантными взглядами на историю отношений Руси со Степью, считал, что «Слово» написано в XIII веке, уже после нашествия монголов, и представляет собой аллегорию — что-то вроде шифровки эзоповым языком, где под видом половцев выведены монголы, а под именами Игоря и Ярослава куда более знаменитые правители следующей эпохи — князь Александр Невский и король Даниил Галицкий. Лингвистическим данным это не противоречит, но научное сообщество историков и литературоведов эту теорию не приняло.
Как она написана?
«Слово» — произведение, несмотря на свою краткость, очень разнообразное по стилю, риторике и лексике. В нём чередуются обращения к слушателям (или читателям; распространена гипотеза, что «Слово» — памятник торжественного красноречия, рассчитанный на исполнение вслух), лирические картины природы, прямая речь героев, авторские призывы (например, повелительное наклонение «стреляй!»), эпические описания событий из недавней и давней истории. Последовательное изложение событий все время перебивается «флешбэками», автор вместе со слушателями переносится то в прошлый, XI век, то на другой конец Руси; вставные эпизоды перекликаются с современностью и придают походу Игоря исторический масштаб.
В «Слове» есть поэтический ритм и аллитерации, хотя это не совсем стих в привычном нам смысле. Весь текст связывает в единое целое сложная система лейтмотивов, рефренов, повторов и перекличек: одни и те же словосочетания или даже предложения повторяются в разных контекстах. Это подчёркивает амбивалентную эмоциональную окраску произведения. Слова «свѣтъ повѣдаютъ» встречаются дважды: в благоприятном (соловьи «веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ» и помогают Игорю бежать из плена) и зловещем контексте: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ». «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ», предвещая нашествие половцев, в то время как князь Святослав, наоборот, «взмути рѣки и озеры», побеждая кочевников, а «стук» земли упоминается как благоприятное предзнаменование при бегстве Игоря. Перед боем у курян «луци (луки) напряжени, тули (колчаны) отворени», а в плаче Ярославны, наоборот, говорится, что солнце у войска Игоря «лучи съпряже, тули затче» (луки расслабило, колчаны заткнуло). Готские красавицы поют у моря, звеня трофейным русским золотом, — а в финале «Слова» «дѣвици поютъ на Дунаи», празднуя освобождение Игоря. Ряд лейтмотивов повторяется со схожим значением (далеко слышный звон, преклонившееся к земле в горести дерево, золотое стремя, земля, посеянная костями или усобицами, «кующаяся» крамола).
Переходы от одного эпизода к другому достаточно резки; новые предложения в «Слове» в 2/3 случаев начинаются без союза. С художественной точки зрения это производит впечатление наподобие резкой смены планов и эпизодов в кино. Это очень необычная для русского средневекового текста черта. Но ни о какой подделке она не свидетельствует: почти так же написаны некоторые редакции «Задонщины» (причём, как только составитель «Задонщины» перестаёт копировать «Слово» и начинает сочинять сам, из-под его пера союзы снова появляются — это, наоборот, доказательство первичности и подлинности «Слова»).
«Слово» насыщено сравнениями, олицетворениями и другими образами, а также нечастой для других памятников лексикой. Важную роль в образности «Слова» играют имена божеств.
Что на неё повлияло?
Принято считать, что «Слово» уникально. И первые издатели, и Пушкин, и Набоков говорили о «Слове» как об «уединённом памятнике» в «пустыне» или «степи» русской словесности — где, как по умолчанию считалось, ничего достойного не могло быть вплоть до Петра. На скучноватом для человека Нового времени фоне оригинальных поучительных и переводных богослужебных текстов, «миней и палей», как по другому поводу сказал Вениамин Каверин, текст, напоминающий о европейском Средневековье («Нибелунгах» или «Песни о Роланде»), а где-то и о поэзии Возрождения и более близких к нам эпох, казался человеку XIX–XX веков удивительной игрой природы — даже не культуры. По счастливой случайности, «Слово» было всё же замечено антикварами екатерининского века перед московским пожаром — иначе, как казалось, ни о какой древнерусской литературе говорить было бы нечего.
Первые читатели «Слова» в 1790-е годы, да и многие последующие поколения ещё мало знали о средневековой литературе и культуре Руси. Сейчас нам известно уже очень много параллелей к «Слову», которые могут быть непосредственно связаны с ним или принадлежать той же традиции. Культура Руси XII–XIII веков действительно была преимущественно церковной: её, по крайней мере письменную часть, создавали в основном монахи и священники. Но в ней была и более светская линия. Такое сосуществование традиций характерно для византийской образованности того же времени (в культуре Византии, в отличие от Руси, была ещё и живая античная составляющая). В сгоревшей рукописи, кроме «Слова о полку Игореве», был также список перевода византийского воинского романа о добывании невесты «Дигенис Акрит» («Девгениево деяние»), тоже XII века; этот перевод был позже найден в других редакциях. Кстати, «Дигенис», как и «Слово», «пограничный эпос», среди его героев и христиане, и варвары-иноверцы, между ними возможно тесное общение и даже браки (как у Владимира с «красной девицей» Кончаковной).
Эта культура находила поддержку прежде всего при княжеских дворах. Сам автор «Слова» ссылается на своего предшественника Бояна — придворного певца нескольких князей XI века. Хваля его, стилизуя и цитируя, он в то же время заявляет, что не намерен следовать его манере. Из жития Феодосия Печерского известно, что при княжеском дворе в XI веке действительно было принято держать играющих и поющих гусляров — автор-монах говорит об этом неодобрительно, но подчёркивает, что это «обычай есть перед князем», признавая нечто вроде культурной автономии светских правителей. Известно и о других светских придворных развлечениях, идущих из Византии или с Запада. В Ипатьевской летописи упоминается, что в Руси XII века венгерские всадники устраивали нечто вроде рыцарских турниров («игра на фарех»). В лестничной башне Софии Киевской сохранились фрески с изображением византийского зимнего маскарада («брумалий»), скоморохов, музыкантов и охоты, иллюстрирующие сюжет о приезде княгини Ольги в Царьград. В «Поучении Владимира Мономаха» (начало XII века) также детально изображены рискованные княжеские охоты. Кстати, эта уникальная автобиография древнерусского князя тоже сохранилась в единственном списке — в составе Лаврентьевской летописи, которая также была в собрании графа Мусина-Пушкина. Конечно, если бы она тоже сгорела, в её подлинность многие бы не поверили, но буквально за несколько месяцев до пожара её взял почитать Карамзин. В рассказе Мономаха, как и в «Слове», упоминается «лютый зверь» (эвфемизм для какого-то крупного хищника), и этот отрывок написан с небольшим числом союзов, как и «Слово о полку Игореве», что придаёт ему характерный ритм:
А се в Черниговѣ дѣялъ єсмъ: конь диких своима рукама свѧзалъ єсмь, въ пу[щ]ах 10 и 20 живых конь, а кромѣ того иже по рови ѣздѧ ималъ єсмъ своима рукама тѣ же кони дикиѣ. Тура мѧ 2 метала на розѣх и с конемъ, ѡлень мѧ ѡдинъ болъ, а 2 лоси ѡдинъ ногами топталъ, а другыи рогома болъ, вепрь ми на бедръ мечь ѡттѧлъ, медвѣдь ми у колѣна подъклада оукусилъ, лютыи звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже; и Богъ неврежена мѧ съблюде. И с конѣ много падах, голову си розбих дважды, и руцѣ и нозѣ свои вередих, въ оуности своеи вередих, не блюда живота своєго, ни щадѧ головы своея.
«А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с конём, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бёдра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки и ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей».
Перевод Д. C. Лихачёва
Параллели со «Словом» находятся и в церковных текстах домонгольской Руси. Например, противопоставление своего оригинального творчества старому песнопевцу Бояну, казалось бы нетипичное для Средневековья, находит аналогии в «Слове на воскресение Лазаря» (XII–XIII века), где царь Давид в аду говорит пророкам и праведникам: «Воспоим весело, дружино, песни днесь, а плач отложим и утешимся! Се бо время весело наста…», причём делает это, кладя «очитые (зрячие) персты» «на живыя струны», как и Боян в «Слове». Похожие противопоставления есть и в переводной «Хронике Георгия Амартола», и в оригинальных проповедях Кирилла Туровского [1].
Надпись о смерти Всеволода Мстиславича (1138) в Благовещенской церкви на Городище под Новгородом, найденная в 2017 году, содержит лексическую параллель к написанному спустя полвека «Слову», одному из самых лиричных его мест: «Уныло бяше сердце ихъ тугою по своемь князи» (ср. в «Слове»: «Уныша цвѣты жалобою и древо ся тугою къ земли пръклонило»). Есть характерные выражения и в новгородских берестяных грамотах: например, из относящейся ко второй половине XII века грамоты № 724 мы узнаём, что предводитель отряда действительно называл своих людей «братия и дружина». В XII или XIII веке также написано одно из наиболее ярких произведений княжеской культуры — «Моление (или Слово) Даниила Заточника», оформленное именно как послание князю, которое содержит и неясные экзотизмы, и поэтические параллелизмы, и игру со словами (знаменитое «кому Боголюбово, а мне горе лютое»), а среди образов — перекликающееся со «Словом» «мыслию паря, аки орелъ по воздуху».
Нельзя не упомянуть также «Слово о погибели Русской земли» (между 1238 и 1246), которое появилось практически наверняка после «Слова о полку Игореве» и не могло на него повлиять, но принадлежит общей с ним эпохе и традиции. Их связывает как поэтический ритм, так и сочетание радостной и грустной эмоциональной окраски. «Слово о погибели Русской земли» открывается панегириком Руси («О, свѣтло свѣтлая и украсно украшена, земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, рѣками и кладязьми мѣсточестьными, горами, крутыми холми, высокыми дубравоми, чистыми польми, дивными звѣрьми…») и продолжается похвалой могущественному Владимиру Мономаху — ностальгией по ушедшему «золотому веку» Руси («старого Владимира» идеализировал и автор «Слова»). Дальше должно было идти описание разорения Руси татарами, но этот текст не сохранился.
Безусловно, «Слово о полку Игореве» связано с фольклором и народной поэзией; отсюда эпитеты типа «чистое поле», «синее море», «серый волк», «красные девки», «мутно текущие» реки.
Как она была опубликована?
Долгое время считалось, что первый публикатор «Слова о полку Игореве», граф Алексей Мусин-Пушкин, приобрёл сборник с его текстом в Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле у архимандрита Иоиля (Быковского), которого некоторые скептики (прежде всего историк Александр Зимин) считали автором «Слова». В Ярославле этим гордятся, и в древнем монастыре есть даже музей «Слова», но теперь исследованиями Александра Боброва и других авторов доказано, что сборник был найден в 1791 году не там, а в Кирилло-Белозерском монастыре на Русском Севере в ходе розысков исторических рукописей, которые велись в соответствии с указом Екатерины II (кстати, там же полвека спустя отыскали и одну из редакций «Задонщины»). Потом сборник был присвоен обер-прокурором Синода Мусиным-Пушкиным, который забрал его в свою коллекцию в Москве. Уже в 1792 году первые исследователи получили доступ к «Слову», а копия и перевод памятника были изготовлены и для самой императрицы. В ноябре 1800 года, уже в царствование Павла, в Москве вышло первое издание «Слова» тиражом 1200 экземпляров, подготовленное самим графом Мусиным-Пушкиным и двумя известными археографами [2] — Николаем Бантышом-Каменским и Алексеем Малиновским (в бумагах последнего сохранились выписки из рукописи), которые отвечали за научную сторону издания и имели, в отличие от графа, право вносить поправки в корректуру.
В состав первого издания «Слова» вошли подготовленный издателями параллельный перевод на современный русский язык, подстрочные комментарии, историческая справка и генеалогическая таблица. Издание было озаглавлено «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие». Первое издание считается основным источником, по которому мы судим о «Слове». Хотя издатели стремились готовить текст максимально точно, из-за чего набор и печатание шли медленно, фактически они не издали «Слово» буква в букву как в рукописи (как принято сейчас), а не избежали обычных для того времени процедур, слегка искажающих текст: привнесли элементы орфографии рубежа XVIII и XIX веков, раскрыли сокращения, унифицировали написание некоторых слов, проинтерпретировали ряд неоднозначных мест, а также, конечно, добавили отсутствовавшее в средневековых рукописях разделение на слова и фразы (это делают и сейчас). Книжка была уже отпечатана, когда обнаружилось противоречие между некоторыми примечаниями, и эти листы пришлось перенабрать и отпечатать заново.
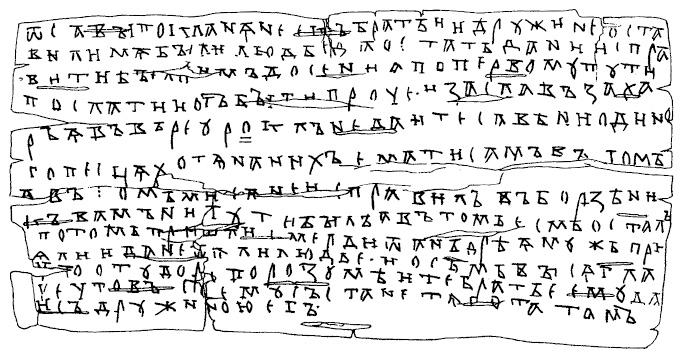
Берестяная грамота с упоминанием посадника Захарии и Андрея Боголюбского.
Предположительно 1160–80-е годы [2]
Часть тиража первого издания сгорела вместе с рукописью в доме Мусина-Пушкина, но всё же его экземпляров сохранилось несколько десятков, как в библиотеках, так и в частных собраниях, на бумаге разного качества и в разных переплётах. В XX веке издание 1800 года неоднократно переиздавалось репринтно.
Как её приняли?
О находке «Слова» сообщалось в печати ещё до выхода первого издания (например, Карамзин написал об этом в гамбургском журнале, выходившем по-французски, в 1797 году): текст знали по пересказам, а те, кому повезло, — и непосредственно по мусин-пушкинской рукописи. Более того, образ Бояна, позаимствованный из «Слова», в 1796 году успел попасть в поэму Михаила Хераскова «Владимир», а в примечании было кратко рассказано о новонайденном памятнике. Литература XVIII века — это уже литература авторская, поэтому Боян, от сочинений которого не сохранилось почти ничего, но зато до нас дошло имя, казался куда более важной персоной, чем оставшийся неизвестным автор реального древнего текста. Тот же Карамзин в написанном вскоре после выхода первого издания труде под названием «Пантеон российских авторов» посвятил первую главу именно Бояну (а не автору «Слова») и после рассказа о Несторе-летописце переходил сразу к XVII веку. В дальнейшем Боян, переименованный рядом авторов в Баяна, потому что это имя трактовалось как нарицательное, якобы от «баять», стал постоянным героем русской литературы как полулегендарный «первый отечественный поэт», которого не стесняясь ставили в один ряд с Петраркой и Парни. Известный фальсификатор Александр Сулакадзев сочинил от его лица неуклюжий «Гимн Бояна», в подлинность которого поверил сам Гаврила Державин.
Другая линия использования «Слова» в литературе 1800-х — эпико-героическая и патриотическая, диктуемая Наполеоновскими войнами. Характерно, что горестный пафос повествования о малоизвестном поражении древнерусских войск у современников первой публикации не нашёл отклика. Подражатели переделывали в своих вариациях поражение в победу, перенося образность произведения на другие сюжеты. Так это было сделано уже в средневековой «Задонщине»; несомненно, если бы «Задонщину», посвящённую знаменитой и победоносной Куликовской битве, нашли именно тогда, а не полвека спустя, она стала бы не менее, а то и более востребованным текстом.
Поэты-сентименталисты начала ХIX века восторгались также плачем Ярославны, который рано стал популярным сюжетом для переложений. Очень рано появилось и несколько русских переводов «Слова», прозаических и стихотворных, где текст нередко сокращался (например, удалялись исторические отступления) или дополнялся риторической отсебятиной в тогдашнем вкусе.

Василий Тропинин. Портрет Николая Карамзина. 1818 год.
Карамзин посвятил Бояну первую главу «Пантеона российских авторов» [3]
«Слово о полку Игореве» высоко оценили зарубежные учёные-слависты — немецкий историк Август Людвиг Шлёцер, первоначально сомневавшийся в подлинности находки, но поверивший в неё после выхода книги, чешский филолог Йосеф Добровский («Поэма об Игоре, рядом с которой ничего нельзя поставить!»).
Ещё до утраты рукописи прозвучали и первые сомнения в подлинности «Слова»: как раз в то время шла полемика об аутентичности песен кельтского барда Оссиана, с которыми «Слово» с самого начала постоянно сравнивали, — в итоге они оказались подделкой шотландца Макферсона. Среди скептиков были поляк Циприан Годебский (кстати, первый переводчик «Слова» на польский), профессор Московского университета Михаил Каченовский, археограф епископ Евгений (Болховитинов).
Что было дальше?
В сентябре 1812 года, во время нашествия французов, «Слово» сгорело во дворце Мусина-Пушкина на Разгуляе — вместе с рядом других уникальных рукописей, включая Троицкую летопись 1408 года (сам особняк, кстати сказать, был уничтожен не до основания и сейчас в сильно надстроенном виде украшает старинную площадь, в нём находится строительный университет). Вокруг происхождения памятника ещё сильнее сгустился мрак тайны — надо сказать, не без участия самого графа, который тщательно скрывал не вполне законное присвоение рукописи, сбивал исследователей со следу и не отвечал на письма.
«Слово о полку Игореве» уже давно в числе самых знаменитых славянских текстов. Написано о нём невероятно много, причём не только украинцами, белорусами и русскими, прямыми наследниками культуры Руси XII века, но и славистами и литераторами самых разных стран. И не только «о нём»: многократно переписано, пересоздано и само произведение. Лингвист Борис Орехов собрал параллельный корпус переводов «Слова о полку Игореве» — их там примерно 220 на полусотне языков. Есть такие тексты и авторы, которые почти каждый литератор старался в определённые времена перевести: так, от Тютчева до Блока все у нас переводили Гейне, в Серебряном веке — Бодлера, а сонеты Шекспира — излюбленная добыча отечественных графоманов. На этом фоне традиция переводить «Слово», которой кто только не следовал — от Жуковского, Шевченко, Бальмонта и Филиппа Супо до позднего Евтушенко и автора довольно скучной стилизации под уголовный жаргон, удивляет интернациональным характером и устойчивостью: эта «мода» не проходит веками. Пожалуй, самый радикальный эксперимент последнего времени предпринял московский поэт Андрей Черкасов, вручную перенабравший текст «Слова» с помощью автозамены смартфона, — получилась книга «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова».
Есть и стихотворения, не являющиеся переводами, замысел которых навеян сюжетами «Слова», — от знаменитого «Ты не гонись за рифмой своенравной…» Случевского до цикла Виктора Сосноры о певце Бояне. В русской поэзии много мелких цитат из «Слова», характерных выражений и образов. Например, у Мандельштама есть и «зегзица», и «печаль жирна», а загадочный «харалуг» — у Вячеслава И. Иванова, Асеева, Сельвинского и других.
Невозможно умолчать и о массовой культуре: она очень показательна для значимости любого текста. В обиходный русский язык из «Слова» вошло выражение «растекаться мыслию по древу», хотя «растекаться» значит не «переливать из пустого в порожнее», а «разбегаться», «быстро бежать» (а вот «мысль», скорее всего, у автора значило всё-таки именно мысль, а не белку, как часто предполагали). Знаменитое слово «русич», известное нам только из «Слова», популярно в тех же контекстах (торговая марка промтоваров, название патриотических конкурсов…), что и имя Ярославна — в СССР его иногда даже давали девочкам, хотя это, разумеется, отчество. Музыкальный инструмент «баян», появившийся в конце XIX века, обязан своим именем герою «Слова». Интересно, что ещё век спустя в «языке падонкофф» это слово, наполнившись новым смыслом, вновь получило свою исконную форму: боян.
Важным вкладом в широкую популяризацию «Слова» и в русской, и в мировой культуре стала неоконченная опера композитора-химика Александра Бородина «Князь Игорь», посмертно завершённая его друзьями и поставленная в 1890 году, — все эти «половецкие пляски» и «улетай на крыльях ветра». Ещё Ходасевич в 1929 году писал, что оперу в интеллигентном обществе все хорошо знают и время от времени обсуждают, а сам удивительный древнерусский текст почти забыт. У Солженицына в романе «В круге первом» заключённые, устраивая пародийный суд над «Ольговичем И. С.» за «измену Родине» («в звании князя, в должности командира дружины…»), привлекают Бородина в качестве «свидетеля» и цитируют либретто популярной оперы.
ХХ и начало XXI века стали периодом очень глубокого изучения «Слова» — и с точки зрения его места в древнерусской литературе, и с эпически-мифологической, и с языковой точки зрения. Огромным стимулом к исследованию памятника стала версия о его поддельности. Да, она оказалась ошибочной (хотя, вероятно, навсегда останется в массовой культуре, как и, скажем, Атлантида, «антистратфордианские» гипотезы о Шекспире или рассказы об НЛО). Но, не будь её, мы бы знали о «Слове», его языке и контексте гораздо меньше. Работы начала XXI века — скандальная, поверхностная и остроумная книга американского скептика Эдварда Кинана и великолепное по ясности доказательство Зализняка — придали новую популярность самому памятнику. Всё большему числу читателей, следивших за дискуссией, захотелось перечитать (может быть, впервые со времён школы, где читают обычно не древнерусский оригинал, а перевод) одновременно сжатый и насыщенный, цветистый и экономный текст. Это памятник золотого века Руси, эпохи фресок Нередицы и Кирилловской церкви, каменной резьбы Дмитриевского собора, мозаик Михаила Златоверхого, золотых чаш новгородской Софии — и незаурядного искусства слова, памятниками которого остаются «Поучение» Мономаха, проповеди Кирилла Туровского или лаконичные послания на бересте.
Кто написал «Слово»?
К сожалению, этого мы никогда не узнаем.
У «Слова», как и у пьес Шекспира, есть своя «загадка Анонима». Как и «шекспировский вопрос», она не составляет серьёзной научной проблемы. Впрочем, если в случае с Шекспиром ответ давно известен (тайны никакой нет, Шекспир был Шекспиром), то в случае со «Словом» вопрос останется вопросом навсегда. Разные любители пытаются «реконструировать» нужное расположение букв на странице «Слова» и прочесть — сверху вниз или другими хитрыми способами — якобы скрытый автором «код». Ровно это же делали когда-то с «Гамлетом» или «Бурей». В авторы Игоревой песни точно так же, как и шекспировских пьес, предлагали длинный перечень людей, и точно так же он начинается с монарших особ и знаменитых писателей, а кончается совершенно малоизвестными, едва упомянутыми в источниках персонажами. Более того, для «Слова» есть даже два взаимоисключающих списка «авторов» — это кандидаты сторонников подлинности, во главе с самим князем Игорем и великим проповедником Кириллом Туровским, и кандидаты сторонников поддельности, во главе с Карамзиным и основателем славистики Йосефом Добровским (а может быть, и самой Екатериной, по крайней мере как заказчицей). Конечно, есть желание «локализовать» «Слово», поселить его у себя: украинцы считают его киевским (скорее всего, эта версия наиболее близка к истине, но наверняка сказать нельзя) или галицко-волынским, белорусы ищут кандидатов в авторы в Полоцке и Турове, русские — в Новгороде и Пскове. Это уже похоже, пожалуй, не на шекспировский, а на гомеровский вопрос…
Все предлагавшиеся версии — догадки, ни на чём конкретном не основанные. Пожалуй, на их фоне несколько выделяется гипотеза противоречивого советского историка — академика Бориса Рыбакова, который, опираясь на лингвистические сходства между «Словом» и Киевской летописью за тот же XII век, предположил: 1) что их написал один и тот же автор и 2) что этого автора звали Пётр Бориславич — киевский боярин, которому приписывается содержащийся в этой летописи рассказ о его поездке в Галич к Владимирку, отцу воспетого в «Слове» князя Ярослава Осмомысла и деду Ярославны (как раз во время этой поездки Владимирко внезапно умер, и молодой Ярослав стал князем). Оба эти предположения не очень надёжны. Схожие языковые черты бывают у разных современников из одной местности, а боярин Пётр, конечно, мог рассказать о своей поездке летописцу, но это вовсе не означает, что сам он полвека вёл летопись (в летописях множество вставных рассказов самых разных людей).
Анонимность — нормальное свойство средневековых литературных сочинений. Авторство не было в это время ещё ценностью, не было и понятий об авторских правах и плагиате. Случаи, когда мы знаем по имени Илариона, Владимира Мономаха или Кирилла Туровского, обусловлены высоким статусом этих авторов. А вот, например, о Данииле Заточнике, кроме имени, мы не знаем ничего, и даже нет полной уверенности, что это реальное лицо. Составитель «Задонщины» (напомним, его звали Софоний Рязанец, он был священником, но больше данных тоже никаких) в XV веке перелицовывал «Слово» на новый сюжет. А византийские авторы, когда им надо было описать чуму или затмение солнца, брали целые куски из античных писателей. Узнать, как звали автора «Слова» (и, конечно, далеко не только это!), мы сможем, только если найдётся неизвестный древний список произведения с указанием его имени. При том огромном общественном интересе, которое вызывает «Слово» все эти два века (уже в 1810-е годы фальсификатор Антон Бардин изготовлял и сбывал быстро разоблачённые поддельные списки сгоревшего памятника), совершенно невероятно, чтобы такой сенсационный список ещё скрывался в каком-нибудь неизученном или неописанном рукописном сборнике.
Пожалуй, мы можем более или менее уверенно утверждать две «негативные» вещи: автор «Слова» не был ни духовным лицом — он упоминает языческих богов как олицетворения природы и предков славян, ни князем — потому что обращается к князьям «господин». При этом он, как и его аудитория, принадлежал к культурной и общественной элите, образованной и способной оценить его художественные приёмы: широкого распространения «Слово» за пределами этого социального и культурного круга не имело.
Какова политическая ситуация в Древней Руси на момент действия «Слова»?
Русь конца XII века — конгломерат княжеств, занимающих северную и центральную часть Восточной Европы, до границы со Степью (тогда этого слова не знали, а степь называли полем — этот термин много раз встречается и в «Слове»). Степь начинается уже недалеко от Киева: купцы, направлявшиеся в Византию по знаменитому пути «из варяг в греки», должны были преодолевать степную часть маршрута под военной охраной.
Княжествами правят представители разветвлённого и многочисленного дома Рюриковичей. Разные территории закреплены за разными ветвями, но некоторые переходят из рук в руки, прежде всего главный город Руси Киев (в узком смысле Русью называется именно Поднепровье; новгородец, отправляясь в Киев, «шёл в Русь», хотя в широком смысле Русской землёй именовалась вся восточнославянская территория или её жители) и Новгородская республика (жители которой приглашают князей по собственному желанию, правят же ими реально выборные архиепископы и посадники). Впрочем, Великий Новгород слишком далеко от места действия «Слова», и речь о нём заходит лишь один раз — во «флешбэке» к далёким событиям 1060-х годов. Волынью владеют старшие Мономашичи — потомки Владимира Мономаха, а Черниговом — Ольговичи, потомки Олега Святославича, его двоюродного брата. Эти два клана уже давно — главные конкуренты в борьбе за Киев. Суздалем, Ростовом, Владимиром, уже появившейся тогда небольшой Москвой правит младшая ветвь Мономашичей, потомки Мономахова сына Юрия Долгорукого, сын которого Всеволод Большое Гнездо в 1185 году — один из самых могущественных правителей Руси. В 1169 году его старший брат Андрей Боголюбский тоже брал приступом Киев.

Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880 год [4]
А во время действия «Слова» Киевом владеет Святослав Всеволодович, глава клана Ольговичей. Это один из главных героев «Слова», который произносит печальную речь о безрассудной вылазке Игоря. Его родной брат Ярослав сидит в родовом Чернигове. 34-летний Игорь — их двоюродный брат (хотя автор «Слова» называет Святослава его «отцом», в смысле сюзерена и начальника, а Игоря ещё и «племянником»), его стольный город — сравнительно небольшой Новгород-Северский. «Северский» означает «принадлежащий к племени северян», когда-то владевшему Черниговом. А Путивль, на крепостных стенах которого плачет княгиня Ярославна, — пограничный пункт Новгород-Северского княжества.
У Игоря и Ярославны есть юный сын Владимир, отправившийся с отцом в поход, и младшие малолетние сыновья (двое из них, Олег и Святослав, возможно, упоминаются в «Слове»). Младший брат Игоря Всеволод (Буй-Тур) правит Трубчевском (будущей родиной князей Трубецких) и Курском.
Полоцкой землёй (занимающей значительную часть нынешней Беларуси) и Галичиной правят представители боковых ветвей Рюриковичей, потомки рано умерших сыновей (соответственно) Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Правители этих княжеств, по крайней мере в то время, не претендуют на первые места на Руси. Однако галицкие и полоцкие князья состоят в ближайшем родстве с жёнами Игоря и Святослава Киевского; возможно, поэтому в «Слове» соответствующие сюжеты играют немалую роль.
В Степи живут сменяющие друг друга в разные века тюркоязычные кочевники, объединённые в несколько племенных союзов. В X веке хозяевами положения были печенеги, а во второй половине XI и XII веках — половцы, то есть по-славянски «желтоволосые» (сами себя они называли кыпчаками, а в европейских источниках их зовут куманами). Они были в сложных отношениях с Русью, то воевали с ней, то вступали с отдельными княжествами в союз и участвовали в междоусобных войнах («крамоле») на стороне одного из них. Чаще всего союзником половцев был клан Ольговичей — к которому, собственно, и принадлежал Игорь. Нередки были браки Ольговичей, как и князей из других ветвей, с дочерьми половецких князей. Сам Игорь был половцем не менее чем на четверть, а потом женил на половецкой княжне старшего сына.
Время от времени князья Руси отправлялись в большие скоординированные походы против Степи с целью прекратить набеги кочевников или ослабить угрозу торговым путям. Именно к такому походу и призывает автор «Слова» большинство живших в то время князей. Но иногда эти вылазки преследовали целью просто захват богатых трофеев и завоевание «славы» для князя и «чести» для дружины — судя по «Слову», это и было целью неудачного похода Игоря.
Есть и другие кочевые языческие народы, которые, в отличие от половцев, находятся с Русью в постоянном союзе. Летопись называет их «свои поганые». Такой отряд, по летописи, сопровождал в походе и Игоря. А «Слово» даёт длинный список тюркских богатырей на службе у черниговского князя.
Русь находится в политических и торговых связях с Византией («греки»), Венецией («венедици»), Священной Римской империей («немци»), Польшей (упоминаются «лядские», то есть польские, копья), Чешским королевством («морава»), Венгрией («король», которому преграждает путь Ярослав Галицкий). Это эпоха Крестовых походов и столкновений между европейцами и ближневосточными князьями, с этим, возможно, связано упоминание «салтанов», в которых издалека «стреляет» тот же Ярослав.
Насколько «Слово» исторически достоверно?
В «Слове» довольно точно изображены события 1185 года — об этом можно сказать с уверенностью, потому что поход Игоря выведен ещё и в целой подробной летописной повести в составе Киевской летописи [3]. Объём этой повести близок к объёму «Слова», написана она в ином стиле (там гораздо больше союзов между предложениями и христианской образности), но всё же содержит ту же канву событий, а также много общих терминов и деталей со «Словом»: например, упоминается «шеломя» как обозначение высокого берега реки. Между прочим, из того, что столичный летописец XII века посвятил походу Игоря целую вставную повесть, видно, что экспедиция Игоря — не «тёмный поход неизвестного князя», как назвал его Пушкин, а важное для Руси и Степи событие, которое произвело большое впечатление на современников. Действительно, как отмечает историк Антон Горский, сепаратный поход на кочевников, пленение четырёх князей на чужой территории, вопиющее пренебрежение дурными знамениями — всё это были практически уникальные события, во время предыдущих войн не происходившие. Имеется ещё один рассказ о походе — в Лаврентьевской летописи [4], и его детали несколько иные (например, солнечное затмение там происходит не одновременно с походом). Некоторые авторы предполагают, что эффектная сцена, при которой Игорь в начале похода наблюдает зловещее знамение, привнесена автором «Слова» и киевским летописцем из художественных соображений.

Иван Голиков. Битва с половцами. 1933 год. Палехская роспись [5]
В «Слове» многое передано намёками, понятными для современников. Вот автор пишет, что суздальский князь Всеволод Большое Гнездо может расплескать Волгу вёслами; здесь имеется в виду на тот момент недавний поход Всеволода на волжских булгар, предков нынешних чувашей. Или упоминается разорение половцами маленького городка Римова, быстро забывшееся (как и сам городок). Это считается аргументом в пользу того, что «Слово» написано по горячим следам после похода.
«Слово о полку Игореве» — прозаическое произведение или поэтическое?
Многие видят в «Слове» стихотворные элементы — иногда даже черты стиха в привычном нам смысле, с равными по числу слогов строками, с размерами и рифмой; существуют очень масштабные реконструкции стихотворного размера «Слова», признать которые вполне надёжными из-за отсутствия древней редакции сложно. Но, несомненно, есть хрестоматийные примеры метрико-синтаксического параллелизма, напоминающего эпический стих: «А мои ти куряни свѣдоми къмети, подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копiя въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени…», «Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новъградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ», «ту ся копiемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону Великаго», «притопта хлъми и яругы, взмути рѣки и озеры, иссуши потоки и болота», «уже снесеся хула на хвалу, уже тресну нужда на волю, уже връжеса Дивь на землю». Сразу же заметны изощрённые аллитерации: «Съ заранiя въ пят(о)къ потопташа поганыя плъкы Половецкыя», «дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажутъ; соловiи веселыми пѣс(н)ьми свѣтъ повѣдаютъ».
Таким образом, характерное для стиха членение на соизмеримые отрезки в «Слове» не общепризнано, но элементы ритмизации текста, отличающие его от большинства древнерусских текстов, несомненны.
Что особенного в лексике «Слова»?
Лексика «Слова» (а это меньше тысячи разных словарных единиц) очень разнообразна, в ней есть, например, обозначения голосов птиц — «говор» галок, «текот» дятлов, «крик» лебедей, «щёкот» соловьёв (в других древнерусских текстах речь об этом заходит нечасто), музыкальная терминология (например, гусли «рокочут»), термины, обозначающие оружие — копья, сабли, шлемы (всё это с мощной символической нагрузкой), названия народов (например, сакраментальные «русичи», отсутствующие в других источниках, но правилам древнерусского языка не противоречащие). Некоторых таких слов без этого памятника мы бы не узнали, например название боевого ножа «засапожник», раннего утра «зарание» или сильного ветра «ветрило». Автор испытывает пристрастие к приставочным глаголам: например, в других памятниках есть глаголы «волочити», «мчати», «поити», но только в «Слове» «поволочити», «помчати», «попоити».
Мир автора «Слова» красочен; знаменитый филолог Борис Ярхо подсчитал, что по плотности цветовых эпитетов на единицу текста «Слово» — самый многоцветный европейский средневековый эпос. На страницах «Слова» появляются багряные столпы, белая хоругвь, «бусые» (серые) ворон и волк, зелёная паполома (погребальное покрывало), кровавые зори, серебряные седина и струи, серый волк, сизый («шизый») орёл, синее вино и молнии, червлёный стяг, чёрные ворон, земля, тучи.
В «Слове» есть редкие или уникальные иноязычные заимствования, смысл которых часто неясен: например, часто повторяющийся эпитет оружия «харалужный» (по одной из версий — «происходящее из державы Каролингов»), название некоей одежды или украшения «орьтъма», какого-то метательного орудия «шерешира» или титулы тюркских богатырей на службе черниговского князя («съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы»). Наличие редких или уникальных тюркизмов и других ориентализмов приводило некоторых авторов-любителей (например, казахского поэта Олжаса Сулейменова) к фантастическим теориям, согласно которым всё «Слово» написано на смешанном тюркско-славянском языке — но это, конечно, преувеличение. Хотя нет сомнения, что автор «Слова» был неплохо знаком с Половецкой степью, а может быть, знал и язык.
Лексику и фразеологию «Слова» плохо понимали уже переписчик XV–XVI веков и живший в конце XIV или в XV веке автор «Задонщины» — не говоря об издателях 1800 года. Некоторые места «Слова», по-видимому, искажены так, что у них нет однозначной трактовки, — это знаменитые «тёмные места»: например, «дебрь кисаню», «стрикусы» или «въстазби». А автор или переписчик «Задонщины» не понял выражение «за шеломянем» («за холмом», «за высоким берегом реки») и вместо «о Русская земле, уже за шеломянем еси!» написал «Руская земля, топервое [т.е. «теперь»] еси как за царем за Соломоном побывала». Что бы это ни значило.
С кем и с чем сравнивает автор героев и события?
В «Слове» мощный образный план: сравнения и метафоры пронизывают текст. Телеги сравниваются с лебедями, Боян — сизый орёл, его пальцы — соколы, струны — лебеди. Половцы — вороны и пардусы (гепарды; в Средние века приручённых гепардов использовали для королевских и княжеских охот в разных регионах Европы, есть они и на фресках в Софии Киевской), их хан Гзак — волк, княгиня Ярославна превращается в зегзицу (обычно это слово понимают как «кукушка», но есть и другие трактовки). Наиболее разработаны два развёрнутых образа князей-оборотней: Всеслав предстаёт как волк и «лютый зверь», а Игорь во время своего бегства последовательно превращается в утку-гоголя, горностая, волка и сокола. Вообще князья сравниваются с соколами неоднократно, а брат Игоря Всеволод получает постоянный эпитет «буй (храбрый) тур». При этом князья предстают ещё и как солнца, месяцы, лучники, далеко шлющие свои стрелы. Битва осмысляется как гроза, кровавый пир или же страшная картина посева (земля сеется костями, поливается кровью, растёт усобицами), а затем и уборки урожая («на Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла»). Глубокий мифологический смысл имеют зловещий символический сон Святослава, сцены гибели молодых князей (их губят реки, они ложатся на зелёное покрывало или роняют «жемчужную душу через золотое ожерелье»), тройной плач Ярославны, обращённый к трём стихиям.
При помощи гиперболических картин человек вписывается в мифологический ландшафт: пленный Кобяк, «вырванный» из Лукоморья, летит в Киев и падает, Всеслав опирается на колдовство, как на волшебный шест, и «прыгает» от Полоцка до того же Киева, Ярослав Осмомысл подпирает горы, Игорь мыслью мерит поля.
Кто правит миром «Слова»: Бог или боги?
Пантеон «Слова» необычен для славянского средневекового текста. Автор вводит целый ряд языческих божеств, выстраивая связанные с ними генеалогии и функции: народ — «внук Даждьбога» [5], певец Боян — «внук Велеса» [6], ветры «внуки Стрибога» [7], оборотень состязается в беге с богом Хорсом [8], Див (то есть древнейшее индоевропейское божество) угрожает Степи; возможно, сюда же относятся такие не совсем ясные фигуры, как Троян, Карна или Желя. Имена божеств упоминаются без какого-либо осуждения, свойственного христианской назидательной литературе; стоит ли за ними какое-то реальное «двоеверие», или это чисто культурные знаки, пришедшие из фольклора и предшествующей традиции (как в позднеантичной и ренессансной культуре), — не вполне ясно. Сторонники версии о поддельности «Слова» обращают внимание на то, что такая языческая образность отвечала вкусам XVIII века, стремившегося реконструировать «славянский пантеон» и использовать его в аллегорических целях, подобно тому как европейские писатели Возрождения и Нового времени упоминали Юпитера и Марса. Однако в «Слове» нет никаких «кабинетных» псевдобожеств, придуманных учёными-мифологами в XVIII веке, вроде бога любви Леля или богини весны Зимцерлы, и весь пантеон лингвистически и исторически достоверен. Например, Див; такого имени в древнерусских источниках нет, но зато оно точно этимологически соответствует латинскому deus и индоиранским названиям божеств, так что просто выдумать его до открытия исторического языкознания не получилось бы. Что весь этот ряд снят в «Задонщине», неудивительно: её автор Софоний был, скорее всего, священником. И в то же время в финале «Слова» Игорю кажет путь из плена Бог — не Даждьбог и не Стрибог, а христианский Бог; князь едет (очевидно, для благодарственной молитвы) к церкви Богородицы Пирогощей в Киеве, после чего автор хвалит князя и дружину за то, что они боролись за христиан с армиями язычников. Несомненно, этот переход — осознанный художественный приём (до этого непосредственно из христианской образности в «Слове» выступает только «суд Божий» в цитате из «песнотворца» Бояна, если не считать постоянного именования половцев «погаными», то есть язычниками, и упоминания Киевского и Полоцкого Софийских соборов). Едва ли надо предполагать, что финал «Слова» принадлежит другому автору, иначе настроенному идеологически.
[4] Самая древняя дошедшая до наших дней датированная русская летопись. Была создана в 1377 году. Название получила по имени монаха Лаврентия, указанного в качестве автора. В составе летописи — «Повесть временных лет» и другие летописные статьи, доходящие до 1305 года.
[5] Бог солнца в древнерусской языческой мифологии.
[6] «Скотий бог», божество в древнерусском языческом пантеоне. В «Житии Владимира» говорится, что «Волос идол» был повержен во время крещения Руси в 988 году.
[7] Бог ветра в древнерусском языческом пантеоне.
[8] Бог солнца в древнерусской языческой мифологии.
[1] Кирилл Туровский (1130 — ок. 1182) — богослов, писатель. Принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, жил в затворничестве. Благодаря богословским трудам был рукоположён в епископы. Канонизирован Русской православной церковью в лике святителя. — Здесь и далее — прим. ред.
[2] Археография — историческая дисциплина, разрабатывающая теорию и практику издания письменных источников.
[3] Литературный и исторический памятник. Составная часть Ипатьевского списка, одного из древнейших летописных сводов. Охватывает события с 1118 по 1200 год.
[1] Битва Игоря Святославича с половецкими войсками на реке Каяле. Поражение русских войск. Две миниатюры из Радзивилловской летописи. Ок. XV века. Российская государственная библиотека.
[5] Иван Голиков. Битва с половцами. 1933 год. Палехская роспись. Государственная Третьяковская галерея.
[4] Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880 год. Государственная Третьяковская галерея.
[3] Василий Тропинин. Портрет Николая Карамзина. 1818 год. Государственная Третьяковская галерея.
[2] Берестяная грамота с упоминанием посадника Захарии и Андрея Боголюбского. Предположительно 1160–80-е годы. Из открытых источников.

О чём эта книга?
Это автобиография Аввакума Петрова, главной фигуры русского старообрядчества, диссидента и вдохновителя церковного раскола XVII века. Протопоп необычайно живо и подробно по меркам своего времени рассказывает о своей жизни, о гонениях за веру, перенесённых им самим и его сподвижниками, о чудесах, которые совершал сам и которым был свидетелем, бранит патриарха Никона, его церковную реформу и исправленные им по греческому образцу церковные книги, отстаивает двуперстное крестное знамение и другие важные догматы старого обряда. Аввакум пишет свою книгу в продолжение религиозно-политической полемики — и попутно открывает для русской литературы жанр автобиографии, прокладывая дорогу психологизму, юмору и бытописательству.
Когда она написана?
Протопоп Аввакум, лишённый сана и преданный анафеме за раскол, последние 15 лет жизни, вплоть до своей казни 14 апреля 1682 года, провёл в земляной тюрьме в заполярном городе Пустозерске вместе с тремя другими важными деятелями раскола. Всё это время протопоп продолжал бороться литературными средствами с церковной реформой патриарха Никона и укреплять дух староверов. В годы заключения он создал своё «Житие» и свыше шестидесяти других сочинений: слов [9], толкований, поучений, челобитных, писем, посланий, бесед, — где обличал «никонианскую ересь» и наставлял в вере своих духовных чад. Написать «Житие» Аввакума «понудил» его духовный отец и соузник по пустозерскому заключению — инок Епифаний, который вносил в рукопись редакторские правки, а через несколько лет после Аввакума написал и своё, гораздо более традиционное по форме житие. «Житие протопопа Аввакума» известно в трёх основных редакциях: первая редакция была написана в 1672–1673 годах, последняя — не позднее 1676 года, вторая — когда-то в промежутке.

Священномученик протопоп Аввакум. Конец XVII — начало XVIII века [6]
Как она написана?
«Житие», написанное нарочито грубым «природным русским языком», нарушает все мыслимые литературные нормы эпохи. Протопоп перемежает церковнославянские цитаты ругательствами, откровенно описывает физиологические отправления, причудливо сочетает разные стилистические пласты: «само царство небесное валится в рот». Необычен и жанр книги: традиционная структура жития предполагала сперва связный и последовательный рассказ о юности святого, затем отдельные эпизоды биографии, по большей части трафаретные (рассказы о чудесах и видениях), иллюстрирующие святость героя и перемежающиеся с поучениями или молитвами, — Аввакум берёт эту структуру за основу, но наполняет её реальными историческими фактами и бытовыми подробностями. Например, обычные для агиографии эпизоды изгнания бесов снабжены подробным описанием «лечебных процедур»: «Я, по обычаю, сам постился и им не давал есть, молебствовал, и маслом мазал»; а ангел, явившийся в тюрьме голодающему протопопу, не просто подкрепляет его силы, а кормит «очень вкусными» щами. Местами автобиография превращается в историю первых лет раскола вообще. А главное, и собственный портрет, и изображения других людей, и окружающий биографический пейзаж у Аввакума приобретают психологический объём и достоверность, необычные для литературы его времени.
Как она была опубликована?
«Житие» активно распространялось в списках и при жизни Аввакума, и после его казни, как и другие его сочинения и письма с наставлениями в жизни и вере, которые он писал из заключения своим духовным детям, но все эти тексты были известны только в среде старообрядцев. Первое печатное издание «Жития» вышло в 1861 году в типографии издателя Дмитрия Кожанчикова в Санкт-Петербурге, подготовил и осуществил его филолог, историк древнерусской «отреченной» (то есть запрещённой церковью) литературы Николай Тихонравов, впоследствии — ректор Московского университета. С тех пор разыскания продолжались. Например, в 1912 году историк Василий Дружинин нашёл в доме одного старообрядца автограф аввакумовской рукописи (за который, по преданию, московская старообрядческая община предлагала учёному 30 000 рублей золотом, но тот не взял, сохранив драгоценную рукопись для науки). Как это часто бывает с допечатными источниками, новые найденные списки порождали новые исследования и принципиально новые публикации. Так, в 1926 году в Париже, в ситуации дефицита русских изданий, Алексей Ремизов отвёл более 70 страниц в журнале «Вёрсты» под публикацию «парижского списка» «Жития», составленного им на основании трёх ранее известных редакций.
Как её приняли?
Почти два столетия после смерти Аввакума его «Житие» распространялось только среди старообрядцев как священный текст. Однако в области светской культуры творчество Аввакума долго оставалась неизвестным, о нём не упоминают ни Тредиаковский, ни Сумароков, ни Ломоносов, ни Пушкин.
Первая публикация «Жития» в середине XIX века была встречена с огромным интересом. Достоевский в «Дневнике писателя» приводит язык Аввакума в пример того «многоразличного, богатого, всестороннего и всеобъемлющего» русского материала, который напрасно презирают, считая «грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль». Лесков вдохновлялся образом Аввакума, работая над «Соборянами», в черновиках протопоп является его герою в видениях, но в окончательном варианте романа Аввакум уже не упоминается, потому что Лесков разочаровался в старообрядчестве. Тургенев не расставался с «Житием» в заграничных поездках, восхищался: «Вот она, живая речь московская!» При этом он, как и многие образованные люди того времени, воспринимал Аввакума как человека невежественного: «Груб и глуп был Аввакум, порол дичь, воображая себя великим богословом, будучи невеждой, а между тем писал таким языком, что каждому писателю следует изучать его». Это не соответствовало действительности: Аввакум был с юности очень начитан, и этим, в частности, объяснялось его необычно раннее рукоположение — уже в 23 года. Справедливее к нему отнёсся позднее Лев Толстой, назвавший Аввакума «превосходным стилистом».
Что было дальше?
Аввакума ценили писатели Серебряного века: о нём писали в стихах и прозе Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Алексей Ремизов. Отдельная, общественно-политическая, линия восприятия фигуры протопопа как олицетворения силы народной пошла ещё от народовольцев. Сочувственно отзывался о нём Чернышевский: «Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьёй крыс пугал в подземелье, человек был, не кисель с размазнёй…» В качестве народного бунтаря Аввакум был позднее «канонизирован» советским литературоведением. Николай Клюев в оде «Ленин» представляет большевистского вождя его последователем, от него ведёт генеалогию русского бунта Максим Горький в «Жизни Клима Самгина».
Позднее Аввакум стал важной символической фигурой для Варлама Шаламова, который писал в стихотворении «Аввакум в Пустозерске»: «Ведь суть не в обрядах, / Не в этом — вражда. / Для Божьего взгляда / Обряд — ерунда». Реальный Аввакум, готовый умереть «за каждый аз», то есть букву старой обрядности, так, конечно, сказать не мог, и попович Шаламов об этом знал. Филолог Юрий Розанов замечает: «…Шаламов пишет об Аввакуме так, как он мог бы писать о себе, конечно, с определённой поправкой на время и подразумевая под «старым обрядом» коммунистическое учение в его первоначальной чистоте» [1] — это был Аввакум не из старообрядческих, не из литературных, а из революционных святцев. В позднесоветские годы фигура Аввакума остаётся для писателей одним из ранних образов революционера (можно, например, вспомнить повесть Юрия Нагибина «Огненный протопоп»). В 1990-е годы Аввакума подняли на щит сторонники евразийства и консервативной революции: идеолог евразийского движения [10] Александр Дугин назвал Аввакума «последним человеком Святой Руси».
Почему Аввакум так грубо нарушает литературные нормы?
«Природный русский язык», то есть просторечие, — важнейший стилистический принцип Аввакума, в своей прозе смешивающего церковнославянизмы и русизмы. Некоторые исследователи полагают, что Аввакум просто не умел писать по-церковнославянски и естественным образом срывался на живую речь. Но, поскольку протопоп учился по церковным книгам и должен был владеть слогом, вероятнее, что это стилистическое решение сознательно и объясняется прагматикой «Жития». Ведь до того, как заключение вынудило его перейти на письменную форму общения с духовными чадами, Аввакум возрождал жанр проповеди, с амвона обращался с увещеванием к толпе на понятном ей языке. Потеряв такую возможность, он продолжил делать то же самое на письме.
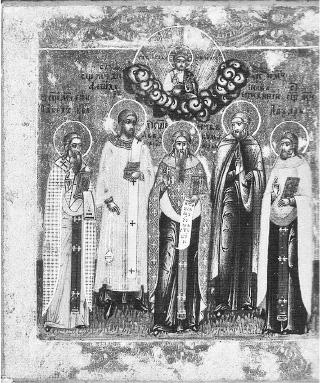
Икона «Богородские староверы» (священномученик протопоп Аввакум, священномученик Павел епископ Коломенский, священномученик диакон Феодор, преподобномученик инок Епифаний и священномученик иерей Лазарь). XIX век [7]
Кроме того, отстаивая «природный русский язык», Аввакум тем самым отстаивал национальную культуру и древнее русское благочестие перед лицом западных культурных влияний — от нового силлабического стихотворства до барочной проповеди, которые в XVII веке всё активнее стали просачиваться на Русь. Аввакум понимал, что просто осудить их недостаточно: нужно предложить альтернативу. Борясь с обаянием новой литературы, он стал новатором сам и в пику новым заимствованным жанрам обновил старый, канонический.
Хронология


Насколько правдиво в «Житии» изображены исторические события?
Общая канва событий изложена верно, хотя протопоп не указывает точных дат (однако исследователям, например Пьеру Паскалю, удалось восстановить хронологию его жизни очень подробно). С частностями дело, конечно, обстоит сложнее. Если его дару исцелять бесноватых можно найти рациональное объяснение с точки зрения современной психологии (скажем, по аналогии с широко распространённой в XIX веке и практически исчезнувшей в наши дни истерией, которую Жан Мартен Шарко лечил гипнозом), то многочисленные чудеса, которые протопоп творил сам и которым был свидетелем, каждому читателю остаётся трактовать на своё усмотрение. Иногда он сам оставляет читателю место для сомнения. Скажем, когда патриарх Никон в первый раз за ослушание посадил его у себя на дворе на цепь, а затем бросил на три дня в тёмную каморку в Андроньевском монастыре без хлеба и воды, куда никто к нему не приходил («токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно»), на третий день оголодавшему протопопу явился «не вем — человек, не вем — ангел», который сотворил молитву и дал узнику хлеба и щей (очень вкусных, как свидетельствует автор «Жития»), а после исчез, хотя двери не отворялись. Как это возможно, если это был человек, — дивится протопоп; а если ангел — тогда, конечно, ничего странного: ему «везде не загорожено».

Спасо-Андроников монастырь. Фотография 1882 года.
Место первого заточения протопопа [8]
Многие рассказы Аввакума проверяются свидетельствами очевидцев: например, воспоминания Аввакума о том, как его мучил в Даурской земле воевода Пашков (72 удара кнутом, пощёчины, вырывание волос, кандалы), почти во всём, кроме оценки, совпадают с официальным донесением этого самого воеводы, где тот просит избавить его от неудобного ссыльного, который мутит стрельцов. Помимо «Жития», Аввакум написал своим духовным чадам множество писем, которые также позволяют установить последовательность событий.
В чём вообще была суть конфликта между староверами и никонианами?
Патриарх Никон затеял церковную реформу, чтобы объединиться с единоверцами — восточными православными церквями — перед лицом католической угрозы. Реформа, однако, расколола Русскую православную церковь.
Русские священные книги и обряды пришли из греческой церкви ещё в пору принятия Русью христианства, и с тех пор русская церковь существовала обособленно, причём с течением веков возникло множество разночтений в текстах в результате ошибок переписчиков. Кроме того, русские епархии были разобщены между собой. После объединения Московского государства возникла необходимость унифицировать церковную жизнь. Стоглавый собор 1551 года закрепил сложившуюся на Руси церковную практику.
Тем временем в греческой церкви тексты и обряды претерпели значительные изменения. На Руси они усвоены не были — среди прочего потому, что греческая церковь со времени падения Константинополя (1453) находилась под государственной властью магометан и была тем самым скомпрометирована. Но в середине XVII века Россия оказывается перед необходимостью сближения с остальным православным миром, чтобы противостоять католической церкви и вообще западноевропейскому влиянию. В 1654 году с Россией воссоединилась Левобережная Украина, чья церковь, находившаяся под властью константинопольского патриарха, к тому времени уже провела реформу: она вслед за греческой церковью сменила двоеперстие на троеперстие, а написание «Исус» на «Иисус». Были внесены и другие обрядовые изменения.
Взойдя на патриарший престол, Никон начал энергично внедрять новые порядки, чем вызвал возмущение многих священнослужителей, в том числе бывших своих товарищей по «Кружку ревнителей благочестия» — Ивана Неронова (настоятеля московской церкви Казанской Богородицы в Москве) и протопопа Аввакума. Реформа, начатая как кампания по обновлению духовной жизни и утверждению благочестия, приняла новый оборот. Из Киева были призваны учёные монахи, отрицавшие весь старорусский чин и обряд как невежественные — и тем самым посягавшие на авторитет русских святых. За образец взяли современные греческие богослужебные книги, отпечатанные в Венеции (католическом городе, что само по себе вызывало подозрения). Исправленные книги множили на Московском печатном дворе и рассылали по всем епархиям со строгим наказом служить впредь только по ним. Это вызывало протест не только потому, что обрядовые изменения воспринимались как ересь, но и потому, что малограмотным священникам было сложно переучиваться.
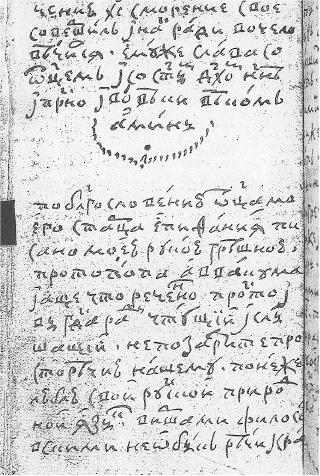
Автограф Аввакума (Пустозерский сборник). 1675 год [9]
В 1666–1667 годах состоялся Большой Московский собор, на котором были преданы анафеме древние богослужебные чины и все их сторонники, получившие название старообрядцев, — так начался раскол Русской церкви. Апогеем сопротивления никонианской реформе стало так называемое Соловецкое сидение с 1668 по 1676 год, когда мятежный Соловецкий монастырь был наконец взят стрельцами. После этого протест со стороны старообрядцев выражался уже в форме мученичества — массовых самосожжений.
Хотя более рациональный подход к священным текстам, богослужению и самой вере был вызван конкуренцией с латинским миром, он парадоксальным образом означал движение в сторону секуляризации культуры, в сторону Запада. Всё это было неприемлемо для раскольников, веривших, что Московское государство призвано освободить Константинополь и стать Царством Божиим на земле (Москва — Третий Рим, «а четвёртому не бывать»). Хотя на Востоке было ещё четыре православных патриарха, они находились под властью магометан — православный царь был только в Москве. Именно царя всю жизнь пытается переубедить Аввакум, не оставляя этих попыток и в своём «Житии»: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах».
Как получилось, что Аввакума казнили по политическому обвинению?
После завершения «Жития» Аввакум провёл в заключении ещё шесть лет, всё это время не прекращая своей пасторской деятельности. В 1675 году уморили в тюрьме голодом сподвижницу Аввакума — боярыню Морозову, в 1676-м, когда было завершено «Житие», в результате долгой осады было окончательно подавлено Соловецкое восстание [11], главная надежда раскола. К этому времени скончался главный заступник Аввакума — царь Алексей Михайлович, что староверы восприняли как воздаяние царю за грехи. Молодому царю Фёдору Алексеевичу Аввакум написал челобитную, призывая его не следовать примеру покойного отца (который, как прозрачно намекнул протопоп, горит в адском пламени за свои ошибки), а восстановить истинную веру. Это, конечно, вызвало у царя большое раздражение.
Тем временем сочинения Аввакума и его пустозерских сподвижников продолжали, несмотря на строгие запреты, переписываться и рассылаться «верным» — крамольные тексты можно было даже купить из-под полы в Москве в книжных рядах на Красной площади. А 6 января 1681 года, в праздник Богоявления Господня, пока царь и высшее духовенство совершали торжественный крестный ход из Кремля на Москву-реку, староверы устроили настоящий бунт: ритуально осквернили Успенский и Архангельский соборы, вымазали гробницу Алексея Михайловича дёгтем, как ворота гулящей девки, с колокольни Ивана Великого метали в толпу свитки с политическими карикатурами и «хульными надписями» на царя и церковные власти во главе с патриархом. Оригиналы изготовил на бересте сам протопоп Аввакум.
Это было уже прямо политическое дело. Собор 1682 года передал вопрос старообрядчества в руки светских властей. После непродолжительного расследования в отношении Аввакума и других пустозерских узников в Пустозерск был направлен приказ о казни бывшего протопопа Аввакума, монаха Епифания, бывшего священника Лазаря и бывшего дьякона Фёдора. В Страстную пятницу 14 апреля 1682 года Аввакума и его соузников сожгли на площади в срубе.
С тех самых пор Аввакум почитается в большинстве старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник. Официально он был канонизирован старообрядцами Белокриницкого согласия [12] на Освящённом соборе в 1917 году.
В чём жанровое новаторство «Жития»?
Жанр, названный словом «житие», по умолчанию подразумевает биографию святого, то есть человека, кроме всего прочего, уже умершего и канонизированного. Аввакум сделал вещь для своего времени невозможную, написав собственное «Житие», то есть, во-первых, фактически объявив себя святым и, во-вторых, положив начало жанру автобиографии (а возможно, и психологической прозе вообще) в русской литературе.
Нельзя сказать, что житийный канон был абсолютно неизменен: исследователи выделяют, например, такие разновидности, как жития-новеллы (которые группировались в патериках) и жития-повести. Тем не менее житие как жанр предполагает наличие определённых конструктивных элементов, и Аввакум имел их в виду, сочиняя собственное.
Его текст начинается с традиционного вступления, где обоснован сам факт создания жития. Этот канонический приём получил особенное значение в аввакумовской версии «жития мученика», которое, разумеется, не заканчивалось его смертью (хотя Аввакум действительно окончил жизнь в огне через несколько лет после завершения текста). Описание собственной жизни и вообще внимание к собственной персоне было глубоко нехарактерно для православного сознания того времени: это воспринималось как гордыня, греховное самовосхваление. Поэтому Аввакуму приходится оправдываться двояко: во-первых, текст продиктован необходимостью отстоять истинную веру, поведать о страданиях мучеников, во-вторых, за перо Аввакум взялся по побуждению своего духовника.
Традиционный для жития рассказ о юных годах Аввакума, о матери-молитвеннице, о чудесах, которые он совершал и которым был свидетелем, призван подтвердить его статус святого. Французский славист Пьер Паскаль отметил поразительный эгоцентризм аввакумовского жития и новый для русской литературы «психологизм», с которым Аввакум подробно и ярко описывает душевные переживания — и собственные, и чужие. Композиционно и стилистически внутренний монолог Аввакума восходит к молитве — каноническому элементу жития, но наполняется реальными переживаниями автора, благодаря чему возникает невиданный до тех пор в русской литературе самоанализ.
Чем необычен язык «Жития»?
Аввакум в первых же строках заявляет: «люблю свой природный русский язык» — и в тексте неоднократно характеризует свой слог как «просторечие», «вякание», «воркотню». На письме он передаёт строй устной речи, даже фонетически воспроизводя особенности своего нижегородского произношения. Протопоп был высокообразованным человеком, и просторечие — его сознательный, идеологический авторский выбор. В пику «книжникам и фарисеям», носителям ненавистной греческой учёности, протопоп прикидывается человеком невежественным («ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства [13] неискусен»), зато искренним. Он остроумно оправдывает собственную позицию и право писать о себе, уподобляя себя как автора нищему, который собирает подаяние и кормит семью: «У богатова человека, царя Христа, из евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, и с полатей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у торговова человека, кусок словес его получю; у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтеся, не мрите с голоду! Я опять побреду збирать по окошкам…» Тем самым он придаёт своему повествованию убедительность: верьте не мне (я человек простой), верьте Отцам Церкви, которых я бесхитростно пересказываю, и Христу, который говорит через меня.
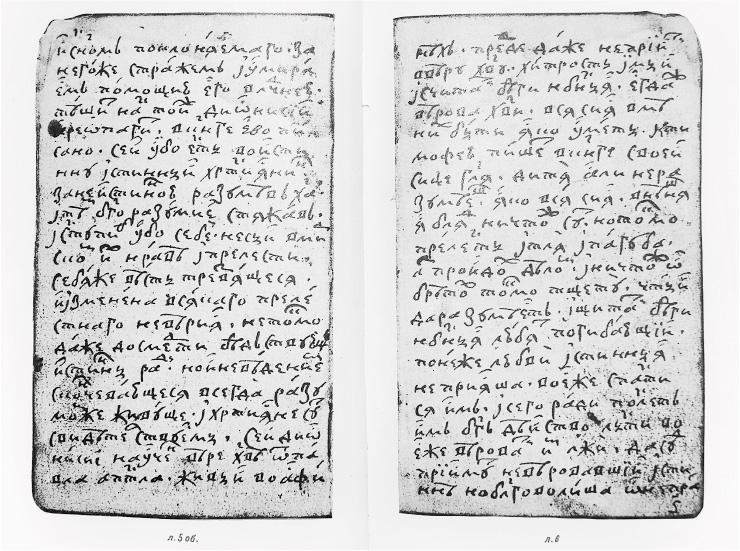
Житие протопопа Аввакума. Копия с рукописи XVII века [10]
Характерно, что в тексте протопоп неоднократно прямо обращается к тому или иному читателю: к старцу Епифанию, к некоему «возлюбленному чаду», которому предназначался дошедший до нас автограф, а также к царю, к никонианам или к самому дьяволу. Это публицистическая полемика в реальном времени. Иногда текст превращается в настоящий диалог: Аввакум задаёт вопрос Епифанию и оставляет чистое место, куда его духовник и редактор вписывает свой ответ, после чего Аввакум продолжает прерванный рассказ.
Смешное житие — это вообще нормально?
Конечно же, нет, особенно если учитывать, что «Житие» повествует о гонениях на веру, наступлении царства Антихриста и объективно тяжёлых и трагических жизненных обстоятельствах. С одной стороны, в этом проявилась индивидуальность Аввакума, который был наделён живым чувством юмора. Однако юмор и в первую очередь самоирония в «Житии» имеют важную прагматику, которую описал Дмитрий Лихачёв: «Одним из главных грехов в русском православии считалась гордыня и в особенности сознание своей праведности, непогрешимости… Поэтому таким любимым чтением в Древней Руси были рассказы о «святых грешниках» в патериках и минеях — о грешниках, раскаявшихся и продолжавших осознавать себя грешниками, или о тех, кто совершал подвиги в полной тайне от других, казался другим и считал самого себя величайшим грешником; типичны в этом отношении житие Марии Египетской, житие Алексея Человека Божия и мн. др.» [2]. К этой же традиции можно отнести, например, лесковского «Очарованного странника». Подвиг святого предполагал сознание собственной бесконечной греховности и даже презрение со стороны окружающих. Объявляя себя святым, Аввакум вынужден прибегать к постоянной самокритике, потому что, с одной стороны, его устами свидетельствует истинная вера, но с другой — как живой человек он должен компенсировать самовозвеличение постоянным самоуничижением.

Богдан Салтанов. Икона «Кийский крест» (слева — святой равноапостольный царь Константин Великий, царь Алексей Михайлович, патриарх Никон; справа — святая равноапостольная царица Елена, царица Мария Ильинична). 1670-е годы [11]
Поэтому он смеётся над собой и над своим подвигом, причём складывается парадоксальная ситуация, когда на одной странице он фактически уподобляет себя Христу или апостолу Павлу, а на другой называет себя «прямым говном». Как пишет Лихачёв, это типичный для Средневековья смех над самим собой — «очистительный, утверждавший бренность и ничтожество всего земного сравнительно с ценностями вечного».
Было у юмора в «Житии» и другое назначение. Ведь Аввакум писал его, чтобы убедить других в истинности старой веры и в том, что следует пострадать за неё. Поэтому «Житие» должно было не пугать, а указывать на ничтожность переносимых мук. Он балагурит, иногда переходя даже на раёшник: «Аще бы не были борцы, не бы даны быша венцы», саркастически отмечая, что теперь, чтобы стяжать мученический венец, далеко в языческие земли ходить не надо: «Стань среди Москвы, прекрестися знамением Спасителя нашего Христа, пятью персты, яко же прияхом от святых отец: вот тебе царство небесное дома родилось!»
Смех, самоумаление, презрение людское тесно связаны с темой юродства. Хотя у Аввакума было другое амплуа, в одном эпизоде он описывает, как юродствовал на судившем его соборе: не отвечая на обличения патриархов, Аввакум отошёл к дверям и «набок повалился», чтобы показать своё презрение, а на упрёки и насмешки, что он вести себя не умеет, ответил цитатой из апостола Павла: «Мы уроди Христа ради! Вы славни, мы же безчестни! Вы силны, мы же немощни!»
Как отмечает Лихачёв, смех был для Аввакума формой сопротивления: раз человечество во власти дьявола и слуги Антихриста уничтожают верных христиан, подлинный мир — только мир вечный, а земной, «кромешный» мир достоин смеха и жалости.
Чем различаются авторские редакции «Жития» и почему важно, что их несколько?
В случае древних текстов, как правило, существует проблема разночтений между разными списками, то есть рукописными экземплярами. Но в случае «Жития» принято выделять к тому же три редакции текста, созданные в разные годы самим Аввакумом (две из них дошли в автографах). Особняком стоит так называемый Прянишниковский список — поздняя (XVIII века) редакция ещё одного, не дошедшего до нас варианта «Жития». Этот вариант, возможно самый ранний, более откровенен и содержит ряд эпизодов из жизни протопопа, которые в других списках отсутствуют.
Есть мнение, что в случае «Жития» окончательный вариант текста не предполагался в принципе, поскольку Аввакум варьировал текст по мере рукописного «тиражирования», внося или убирая определённые биографические подробности, полемические выпады или лирические отступления, в зависимости от адресата конкретного экземпляра. Но убедительнее звучит версия, что автор с самого начала воспринимал «Житие» как законченное произведение: его сюжет доведён хронологически до момента, когда протопоп оказывается в Пустозерске, и не обновляется с учётом последующих событий. Скажем, боярыня Феодосия Морозова ещё упоминается как живая в третьей редакции «Жития», хотя к тому времени уже скончалась и была оплакана Аввакумом в другом тексте. Изменения в тексте «Жития» — не импровизация: судя по всему, Аввакум умышленно и последовательно приводит текст в соответствие с главным замыслом. В окончательном варианте усилена агиографическая стилизация (вставлены специальные богословские статьи, не имеющие отношения к сюжету, многочисленные цитаты из Священного Писания, дополнительные рассказы о чудесах), зато убраны эпизоды, не работавшие на тот образ, который хотел создать протопоп.
Один из таких эпизодов — встреча Аввакума по пути из Даурии в Москву с иноземцами, которые перед тем убили множество русских, но протопопа отпустили с миром. В последней редакции он выпустил упоминание о том, как «лицемерился» с язычниками, чтобы уцелеть, ограничившись скупым замечанием: «Варвары же Христа ради умягчились и никакого зла мне не сотворили, Бог так изволил». Нет там уже и упоминания о том, как Аввакум пал духом, усомнившись в целесообразности дальнейшего обличения никониан, и Настасья Марковна его отчитала. И только из Прянишниковского списка мы узнаём, например, что вскоре после рукоположения и рождения старших детей молодой протопоп чуть не запил по примеру своего отца или что он сам в 1652 году просил царя поставить Никона патриархом. Все эти сомнительные для жизни святого подробности в финальной редакции цензурированы. Параллельно за годы заключения усиливается гнев Аввакума на гонителей, поэтому в последней редакции он часто бранит их, а сцену пустозерской казни своих соузников описывает с таким натурализмом, что инок Епифаний позже заклеил этот фрагмент и заменил описанием чудесного забвения во время пытки. Последняя редакция «Жития» соответствует авторской воле о том, в каком виде это произведение должно дойти до читателя, но другие в чём-то полнее и непосредственнее; поэтому имеет смысл читать комментированное издание, где приведены все выпавшие фрагменты.
Почему прихожане протопопа Аввакума всё время его били?
Где бы ни служил Аввакум, это постоянно оборачивалось конфликтом с паствой. Сам он считал причиной этих конфликтов своё усердие в обличении блуда и насаждении нравственности. Но тут нужно учитывать два обстоятельства: во-первых, блуд и порок протопоп трактовал гораздо шире, чем его прихожане, во-вторых, по крайней мере в годы своего служения в городе Юрьевце-Повольском [14] он обладал неограниченным политическим ресурсом и не стеснялся прибегать к мерам физического воздействия. Несмотря на то что Аввакум в «Житии» с похвальной гуманностью упрекает патриарха Никона в жестокости и указывает, что Христос казнить не велел, сам он был наделён очень бурным темпераментом и пастырским наставлением не ограничивался: кого в алтаре порол, кого сажал на хлеб и воду в подвал до покаяния, а однажды бросил тело скоропостижно умершего воеводы-грешника на съедение псам.
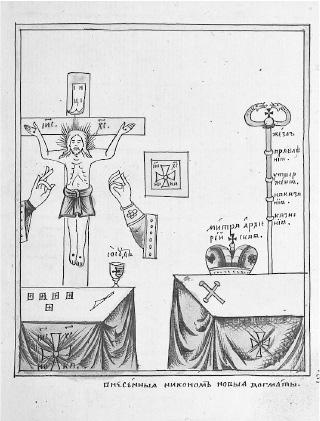
Новые догматы Никона. Из книги «Истории об отцах и страдальцах Соловецких». 1800 год [12]
Всё это он мог делать благодаря поддержке царя Алексея Михайловича. Аввакум был членом «Кружка ревнителей благочестия», который в 1648–1651 годах сложился вокруг царского духовника, протопопа московского Благовещенского собора Стефана Вонифатьева; в этот кружок входил и Никон, будущий патриарх, и учитель Аввакума — Иван Неронов. Кружок ставил своей целью укрепление благочестия и искоренение пороков, суеверий и недозволенных удовольствий — а в этот разряд попадали, например, выступления скоморохов, рождественские коляды и другие праздники и обычаи языческого происхождения, азартные игры — кости, карты, шахматы и бабки, винное зелие, музыкальные инструменты, развлечения, искажающие облик человека (например, переодевания и маскарады). Все эти запреты существовали и раньше, но, как известно, в России «строгость законов компенсируется необязательностью исполнения таковых»; «ревнители» же стали требовать буквального исполнения всех церковных предписаний, а ослушников били батогами, ссылали, штрафовали, сажали их на цепь и отправляли на покаяние в монастырь — хорошая иллюстрация к современному выражению «православный талибан». Паства, не снеся аввакумовских строгостей, то и дело шла толпой бить протопопа при молчаливом попустительстве воеводы (чьи стрельцы нарочито медленно ехали на подмогу), раз бросила полумёртвого под угол дома, он с семьёй был вынужден бежать в Москву, под крыло Неронова.
Формальная строгость Аввакума проявлялась не только в вопросе обрядов. Скажем, борьба с блудом — дело для священнослужителя естественное. Но что Аввакум под этим понимал? В Тобольске, где оказался в ссылке протопоп, как и вообще во всей не до конца ещё покорённой Сибири, остро не хватало русских женщин, поэтому частыми были смешанные браки — формально они считались незаконными, но на это никто не смотрел. Аввакум такие семьи разводил. В его «Житии» приведена история о молодой калмычке, которая выросла пленницей в доме некоего Елеазара. Аввакум сделал её своей духовной дочерью, забрал к себе. Девушка, однако, сильно скучала по бывшему хозяину, из-за чувства вины перед Аввакумом с ней случались нервные припадки, которые Аввакум лечил экзорцистскими методами. После ссылки протопопа девушка всё-таки вышла за своего Елеазара, но, услышав, что духовный отец возвращается, от страха оставила мужа и стала монахиней. Из сегодняшнего дня поведение Аввакума часто кажется жестоким и непонятным — и таким же оно казалось многим его прихожанам, которые за полтора года служения Аввакума в Тобольске написали на него пять доносов.
Был ли протопоп Аввакум ретроградом, отвергавшим всё новое?
А вот и нет. Наоборот: первоначально Аввакум сам стремился реформировать религиозную и нравственную жизнь русских людей (не проводя различия между религией и нравственностью). Аввакум, выступивший против Никона по малозначительному, на поверхностный взгляд, вопросу об исправлении богослужебных книг и обрядов, незадолго перед тем сам энергично принялся исправлять церковную практику «многогласия» — согласно этому богослужебному русскому обычаю, разные песнопения службы пелись на нескольких клиросах одновременно, тем самым служба заканчивалась скорее. Аввакум велел петь всё по порядку, что было новшеством и за что в Юрьевце-Повольском и других местах, где служил Аввакум, его же прихожане не раз колотили его всем миром среди улицы — «долго-де поешь единогласно. Нам-де дома недосуг».
И выправлением «испорченных» церковных книг занимался поначалу именно Аввакум, вместе с Иваном Нероновым и Стефаном Вонифатьевым; с Никоном он только разошёлся в вопросе о первоисточниках. Кроме того, Аввакум воскресил давно забытый к тому времени на Руси обычай церковной проповеди — его обличения пороков воспринимались как неприятное нововведение и также затягивали службу.
Почему Аввакума называли «огнепальным протопопом»? Правда ли, что он призывал староверов к массовому самоубийству?
Скажем так: призывал, но не всех. Коллективное самосожжение (а также самоутопление, пост до голодной смерти и прочее) было широко распространённым старообрядческим способом обрести спасение души. Хотя раскольники подвергались гонениям, их пытались перевоспитать, сажали в тюрьму и казнили, но часто смерть в огне была их добровольной инициативой. Только с 1675 по 1695 год было зарегистрировано 37 «гарей», во время которых погибли не меньше 20 тысяч человек.
Аввакум к этой практике относился одобрительно. В беседе «Об иконном писании» он писал: «Всяк правоверный много не рассуждай, пойди в огонь. Бог благословит, и наше благословение да есть с тобою во веки!» Хотя в православии, как и в любой христианской конфессии, самоубийство — смертный грех, но в этом случае старообрядцы, и в частности Аввакум, рассматривали это как аналог первохристианских страданий за веру. Эсхатологические настроения были очень сильны, конца света ожидали сперва в 1666 году, а потом, когда он не наступил, со дня на день. Никонианская реформа явно свидетельствовала о наступлении царства Антихриста, и цепляться за жизнь в таких обстоятельствах казалось и бессмысленным, и недушеполезным. Однако признавая, что старообрядцы, «принявшие огненное крещение», поступили мудро, Аввакум колебался, отвечая на нетерпеливые вопросы своих духовных чад, пора ли следовать их примеру. В целом протопоп требовал от людей мученичества пропорционально любви и уважению к ним. Так, он упрекал сыновей, которые из страха отреклись от истинной веры и отделались тюрьмой, вместо того чтобы «урвать мученический венец», и не давал послаблений своей духовной дочери и близкому другу боярыне Морозовой, но когда к нему обратился юродивый старообрядец Фёдор с вопросом, носить ли ему обычное платье (юродивые зимой и летом ходили в одной рубашке, а то и нагишом и были, следовательно, очень заметны) или упорствовать и терпеть постоянные гонения, Аввакум ему посоветовал маскироваться. Не разделял протопоп и радикального аскетизма, согласно которому перед концом света вообще уже не следует жениться и размножаться, а только жить в молитве и воздержании. Похоже, отчасти это объясняется тем, что сам он очень любил свою семью и был человеком темпераментным, его борьба с плотскими соблазнами описана и в «Житии». Он наставительно цитирует послание апостола Павла, призвавшего жениться, чтобы не было греха. Аввакум был реалистом, не ждавшим от всех готовности к подвигу.
Каким был Аввакум в семейной жизни?
Протопоп был примерным семьянином. У Аввакума и его жены Настасьи Марковны было девять детей: двое из них умерли во младенчестве из-за лишений в ссылке, и протопоп их очень оплакивал; выросли четыре сына — Иван, Прокопий, Корнилий, Афанасий — и три дочери — Агриппина, Акулина и Аксинья. Аввакум много пишет о детях и жене, но важно понимать, что, несмотря на бытовые подробности и простой язык, образ протопопицы в «Житии» он выстраивает в соответствии с житийным каноном, как иллюстрацию святости самого Аввакума и всех его сподвижников. Настасья Марковна — бедная набожная сирота, четырнадцати лет от роду выбранная в жены Аввакуму его матерью, тоже женщиной набожной и благочестивой (в отличие от отца-пьяницы). Она безропотно сносит все лишения, следует за мужем в ссылку, ещё не оправившись от родов, теряет детей, терпит из-за него тюремное заключение. Наверное, самый знаменитый фрагмент «Жития» — диалог протопопа с женой во время пятидневного перехода по льду озера: «Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кользко гораздо! <…> …на меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петровичь, ино еще побредем». Это, наверное, единственный раз, когда Настасья Марковна дрогнула. В другой раз протопоп сам пал духом, видя, что ему не удаётся переубедить царя, что ересь никонианская побеждает и, если он будет упорствовать, пострадает его семья, — тут, наоборот, Настасья Марковна стыдит его, веля о детях не волноваться, а идти в церковь обличать Никона.
Аввакум очень ценит жену за силу духа — чуть ли не единственный раз он говорит о ней пренебрежительно именно потому, что она недосмотрела за детьми, которые малодушно отреклись от старой веры и уцелели, отделавшись тюремным заключением: «…Жила бы, не розвешав уши, а то баба, бывало, нищих кормит, сторонних научает, как слагать персты, и креститца, и творить молитву, а детей своих и забыла подкрепить, чтоб на висилицу пошли и з доброю дружиною умерли заодно Христа ради».
Поколотив как-то раз жену, протопоп кланяется ей в ноги и накладывает на себя епитимью: очевидно, несмотря на вспыльчивость, домашнее насилие он нормой не считал. Из детей он особенно выделял старшую дочку Агриппину: уже в конце жизни из земляной тюрьмы в Пустозерске он, сам живущий передачками с воли, посылает ей в Москву кусок холста и в письмах настойчиво интересуется, дошёл ли подарок.
Почему Аввакума постоянно щадили власти?
В то время как сподвижников строптивого протопопа вешали у него же на воротах, резали им языки и секли руки, сам он до самого своего сожжения отделывался сравнительно легко: его не калечили, из ссылки его возвращали, переубеждали всем двором, просили уже даже не принять реформу, а хотя бы помолчать и не мешать; уже во второй ссылке ему смягчили по его просьбе условия содержания — на пути в Пустозерск, где он впоследствии окончит свои дни, его с семьёй сперва оставили в Мезени. Объясняется это всё несколькими причинами. Во-первых, царь Алексей Михайлович Аввакума любил и уважал. И ещё больше любили Аввакума царица Мария Ильинична и царевны: когда Аввакум был расстрижен и предан анафеме, царица, по свидетельствам очевидцев, дома устроила царю основательную взбучку. Царевна Ирина послала Аввакуму в Сибирь богатое облачение, которое спасло ему жизнь: в голод он выменял его у воеводы на еду. Аввакум не раз пишет в «Житии» о знаках внимания со стороны Алексея Михайловича, который в церкви после пасхальной службы стоял и дожидался, пока разыщут малолетнего Аввакумова сына, чтобы погладить его по головке и одарить крашеным яичком. Накануне отправки Аввакума в последнюю ссылку царь ходит вокруг его темницы и вздыхает, а вдогонку ему шлёт письмо, обещая заступничество перед патриархом и прося молитв.
Во-вторых, и царь, и воеводы, под чьим началом оказывался ссыльный Аввакум, и вообще все его гонители или просто люди, с которыми сталкивала его судьба, хотя подчас сажали протопопа на цепь и пороли кнутом, но втайне подозревали, что Аввакум действительно святой, или по крайней мере не поручились бы, что это не так. Судя по всему, он был крайне убедительным полемистом, а ещё убедительнее действовал его личный пример: его готовность умереть за свои убеждения, личная нравственность и аскетизм не вызывали никаких сомнений. А если он вдруг святой, то сильно ему навредить — значит попасть в ад, и такой риск никто на себя брать не хотел. В-третьих, были и политические мотивы. Религиозная жизнь в XVII веке была неотделима от жизни общественно-политической. Никонианская реформа расколола не только верующих, но и общество в целом, это была важная и рискованная политическая история, и власти не хотели делать из Аввакума показательного мученика. Ко времени, когда его всё-таки сожгли (причём формально — по политическому обвинению: за хулу на царский дом), Алексей Михайлович умер, а раскол уже был повержен.
Можно ли назвать Аввакума диссидентом?
Вполне. Когда советские диссиденты требовали от властей «соблюдать собственную конституцию» [15], они в каком-то смысле следовали примеру Аввакума, требовавшего, чтобы царь и патриарх следовали решениям Стоглавого собора, и так же были готовы пострадать за свои убеждения. Многие позднейшие диссидентские практики у Аввакума и его пустозерских соузников — страдальцев за веру — были уже в ходу. Так, например, послания и другие сочинения на волю (в Москву, в Боровск, на Дон, в Сибирь и так далее) передавались из тюрьмы, спрятанные в разные предметы, например в кедровые кресты, которые мастерил старец Епифаний, а в самом удивительном случае Аввакум «стрельцу у бердыша в топорище велел ящичек зделать… и заклеил своима бедныма рукама то посланейце в бердыш… и поклонился ему низко, да отнесет, богом храним, до рук сына моего, света; а ящичек стрельцу делал старец Епифаний». Передавать письма на волю через лагерную охрану советские диссиденты, конечно, не могли, но специальные предметы с тайниками для нелегальной корреспонденции были широко распространены и у них (только этой цели служили уже не кресты, а, например, курительный мундштук, который нужно было нагреть на свечке, чтобы развинтить и найти записку на папиросной бумаге).
Параллель можно усмотреть и в «показательных процессах» XVII века: священники и церковные иерархи, сперва протестовавшие против реформы, но впоследствии не выдержавшие гонений и отрёкшиеся от старой веры, были вынуждены многократно приносить публичное покаяние в целях назидания паствы — так же, как обвиняемые по политическим делам в сталинское время.
Сподвижник Аввакума дьякон Фёдор просил Бога открыть ему, не было ли в старой вере какой-нибудь ошибки и не была ли новая вера правой. В продолжение трёх суток он не ел, не пил и не спал и получил указание умереть за истинную веру и не принимать никаких новшеств. Но он очень беспокоился о своей семье и хотел вызвать духовника (которого в этих условиях можно назвать аналогом советского адвоката), чтобы передать через него весточку родным; первым условием для этого было подчинение церкви и собору — и Фёдор подписался под документом, что «во всем повинуется святой восточной соборной и апостольской церкви и всем православным ея догматом»; он умолял царя освободить его из тюрьмы и возвратить к бедной жене и малым детям. Отказ в свиданиях и праве переписки впоследствии стал распространённым методом давления на советских диссидентов.
[10] Житие протопопа Аввакума. Копия с рукописи XVII века. Древлехранилище ИРЛИ.
[12] Новые догматы Никона. Из книги «Истории об отцах и страдальцах Соловецких». 1800 год.
[11] Богдан Салтанов. Икона «Кийский крест». 1670-е годы. Государственный исторический музей.
[11] Или Соловецкое сидение — восстание монахов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, длившееся с 1668 по 1676 год. Монастырь отказался принять реформу патриарха Никона, власть расценила это как бунт и отправила на Соловки царские войска, которые почти десять лет осаждали хорошо защищённый монастырь. После того как стрельцам удалось взять Соловецкий монастырь, активные участники мятежа были казнены, остальные сосланы в остроги.
[12] Православная старообрядческая церковь, которая ведёт начало от греческого митрополита Амвросия. Он перешёл в старообрядчество в 1848 году и основал свою иерархию. Белокриницкая иерархия получила название по селу Белая Криница, которое было одним из центров поселения староверов.
[13] Дидаскал — учитель, наставник, проповедник (с греч. διδάσκαλος — «учитель»). Логофет — высший чиновник в патриаршей канцелярии при византийском дворе (с греч. λογοθέτης — «постановляющий»). У Аввакума эти понятия синонимичны: выбирая греческие слова, он иронизирует над заумью и излишней учёностью.
[9] Жанр древнерусской литературы. Слово предназначалось для произнесения вслух на торжественных собраниях или в церкви во время службы — из него потом развился жанр церковной проповеди. Известные образцы — «Слово о законе и благодати» Илариона и «Слово о погибели Русской земли».
[10] Философско-политическая концепция, согласно которой Россия не часть Запада, а наследница Орды. У русских особый путь и свои ценности — жертвенность и героизм, противостоящие западной прагматичности. Евразийство зародилось в 1920-е годы в среде русских эмигрантов, среди его основателей — лингвист Николай Трубецкой и географ Пётр Савицкий, сходные идеи развивал впоследствии Лев Гумилёв. С середины 90-х главным идеологом евразийства становится философ Александр Дугин, сочетающий идеи «особого пути» с концепцией «консервативной революции» и геополитическими изысканиями.
[14] Современное название — город Юрьевец.
[15] Лозунг советских правозащитников. Им сопровождался митинг гласности, который прошёл на Пушкинской площади в Москве 5 декабря 1965 года, в День Конституции. Митинг считается первой оппозиционной демонстрацией со времён установления сталинской диктатуры. Конституция 1936 года провозглашала свободу слова, печати и собраний. На площадь вышло около 200 человек, буквально через пару минут их всех разогнали.
[9] Автограф Аввакума (Пустозерский сборник). 1675 год. Древлехранилище ИРЛИ.
[8] Спасо-Андроников монастырь. Фотография 1882 года. Из книги: Найденов Н. А. Москва. Соборы, монастыри и церкви. В 4 ч. Ч. IV. Местность за Земляным городом. — М.: Типолит. И. Н. Кушнерева и Ко, 1882–1883.
[7] Икона «Богородские староверы». XIX век. Покровский собор, Москва.
[6] Священномученик протопоп Аввакум. Конец XVII — начало XVIII века. Государственный исторический музей.
[2]. Лихачёв Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. — Л.: Наука, 1984.
[1]. Розанов Ю. Протопоп Аввакум в творческом сознании А. М. Ремизова и В. Т. Шаламова // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова. Материалы конф. — М., 2007. C. 301–315.

О чём эта книга?
Рассказчик, чувствительный русский дворянин с европейским образованием и либеральными воззрениями, едет на перекладных из Петербурга в Москву, по пути наблюдая неприглядную жизнь Российской империи: бесчеловечность крепостного права, коррупцию чиновников, воровские махинации купцов и слепоту монархини, которой его записки должны раскрыть глаза. Первое художественное произведение в истории русской литературы, за которое автор был сослан в Сибирь.
Когда она написана?
Радищев начинал свою главную книгу постепенно — с отдельных очерков, которые позже войдут в состав «Путешествия». Большая её часть создана во второй половине 1780-х годов. Наиболее радикальные главы — «Медное» (о продаже крепостных с публичного торга), «Торжок» (о цензуре) и др. — были написаны в 1785–1786 годы. В том же 1786 году появляется очерк о безразличном «начальнике», которого подчинённые в минуту крайней необходимости боятся разбудить, подвергая тем самым путников смертельной опасности («Чудово»). «Слово о Ломоносове» писалось с 1780 по 1788 год.
Радищев утверждал, что рукопись «Путешествия» была полностью готова к концу 1788 года. Но это, очевидно, не так, поскольку в «Кратком повествовании о происхождении ценсуры» автор упоминает известие, полученное из революционной Франции: «…Мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания». Речь здесь идёт о памфлете, тайно изданном Маратом в 1790 году. Известно, что писатель дополнял свою книгу уже после прохождения цензуры, перед печатью, в 1790 году. Важно, однако, что, создавая «Путешествие» в годы, предшествовавшие Великой французской революции, которая сильно изменила российский политический климат, автор, вероятно, не предвидел остроты реакции со стороны Екатерины II.
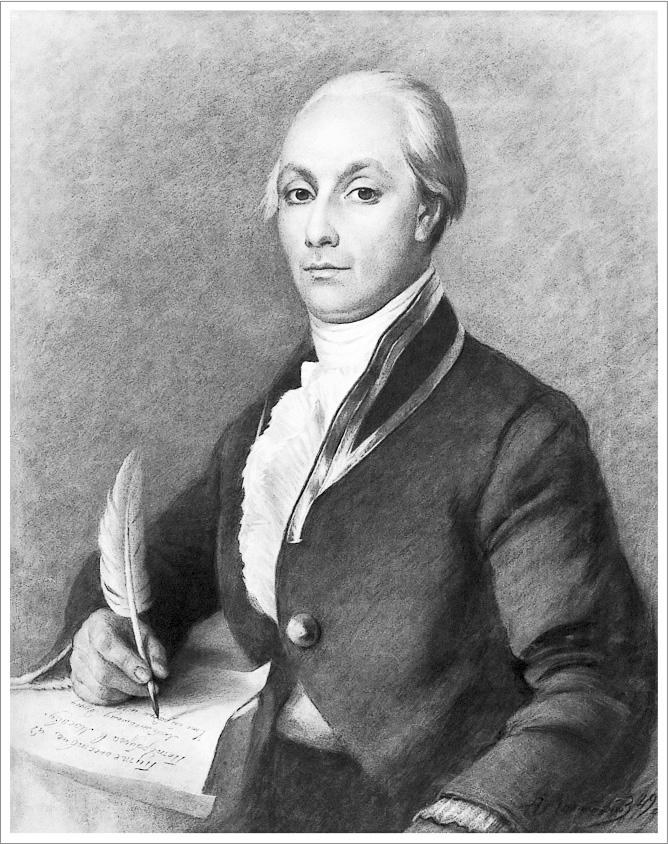
Александр Лактионов. Портрет Александра Радищева. 1949 год [13]

Шарль Тевенен. Взятие Бастилии. 1793 год [14]
Радищев в эти годы служил чиновником, а затем и директором Петербургской таможни. Он пользовался доверием и дружбой своего начальника графа Александра Воронцова, президента Коммерц-коллегии [16], и мог достичь высоких степеней, но публикация «Путешествия», повлёкшая за собой десятилетнюю сибирскую ссылку, положила конец его карьере.
Как она написана?
«Путешествие» разбито на главы, названные по почтовым станциям, где рассказчик меняет лошадей. Единого сюжета в книге нет: структура, позаимствованная из сверхпопулярного «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна, позволяет рассказчику делать экскурсы в историю, нравы и обычаи проезжаемых мест, а по дороге предаваться философским размышлениям об устройстве государства, законе и нравственности, на которые наводят его всё новые впечатления и встречи. Часть таких рассуждений передана другим персонажам. Друзья и незнакомцы, которых встречает рассказчик, изливают ему свои мысли и печали и прямо-таки сорят важными бумагами, которые образуют чисто публицистические вставки в ткани художественного повествования. Ритуальные шутки о смене лошадей завершают многие главы, играя роль связок между разнородными кусками.
Характерный приём — постоянные обращения к читателю и шутки с ним («Если, читатель, ты нескучлив, то читай, что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к ценсурному комитету, то загни лист и скачи мимо»), а также, например, фразы, оборванные на полуслове.
Как отмечают [1] Пётр Вайль и Александр Генис, такой приём взят у Стерна, чья книга заканчивается словами: «Так что, когда я протянул руку, я схватил горничную за…» Похожим образом Радищев заканчивает главу «Едрово»: «Всяк пляшет, да не как скоморох, — повторил я, наклоняясь и, подняв, развёртывая…» Конечно, радищевский герой горничных ни за какие части не хватает (напротив, сексуальное насилие над крестьянками и горничными гневно осуждает). Вместо фривольностей за оборванной фразой следует пространный проект уничтожения рабства в России, найденный в грязи у почтовой избы. Радищев одновременно заимствует у Стерна комический приём и иронизирует над ним — лёгкую, развлекательную форму путевых заметок сам он наполняет серьёзным политическим содержанием.
Этот литературный гибрид порождает особый стиль: обыденная разговорная речь разных сословий в бытовых зарисовках и диалогах сменяется тяжеловесным, архаическим, наполненным старославянизмами слогом публицистических кусков. Исследовательница Ольга Елисеева предположила, что этот неудобочитаемый язык — результат сознательного эксперимента над русской словесностью [2]:
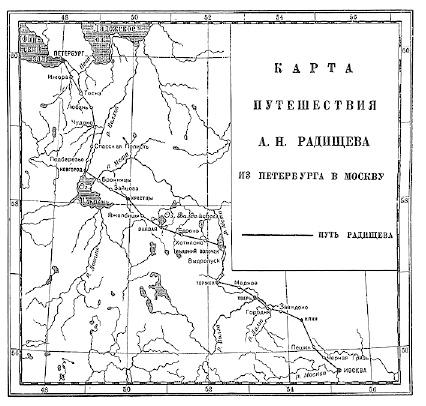
Карта путешествия Радищева из Петербурга в Москву [15]
Мучительностью и корявостью языка писатель старался передать материальную грубость мира, тяжесть окружающей его жизни, где нет места ничему лёгкому и простому. Радищев добивался плотной осязаемости своих слов. Он пытался посредством невообразимо трудного стиля задеть, поцарапать читателя, обратить его внимание на смысл написанного. <…> Его интересовали необычные, неудобные языковые формы, длиннейшие предложения и обороты. Он пожертвовал внятным разговорным и письменным русским ради создания особого стиля. Намеренная архаизация стала барьером для понимания текстов Радищева.
Читатели в большинстве своём эксперимента не оценили.
Что на неё повлияло?
Первый и главный свой источник Радищев указал на следствии: «Первая мысль написать книгу в сей форме пришла мне, читая путешествие Йорика [17]; я так её и начал. Продолжая её, на мысль мне пришли многия случаи, о которых я слыхивал, и, дабы не много рыться, я вознамерился их поместить в книгу сию».
С содержательной стороны главный источник влияния — французские просветители. Екатерина Великая сразу отметила, что автор «заражён французским заблуждением», Пушкин позднее отметил: «…В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота [18] и Реналя [19]; но всё в нескладном, искажённом виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале».
На тему своей вторичности Радищев иронизирует в «Путешествии»: «Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо». Но на самом деле в воровстве его не обвинишь — в своей книге Радищев щедро и добросовестно ссылается на источники, как истинный энциклопедист. Рассуждая, скажем, о российской судебной системе, он упоминает авторов, знание которых судейскими могло бы её значительно улучшить: «Если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций [20], Монтескью [21], Блекстон [22]!» Говоря о свободе слова, он приводит пространную цитату из диссертации Иоганна Готфрида Гердера «О влиянии правительства на науки и наук на правительство» (1778). Важный предшественник Радищева в его осуждении рабства — Гийом Рейналь, автор «Истории обеих Индий». Его взгляды на свободу личности и разумные основания нравственности сложились под большим влиянием философа-материалиста Гельвеция. Наконец, Жан-Жаку Руссо Радищев обязан идеями социального равенства и близости к природе.
Кроме того, Радищев вдохновляется трагедией британца Аддисона «Катон», где описана борьба римлян-республиканцев против диктатуры Юлия Цезаря, а заглавный герой становится для него важной ролевой моделью.
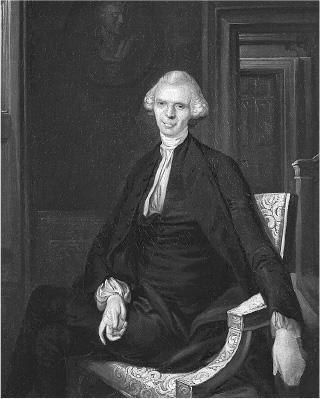
Неизвестный художник. Лоренс Стерн.
Структура повести позаимствована из «Сентиментального путешествия» Лоренса Стерна [16]
Античные авторы имели для Радищева большое значение — подробнее он отзывается о них в автобиографическом произведении «Житие Фёдора Васильевича Ушакова», где, отвергая Вергилия («льстец Августов») и Горация («лизорук Меценатов»), отдаёт предпочтение республиканцу Цицерону, «гремящему против Катилины», и «колкому сатирику, не щадащему Нерона» — то есть, предположительно, Петронию, в чьём «Сатириконе» император был выведен в образе разгульного вольноотпущенника Трималхиона.
Что до чувствительности — ей Радищевского героя научил Гёте, на что автор прямо указывает: «Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слёзы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером…»
Источником сведений об устройстве разных областей жизни и экономики, в том числе теневой, стала для писателя служба: в молодости как протоколист в первом департаменте Сената он составлял экстракты всех разбиравшихся дел, читал рапорты губернаторов об урожаях, торговле, побегах крестьян, бунтах, болезнях и смертности населения; челобитные давали ему представление о разных злоупотреблениях и преступлениях чиновников, судей, помещиков: «Российская империя раскрылась для него не с парадного, но с чёрного хода» [3]. Перейдя в мае 1773 года на должность обер-аудитора (юриста) в штаб командующего Финляндской дивизией генерал-аншефа Якова Брюса, Радищев имел возможность познакомиться с жизнью армии; в 1777 году будущий писатель поступил на должность в Коммерц-коллегию, решавшую все вопросы торговли, а затем в Петербургскую таможню. Отсюда его познания в вексельном праве, в уловках, позволявших дворянам продавать крестьян незаконно, и проч.
Как она была опубликована?
Сперва Радищев попытался опубликовать книгу в Москве. Однако «Путешествие» не пропустил цензор, более того — типографщик, которому он хотел отдать рукопись, отказался печатать крамолу. Тогда Радищев решил завести свою типографию. Такую возможность давал ему указ 1783 года, дозволявший создание «вольных» типографий. Радищев купил типографский станок и напечатал книгу у себя дома с помощью служащих Петербургской таможни и крепостных своего отца. Однако книге ещё предстояло пройти цензуру в петербургской Управе благочиния, и на сей раз Радищев, на удивление, не встретил препятствий.
22 июля 1789 года обер-полицмейстер Никита Рылеев (известный, по отзыву одного мемуариста, «превыспреннейшей глупостью своею») пропустил книгу, просто её не прочитав.
В сентябре того же года Радищев представил в Управу рукопись «Слова похвального Ломоносову», которое сперва предполагал издать отдельно, но затем включил в состав «Путешествия». Вообще, состав книги менялся уже и после цензуры, что особенно ставила в вину писателю Екатерина II, воспринявшая это как лживый поступок.
В мае 1790 года книга была отправлена книготорговцу Зотову. Тираж составлял «не более как шестьсот сорок или пятьдесят экземпляров». Судьба этого тиража была печальна: около 600 экземпляров «не сдвинулось с места», то есть были уничтожены автором в ожидании обыска и ареста. Всего 26 экземпляров поступило в продажу, а несколько Радищев разослал знакомым. В настоящее время известно лишь 13 типографских экземпляров первого издания «Путешествия».
Второго пришествия радищевской книге пришлось ждать полвека. 15 апреля 1858 года в Лондоне в 13-м номере газеты «Колокол» (русском «тамиздатовском» печатном органе Герцена и Огарёва) появилось объявление о готовящемся издании: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из Екатерининского века). Издание Трюбнера с предисловием Искандера» [23]. Как отмечает [4] Натан Эйдельман, показательно, что Александр Николаевич Радищев обозначен в этом объявлении только одним инициалом: по всей видимости, Герцен и Огарёв не знали его отчества, а для читателя сочли необходимым пояснить: «Из Екатерининского века». «О повреждении нравов в России» князя М. М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева» вышли вскоре под одной обложкой.
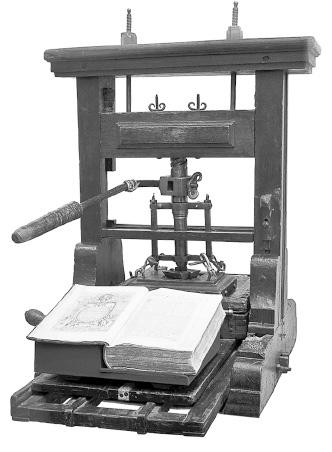
Печатный станок. Россия. 1711 год [17]
Первую попытку переиздать Радищева в России предпринял в 1868 году петербургский книгопродавец Шигин. Книга «Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» включала фрагменты собственно «Путешествия», но в таком покалеченном виде, что их даже цензура пропустила. Эту публикацию заметил только Герцен, посвятивший событию приветственную статью «Наши великие покойники начинают возвращаться», но главное — она стала поводом к формальной отмене запрещения, о чём высочайшим повелением был извещён Петербургский цензурный комитет — с указанием, чтоб «новые издания сего сочинения подлежали общим правилам действующих узаконений о печати». Обрадованный библиограф, издатель и литературовед Пётр Ефремов в 1872 году издал двухтомное собрание сочинений Радищева, включая текст «Путешествия» с документальными приложениями. Но на это издание немедленно был наложен арест, не помогли даже определённые смягчения и купюры, сделанные Ефремовым; цензор отметил: «Так как некоторые из принципов, порицаемых автором, ещё и ныне составляют основу нашего государственного и социального быта, то я полагаю неудобным допустить эту книгу к обращению в публике в настоящем её виде частью потому, что она может возбуждать к своему содержанию сочувствие в легкомысленных людях, частью — служить удобным прецедентом для горячих и неблагонамеренных публицистов, которые не затруднятся провозгласить Радищева мучеником за его гуманные утопии, жертвою произвола и попытаются подражать ему» [5].
Наконец в 1888 году издатель Алексей Суворин благодаря личным связям добился позволения издать «Путешествие из Петербурга в Москву» — правда, исключительно «для знатоков и любителей», тиражом всего в 100 экземпляров, которые было предписано продавать за 25 рублей (то есть по цене, запретительной для широкого читателя). Суворин нашёл первое издание и воспроизвёл текст 1790 года «из строки в строку, из буквы в букву, приблизительно с таким же шрифтом, со всеми опечатками подлинника» [6].
Лишь в 1905 году появилось первое научное и полное издание «Путешествия» под редакцией Николая Павлова-Сильванского и Павла Щёголева. Годом позже появилось сразу пять изданий «Путешествия», и ещё три — в 1907 году.
Как её приняли?
Поскольку почти весь тираж «Путешествия» был в ожидании ареста уничтожен Радищевым или конфискован, широкой реакции на книгу не последовало. Редкие её первые читатели восприняли «Путешествие» именно и только как политический манифест. Можно привести типичную реакцию графа Безбородко, писавшего в частном письме:
…Здесь по уголовной палате производится ныне примечания достойный суд. Радищев, советник таможенный, несмотря, что у него и так было дел много, которые он, правду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрования: заразившись, как видно, Франциею, выдал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную защитою крестьян, зарезавших помещиков, проповедию равенства и почти бунта противу помещиков, неуважения к начальникам, внёс много язвительного и, наконец, неистовым образом впутал оду, где излился на царей и хвалил Кромвеля… Всего смешнее, что шалун Никита Рылеев цензировал сию книгу, не читав, и, удовольствовавшись титулом, подписал своё благословение. Книга сия начала входить в моду у многой шали, по счастию, скоро её узнали…
«Узнали» — то есть власти узнали о существовании книги и изъяли её из оборота. Мнение «шали», то есть людей, действительно передававших «Путешествие» из рук в руки и делавших списки, осталось по большей части неизвестным. Публику больше занимала судьба автора, которую, надо сказать, оплакивали все, от вельмож до купцов на Бирже, считая приговор несправедливым и жестоким. Примечательна, однако, реакция Гаврилы Державина — одного из тех людей, которому Радищев послал «Путешествие». Державину приписывается следующая эпиграмма:
Езда твоя в Москву со истинною сходна,
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна,
Я слышу: «На коней, — кричит ямщик. — Вирь, вирь».
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.
Как писал с горечью сын писателя Павел Радищев, «это писал человек, хвалившийся, что он «горяч, в правде чёрт».
Что было дальше?
Вскоре после выхода «Путешествия» экземпляр попал в руки Екатерине II, которая прочитала его с большим вниманием, возмутилась и распорядилась начать следствие. Хотя книгу свою Радищев напечатал анонимно, авторство его раскрылось почти сразу. Уже в своих комментариях к «Путешествию» императрица указывает: «…Упоминает о знании: что я имел случай по щастию моему узнать. Кажется сие знание в Лейпцих получано, и доводит до подозрение на господ Радищева и Щелищева: паче же буде у них заведено типография в доме, как сказывают». Она, очевидно, узнала склад мыслей и круг источников, поскольку знала Радищева и Петра Челищева («Щелищева»), бывших некогда её пажами, а затем отправленных ею за образованием в Лейпциг (людей с европейским образованием было в Петербурге совсем немного); но очевидно, что и слухи уже ходили по городу.
Радищев был посажен в Петропавловскую крепость, допрошен следователем Степаном Шешковским (начальником Тайной экспедиции, который в своё время вёл дело Пугачёва) и после суда приговорён к смертной казни Государственным советом. По случаю заключения мира в войне со Швецией Екатерина отменила смертный приговор, заменив его ссылкой в сибирский Илимск. Павел I, взойдя на престол, вернул ссыльного писателя с предписанием жить в его селе Немцове, а амнистировал его только Александр I.
«Путешествие из Петербурга в Москву» осталось почти неизвестным и сделалось библиографической редкостью, хотя и ходило в списках. В 1836 году вернуть имя Радищева русской литературе решил Александр Пушкин, который за 200 рублей приобрёл экземпляр, хранившийся в Тайной канцелярии, и написал о Радищеве статью для своего журнала «Современник»; несмотря на её резко критический характер, в печать она пропущена не была.
Демократическая критика середины XIX века упоминает Радищева скупо — Добролюбов в статье «Русская сатира в век Екатерины» (1859) отметил: «Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, и именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против неё и можно было употребить столь сильные меры. Впрочем, если бы этих мер и не было, всё-таки «Путешествие из Петербурга в Москву» осталось бы явлением исключительным и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие» [7]. Николай Чернышевский в 10-м номере «Современника» за 1860 год замечает, что в XVIII веке «Новиков [24], Радищев, ещё, быть может, несколько человек одни только имели… то, что называется ныне убеждением или образом мыслей».

Петропавловская крепость. Гравюра XIX века [18]
Ещё и в 1907 году Евгений Соловьёв, автор «Очерков из истории русской литературы XIX века», писал: «Книга Радищева… не сыграла и не могла сыграть непосредственно роли в истории нашего умственного развития, потому что публика не знала и ещё до сих пор (т.е. через 100 лет после смерти автора и 110 по выходе книги) не знает её». В 1914 году в статье «О национальной гордости великороссов» Ленин упомянул Радищева как родоначальника русского освободительного движения — ему наследовали в этом ряду декабристы, затем разночинцы 1870-х годов, а затем рабочий класс и, наконец, крестьяне. Впоследствии фигура Радищева как «первого революционера» прочно утвердилась в советском литературоведении и школе. К тому времени, когда «Путешествие из Петербурга в Москву» нашло читателей, язык его безнадёжно устарел — книгу можно и сегодня считать толком не прочитанной широкой публикой. Однако сама структура литературного путешествия, наполненного размышлениями о страдании народном, оказалась живучей — можно вспомнить и поэму Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», и документальный фильм Андрея Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву», где режиссёр буквально повторил маршрут Радищева, чтобы посмотреть, как изменилась жизнь между столицами за истекшие два столетия.
На что обиделась Екатерина?
Писатель, протоиерей Михаил Ардов вспоминал [8], что Лев Гумилёв рассказал ему об экземпляре «Путешествия из Петербурга в Москву» с неопубликованными в то время пометками Екатерины II:
— Радищев описывает такую историю, — говорил Лев Николаевич. — Некий помещик стал приставать к молодой бабе, своей крепостной. Прибежал её муж и стал бить барина. На шум поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали ещё крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы. Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот Екатерина по сему поводу сделала такое замечание: «Лапать девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону».
Возможно, это апокриф, — среди опубликованных теперь комментариев императрицы такого нет, — но суть её несогласия с Радищевым он передаёт верно.

Иоганн Лампи. Портрет Екатерины II. 1790 год [19]
Радищев — автор сентиментальной школы, и культ разума непротиворечиво сочетается в нём с чувствительностью сердца. Устами одного из положительных персонажей — старого крестицкого дворянина — он прямо соглашается с Екатериной: «Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества». Но на деле невинность доведённых до крайности убийц для него «математическая ясность».
Писатель рисует идеал, к которому правитель должен стремиться. Так, в главе «Спасская Полесть» рассказчику снится, что он — великий государь, окружённый льстецами, превозносящими мир, тишину и изобилие его правления; к нему в образе странницы является сама Истина. Она снимает с его глаз «бельма» и показывает ему реальность: коррупцию, несправедливость и жестокость его приближённых, извращающих его указы и угнетающих народ. В этой прозрачной аллегории Екатерина сразу узнала себя и отмела упрёк: «Не знаю какова нега власти в других владетели, во мне не велика».
Императрица, решающая государственные проблемы на практике, возмущена несправедливым отношением к своим усилиям: хорошо писателю воздыхать о судьбе доведённых до отчаяния крестьян, но нельзя же возвести снисходительность к убийцам в принцип — эдак ведь крестьяне начнут резать дворян, и Радищеву это прекрасно известно, чего же он от неё хочет? Когда автор проповедует пацифизм, называя царей виновниками «убийства, войною называемого», Екатерина возражает: «Чево же оне желают, чтоб без обороны попасця в плен туркам, татарам, либо пакарится шведам». Практических рекомендаций у Истины, очевидно, нет.
Радищев обвиняет императрицу в лицемерии, в измене той философии, которую сама она насаждала в молодости, — упрёк был основателен и оттого чувствителен. Ханжество Екатерины стало общим местом — Пушкин писал [9]:
Екатерина уничтожила звание (справедливее — название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т.е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под её патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешёл из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой её смерти. Радищев был сослан в Сибирь. Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не чрезвычайная его известность.
Венценосную читательницу автор «Путешествия» имел в виду, обращаясь к ней прямо: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнёшься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается». Читай: на воре шапка горит. И Екатерина возмущённо возражает: «Птенцы учат матку. Злость в злобном, во мне её нет».
При этом она дискутирует с автором всерьёз, отмечая несоответствия или, наоборот, жизненность его наблюдений, например описание сластолюбца-дворянина, который в своей деревне «омерзил 60 девиц, лишив их непорочности», комментирует: «Едва ли не гисторія Александра Васильевича Солтыкова». Но, с её точки зрения, это, так сказать, не политика партии, а перегибы на местах. Радищев оскорбляет её правление, возводя отдельные недостатки в ранг закономерности.
У Екатерины были основания назвать Радищева «птенцом». Пажом он служил во дворце — по свидетельству Пушкина, имевшего доступ к документам Тайной канцелярии, «государыня знала его лично». В числе шести пажей, отличившихся в науках, он был отправлен учиться в Лейпцигский университет. Монархи отправляли молодых дворян учиться за границу за государственный счёт со времён Петра I — с прагматической целью получить сведущих чиновников. И действительно, по возвращении в Россию молодой Радищев был определён на службу в канцелярию императрицы. Сын писателя вспоминал, что уже в бытность Радищева служащим Петербургской таможни государыня, уверенная в его честности и бескорыстии, «удостоила его важными поручениями: при начале шведской войны ему велено арестовать и описать шведские корабли». После смерти его начальника Радищев был назначен директором таможни, причём Екатерина отказала всем прочим претендентам на это место, говоря, что у неё уже есть достойный человек. При этом назначении Радищев получил из рук Екатерины орден Святого Владимира 4-й степени.
Наверное, ещё и поэтому императрица восприняла нападки Радищева близко к сердцу: он не просто единомышленник, но и всем своим мировоззрением обязан ей. Её комментарии к книге были инструкцией следователю Шешковскому, как вести допрос, в конце же Екатерина пишет: «Скажите сочинителю, что я читала ево книгу от доски до доски, и прочтя усумнилась, не зделано ли ему мною какая обида? ибо судить ево не хочу, дондеже не выслушен, хотя он судит царей, не выслушивая их оправдание». Шешковский выполнил поручение и получил ответ, что «никогда и никакой не только обиды не чувствовал, но всегда носил в себе её милости».
Когда по завершении следствия дело было передано в Палату уголовного суда, статс-секретарь Безбородко, инструктируя о порядке разбирательства санкт-петербургского главнокомандующего графа Брюса, особо указал не предоставлять суду протоколов допроса, поскольку «многие вопросы, особливо же: «Не имеет ли он какого недовольствия или обиды на Ея Величество» отнюдь непристойно выводить пред судом». Это было слишком личное.
Был ли Радищев революционером?
«Первым революционером» назвал Радищева Ленин, и в таком качестве писатель был канонизирован советским литературоведением. Предвосхитила такую оценку вождя мирового пролетариата сама Екатерина, назвавшая Радищева «бунтовщиком хуже Пугачёва».
«Радищев был последовательным революционным демократом конца XVIII столетия. Это был пропагандист, республиканец, который в этот острый период начавшейся в Европе буржуазной революции осторожно начал сколачивать кадры единомышленников» [10], — утверждает, например, видный деятель антирелигиозной кампании Емельян Ярославский в газете «Правда». Для какой же цели писатель сколачивал кадры? Филолог Григорий Гуковский, автор предисловия к полному собранию сочинений Радищева, предлагает замечательную версию: параллельно с работой над книгой писатель буквально готовил революцию! «В том же 1789 году Радищев предпринял шаги к тому, чтобы расширить свою деятельность, установив связь с Городской Думой, а затем попытался перейти от пропагандистской работы к организации вооружённой силы» [11]. Таким образом исследователь трактовал действия Радищева, который в мае 1790 года, во время войны со Швецией, организовал вооружённое ополчение для защиты Петербурга. Сделано это было постановлением Городской думы, в ополчение среди прочих принимали и беглых крестьян. После ареста Радищева Екатерина распорядилась «беглых помещичьих людей» из думского ополчения отдать помещикам, а остальных сделать обычными солдатами. «В какой связи стоит распоряжение Екатерины с делом Радищева — не ясно», — признаёт Гуковский, однако он уверен: не иначе как Екатерина узнала в ходе следствия о куда большей угрозе, чем представляла собой его книга.
Над подобными теориями иронизировал в «Беседах о русской культуре» Юрий Лотман, заметивший, что даже попытки возвести к «Путешествию» официальную генеалогию русской революционной мысли недобросовестны: декабристы, к примеру, от Радищева открещивались, Пушкин назвал его книгу «преступлением, ничем не извиняемым». Один из литературоведов, стремившихся изобразить добросовестного чиновника, семьянина и писателя-идеалиста «чуть ли не руководителем революционного кружка в Петербурге конца 1780-х — начала 1790-х годов», Георгий Шторм, в своей книге «Потаённый Радищев» выдвинул концепцию, которую Лотман излагает так: «…Собрав обширный материал (здесь нельзя не отдать должного изобретательности и трудолюбию Г. Шторма), автор книги возводит всех близких и далёких родственников и знакомых Радищева в его общественно-политических единомышленников. Создаётся впечатление, что Радищев был окружён разветвлённой политической группой, состоящей в основном из его родственников» [12].
В действительности, как показывает Лотман, Радищев не был и не мог быть революционером-заговорщиком, потому что для просветителя XVIII века этот путь в принципе представлялся ложным:
Привычки, обычаи, традиции для просветителя — именно те силы, которые противостоят разуму и свободе. Для борьбы с ними необходим «зритель без очков» (так называл Радищева А. Воронцов), то есть тот, что смотрит на мир свежим взором философа. Свобода начинается словом философа. Услышав его, люди осознают неестественность своего положения.
А следовательно, переход от рабства к свободе не предполагает кровопролития. Писатель-просветитель не скрывается — он «истину царям с улыбкой говорит», как писал Державин, чьим примером Радищев, видимо, вдохновлялся.
Но, может быть, Радищев, сам не планируя вооружённого восстания, тем не менее призывал к нему народ? В подтверждение этой версии обычно приводилось заключение главы «Медное», где автор не допускает, что помещики отпустят крестьян себе в убыток, и видит источник свободы не в их доброй воле, а в «самой тяжести порабощения». Такое мнение первой высказала Екатерина, приписавшая в этом месте: «То есть надежду полагает на бунт от мужиков». Писатель на это убедительно возразил: «Если кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг не читает, что писана она слогом, для простого народа не внятным…» Радищевский слог был и для образованного читателя непрост, вряд ли «Путешествие» можно рассматривать как средство массовой пропаганды среди неграмотных крестьян — к тому же, говорит писатель, и тираж мал.
Можно вспомнить к тому же, что «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» Радищев знал не понаслышке: во время восстания Пугачёва родители его едва не погибли, но были спасены собственными крестьянами, которые «их не выдали, но спрятали между собою, нарочно измазав сажей и грязью» [13]. В главе «Едрово» рассказчик осуждает крестьян, тащивших барина-насильника Пугачёву на расправу: «Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны осталися».
На замечание Екатерины, что «французская революция ево решила себя определить в России первым подвизателем», Радищев указал: «Францию ж в пример он не брал, хотя и сам признаётся, что сие похоже на то обстоятельство; ибо сие писал он прежде, нежели во Франции было возмущение». Когда же он обращается к французским событиям в главе «Торжок», написанной позднее, то с тревогой отмечает: «необузданность и безначалие дошли до края возможного», между тем настоящей вольности так и нет — цензура не упразднена, а народное собрание ведёт себя «так же самодержавно, как доселе их государь».
Уверенность в неизбежности революции — не то же самое, что призыв к ней. Радищев с ужасом ждёт революции при сложившемся порядке вещей и призывает изменить этот порядок, пока не поздно.
«Какую цель имел Радищев? чего именно желал он?»
Таким вопросом задался в своей знаменитой статье «Александр Радищев» Пушкин, который назвал «действием сумасшедшего» решение Радищева печатать такую крамолу.
Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединённые силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников.
Отдавая должное силе радищевского духа, его удивительной самоотверженности и «какой-то рыцарской совестливости», Пушкин тем не менее называет «Путешествие» «преступлением, ничем не извиняемым», а также «книгой весьма посредственной». Эта двойственная претензия — стилистическая и политическая — была запрограммирована самим «Путешествием», его новаторской концепцией, и в нём же обсуждается.
Пушкинскую характеристику «варварский слог» следует понимать буквально, как слог неокультуренный: в русской прозе Радищев «не имел образца». Радищев понимал, что идёт непроторённой дорогой, и в самой книге размышлял о необходимости новой формы для нового содержания на материале русской поэзии. Рассуждение об этом вложено в уста безымянного поэта, встреченного в Твери, которому автор подарил свою оду «Вольность», приведённую в «Путешествии» отрывками: «В Москве не хотели её напечатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании её в свет» (тем самым в книге изложена история её же публикации).
Непроходным стало уже само название — «Вольность». «Но я очень помню, — комментирует путник, — что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «Вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместно». Тут Радищев не в первый и не в последний раз колет Екатерине глаза её не воплощённым в жизнь «наказом», но аргумент его формалистичен до абсурда — он прекрасно понимает, что понятие «вольность» они с императрицей трактуют по-разному. Далее цензуру смутили слова «Да смятутся от гласа твоего цари», которые якобы предполагают пожелание зла царю. Придирка нарочито издевательская — ведь в соседних строках автор прямо предрекает революцию («Меч остр, я зрю, везде сверкает; / В различных видах смерть летает, / Над гордою главой паря») и поминает цареубийц — Брута, Вильгельма Телля и Кромвеля. Причём последнего осуждает — но не за казнь короля, а за то, что, свергнув тирана, Кромвель сделался тираном сам, не дав людям свободы (что справедливо отметила и Екатерина: «Ода совершенно ясно бунтовская, где царям грозится плахой. Кромвелев пример приведён с похвалой»). Такие же претензии были у Радищева и к деятелям Французской революции.
С литературной точки зрения цензора смутил стих «Во свет рабства тьму претвори». У поэта есть любопытное соображение: стих этот «очень туг и труден на изречение» из-за частого повторения буквы Т и стоящих рядом согласных («бства тьму претв»), однако «иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия» — то есть поэт фонетически изображает препятствия к отмене крепостного права.
В этом свете кажется убедительным предположение Петра Вайля и Александра Гениса, что Радищевым двигало именно литературное честолюбие, а вовсе не революционный задор. Обращаясь к императрице с нравоучениями, Радищев, возможно, держал в уме вдохновляющий пример Державина, который, выпустив в свет свою неортодоксальную «Фелицу», лёг спать ни жив ни мёртв, не представляя, какую реакцию вызовет его ода, снижающая образ богоравной императрицы. Характерно, что Державину одному из первых Радищев успел прислать своё свежеотпечатанное произведение. Но Державин в своё время угадал, польстил и проснулся первым русским поэтом. Ко времени же появления «Путешествия» пожилая и напуганная европейскими революционными событиями Екатерина не была уже расположена к литературным новшествам и авторскую интенцию поняла совсем не так: «Намерение сей книги на каждом листе видно; сочинитель оной наполнен и заражён французским заблуждением, ищет всячески и выищивает всё возможное к умалению почтения к власти и властем, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства».
Сам писатель на следствии утверждал, что им двигали именно литературные амбиции. Первые его литературные труды не вызвали реакции — ни в художественном, ни в политическом смысле, хотя также содержали вольнолюбивые выпады. Например, сквозь пальцы посмотрела Екатерина на радищевские комментарии к сочинению французского философа Габриэля Бонно де Мабли «Размышление о греческой истории» (1773 год), содержавшие фразу: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», «Житие Фёдора Васильевича Ушакова» остались незамеченными. На следствии Радищев показывал:
Описывая состояние помещичьих крестьян, думал, что устыжу тем тех, которые с ними поступают жестокосердо. Шуточные поместил для того, чтобы не скучно было длинное, сериозное сочинение. Дерзновенныя выражения и неприличной смелости почерпнул я, читая разных писателей, и ни с каким другим намерением, как чтобы прослыть хорошим писателем. Да и самое издание книги ни к чему другому стремилося, как быть известну между авторами, и из продажи книги приобресть себе прибыль.
Конечно, измученный и испуганный писатель, открещиваясь от политического обвинения, говорил то, что могло смягчить его участь. Однако и решение издавать книгу анонимно он объяснял желанием увидеть реакцию публики и в случае успеха объявить своё имя. Есть и такое мнение, что Радищев хотел писать тонкую, остроумную, изящную прозу, но его «душил обличительский и реформаторский пафос», который испортил его книгу в художественном отношении и дорого обошёлся в политическом.
Что ещё вызывает негодование Радищева, помимо крепостного права?
Радищев, совершая путешествие по России, успевает фиксировать множество общественных пороков, которые он, как олицетворенная Истина, должен изобличить. По свидетельству его сына, сам он говорил, что если бы он издал своё «Путешествие» за 10 или за 15 лет до Французской революции, то «он вместо ссылки скорее был бы награждён на том основании, что в его книге есть очень полезные указания на многие злоупотребления, неизвестные правительству». Тут и чинопочитание, и судопроизводство, стоящее на пытках и взятках, и телесные наказания, и воровство и мошенничества во всех сословиях, и рекрутчина, и вексельное право. Из проблем, не связанных прямо с положением крестьян, наибольшее его возмущение вызывает цензура.
В Торжке рассказчик встречает человека, который едет в Петербург хлопотать о заведении свободного книгопечатания в своём родном городе. Герой с обычным своим простодушием указывает ему, что в прошениях нет необходимости: заводить книгопечатни частным лицам было позволено ещё указом 1783 года (о чём Радищев, напечатавший таким образом своё «Путешествие», знал не понаслышке). Однако напечатать книгу — полдела: «Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного». Мысль, которую цензура водит на помочах, не может свободно развиваться и остаётся ущербной. Многие сочинения не дойдут до читателя хотя бы по невежеству цензора: Радищев язвительно приводит в пример чиновника, который зарезал роман, где любовь названа «лукавым богом», поскольку усмотрел в этой аллегории богохульство; другой цензор не пропускает никаких критических упоминаний о князьях и графах, «ибо у нас есть князья и графы между знатными особами». При всей нелепости этого примера он был исключительно жизненным: так, Гоголю пришлось выкинуть «весь генералитет» из своей «Повести о капитане Копейкине», Александр Сухово-Кобылин, пытаясь провести на сцену пьесу «Дело», был вынужден понизить в чине всех действующих лиц.
Проповедуя, едва ли не первым в России, свободу слова («Пускай печатают всё, кому что на ум ни взойдёт»), Радищев ссылается на «Наказ о новом уложении» (1767) — изданный Екатериной при восшествии на престол манифест просвещённого абсолютизма, который был впоследствии положен под сукно. Там среди прочего сказано: «Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступления»; «Слова не вменяются никогда во преступление, разве оныя приуготовляютъ, или соединяются, или последуют действию беззаконному. Всё превращает и опровергает, кто делает из слов преступление смертной казни достойное». Понятно, что эти формулировки оставляют широкий простор для толкования: не осуждая автора за его сочинение как таковое, легко можно усмотреть в этом сочинении улику, указывающую на реальное преступление. Радищев же свободу слова понимает буквально, при всей своей строгой морали не делая исключения даже для порнографии, причём запрет развратных книг сравнивает с запретом проституции:
Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торга наддателю, тысячу юношей заразят язвою и всё будущее потомство тысячи сея? но книга не давала ещё болезни. И так ценсура да останется на торговых девок, до произведений же развратного хотя разума ей дела нет.
Из более специальных проблем Радищева занимает вексельное право, ведущее к разорению должников, ограничивающее торговлю и открывающее большой простор для жульничества. В главе «Новгород», скажем, описана мошенническая схема обогащения купца Карпа Дементьича: забрав вперёд 30 тысяч рублей по контракту на поставку льна, купец строит дом на имя жены. На следующий год на лён неурожай, и купец, не будучи в состоянии исполнить свои обязательства по контракту, объявляет себя банкротом — отдаёт кредиторам всё своё имение, оставив их в большом убытке: за каждый вложенный рубль они получают только по 15 копеек. Женин дом остаётся в неприкосновенности: он формально не составляет часть имения Карпа Дементьича. Разорившийся купец торговать больше не может — но и на это есть уловка: «С тех пор как я пришёл в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч». Рассказчик подхватывает: «На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмёт половину денег вперёд и молодой жене построит дом…»
Екатерина в этом месте отмечает: автор «…знание имеет подробностей купецских обманов, чего у таможни лехко приглядется можно» — компетентность Радищева, директора таможни, стала в этом случае одной из улик против него.
Как соотносятся у Радищева любовь семейная, правительство и сифилис?
Как свидетельствует сын Радищева, «Александр Николаевич полагал, что самый счастливый человек в мире тот, кто имеет хорошую жену». И писателю в этом повезло дважды. С первой женой, Анной Васильевной Рубановской, он прожил в большой любви восемь лет, нажил четверых детей и горько оплакивал её кончину. Памятник ей с собственноручно написанной эпитафией, где писатель выражает надежду на загробную встречу, он поставил у себя в саду.
Второй женой писателя стала его свояченица Елизавета Васильевна Рубановская, которая после смерти сестры взяла на себя воспитание его детей, а после ссылки Радищева последовала за ним в Сибирь, проложив дорогу жёнам декабристов. Лотман пишет: «Как это случается с девушками, она была втайне влюблена в мужа своей сестры, но скрывала свои чувства. В страшную минуту ареста Радищева она проявила не только мужество и верность, но и ум и находчивость. Собрав все драгоценности дома, она отправилась через бушующую Неву на лодке (мосты не работали) в Петропавловскую крепость. Там она передала их палачу Шешковскому, который был не только «кнутобойца» (выражение Г. Потёмкина), но и взяточник. Этим Радищев был избавлен от пыток».
В Сибири Рубановская стала женой Радищева. По тем временам такой брак был скандальным и даже незаконным, поскольку приравнивался к кровосмешению. Детей от этого брака, рождённых в Сибири, Радищев узаконил с позволения Александра I (сама Елизавета Васильевна обратной дорогой умерла). Но, когда по возвращении из ссылки писатель представил их своему отцу, Николаю Афанасьевичу, старик пришёл в ярость: «Или ты татарин, — вскричал он, — чтоб жениться на свояченице? Женись ты на крестьянской девке, я б её принял как свою дочь». Очевидно, демократизм и принципиальность писатель унаследовал от отца, только принципы у них были разные. Радищев склонен был пренебрегать установлениями закона и религии ради того, что он считал естественным и разумным.
Идеал естественной семьи был воспринят им от Руссо. Своих детей Радищев в Илимске сам учил ежедневно истории, географии, немецкому и французскому: «Дети приучены были вставать и одеваться, не требуя никакой прислуги. Он обходился с ними просто и никогда не наказывал» [14] (а также сам привил им оспу). Конечно, в условиях ссылки и тесное семейное общение, и самостоятельность детей в быту были вынужденными мерами, но они отвечали радищевским принципам, подробно изложенным в главе «Крестьцы».
Старый дворянин, встреченный там рассказчиком, даёт наставление детям, попутно вспоминая историю их воспитания. Мать сама кормила их грудью, отец учил наукам и физическому труду. Старик призывает молодых людей не смущаться в столичном обществе простоты своей одежды, внешности и незнания светских манер: «Не опечальтеся, что вы скакать не умеете как скоморохи»; зато они быстро бегают, хорошо плавают, умеют «водить соху, вскопать гряду», владеют «косою и топором, стругом и долотом». Человек правильного воспитания должен, по Радищеву, уметь подоить корову и сварить щи (никаких гендерных предрассудков!), а также знать науки и иностранные языки, но прежде всего свой собственный (редкая добродетель по радищевским временам).

Симптомы сифилиса.
Из труда Марка Аврелия Северина «De recondita abscessuum natura libri VII». 1632 год [20]
В главе «Едрово» этому добродетельному сельскому семейству противопоставлен пример горожан с их развращённостью и противоестественными привычками, такими как ношение корсетов («трёхчетвертной стан» городской красавицы не приспособлен для беременности и родов) и чистка зубов. На этот обычай рассказчик обрушивается с неожиданным негодованием, ставя в пример петербургским и московским боярынькам сельских красавиц: «…Посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щётками, ни порошками». В чём же состоит гигиена ротовой полости по Радищеву? Конечно, в добродетели.
Дыхание городских красавиц зловонно вследствие разврата: мужья таскаются по девкам, жёны меняют любовников как перчатки, пятнадцатилетнюю девушку мать торопится выдать за старика-генерала, «для того только, чтобы не сделать… визита воспитательному дому» (то есть не дожидаться, пока дочь принесёт в подоле), а та и рада — мужа-старика легко обманывать, приписывая ему прижитых с любовниками детей. Следствием всего этого непотребства становится дурная болезнь — при чтении «Путешествия» может сложиться впечатление, что в России XVIII века ею были заражены сплошь все сословия из поколения в поколение.
На станции Яжелбицы, к примеру, некий отец, хороня сына, объявляет себя его невольным убийцей: «Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную». Тут рассказчик цепенеет, поскольку и сам он в дни распутной юности от «мздоимной участницы любовныя утехи» получил «смрадную болезнь» (вероятно, сифилис) и передал её своим детям, тем самым подорвав их здоровье. Екатерина II ехидно комментирует это место: «…Описывают следствии дурной болезны, которую сочинитель имел; вины ею же оной приписывает… правительству».
Тут она попала не в бровь, а в глаз. Тема венерических заболеваний была для Радищева крайне чувствительной — в его изображении сифилис становится практически метафорой всех общественных язв вообще (в этом случае правительство виновато, видимо, в недостаточно суровом преследовании проституции: «Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан»).
После возвращения из Сибири, живя в своём имении, Радищев попытался бороться с упадком нравов на практике. Он запретил среди своих крестьян незаконный, но повсеместно практикуемый обычай женить малолетних мальчиков на взрослых девках, чтобы заполучить в дом работницу (в результате с молодой нередко сожительствовал свёкр — это обыкновение, называвшееся снохачеством, описано в главе «Едрово»). Более того, писатель собирался даже учредить среди своих крестьян «награду для той женщины, замужней или девки, которая в течение года отличит себя хорошим поведением или каким-либо подвигом добродетели. Эту мысль ему внушила замеченная им испорченность нравов в простом народе» [15]. Увенчалось ли предприятие успехом — биограф не сообщает.
Кто положительные герои «Путешествия»?
Как справедливо отмечал Радищев на следствии, «Путешествие из Петербурга в Москву» не было адресовано крестьянам, поскольку крестьяне неграмотны. Его адресат — если и не сама императрица, то, во всяком случае, его брат-дворянин. Именно от дворян писатель ждёт положительных изменений: просветившись, они должны дать крестьянам волю. Идеализм такого предположения был очевиден («Уговаривает помещиков освободить крестьян, да нихто не послушает», как справедливо отметила Екатерина), и Радищев фактически это признаёт: его новый человек — он сам и несколько ближайших его товарищей.
Выводя условных единомышленников в лице новгородского семинариста с «примазанными квасом волосами», который идёт в Петербург за знаниями, как Ломоносов (похвальным словом которому заканчивается «Путешествие»), или безымянного дворянина, разорённого тяжбами, Радищев подразумевает и реальных своих друзей.
Первый из них — Алексей Кутузов, однокашник по Лейпцигскому университету, которому посвящено и «Путешествие», и перед тем «Житие Фёдора Васильевича Ушакова».
Второй — другой университетский товарищ, Пётр Челищев, обозначенный в главе «Чудово» как «приятель мой Ч.»: он рассказывает, как во время морской прогулки в Петергофе чуть не погиб из-за небрежения местного начальника (это происшествие случилось с Челищевым на самом деле). Читая «Путешествие», Екатерина подозревала в Челищеве возможного автора книги или, во всяком случае, сообщника Радищева, но следствием он был оправдан.
В книге Ч. заканчивает свой рассказ сентенцией совершенно в духе Чацкого:
Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе.
Любопытно, что в этом случае рассказчик передоверяет приятелю радикальные мысли, сам занимая примирительную позицию: он уговаривает Ч. возвратиться в Петербург, доказывая, что «малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды».
Челищев питал к товарищу юности глубокое уважение и симпатию. А через десять месяцев после суда над писателем он действительно бежал из города, отправившись в поездку по Сибири, как будто выполняя данную им Радищевым программу, и написал собственные путевые записки — «Путешествие по Северу России в 1791 году», где между прочим описывает нравы чиновников, у которых «нет привычки помогать против им данного предписания проезжающим» [16].
Ещё один (на сей раз не имеющий реальных прототипов) сочувственный собеседник героя — некто Крестьянкин, встреченный на станции Зайцово. Этот добродетельный чиновник уголовной палаты оказывается бессилен перед жестокой и несправедливой буквой закона и, чтобы не оказаться соучастником неправосудной (с его точки зрения) казни, вынужден выйти в отставку.
Описанная Крестьянкиным сцена вызвала особый гнев Екатерины. Некий дворянин, начинавший придворным истопником, но выслужившийся до коллежского асессора, выйдя в отставку, купил деревню; со своими крепостными он обращался как со скотом.
…он… отнял у них всю землю, — рассказывал Крестьянкин, — скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день… Если который казался ему ленив, то сёк розгами, плетьми, батожьём или кошками… <…> Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощницами в исполнении её велений были её сыновья и дочери… <…> Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери.
В конце концов крестьяне после очередного зверства убили и асессора, и его сыновей. Этих-то «невинных убийц» и считал нужным оправдать Крестьянкин, чего закон бы, конечно, не допустил. Прототипом жестокого помещика был реальный сосед Радищева Василий Николаевич Зубов, который отнял у своих мужиков «весь хлеб, скотину, лошадей», кормил их на своём дворе щами из корыта, нещадно сёк и держал на цепи. Радищев, по свидетельству сына, с этим человеком никогда не здоровался.
Помимо прочего, история эта содержит шпильку в адрес высоких степеней и чинов, которыми русские императоры осыпали своих фаворитов, часто не по заслугам, — таков, очевидно, истопник-асессор, как будто мстящий вчерашним собратьям за собственное низкое происхождение. Известен, например, анекдот о полководце Александре Суворове, который, идя по Зимнему дворцу вместе с графом Кутайсовым (бывшим камердинером Павла I), увидел истопника и стал кланяться ему в пояс, а на недоумение Кутайсова отвечал: «Ты граф, я князь; при милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надобно его задобрить вперёд» [17].
В чём Радищев опередил своё время?
Прежде всего, он был литературным новатором. Радищев изобрёл жанр политической публицистики, вплетённой в художественное повествование. Язык такого рода высказывания выработан до него не был. Однако при этом писатель следовал ломоносовской теории трёх штилей, сочетая просторечие и «высокий» архаический слог, в первую очередь славянизмы. Традиционно они использовались в русском литературном языке для разговора о вещах возвышенных, и именно в таком качестве их использует Радищев, наполняя, однако, совсем не традиционным содержанием: в его случае возвышенным предметом становится не религия, не искусство и не деяния царей и полководцев, а проповедь свободы.
Радищев первым в России в литературной форме осудил не просто злоупотребления крепостного права, но порабощение человека человеком в принципе, сравнив русских крепостных крестьян с американскими чернокожими невольниками. Сравнение это ещё не было в ходу: и русские, и американцы, взаимно осуждая институт рабства друг у друга, оправдывали его у себя. Этот парадокс отмечал, например, ещё и в конце 1830-х годов посетивший Россию американец Генри Уикоф: «…Громкие протесты раздавались по поводу наших порабощённых чёрных, но здесь миллионы людей белой расы находились в неволе на протяжении веков, и никто в Европе не замечал этого. Что за странный мир!» [18]
В Вышнем Волочке, любуясь картиной изобилия, которую представлял собой «канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром», рассказчик тут же с печалью задумывается о цене этого изобилия, добытого подневольным трудом: «Удовольствие моё пременилося в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгие её произращения, как-то сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся ещё от пота, слёз и крови, их омывших при их возделании». В своё время чувствительный рассказчик расплескал кофе, когда друг указал ему, что и кофе этот, и сахар произведены рабами. В «Путешествии», впрочем, он кофе пьёт с удовольствием по пяти чашек и потчует случайных собеседников, но к отечественной продукции относится строже. Столичным жителям Радищев предлагает задуматься, поднеся ко рту кусок хлеба, а затем есть его или не есть в зависимости от происхождения: хорошо, если хлеб этот вырос на казённом поле (государственным крестьянам жилось лучше), и даже если он выращен крестьянином, сидящим на оброке, — это тоже ещё ничего, есть можно. Но хлеб, лежавший в «дворянской житнице», отравлен горькой слезой, такого есть нельзя. Таким образом, Радищев фактически проповедует в XVIII веке осознанное потребление и прозрачность производственной цепи — концепции, которые и в наши дни в России ещё не привились повсеместно.
Почему Радищев покончил с собой?
На этот счёт есть несколько версий.
Первая в общем сводится к тому, что писатель со времени ссылки страдал от душевной болезни. Сын его и биограф Павел Радищев смерть писателя описывает так: «11 сентября 1802 года, в 9 или 10 часов утра, Радищев, приняв лекарство, вдруг схватывает большой стакан с крепкой водкой [25], приготовленной для вытравления мишуры поношенных эполет старшего его сына, и выпивает разом. В ту же минуту берёт бритву и хочет зарезаться» [19]. Вслед за этим, как пишет биограф, у писателя вырвали бритву, тот потребовал священника и исповедовался «как истинный христианин». К постели умирающего прибывает Виллие, императорский лейб-медик, присланный Александром I (такой же чести из русских писателей удостаивались после только Пушкин и Карамзин). Помочь умирающему он не может, ответ на свой вопрос: «Что могло побудить писателя лишить себя жизни?» — получает «продолжительный, несвязный» и уезжает, заметив: «Видно, что этот человек был очень несчастлив».
Пушкин полагает, что Радищев испугался тягот и унижения новой ссылки: привлечённый Александром I к работе в законодательной комиссии, писатель, «увлечённый предметом, некогда близким к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф З. удивился молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» В этих словах Радищев увидел угрозу». Реальных оснований бояться не было: реплика подразумеваемого здесь графа Завадовского носила явно шутливый характер, а положение Радищева в это время чрезвычайно прочно. Комиссию по составлению законов возглавлял давний друг и покровитель Радищева — государственный канцлер граф Александр Воронцов, поэтому угроза графа Петра Завадовского, подчинённого Воронцову, не могла иметь никакого веса, даже если предположить, что Завадовский не шутил.
Григорий Чхартишвили объясняет [20] поступок Радищева «лагерным синдромом» — этим термином в XX веке обозначили реакцию бывших узников концлагерей, чья психическая травма от пережитых страданий, унижений и нравственных компромиссов часто приводила их к суициду:
Обычно жертвами лагерного синдрома становятся люди думающие, тонко чувствующие, с высоко развитым чувством собственного достоинства. Эта мина замедленного действия может взорваться в любой момент под воздействием обстоятельств, хотя бы частично воссоздающих обстановку перенесённого кошмара. Когда травмированному лагерным синдромом человеку кажется, что всё это может повториться вновь, смерть — и та выглядит предпочтительней.
Радищеву, по мысли Чхартишвили, достаточно было простого напоминания о прошлом, чтобы мина взорвалась.
Сумасшествием объяснял гибель писателя и его сын и биограф Павел Радищев — но тут нужно учесть, что самоубийство в христианстве — смертный грех, так что преданный сын мог пытаться просто спасти таким образом память отца. Официальное заключение гласило, что Радищев умер от чахотки, и похоронили его по православному обряду, в чём самоубийцам отказано.
Но есть и другая версия: самоубийство было осознанным, идеологическим выбором писателя. Деятели Просвещения, вслед за героями Античности, рассматривали самоубийство как допустимый, а иногда и желательный выход из неразрешимой ситуации. Монтень писал: «Лучше всего добровольная смерть. Жизнь зависит от воли других, смерть же зависит только от нас». Право на смерть воспринималось в этом контексте как одно из естественных и неотменимых прав всякого человека — таких же, как жизнь и свобода. Павел Радищев соглашается и с этим: «Он допускал самоубийство: Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir», то есть «Коль всё потеряно, когда надежды нет» — цитата из трагедии Вольтера «Меропа».
В своё время на Радищева произвела огромное впечатление смерть его старшего товарища по Пажескому корпусу и однокашника по Лейпцигскому университету Фёдора Ушакова. Тот, уже находясь при смерти, уговаривал друзей дать ему яду, чтобы прервать его мучения. Друзья отказались осуществить эту, как мы сказали бы теперь, эвтаназию, но впоследствии Радищев считал такую меру оправданной. Обращаясь к Кутузову, Радищев напоминает ему этот болезненный эпизод из их общего прошлого, на который теперь он смотрит иначе: «Воспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподал им учение, какого во всём житии своём не возмог».
Теория оправдания суицида подробно изложена в главе «Крестьцы», где добродетельный отец, отправляющий сыновей на службу, наставляет их в их самостоятельной жизни и между прочим советует и даже требует умереть, «если, доведённу до крайности, не будет тебе покрова от угнетения». Тут он ссылается на слова умирающего Катона — а конкретнее, героя одноимённой трагедии Джозефа Аддисона (1713). Катон Младший был философом-стоиком, общепризнанным примером высокой нравственности, претором Римской республики и лидером сенатской оппозиции Юлию Цезарю. После сокрушительного поражения сил республиканцев Катон бросился на меч, не пожелав, как пишет Плутарх, «чтобы тиран, творя беззаконие, ещё и связал бы [его] благодарностью» и прокомментировав решение о самоубийстве следующим образом: «Ну, теперь я сам себе хозяин». Катон был важной ролевой моделью для Радищева (ту же трагедию Аддисона он цитирует и в другой главе — «Бронницы»). Юрий Лотман полагает, что самоубийство Радищева было исполнено именно по этому образцу как «акт утверждения свободы и автономности личности» [21].
В предисловии к лондонскому изданию «Путешествия» Александр Герцен в каком-то смысле объединил две теории — Радищев покончил с собой из-за депрессии, вызванной крушением его гражданских идеалов: «Вызванный самим Александром I на работу, он надеялся провесть несколько своих мыслей и пуще всего — мысль об освобождении крестьян, в законодательство, и когда, пятидесятилетний мечтатель, он убедился, что нечего думать об этом, тогда он принял яду и умер!» [22] Действительно, можно увидеть здесь отголоски «вертеровского поветрия»: сентиментализм воспитал в русских дворянах европейскую чувствительность, несовместимую с грубой российской реальностью. Чхартишвили приводит выразительный пример 17-летнего помещика Михаила Сушкова, автора повести «Российский Вертер», который «отпустил на волю своих крепостных, написал пространное философское письмо в стиле излияний гётевского героя и застрелился» в 1792 году.
[20] Симптомы сифилиса. Из труда Марка Аврелия Северина «De recondita abscessuum natura libri VII». 1632 год. Wellcome Collection.
[18] Петропавловская крепость. Гравюра XIX века. Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.
[17] Печатный станок. Россия. 1711 год. Государственный исторический музей.
[19] Иоганн Лампи. Портрет Екатерины II. 1790 год. Музей имени М. А. Врубеля.
[14] Шарль Тевенен. Взятие Бастилии. 1793 год. Метрополитен-музей.
[13] Александр Лактионов. Портрет Александра Радищева. 1949 год. Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева.
[16] Неизвестный художник. Лоренс Стерн. Национальная портретная галерея, Лондон.
[15] Карта путешествия Радищева из Петербурга в Москву. Из книги: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Фотолитографическое воспроизведение «Путешествия» (репринт) издания 1790 г. Материалы к изучению «Путешествия». В 2 т. Т. 1–2. — М.; Л.: Academia, 1935.
[25] Судя по всему, имеется в виду смесь азотной и серной кислоты.
[24] Николай Иванович Новиков (1744–1818) — журналист, издатель. Издавал сатирические журналы «Трутень», «Живописец», «Кошелёк» — все они были закрыты по распоряжению власти. Основал в Москве свою «Типографическую компанию», публиковал старинные летописи и исторические памятники в серии «Древняя Российская Вивлиофика». В 1792 году Новикова арестовали и заключили в Шлиссельбургскую крепость, через четыре года он был освобождён Павлом I.
[16] Правительственное учреждение, занимавшееся вопросами торговли. Было основано Петром I, упразднено в 20-х годах XIX века вместе с преобразованием министерств.
[17] Имеется в виду «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна.
[22] Уильям Блэкстон (1723–1780) — британский юрист, философ и адвокат.
[23] Псевдоним Александра Герцена.
[18] То есть Дени Дидро.
[19] То есть Гийом Тома Рейналь.
[20] Гуго Гроций (1583–1645) — голландский юрист, государственный деятель, драматург и поэт.
[21] То есть Шарль де Монтескьё.
[18]. Цит. по: Курилла И. Рабство, крепостное право и взаимные образы России и США // Новое литературное обозрение. 2016. № 6.
[19]. Радищев П. А. Указ. соч.
[22]. Герцен А. И. Предисловие к книге «Кн. Щербатов. «О повреждении нравов в России» и А. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» // Полное собр. соч. Т. 9. С. 270–271.
[20]. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. — М.: Новое литературное обозрение, 1999.
[21]. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Труды по знаковым системам, 8. — Тарту, 1977.
[8]. Ардов М. Легендарная Ордынка // Новый мир. 1994. № 5.
[17]. Рассказы, заметки и анекдоты из записок Елисаветы Николаевны Львовой // Русская старина. 1880. Т. 28. С. 347.
[11]. Гуковский Г. А. Предисловие к полному собранию сочинений А. Н. Радищева // Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. III–XIX.
[12]. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). — СПб.: Искусство — СПБ, 1994.
[9]. Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 8. — Л.: Наука, 1977–1979. С. 125.
[10]. Ярославский Е. К 150-летию выхода в свет «Путешествия» // Правда. 1940. № 143. 24 мая.
[15]. Там же.
[16]. Путешествие по Северу России в 1791 году: Дневник П. И. Челищева / Изд. под наблюдением [и с предисл.] Л. Н. Майкова. — СПб.: Тип. В. С. Балашёва, 1886.
[13]. Эйдельман Н. Из потаённой истории России XVIII–XIX веков. — М.: Высшая школа, 1993. С. 50–81.
[14]. Радищев П. А. Биография А. Н. Радищева // Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959.
[6]. Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о книгах. — М.: Книга, 1977.
[7]. Добролюбов Н. А. Полное собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. — М.; Л.: ГИХЛ, 1934–1941. С. 149.
[1]. Вайль П. Л., Генис А. А. Родная речь. — М.: КоЛибри, 2008.
[4]. Эйдельман Н. «Вослед Радищеву…» // Факел. Историко-революционный альманах. — М.: Политиздат, 1989.
[5]. Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Материалы к изучению. Т. 2. — М.; Л., 1935. С. 337–338.
[2]. Елисеева О. Радищев. — М.: Молодая гвардия. 2015.
[3]. Макогоненко Г. П. Радищев и его время. — М.: ГИХЛ, 1956.