автордың кітабын онлайн тегін оқу В ожидании наследства. Страница из жизни Кости Бережкова
Николай Александрович Лейкин
В ожидании наследства
Страница из жизни Кости Бережкова
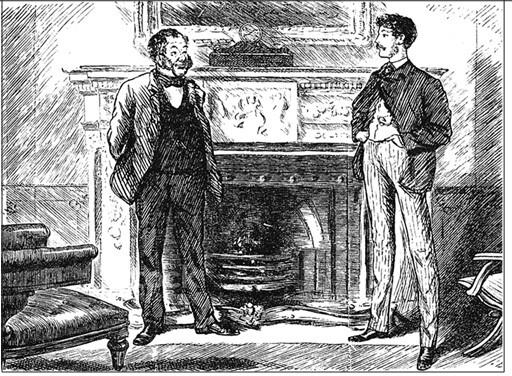
© «Центрполиграф», 2022
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2022
Глава I
Было часа два дня. Надежда Ларионовна, пухленькая блондинка лет двадцати пяти, фигурирующая в кафешантанном театрике «Увеселительный зал» исполнительницей куплетов, только еще восстала от сна и, сидя у себя в спальне на диване поджавши ножки, пила свой утренний кофе, когда к ней влетел розовый безбородый купеческий юноша Костя Бережков.
– Ну, так я и знала, что это вы! – с неудовольствием проговорила блондинка, надула губки и отодвинулась. – Не понимаю, зачем вы ко мне ходите!
Костя Бережков хотя и смутился, но сделал к ней несколько шагов и, протянув руку, проговорил:
– Здравствуй!
Блондинка спрятала руки в голубой фланелевый пеньюарчик и отвечала:
– И здороваться с вами не хочу. Прошу вас даже со мной и при встрече не кланяться.
– Да что это такое? Что такое случилось? – недоумевал Бережков.
– Ровно ничего, но я не желаю иметь с вами никаких делов. Я уже сказала вам об этом – вы и должны знать.
Стало быть, и ходить сюда незачем, также и кланяться незачем, потому, через это самое только ревность от посторонних личностев, а вам все равно от меня больше ничего не очистится. Поэтому поклон да и вон.
– Каких посторонних личностев?
– Да мало ли есть посторонних личностев, которые в меня влюбившись и ухаживают! Они могут по своим капиталам мое счастие составить, а вы торчите и мешаете, потому через что – ревность.
– Голубушка, Наденька, да ведь я тебя по-прежнему люблю.
– Что мне толку, что вы меня только любите! Из одной вашей любви шубу не сошьешь. Не рассаживайтесь, не рассаживайтесь, пожалуйста… Вовсе я этого не желаю. Ко мне сейчас один богатый полковник придет, который хочет даже пару лошадей для меня у извозчика нанять, чтобы мне зимой в парных санках, а летом – в коляске… И папироску, пожалуйста, не закуривайте! – воскликнула блондинка. – Можете уйти и на улице закурить. Тетенька! Да что ж это такое! Выгоните его вон! – обратилась она к суетившейся около кофейного прибора тощей пожилой женщине в чепце и темном грязном шерстяном платье.
Та оставила кофейник и приблизилась к Бережкову:
– Ежели вас, Константин Павлыч, дама просит уйти, то, мне кажется, вы, как учтивый кавалер, из одной деликатности чувств должны уйти.
– Странно… – пробормотал молодой человек, переминаясь с ноги на ногу. – Все ходил, ходил, такая между нами, можно сказать, нерукотворенная любовь была, и вдруг уйти. – Была, да сплыла… – сухо сказала блондинка, отвернулась и закурила папироску.
– Позволь, Надюша… Да нешто я какую новую даму на стороне завел?..
– А хоть бы и завели? Для меня это теперь решительно наплевать.
– Но ведь я для тебя, кажется, все, что следует… За квартиру твою я плачу. То и дело на разные разности тебе то двадцать пять, то тридцать, то пятьдесят рублей в руки… – А вы думаете, что это уж так много? – иронически улыбнулась блондинка. – По нынешнему времени это – тьфу!
– Но ведь ты же раньше была довольна. По вечерам я с тобой везде бываю… Недавно часы золотые с цепочкой подарил.
– Что такое часы! Что такое «раньше была довольна»!
Раньше была довольна, а теперь недовольна. Раньше я в разных бессловесных ролях только для красоты на сцене показывалась, а теперь я по словесной части роли играю, даже куплеты пою.
– А! Вот как… – процедил сквозь зубы молодой человек.
– А вы думали как! Всякая девушка должна себе цену знать. Мне уж и то подруги все уши прожужжали: и чего ты, дура, с Бережковым путаешься, коли ты давно можешь на паре вороных летать!
– Да ведь я тебя не только на паре, а даже на тройке сколько раз возил.
– Это все не то. А вы наймите-ка у извозчика лошадей помесячно, да пусть они каждый день у меня у подъезда стоят. – Так вот ты чего хочешь!..
– Да, этого самого… И уж нашелся один полковник, который все это предлагает.
– Да, да… – поддакнула тетка. – И не то чтобы какой-нибудь полковник старый, а из себя, можно сказать, настоящий мужчина.
– Кроме того, лисью ротонду, крытую бархатом, дарит, – продолжала блондинка. – А у вас я прошу, прошу себе песцовую ротонду да допроситься не могу. Думаете, приятно мне в бархатном пальте с куньим воротником бегать? Подруги-то смеются. У них у всех ротонды меховые, а я в пальте на свином визге щеголяю.
Молодой человек прошелся взад и вперед по комнате, почесал затылок и сказал:
– Ротонду меховую я тебе подарю, погоди только.
– А когда подарите, тогда и приезжайте. А теперь: вот вам Бог, а вот порог.
– Ах, Надя, Надя! Не ожидал я, что ты такая коварная! Я тебя так люблю, а ты…
– Кабы уж любили, так давно бы ротонду подарили.
– Клянусь тебе, что для тебя я готов…
– Пожалуйста, актера из себя не разыгрывайте!
– Полковник этот такой добрый и обходительный, что даже и мне пальто на беличьем меху обещал подарить… – вставила свое слово тетка.
– Ах, оставьте, пожалуйста, тетенька! Ну, стоит ли с ним разговаривать! – перебила блондинка. – Лучше вы попросите его уходить честь честью…
– Это все-таки ко мне относится? – спросил молодой человек.
– Конечно же, к тебе. Какой ты глупый. А еще говоришь, что в Коммерческом училище учился!
– Но ведь я на ротонду согласен, подожди только…
– Тетенька! Да гоните же его вон! Не желаю я с ним больше разговаривать. Хочет он по-прежнему сюда приходить, так пусть прежде хорошую меховую ротонду пришлет и чтобы у подъезда моего каждый день лошади стояли. Ступайте же…
Молодой человек стоял как ошалелый и не двигался. Минуту спустя он произнес:
– А ежели я это все так, по-твоему, то по-прежнему любить будешь?
– Да, конечно же… – отвечала блондинка и прибавила:
– Только уж я теперь буду строгая и чуть что не потрафите – сейчас по шапке вас… Я была дура, я себе цены не знала, а теперь я очень хорошо понимаю, в каких я смыслах…
– Кроме полковника, есть еще один в нее влюбимшись, – сказала тетка. – Есть еще богатеющий купец с Калашниковской пристани, который ходит да ноет и подруг ейных упрашивает, чтобы о нем хорошее слово замолвили. – И уж полковника тогда побоку, если я все это как следует?.. – спросил блондинку еще раз молодой человек. – Да, конечно же… Я вовсе не такая-эдакая… как все… Я уж люблю, так одного люблю. Я и посейчас бы тебя любила, но должна же я себе цену знать. Всех я лучше… всегда такие аплодисменты на сцене и вдруг… И не диво бы, если бы вы не могли, а то живете вы при дяде, дядя у вас – богатый купец…
– Богатый-то богатый, да денег дает мало. Погоди, вот умрет… Он человек старый, больной… На ладан дышит.
– Поди ты! Сама состаришься, пока твой дядя умрет. А я хочу жить.
– Уверяю тебя, что дядя скоро умрет. Он совсем болен.
Он и по делам никуда не ездит, и в лавки не ходит. Его два доктора лечат.
– Что мне за дело до твоего дяди: я сейчас хочу, чтобы была ротонда и лошади… И странное дело, чего ты сквалыжничаешь: дядя болен, лавки на твоих руках, подошел к кассе – взял да и…
– Не больно-то и на моих! У нас тоже старший приказчик есть.
– Поди ты! Любил бы меня, так и со старшим приказчиком сделался.
– Не такой он человек.
– Ну, так занять где-нибудь денег можешь до смерти дяди. Мало ли есть таких, которые деньги взаймы дают! Денег дадут и будут ждать.
Молодой человек молчал.
– Конечно же, Константин Павлыч, вам денег дадут, – проговорила тетка. – Прямо из-за дяди дадут… Ведь вы евонный полный наследник.
– Не больно-то и полный, – отвечал молодой человек. – Есть и другие. Он стар, стар, но у него тоже дамская слабость есть… Ей, как кажется, много отказано. Конечно, и мне кое-что очистится после его смерти, но не все же… – Так вот теперь, пока старик жив, и надо пользоваться всяким манером из его капиталов, – проговорила блондинка и прибавила: – Ну а теперь уходите. Довольно с вами разговаривать.
Молодой человек был совсем обескуражен. Он взял со стола шапку и произнес:
– Прощай, коли так.
– Прощайте… – отвечала блондинка и отвернулась.
– Дай же руку-то… – протянул свою руку молодой человек.
– Не желаю… Когда будет ротонда – тогда и руку вам подам, а до тех пор – ничего. Идите без разговоров. Тетенька, заприте за ним дверь.
Молодой человек, потупившись, вышел из комнаты. Тетка блондинки следовала за ним.
Глава II
– Ушел? – спросила Надежда Ларионовна тетку, когда та вернулась из прихожей.
– Ушел.
– Ну, что он?
– Совсем как бы не в себе. Меланхолия такая в глазах и даже слезы… Вот пять рублей мне в руку сунул… «Уговорите, – говорит, – ее, Пелагея Никитишна, чтоб она по-прежнему… Ротонду, – говорит, – я ей завтра или послезавтра привезу». Так его и надо, милочка. Чего его жалеть-то! Поверь, что захочет, так найдет денег.
– Все-таки мне его жалко. Он такой простой да глупенький, а я таких люблю. Такие-то лучше, – сказала Надежда Ларионовна.
– Да ведь при тебе же останется, – отвечала тетка. – Ты только его пугнула. Поверь, что прибежит с ротондой. Только ты на одну ротонду не соглашайся, а чтоб и лошади были. Ведь это, в сущности, полтораста рублей в месяц, не больше, если взять у извозчика.
– Ему таких денег не найти. Он ужасно глупый и неопытный.
– Да ведь, в сущности, за лошадей можно потом заплатить, по окончании месяца. Извозчик подождет. У того же Булавкина и возьмем лошадей и экипаж, у которого он тройки берет. Пусть только Костя скажет ему, что это он будет платить, что это на его счет. Да мы вот что сделаем:
как только твой Костюшка привезет сюда ротонду, я сейчас съезжу за извозчиком Булавкиным, и здесь мы это все и оборудуем. Пускай расписку выдаст. За расписку извозчик всегда согласится.
Надежда Ларионовна вздохнула.
– Ах, ему и на ротонду денег не найти по его глупости! – произнесла она. – Он совсем на манер какой-то овцы. Ведь денег нужно искать умеючи. Вы думаете, дешево ротонда-то черно-бурая стоит?
– Ничего! – подмигнула тетка. – В дядин сундук слазает. Ты думаешь, теперь-то он не лазает, что ли? Конечно, лазает, но берет понемножку. А теперь сразу возьмет.
– Да ведь сразу-то может быть заметно. Вдруг попадется? Ведь на черно-бурую-то ротонду тысячу рублей надо.
– Ну, хочешь я ему ростовщика подсватаю? – сказала тетка.
– А у вас разве есть такой на примете? – спросила Надежда Ларионовна.
– Да вот Шлимович, что с Лизаветой Николаевной путается. Он многим дает деньги на проценты.
– Конечно же, подсватайте. А то Костя сразу залезет к дяде в сундук, ну тогда все и откроется. Мне же хуже будет, если ему дядя крылья обрежет. Тогда уж прощай и квартира, и все. Да мне и самого Костю жаль. Он сколько раз мне говорил, что понемножку он может из лавки денег брать, чтоб незаметно… А сразу нельзя.
– Изволь. Я сбегаю к Лизавете Николаевне и поговорю с ней насчет Шлимовича.
– Съездите, тетенька, и поговорите. Ей-ей, он сам такой глупый, что никаких этих ростовщиков не найдет. Похлопочите. Ведь деньги у Костюшки верные, только он не может сразу… А тут можно сделать так, что деньги он займет сразу у Шельмовича этого, а потом ему по частям отдавать будет. – Шлимович, а не Шельмович, – поправила Надежду Ларионовну тетка и прибавила: – Ты смотри не проговорись при встрече с ним. Его уж и так Шельмовичем дразнят, и он ужасно сердится.
– Ну вот… С какой же стати нужного человека дразнить! А я думала, что его настоящая фамилия Шельмович.
Он жид?
– Да, должно быть, из жидов. Уж эти, которые по денежным делам, все из жидов.
– Так съездите, тетенька, поскорей и узнайте. Я буду новые куплеты учить, а вы съездите, – еще раз сказала Надежда Ларионовна.
– Хорошо, хорошо, – отвечала тетка. – Только где же мы твоего Костюшку сведем с этим Шлимовичем?
– А пусть Лиза привезет его к нам в театр. Да забегите и к Косте в лавку. «Надя, мол, вам кланяется и просит вас приехать в театр и прийти на сцену. Она, мол, в последний раз хочет поговорить с вами». То-то обрадуется он! – прибавила Надежда Ларионовна, улыбнувшись. – На крыльях прилетит. Ежели Лиза привезет Шлимовича, то после театра мы сведем их. Костюшка пусть пригласит Лизу и Шлимовича ужинать, за ужином и переговорим.
– Стало быть, и ты поедешь с Костюшкой ужинать?
– Ну его к черту! Поеду…
Тетка покачала головой.
– Эх, Надя, Надя! Не выдерживаешь ты себя. Нет у тебя этого самого характера, – сказала она. – А вот помяни мое слово: он увидит, у тебя душа размякла, да сейчас и на попятный насчет ротонды.
– Странное дело… Вспомните, что вы говорите, тетенька. Я только из-за этого и еду с ним ужинать, чтобы он для меня денег занял у Шлимовича, – проговорила Надежда Ларионовна. – Как же иначе устроить-то? Ну, не захочет он занимать денег, так уж тогда я его совсем от себя прогоню.
– Не прогонишь. Ты в него влюбимшись, как кошка.
– Я-то? Пф… Мне просто его жалко, потому что я люблю глупых. Да и так… Что ж его гнать-то очень? Умри у него дядя, так посмотрите, какой он будет выгодный кусок!
Тетка накинула платок, надела капор.
– Так я пойду, – проговорила она. – Ну, давай на извозчика.
– На какого извозчика? – вскинулась на нее Надежда Ларионовна. – Ведь Костюшка дал вам сейчас пять рублей на извозчика.
– То не на извозчика, а за хлопоты, чтобы я тебя уговорила.
– Стыдитесь! Живете у меня, пьете, едите даром, всякими обносками пользуетесь, да еще каждую минуту хотите с меня же сорвать. Сорвали с Костюшки – и будет с вас.
– Ну хорошо, хорошо.
Тетка отправилась в прихожую. Надежда Ларионовна провожала ее.
– Послушайте, тетенька… А не заберет этот Шлимович Костюшку в лапы? Ведь ростовщики тоже как забирают в лапы эдаких разных неопытных юношей.
Тетка улыбнулась и отвечала:
– А тебе-то какое дело? Да пущай.
– Ну, не скажите. Он все-таки человек нужный, и даже очень нужный. Зачем? Его нужно беречь. Зачем уж совсем-то в яму пихать? А ростовщики – народ ой-ой! Курлин, вон, из-за них, подлецов, застрелился.
– Пусть глядит в оба. Ведь Константин Павлыч – не дурак.
– В том-то и дело, что совсем дурак.
– Поди ты! Это тебе так кажется, а в сущности, он хитрее тебя.
– Все-таки вы, тетенька, скажите Лизавете Николаевне, чтобы она сказала Шлимовичу, чтобы тот уж не очень Костюшку-то обдирал. «У него, мол, деньги верные, но только он не может сразу»…
– Да уж ладно, ладно.
Тетка ушла. Надежда Ларионовна подошла к зеркалу, полюбовалась на себя, потом зевнула, потянулась, взяла тетрадку и принялась учить новые куплеты.
Глава III
Было пять часов. Тетка Надежды Ларионовны все еще не возвращалась домой. Надежда Ларионовна посердилась на ее медленность и велела подавать себе обедать. В эту минуту раздался звонок. В комнату влетел Костя Бережков и со всех ног бросился к Надежде Ларионовне.
– Милочка! Надюша! Как я рад, что ты меня простила! – заговорил он.
– Тише, тише… Пожалуйста, не приближайтесь. Вовсе я вас не прощала, и вы все еще под штрафом, – отстранила его Надежда Ларионовна.
– То есть как это?.. – недоумевал Костя, опустя руки.
– Очень просто: под штрафом. И до тех пор будете под штрафом, пока не явятся у меня черно-бурая ротонда и лошади. Не подходите близко, не подходите. Стойте там.
– Но ведь сейчас же у меня в лавке была твоя тетка Пелагея Никитишна и сказала, чтобы я приехал. Я прилетел на крыльях любви.
– Тетке было приказано передать вам, чтобы вы явились в театр, на сцену, но вовсе не сюда. Здесь я вас без ротонды и лошадей не желаю видеть.
– Будут лошади, будет ротонда. Пусть только все останется по-старому. Прости.
Костя сложил на груди руки и умильно взглянул на Надежду Ларионовну.
– Когда все будет, тогда и прощу, – отвечала она и спросила: – Говорила вам тетенька насчет ростовщика?
– Говорила, но Лизавета Николаевна не может привезти его сегодня к вам в театр, потому что они уже едут сегодня в балет. У них и билеты взяты. Лизавета Николаевна завтра привезет его. Вот оттого-то я сейчас к тебе и приехал. Прости. Я согласен. На все согласен. Прости.
– Все это вы могли бы сказать вечером в театре. Ведь вам приказано явиться в театр, а вовсе не ко мне на квартиру.
– Ангел! В театре я сегодня не могу быть. Да и зачем быть, ежели Лизавета Николаевна не привезет? Впрочем, что я!.. В театр я также прилетел бы на любовных крыльях, чтобы насладиться лицезрением твоих божественных глазок, но…
– Пожалуйста, пожалуйста, не заводите рацеи… – перебила Костю Надежда Ларионовна.
Тот умерил восторженный тон.
– В театр прискакал бы я на всех парах, но мне сегодня вечером непременно нужно быть дома, – сказал он.
– Что такое у вас стряслось?
– Дядя очень болен.
– Да ведь он и раньше был болен.
– Сегодня днем ему сделалось хуже, и вечером он поднимает к нам на дом чудотворную икону. Принесут ее из церкви и будут у нас служить дома всенощную и молебен.
Ну а при таком случае мне непременно нужно быть дома.
Надо быть на виду. Дядя поминутно может хватиться меня.
Завтра же я во что бы то ни стало буду в театре.
– Ага! Не хочется умирать старому.
– Он не поправится. Положительно не поправится. Все доктора говорили нам в один голос… То есть не ему, а нам только. Ему и до весны не дотянуть. Он даже, пожалуй, и сам знает и вот оттого-то сегодня решил поднять икону. Человек старый, богомольный, так уж само собой…
Костя не договорил.
– Странное дело, что у вас на все есть отговорки… – произнесла Надежда Ларионовна и прибавила: – Садитесь. – Простила? Ты меня простила, Надюша? Вот за это мерси! – встрепенулся Костя и снова бросился к Надежде Ларионовне.
– Не подходите, не подходите… – заговорила та. – А то я убегу в спальню и запрусь там. Сказать «садитесь» – еще не значит простить. Я уже сказала, что прощены вы будете тогда только, когда у меня явятся лошади и ротонда, – Все будет, ангел мой, помоги только денег достать.
– Вот это можно. Для этого нарочно сегодня я к Лизавете Николаевне и тетку посылала. Видите, я об вас больше забочусь, чем вы о себе.
– Мерси, душка…
– Да что «мерси»! За это вы должны бы мне еще что-нибудь подарить, ну, да уж бог с вами, только бы ротонда была хорошая.
– Поедешь со мной и сама выберешь, как денег добудем.
– Добудем! Вы даже сами и добыть-то не умеете. Ужасная вы рохля, страсть какой неспособный, неимущий, все о вас заботиться надо. Ну, садитесь же, – сказала Надежда Ларионовна.
– С тобой рядом сесть можно? – заискивающе взглянул на нее Костя.
– Нет, нет. Садитесь вон на тот стул.
Костя сел.
– Закурить папироску можно? – спросил он.
– Курите уж… Ну вас… Так вот… Денег на ротонду вы можете занять у Лизина обожателя Шлимовича. Он дает деньги. Разумеется, только дает деньги под вексель и за хорошие проценты.
– Это я понимаю.
– Ничего вы не понимаете. Вы совсем дурак.
Костя обиделся.
– Ну зачем же, Надюша, так? Ну какой же я дурак, если я при дяденькином деле? А дело у нас большое, – сказал он.
– При большом деле, а какой-нибудь тысячи рублей занять не можете!
– Да ведь кто же даст-то? То есть дадут, ежели на дядюшкино имя, все дадут. Но сейчас сомнение – что, почему? – и будет колебание фирмы. Никогда не занимали и вдруг…
– Вы можете все-таки уплачивать-то по векселю?
– Я могу… но только не сразу, а по частям. Ежели я сразу возьму из лавки деньги, то будет заметно, а ежели понемножку…
– Да уж слышали, слышали, – с гримаской перебила Костю Надежда Ларионовна. – Только уж вы так с Шлимовичем завтра сговаривайтесь, чтобы по частям платить.
Шлимович – это обожатель Лизин.
– Да знаю, знаю я Шлимовича, только рожа-то у него какая-то эфиопская…
– Ну, вот еще! Рожу разбирать! Что вам за дело до рожи! Вам хоть бы песок да солил. Да вот еще что… Я так думаю: ежели вы с Шлимовичем сойдетесь и он будет согласен дать вам денег, то берите уж сразу больше. Ну, что такое тысяча рублей? Берите две.
– Это зачем же?
– Деньги-то зачем! Совсем полоумный! – всплеснула руками Надежда Ларионовна. – Деньги на меня же вам понадобятся. Вы уж наперед знайте, что я не желаю больше так жить, как я до сих пор жила. Я хочу, чтобы у меня все было хорошее, как у Полины. Пока я у нас в театре на бессловесных ролях была, я могла так жить, а теперь, когда я с словесными ролями, – нет, оставьте. Мне просто стыдно. Вы просите у Шлимовича сразу две тысячи. Чего вам!..
– Так-то оно так, да ведь потом отдавать надо, – замялся Костя.
– Отдадите. Да может быть, к тому времени и старик ваш умрет.
Костя почесал затылок и произнес:
– Разве вот, что старик-то…
– Так две тысячи, – сказала Надежда Ларионовна.
– Хорошо, хорошо!
– Ну, а теперь уходите. С Богом.
Костя поднялся со стула.
– На прощанье можно ручку поцеловать? – спросил он.
– Нет, нет. Когда ротонда и лошади будут – все можно, а до тех пор ничего. Идите.
– Эх! – вздохнул Костя и поплелся в прихожую.
– Так приходите же завтра в театр, – сказала ему вслед Надежда Ларионовна и крикнула кухарке: – Дарья! Запри за ним дверь.
Глава IV
Часов десять вечера. В квартире вдового старика-купца Евграфа Дмитриевича Бережкова везде затеплены лампады. Пахнет ладаном. Клубы легкого дыма от ладана еще до сих пор носятся по комнатам. Сейчас только отслужили всенощную и молебен. Старик Бережков болен. Отец протоиерей и дьякон остались выпить чайку и беседуют со стариком в спальне. Везде старинная, тяжелая мебель красного дерева двадцатых годов, потемневшая от времени. На стенах картины библейского содержания, тоже в потемневших золоченых рамах, портрет самого Евграфа Дмитриевича Бережкова в молодых годах, с медалью на шее и со счетами в руке, и такой же портрет его покойной супруги с головой, туго повязанной косынкой, в длинных бриллиантовых серьгах, в ковровой шали на плечах и с носовым платком, свернутым в трубочку в выставленной из-под шали руке, сплошь унизанной кольцами. В гостиной с потолка висит старинная бронзовая люстра со стрелами и с хрусталиками; в углу часы, тоже старинные, английские, в высоком деревянном чехле будкой. В квартире все говорят полушепотом, ходят на цыпочках. Даже дьякон, разговаривающий в спальне с больным стариком Бережковым, старается умерять свой голос и говорит октавой. Спальня освещена лампой под зеленым абажуром. Бережков сидит в покойном кресле.
Он в сером халате. Опухшие ноги его окутаны одеялом, вздутый водянкой живот при тяжелом дыхании колеблется. Бережков – старик лет семидесяти, с редкими, как бы прилипшими к голове полуседыми волосами и совсем уже белой, тоже реденькой бородкой клином на изборожденном морщинами и исхудалом, землистого цвета лице. Против старика у стола помещается отец протоиерей, в фиолетовой рясе и с наперсным крестом. Он мешает ложечкой чай в стакане и говорит:
– Прежде всего, уважаемый Евграф Митрич, не надо отчаиваться. И не такие, как вы, больные, да поправлялись. Теперь вас кто пользует?
– Три доктора, да что!.. – проговорил с одышкой старик Бережков и махнул рукой. – Только один перевод денежный, а толку никакого.
– Чем они вас пользуют-то?
– Да разное тут… Вон на окне сколько стклянок наставлено.
– Действительный статский советник Семистадов есть, так того какой-то фельдшер из богадельни травяным настоем вылечил, – октавит рослый дьякон, помещающийся со стаканом чая поодаль. – Шестьдесят шесть трав входят в этот состав. Тоже всех докторов перепробовал и никакого толку, а вот простой фельдшер вылечил.
Старик молчит, угрюмо смотрит в одну точку и тяжело дышит. Протоиерей, побарабанив пальцами по столу, опять начинает:
– В настоящее время от водянки тараканов дают.
– Живых? Глотать? – восклицает чернобровая женщина лет сорока, в темном шерстяном платье, сидевшая в уголке спальной и до сих пор молчавшая.
– Нет, не живых. Я думаю, даже поджаривают, – спокойно отвечал протоиерей. – Поджаривают и в лекарство мешают. Я слышал, что многие исцелялись. Средство это даже господин профессор Боткин употреблял.
Старик опять промолчал. Чернобровая женщина поправила фальборки на своем платье и робко произнесла:
– А что же, Евграф Митрич? Вот бы вам попробовать. Противно-то противно, но что ж такое? Лишь бы помогло. Старик молча махнул рукой и отвернулся. Разговор не клеился. Священник и дьякон допили чай и стали уходить.
– Ну, да благословит вас Бог… Поправляйтесь… – сказал протоиерей, наклонился и облобызал старика.
– Извините уж, батюшка, не провожаю… Не могу… – проговорил старик.
– Ничего, ничего… Какие тут проводы.
– Племянник уж вас проводит. Костя! – попробовал крикнуть старик и закашлялся.
– Я здесь, дяденька… Я провожу, – откликнулся из другой комнаты голос, и на пороге появился Костя Бережков, племянник старика.
Священника и дьякона пошла провожать и чернобровая женщина. Она так и лебезила около протоиерея и, когда они вышли в прихожую, шепнула ему:
– Батюшка! Вы бы уговорили Евграфа Митрича составить духовную. Ведь сродственники есть. Потом есть люди, которым он на словах обещал кое-что, а умрет без духовной, так что же из всего этого выйдет!
– Я говорил ему тут как-то насчет духовной, но он сказал мне, что уже составлена духовная.
– Врет он. Извините, пожалуйста, но врет… Ничего у него нет.
Священник только развел руками.
– Вы попросите, по крайности, чтобы он вам ее показал. Мне кажется, что это он просто нарочно насчет духовной…
– Да будет вам, Настасья Ильинишна! – оттолкнул от священника чернобровую женщину Костя и принялся подавать ему шубу.
В прихожую выглядывали из дверей какая-то старуха и молоденькая миловидная девушка лет шестнадцати, почти ребенок. Она бросилась к священнику под благословенье, когда тот, надев шубу, начал уходить.
– И не стыдно это вам, Настасья Ильинишна, – сказал Костя чернобровой женщине. – Ну чего к батюшке с духовной-то пристали! Все корысть, везде корысть… Вот женщина-то! Бесстыдница.
– Ругайтесь, ругайтесь… А посидел бы ты в моей шкуре! – огрызнулась чернобровая женщина. – Корысть! Хороша корысть! Восемнадцать лет около вашего дяденьки, как свечка перед образом верой и правдой горю, а не могу вон дочке хорошего теплого пальтишка сшить, – кивнула она на девушку. – А ведь мы с ней тоже, сами знаете, не сбоку припека, не с улицы, а, может быть, даже поближе кого другого старику-то приходимся. Да-с.
– Ну уж, довольно, довольно… Слышали… – процедил сквозь зубы Костя.
– Господи, спаси нас, грешных, и помилуй! – вздохнула в дверях старуха и покачала на спорящих закутанной в черный платок головой. – Поди ж ты, что корысть-то делает!
Чернобровая женщина, заслыша эти слова, тотчас же сцепилась со старухой. Перебранка, однако, происходила полушепотом и уже продолжалась в другой комнате, куда чернобровая женщина и старуха удалились.
– Тише вы! – строго цыкнул Костя, заглянув из прихожей в комнату, погрозил пальцем и направился к дяде в спальную.
Евграф Дмитриевич Бережков по-прежнему сидел и тяжело дышал. Костя подошел к нему, почтительно наклонился и спросил:
– Ну, как вы себя теперь чувствуете, дяденька?
– Казачка сейчас плясать хочу – вот как себя чувствую! – раздраженно отвечал дядя. – Поди и призови сейчас Гаврилку, приказчика, с гармонией. Пусть наяривает. Не видишь нешто, что человек совсем болен!
Костя опешил.
– Я понимаю, дяденька, что вы очень больны, но я думал, что, может быть, вам теперь хоть чуточку полегче… – отвечал он. – А что я спросил, так это из участия!
– Из участия! Знаем мы это ваше участие-то! Только и ждете смерти. А вот назло вам ничего не останется. Все на монастыри да богадельни…
– Ах, дяденька! Совсем вы меня не так понимаете!
– Ну, молчи! Довольно.
Старик закашлялся. Племянник, не зная, что делать, молча бродил по спальной, переложил с места на место какие-то книги, вынул из стоявшего на столе стакана ложку и положил ее на блюдечко. Вообще, его так и подмывало уйти, но он не смел.
– Вам ничего не нужно, дяденька? – спросил он наконец.
– Принеси мне стакан воды, – отвечал старик.
– Слушаю-с, дяденька.
Через минуту Костя подал дяде стакан с водой.
Опять переминание с ноги на ногу.
– Да что ты передо мной, как маятник, маешься! Приткнись ты хоть к месту-то! – крикнул на него старик.
– Не сердитесь, дяденька, вам вредно.
– Упрашивай, упрашивай! А сам рад! Только бы раздражить. Авось, мол, дядю сразу пристукнет.
– Экие вы какие, дяденька! – вздохнул Костя и сел.
Тихо. Слышно тяжелое дыхание старика с каким-то всхлипыванием в груди, слышно, как тикает в гостиной маятник больших английских часов, слышно, как в соседних комнатах шушукаются, перебраниваясь, женские голоса. Костя сидит и тихо передвигает костяшки счетов, лежащих на столе. Мысли его далеко. Мысли его около Надежды Ларионовны. Вот она видится ему на сцене в трико, в коротенькой юбочке с блестками, с полуобнаженной грудью. Она поет куплеты и улыбается.
«Если бы старик уснул сейчас, то можно бы и в театр удрать», – мелькает у него в голове.
Часы звонко бьют одиннадцать.
«Нет, теперь уж не удрать… Поздно… Когда он еще уснет!» – говорит себе Костя мысленно.
Старик молчит, но не спит. Костя решается заговорить. – Я не нужен вам, дяденька?.. – робко задает он вопрос.
– Возьми псалтырь и почитай мне… – отвечает старик.
Костя морщится, но открывает лежащую на столе книгу в кожаном переплете и начинает читать.
– «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых…» – слышится его мерное чтение.
А Надежда Ларионовна так и стоит перед ним.
«А вдруг она теперь с тем полковником ужинает, который обещался ей ротонду подарить?» – мелькает у него в голове, и вся кровь быстро приливает к сердцу.
Глава V
Костя прочел три псалма и остановился. Старик-дядя, сидя в кресле и склонив голову, похрапывал. «Спит», – подумал Костя, осторожно закрыл псалтырь, тихо поднялся со стула и только что сделал два шага на цыпочках, как старик проснулся и заговорил:
– Куда ты? Или удрать хочешь? Нет, читай, читай… Я не сплю.
– Я полагал, дяденька, что вы започивали… – остановился Костя.
– Читай, читай.
И опять раздалось мерное чтение псалма. Часы пробили половину двенадцатого. Старик как бы опомнился, поднял голову и остановил племянника.
– Постой… – сказал он. – Вот что я тебя хотел спросить… Скажи мне, Костя: очень сильно вы теперь без меня грабите в лавке из выручки?
– То есть как это «грабите»? – смешался Костя.
– Очень просто. Ты хорошо знаешь, о чем я тебя спрашиваю… Говори, говори, не бойся. Чистосердечно говори.
Ведь уж я теперь все равно не могу остановить. Видишь, какой я беспомощный. А ежели я правду узнаю, то мне все-таки легче будет.
– Да ведь за кассой старший приказчик Силантий Максимыч стоит. Вы ему поручили. При чем же тут я-то, дяденька?
– Ну а Силантий Максимов сильно лапу запускает?
– Да почем же я-то знаю, дяденька! Мое дело составить записку, какого товара у нас не хватает, что подобралось, потом сходить в конторы и отобрать товар. Ни расплаты, ни получки денежной я не знаю.
– Да ведь уж видно сейчас.
– Как же это так видно! Все денежные дела в его руках, а чужая душа – потемки.
– Ох, врешь, Костюшка! Чувствую, что врешь! – сказал старик, устремил на племянника испытующий взор и быстро спросил: – Ты не в стачке с Силантием Максимовым?
– Да что вы, дяденька!
– Говори как на духу, говори искренно! – погрозил пальцем старик.
– Что я с ним не в стачке, уверяю вас.
– Ох, врешь! Чувствую, что врешь!
– Мне, дяденька, и вашего положения достаточно. Что ж, сорок рублей в месяц – деньги немаленькие, коли ежели на всем на готовом.
– По глазам твоим вижу, что ты это врешь! Ну, что тебе сорок рублей, ежели…
– Вот, что насчет портного, то действительно я нынче просил Силантия Максимова, чтобы он заплатил по счету, – перебил Костя. – Надо тоже, дяденька, быть чисто одевшись. Езжу по немецким конторам, чтобы товар закупать, так осудить могут, коли ежели в рвани какой… Ну, Силантий Максимыч и заплатил.
– Много?
– Сто двадцать пять рублей, дяденька, но пять рублей в скидку пошло. Только и всего.
– А больше ничем не пользовался?
– Ничем, дяденька.
Старик покачал головой.
– И ты думаешь, я поверю этому? – спросил он.
– Воля ваша, дяденька.
Старик помолчал и прибавил:
– А ты вот что… Ты грабь полегче, да и за другими смотри, чтобы легче грабили. Ведь у себя грабишь, тебе же все после моей смерти останется.
Костя встал, подошел к дяде и поцеловал у него руку.
– Прикажете читать, дяденька? – сказал он.
– Читай, читай.
И опять чтение.
Вошла неслышными шагами чернобровая женщина, приложила левую ладонь к щеке, пригорюнилась и молча села в уголке на стул. Чрез минуту она пересела на другой стул, ближе к старику, еще через минуту переместилась еще ближе и, когда псалом кончился, кашлянула в руку, как бы давая знать, что она тут. Старик обернулся и нахмурился.
– Только пугаешь, – сказал он. – Подкрадешься, как кошка, а потом вдруг кашляешь. Я думал, и не ведь кто.
– Я, батюшка, Евграф Митрич, я Настасья… – отвечала чернобровая женщина. – Пришла узнать, как вам теперь, не полегчало ли?
– Так вот сейчас по щучьему веленью да по вашему прошенью и полегчает!
– К чему же вы разражаетесь-то, благодетель? Я от чистого сердца, а вы…
– Знаю я твое чистое сердце!
– Господи боже мой! Неужто за восемнадцать-то лет я от вас веры не заслужила! Кажется…
Старик еще больше нахмурился и украдкой кивнул на племянника, перелистывавшего псалтырь. Женщина умолкла.
– Да что бы вам от вашей болезни, Евграф Митрич, тараканов-то этих самых попробовать, про которых давеча отец протоиерей говорил, – переменила она разговор.
– Глотай сама… – был ответ.
– То есть, если бы вам, Евграф Митрич, только помочь могло, то верите ли, ей-ей, сама бы за вас тридцать штук проглотила! Живьем проглотила бы, – воскликнула женщина.
– Молчи. Не коварничай.
– Да какое же тут коварство-то, Евграф Митрич, батюшка?..
– Не только коварство, а даже неприличие и насмешка, – вот как я понимаю, Настасья Ильинишна, – поддакнул Костя дяде.
– И ты молчи. Не твое дело, – оборвал его старик и прибавил: – Переведи меня на постель да и уходи. Я спать хочу.
Племянник подскочил к дяде и стал поднимать его под руку. Подскочила и Настасья Ильинишна, взяв под другую руку.
– Ты-то чего лезешь? Тебе-то что? Ведь я тебя не просил, – огрызнулся на нее Евграф Дмитриевич, однако руки не вырвал.
Костя и Настасья Ильинишна уложили старика на кровать и подсунули ему под голову и под спину несколько подушек.
Старик не мог низко опускать голову. Его душило.
Уложив старика, Костя удалился. Настасья Ильинишна осталась при старике. Осмотревшись и видя, что в комнате никого нет, она припала к старику на грудь, обхватила руками за шею и, поцеловав, проговорила;
– Евграф Митрич, батюшка, благодетель! За что вы так со мной?.. Ведь уж, кажется, верна я вам, как собака. Восемнадцать лет чуть не молюсь на вас.
– Не лижись, не лижись… Что ты на меня навалилась-то! Ведь задушить можешь! Не понимаешь разве?
– Батюшка! Ну зачем такие слова своей верной рабе?
– Да, раба! Ты это в глаза только раба-то, а за глаза-то, поди, как меня костишь! И скаредом, и аспидом…
– Ах, милостивец, Евграф Митрич! Точно, что иногда поропщешь на вашу скупость, но взгляните вы в мою душу…
Настасья Ильинишна заслезилась.
– И я, и дочь моя денно и нощно молим Бога о вашем здравии. Умрете вы – ну, что мы будем? Ведь чуть не по миру идти… Иголкой-то тоже немного наковыряешь. Да и отвыкла уж я от этого из-за ваших благодеяний.
– Ну, молчи, молчи. Нечего тут… Я не обижу… Довольно лизаться, довольно… – бормотал старик.
– Ведь только не венчаны мы, да на одной-то квартире не квартировали, а то ведь живем восемнадцать годов как муж и жена. И дочка ваша Таисонька… Каждый день, как проснется поутру, сейчас на ваш портрет взглянет и перекрестится. «Дай Бог здоровья папеньке…»
– Ну, довольно. Иди домой… Уж двенадцать часов… Пора спать.
– А я хотела, голубчик, Евграф Митрич, попроситься у вас, чтобы вы мне с Таисонькой позволили здесь сегодня переночевать, – робко сказала Настасья Ильинишна.
– Это еще зачем?
– Да ведь уж поздно домой-то идти, голубчик. К тому же и вас-то жалко оставить, такой вы сегодня слабенький да неимущий. Ну вдруг хуже вам случится? Я и за доктором сбегаю, я и…
– Приказчики есть, Костя, старуха Ферапонтовна, кухарка…
– Так-то оно так, но все-таки лишняя женщина. И подать что, и натереть вас, ежели что случится. А что Ферапонтовна, то какая она работница! Ей только бы до себя.
Позвольте мне и Таисоньке переночевать у вас. Я вон в той комнате рядышком не раздеваясь на диванчике лягу, а вы чуть что – и позовете меня.
Старик подумал.
– Ну, оставайся, – сказал он и тотчас же прибавил:
– А только ты это все, Настасья, с коварством… Ты думаешь, нешто я не понимаю твоего коварства?
– Да какое же тут может быть коварство-то, батюшка, Евграф Митрич!
– Ну вот… Будто я не понимаю! Все вы, подлые, на смерть мою рассчитываете: и ты, и Костя, и приказчики.
Настасья Ильинишна заплакала.
– Бог с вами, Евграф Митрич… Только обижать и умеете.
– Будет, будет… Достаточно… Ступай…
– Позвольте, благодетель, Таисоньке-то с вами на сон грядущий проститься, – проговорила Настасья Ильинишна, отирая слезы. – Кстати и благословите ее.
– Зачем?
– Как «зачем»? Ведь кровь ваша.
– Кровь? – подозрительно повторил старик. – Ну, насчет крови-то это еще вилами писано.
– Боже милостивый! Что вы говорите! – всплеснула руками Настасья Ильинишна. – Да я как свечка перед иконой…
– Ну уж, веди, веди ее сюда. Так и быть.
Настасья Ильинишна подошла к дверям и поманила. Вошла девушка, подошла к кровати старика и припала к его руке. Старик притянул ее за голову, чмокнул в лоб и три раза перекрестил. Сделав это, он замахал руками и раздраженно заговорил:
– Идите, идите вы от меня теперь! Довольно! Дайте покой.
Настасья Ильинишна и Таиса удалились.
Глава VI
Человек пять так называемых швейцаров со всех ног бросились от вешалок к Косте Бережкову и принялись с него снимать меховое пальто, когда он только показался в притворе «Увеселительного зала».
– Афишечку, Константин Павлыч, прикажете? Бинокль желаете? – слышалось со всех сторон.
– Всех действующих лиц наизусть знаю, а рассматривать могу их сколько влезет и вблизи на сцене, – отвечал Костя.
– Знаю-с, что вы здесь постоянный и почетный гость, но нам-то вашему сиятельству услужить хочется. Поддержите коммерцию.
– Ну, давайте… Черт с вами!
– Пальто Константина Павловича на первую вешалку, чтоб потом не разыскивать и не задерживать их! – крикнул один швейцар другому.
– Знаю. Толкуй еще! На самый почетный гвоздь повесим, – раздался ответ.
Раскланявшись с дежурным околоточным и подав ему дружески руку, Костя направился к окошечку кассы.
– Загнуто, загнуто для вас ваше кресло в первом ряду. Смело садитесь. Деньги потом отдадите. На ваш счет запишу, – заговорил с еврейским акцентом кассир, просовывая из окошка курчавую голову.
Вместо ответа Костя сделал кассиру ручкой и вошел в помещение «Увеселительного зала». Стоявшие у входных дверей контролеры встретили его поклоном и распахнули дверь.
– Билет мой можете получить от кассира, – кивнул им Костя.
– Знаем, Константин Павлыч… Пожалуйте.
Пришлось проходить мимо буфета, чтобы попасть в театральный зал. За столиками в сообществе мужчин сидели с подведенными глазами и накрашенными лицами женщины, пили пиво и дымили папиросами. Были женщины с очень поношенными лицами, были и молоденькие, со свежими личиками. Одна из поношенных скосила на Костю глаза и процедила сквозь зубы:
– Скажите, какой гордый кавалер! С тех пор, как с актеркой связался, и не кланяется даже! Здравствуйте, Константин Павлыч.
– Некогда, некогда. Ну вас в болото! – пробормотал Костя и вошел в театральное зало.
Был десятый час вечера. Представление давно уже началось. Шло второе отделение программы. На сцене ломался какой-то немец в зеленом фраке, в желтой жилетке и неестественном рыжем парике. Гримасничая, бормоча без умолку и вставляя в немецкую речь русские слова, он подскочил к рампе и запел куплеты под музыку. Костя прошел в первый ряд.
Там сидели все завсегдатаи первого ряда. Были молодые и старые. Он поздоровался кой с кем и сел. Заглянув в афишку, он увидел, что Надежда Ларионовна поет в самом конце отделения. Кривляющийся немец был ему не смешон, сменивший его жонглер с кинжалами и шарами тоже не интересен, да и не того ему было нужно. Душа его стремилась к Надежде Ларионовне. Посидев минут десять, он поднялся с кресла и направился ко входу на сцену. Сторож, стоявший у дверей, хоть и не загородил ему дорогу, но все-таки остановил его.
– Нельзя, Константин Павлыч, на сцену… – сказал он. – Видите надпись: «Вход посторонним лицам строго воспрещается».
– Да я нешто посторонний? Кажется, уж слава богу… – отвечал Костя. – Я к Люлиной, к Надежде Ларионовне…
– Знаю-с, что к ним, но все-таки… С нас ведь спрашивается.
– Да ведь ежели бы я не бывал на сцене, а то сколько раз бывал.
– Опять вышел приказ, чтобы никого не пускать.
– Да ведь мне только на минуточку… Поди и спроси режиссера. Ведь мы с ним приятели, сколько раз пили вместе и все…
– Ну, так погодите немного, а я сейчас спрошу.
Сторож удалился на сцену и тотчас же вернулся, сказав:
«Пожалуйте». Костя сунул ему в руку несколько мелочи и вошел на сцену.
В кулисах стояла совсем уже приготовившаяся к своему выходу на сцену Надежда Ларионовна и, держа перед собою бумажку, повторяла про себя куплеты.
Она была в трико, в коротенькой голубой юбочке с серебряными блестками и бахромой, еле прикрывающей верхнюю часть ее бедер, в сильно декольтированном корсаже и в какой-то фантастической шапочке. Костя подошел к Надежде Ларионовне, тронул ее слегка за руку и с замиранием сердца произнес:
– Надюша! Я приехал.
– Фу, как вы меня испугали! – вздрогнула Надежда Ларионовна. – Вот черт-то! Разве можно так перед выходом?.. Ведь вы мне таким манером можете весь… весь… ансамбль в роли испортить.
Она не знала, что сказать, и употребила слово «ансамбль». – Прости, Надюша, но не мог же я во все горло… Ведь тут сцена, идет представление.
– Тьфу! Даже опомниться не могу… – бормотала она, притворно держась за сердце. – Тут роль учишь, думаешь, как бы получше, а он подкрадывается.
– Ну, хочешь, Надюша, я сейчас за лимонадом в буфет пошлю? Выпьешь холодненького, и все пройдет.
– Не надо мне, ничего не надо, – сделала она гримаску и прибавила: – Да вот еще что: пока я от вас не получила черно-бурой ротонды, по тех пор я для вас не Надюша и вы не смейте меня так называть. Ну, чего ж вы тут толчетесь? Посторонней публике не велено быть на сцене. Идите.
– Я только на минутку… чтобы сказать тебе, что пришел.
– Ну, и отлично. А теперь поклон да и вон.
– Но ведь ты сама же меня звала и хотела познакомить через Лизавету Николавну с Шлимовичем… С Шлимовичем, чтобы занять у него денег.
– Так ведь не здесь же я буду вас с Шлимовичем знакомить. Это после спектакля, в зале.
– Лизавета Николавна здесь. Она в креслах сидит.
– Знаю и даже видела ее. Она приходила ко мне в уборную. Ну, идите же и садитесь в кресло, чтобы мне хлопать, когда я петь буду! – возвысила голос Надежда Ларионовна.
– Сейчас, сейчас… Дай только полюбоваться-то на тебя вблизи… – говорил Костя, пожирая ее глазами. – Ах, Надя, Надя, как к тебе идет этот костюм!
Она улыбнулась и вполголоса запела:
– Труля-ля-ляля… Труля-ля-ля. Еще бы больше шел, – прибавила она, – да обожатель-то у меня – идол бесчувственный. Для такого костюма по-настоящему бриллиантовая брошка бы требовалась, а обожатель подарить не может. – Все подарю, Надя, все, только бы денег занять. Повернись-ка, повернись-ка, дай-ка мне хорошенько посмотреть на тебя в этом костюме…
– Ну вот… Стану я для вас вертеться!
– И как к тебе трико идет… Какая у тебя ножка хорошенькая, особливо вот здесь в этих местах.
– Хороша, да не ваша. И не будет ваша, не будет, покуда ротонду не получу.
– Душу черту продам, а уж ротонда у тебя будет.
– Ротонда, лошади и брошка бриллиантовая, а то фють! Надежда Ларионовна сделала жест рукой, хлопнула себя по бедру и отвернулась.
– Так ты выйдешь потом в залу? – снова начал Костя.
– Выйду, выйду, уходите только скорей.
– Надежда Ларионовна, приготовьтесь! – подбежал к ней режиссер. – Сейчас ваш выход.
– Готова. Прогоните только вот этого… – отвечала Надежда Ларионовна, указывая на Костю.
– Ухожу, ухожу… – пробормотал Костя. – Ну, счастливо тебе… Хлопать иду. Все руки себе отобью. – Он подал режиссеру руку, шепнув: – Приходите потом в буфет выпить, – и на цыпочках стал уходить со сцены.
Глава VII
С шумом и громом встретила публика Надежду Ларионовну, когда та, выскочив на сцену, побежала к рампе, улыбнулась и сделала ручкой. Всех поразил ее костюм. В этом костюме она появилась в первый раз. Он был уже совсем откровенен. В таких костюмах появляются только акробатки, жонглирующие в цирке на канате. Что же касается до декольте корсажа, то оно даже перехвастало корсаж акробатки. Оркестр сделал аккорд. Капельмейстер дал смычком знак Надежде Ларионовне, и она запела. Пела она какие-то дрянненькие сальные куплеты очень слабеньким голоском и поминутно фальшивя, но, тем не менее, после каждого куплета публика приходила в восторг и неистово аплодировала. Причиной успеха был костюм, позволявший видеть действительно стройные формы Надежды Ларионовны и ухарские, впрочем не лишенные некоторой грации, жесты. В особенности приходил в восторг сидевший неподалеку от Кости Бережкова старик с усатой военной физиономией, с двойным подбородком и оттопыренной нижней губой. Одет он был в черный сюртук и имел в петлице орденскую ленточку. Он привскакивал даже на кресле во время аплодисментов и аплодировал, поднимая руки кверху и как бы простирая их к Надежде Ларионовне… Этот старик не был в числе завсегдатаев театрика, Костя видел его в первый раз и уже ревновал к Надежде Ларионовне.
«Вот, вот… Этот старик, должно быть, тот самый полковник и есть, который предлагает Наде ротонду и лошадей и про которого говорила ее тетка, – думалось ему. – Ах, старый пес! Туда же! Да и Надя-то… Неужели она может польститься на такую старую тушу, хоть бы из-за корысти? Надо, надо подарить ей ротонду. Во что бы то ни стало надо».
– Браво, браво, Люлина! – закричал Костя, дабы перекричать старика, приподнялся на своем кресле и стал стучать о пол своим креслом.
К нему наклонился сидевший по левую от него руку тощий, с геморроидальным лицом пожилой мужчина в пенсне и пестром галстуке и произнес:
– Какова Люлина-то! Раз от разу лучше. Это совсем русская Филиппо. Да что! Сегодня она даже Филиппо перещеголяла.
– Филиппо-с ей в подметки не стоит. За пояс она заткнула Филиппо, – слышалось дальше. – С каждым днем развивается женщина. Вы посмотрите, что из нее выйдет! Далеко пойдет.
– Надо поддержать! Надо поддержать! – раздавалось сзади, и аплодисменты трещали.
Надежда Ларионовна торжествовала. Она улыбалась приветливой улыбкой и кланялась направо и налево. Но вот она кончила куплеты и вприпрыжку убежала за кулисы. Взрыв рукоплесканий, и начались вызовы. Она выбегала, приседала и делала ручки.
– Черт знает, что за улыбка у ней канальская! – воскликнул старик с военной физиономией, и его всего даже как-то передернуло на кресле.
«Бис, бис!» – кричала публика, требуя повторения. Надежда Ларионовна опять показалась у рампы и повторила два последних куплета. Аплодисменты усилились. Костя бил в ладоши и млел. На глазах его даже блестели слезы. Такой успех Надежды Ларионовны он видел в первый раз.
– Любимицей, любимицей, положительно любимицей всей публики будет, – ораторствовал перед соседями по креслу геморроидальный человек в пестром галстуке. – Господа! Надо поощрить веночком… Поднесемте в следующий раз ей венок. Сложимся и поднесем. Ну, что стоит поощрить венком? Таланты надо поощрять.
Вызовы все еще продолжались.
– Прачку, прачку! – кричала публика, требуя исполнения куплетов «Прачка», с успехом петых уже раньше Надеждой Ларионовной.
Надежда Ларионовна опять подбежала к рампе, пошепталась с капельмейстером и запела «Прачку». Куплеты были старинные, хорошо знакомые завсегдатаям театрика, и завсегдатаи начали подпевать Надежде Ларионовне, мерно ударяя ладонями в такт музыки. Кончились эти куплеты – и снова раздались аплодисменты.
Успех был полный.
К геморроидальному человеку в пестром галстуке подошел какой-то бакенбардист и сказал:
– Здравствуйте. Послушайте, вы знакомы с Люлиной? Ежели знакомы, то познакомьте меня с ней. Это совсем звездочка шансонетки.
Костя прислушивался. Он не слыхал, что отвечал геморроидальный человек бакенбардисту, но и от этих слов его ударило в жар.
«Отобьют, отобьют ее от меня, – мелькало у него в голове. – Нужно как можно скорей утешить ее – все, все для нее сделать, что она просит. Ротонду, лошадей… все, все».
Второе отделение представления кончилось. Костя бросился на сцену. Надежда Ларионовна была в уборной и переодевалась. Он побежал к дверям ее уборной. У дверей стоял уже геморроидальный человек, помахивая золотым пенсне, и сквозь дверь переговаривался с Надеждой Ларионовной.
– Пришел повергнуть вашим милым ножкам мое искреннее спасибо за то истинно художественное наслаждение, которое вы доставили вашим исполнением, – говорил он. – Прелестно, прелестно. Я объехал всю Европу, но сочетания такой грации и такой пластики ни у одной исполнительницы не видал.
– Мерси вам. Очень мерси, – отвечала из уборной Надежда Ларионовна.
Костя зверем посмотрел на геморроидальнаго человека, постучал в дверь уборной и крикнул:
– Надежда Ларионовна! Вы скоро? Мы можем сейчас ехать ужинать.
– Ах, отстаньте вы, пожалуйста! Ну чего вы пристаете!
Какая-то судорога сжала горло Кости, и он чуть не заплакал, до того был обиден ему подобный ответ при постороннем человеке. Костя пожевал губами, собрался с силами и опять произнес:
– Но однако ведь вы же обещались ехать?
– Ну и дожидайтесь.
Наконец Надежда Ларионовна распахнула дверь уборной.
Она уже стояла переодетая из костюма в обыкновенное платье. В глубине уборной Костя увидал тетку Надежды Ларионовны. Та суетилась, завязывая в узел костюм. Там же в уборной сидела и Лизавета Николаевна – рослая, полная брюнетка, несколько южного типа, очень нарядно одетая, в бриллиантовых серьгах, в бриллиантовой брошке и в таких же браслетах и кольцах. Костя подскочил к Надежде Ларионовне и хотел ей что-то сказать, но она отстранила его рукой и раздраженно проговорила:
– Погодите… Ну, чего вы!.. Дайте мне поговорить со знакомым. Вы видите, мне делают визиты…
Она кивнула на геморроидального человека и подошла к нему, подавая руку. Тот тотчас же приложился к руке ее и раза три, как говорится, взасос чмокнул ее…
– Положительно прелестно, божество мое! Среди русских исполнительниц я не видал и не слыхал ничего подобного, – проговорил он и прибавил: – Поверьте, что все это вам говорит не неопытный юноша, а человек опыта, человек бывалый, которого, так сказать, уже и жизенная моль подъела.
Костя злился. Он подошел к Лизавете Николаевне, поздоровался с ней и заговорил о чем-то бессвязно, глупо, то и дело направляя свое ухо, дабы слышать разговор Надежды Ларионовны с геморроидальным человеком. Наконец тот кончил, поклонился еще раз, приложился к руке Надежды Ларионовны и стал уходить со сцены.
Надежда Ларионовна подошла наконец к Косте и Лизавете Николаевне. Вид ее был торжествующий.
– Ну что, Фатюй?! – сказала она, тронув пальчиком Костю по носу. – Видели вы, как меня публика-то любит! Как Пати какую-нибудь сегодня принимали. Вот вы и судите теперь – прежняя ли я Люлина. Нет-с, уж теперь мне без пары лошадей жить нельзя. Или потрошите вашего старика-дядю, чтобы мне стать на настоящую точку, или не смейте больше и на глаза показываться!
– Какая строгость! – проговорила Лизавета Николаевна и улыбнулась.
– С ихним братом без этого нельзя, – отвечала Надежда Ларионовна. – Ихнему брату распусти вожжи-то, так он и не почешется.
Костя стоял потупившись и бормотал:
– Все будет, все будет, потерпи только немножко.
– Ну, что ж вы стоите, как истукан бесчувственный! Приглашайте Лизавету Николаевну в ресторан ужинать. Да вот что… Не худо бы тройку взять и ехать куда-нибудь за город, да там и поужинать.
– В момент! – встрепенулся Костя. – Лизавета Николаевна, позвольте вас просить…
– С удовольствием, но ведь я не одна. При мне моя слабость… Я здесь с Адольфом Васильевичем, – отвечала Лизавета Николаевна.
– И Адольфа Васильевича всепокорно прошу, познакомьте меня с ним. Давно горю желанием познакомиться, – поклонился Костя.
– А вот пойдемте к нему. Он тут у самого входа на сцену и дожидается меня.
Лизавета Николаевна взяла Костю за руку и вывела со сцены. У дверей, ведущих на сцену, ходил по коридорчику сухопарый, горбоносый брюнет, франтовато одетый.
– Адольф Васильевич… Вот, познакомьтесь… Константин Павлыч… – начала она, подводя Костю к брюнету.
– Бережков… – отрекомендовался Костя.
– Шлимович, – процедил сквозь зубы брюнет.
– Вот Константин Павлыч и Надя Люлина едут за город и приглашают меня и, разумеется, тебя… – продолжала Лизавета Николаевна.
– Будьте добры для первого знакомства… – расшаркался Костя.
Шлимович подумал и ответил:
– Пожалуй. Прокатиться будет недурно.
– Так я сейчас пошлю за тройкой, – засуетился Костя. – Где Надежда Ларионовна? Лизавета Николаевна! Позовите Надю…
Но Надежда Ларионовна и сама показалась в дверях, выходящих со сцены. Сзади шла тетка и несла чемоданчик с костюмом.
– Ведь вас, Надюша, всего четверо, а в троечных санях могут уместиться и пятеро, так отчего бы вам и меня не взять с собой? – говорила тетка.
– Нет, нет! И думать не смейте! Вот еще выдумали.
Идите сейчас домой – вот вам и весь сказ, – отвечала Надежда Ларионовна и, обратясь к Косте, сказала: – Опять без дела стоите! Ну что ж вы! Познакомились с Адольфом Васильичем, так бегите в швейцарскую и велите швейцарам, чтобы они нам тройку привели.
Костя со всех ног бросился в швейцарскую.
Глава VIII
Тройка и ужин именно в загородном ресторане не шли в расчет Кости Бережкова. Он думал, что Надежда Ларионовна ограничится ужином в каком-нибудь ресторане «Вена» или в трактире «Малый Ярославец», как это было прежде и где цены сравнительно много дешевле, но она потребовала поездку на тройке и загородный ресторан. Денег у него было мало. Сегодня он не мог ничем попользоваться от дядиной лавки. Обстоятельства так слагались, что отделить что-нибудь из выручки незаметным манером для себя было решительно невозможно. Просить денег у старшего приказчика Костя не решался. Со старшим приказчиком они были не в ладах. Костя заглянул в бумажник. В бумажнике было всего шестьдесят рублей. Костя призадумался.
«Тройка, ужин… А вдруг она еще цыган потребует? – мелькнуло у него в голове. – Надо занять, надо у кого-нибудь занять, а то можно сконфузиться, ежели при расчете денег не хватит. Занять, занять… – повторял он мысленно. – Но у кого?»
Послав швейцара за тройкой к извозчику Булавкину, он, покуривая папироску, прохаживался по швейцарской и соображал, где бы занять денег. Положение было ужасное. Занять у Шлимовича на ужин, которым он же и будет угощать его, Шлимовича, было невозможно. Этим можно было испортить предполагаемый дальнейший более крупный заем. Взор Кости случайно упал на кассовое окно в швейцарской и на выглядывающую оттуда курчавую голову еврея-кассира.
«У него разве попробовать занять рублей пятьдесят?» – пробежало в голове Кости.
Медлить было некогда, и Костя, хоть и смущенный, подбежал к кассе.
– Я к вам, уважаемый Моисей Ильич… – начал он, обращаясь к кассиру. – Вот видите ли… Я сегодня не рассчитывал, совсем не рассчитывал, а мой кусок, эта самая Люлина, хочет ехать на тройке ужинать. А я не сообразил и не захватил… Денег в моем министерстве финансов только шестьдесят рублей. Дайте пятьдесят рублей до завтра или до послезавтра?
Кассир замялся, пожал плечами, растопырил пальцы рук, сделал кислую гримасу.
– Я не без процентов прошу, – продолжал Костя. – Возьмите за пятьдесят рублей ну, хоть шестьдесят, что ли. Да там я вам еще за кресло первого ряда должен, так туда же причтите. За кресло два рубля.
Гримаса исчезла с лица кассира.
– Ну, идите сюда в кассу и пишите расписку в шестьдесят пять рублей, – сказал он.
– Ну, вот спасибо, благодетель! – оживился Костя, юркнув в кассу. – Ей-ей, Моисей Ильич, не рассчитывал, что мой кусок задумает сегодня променаж за город, а то неужто бы я?.. – оправдывался Костя и сказал: – Ну, давайте сюда бумажку, и я черкну вам расписку. Вот шестьдесят рублей, у меня есть шестьдесят рублей, – раскрыл он бумажник и показывал деньги, – но разве можно с эдакими финансами ехать за город?
Расписка написана. Деньги вручены. Рукопожатие. Костя со всех ног бросился к Надежде Ларионовне.
– Где это вы, мальчик, пропадали? – встретила его та. – Никуда послать нельзя. Везде пропадете.
– Я за тройкой посылал… Сама же ты… – оправдывался Костя.
– Ну что же, привели тройку?
– Нет еще.
– Это ужас, как вы копаетесь! А мы здесь сидим и ждем. Ведите же нас в буфет, по крайности, и поите чаем да велите дюшесов подать.
– Сделайте одолжение. Адольф Васильич… Лизавета Николаевна… Пожалуйте в буфет, – засуетился Костя и повел их в буфет.
Через час компания неслась на тройке в «Аркадию». Морозная пыль, выбивающаяся из-под ног лошадей, так и обдавала Надежду Ларионовну. Надежда Ларионовна куталась в свое бархатное пальто, опушенное куницами, закрывала лицо муфтой и говорила:
– Хорош обожатель, нечего сказать! Не может хорошей теплой ротонды подарить и заставляет в пальтишке мерзнуть.
– Ах! – вздохнул сидевший против нее Костя. – Да ведь уж я сказал тебе, что будет у тебя ротонда.
– Когда? Когда морозы пройдут?
– Завтра, послезавтра все будет.
– Пора, пора вам Наде хорошую ротонду подарить, – поддакивала Лизавета Николаевна. – Певица такой успех имеет, такая любимица публики – и вдруг без меховой ротонды! Да будь Надя немножко поветренее, у ней завтра бы сразу две ротонды явились. Теперь она так себя через свой талант поставила, что всякий за честь считает хоть один пальчик ее поцеловать.
Костя молчал.
– И не диво бы, если человеку денег взять негде, – продолжала Надежда Ларионовна. – А то человек около денег и только не хочет постараться, не хочет похлопотать. – Боже мой! – проговорил наконец Костя. – Да ведь я сказал тебе, что у меня во время болезни дяди маленькое междометие насчет денег вышло. Ну, погоди чуточку… Всякий человек может быть несколько дней не при деньгах.
С банкирами случается. Ведь на ротонду нужно не сто, не двести рублей. Уж покупать, так покупать хорошую вещь.
– У кого денежное междометие, тот старается занять, чтобы утешить свой предмет, а ты и этого не хочешь. Чего ты боишься-то! Тебе дадут. Ты не нищий, не прощелыга. Прощелыги и те деньги достают, когда постараются. А просто ты ленивый мальчик. Робкий и ленивый. Попросту – дурак.
– Надюша! Зачем же так? И вдруг при всей публике! – конфузливо пробормотал Костя.
– Что такое: при всей публике! Здесь все свои. А конечно же дурак…
– Вовсе я не дурак. А понятное дело, если человек никогда не занимал, то ему дико и совестно. Да и кроме того… Минуточки свободной нет, пока дядя болен… Ведь он при смерти болен. Не ходит, не лежит, а только сидит. Просто отлучиться от него невозможно. Уж как я от него сегодня урвался – даже и не знаю. Все заставляет сидеть около себя, все заставляет божественные книжки ему читать. Знаешь, как я сегодня урвался? Хоть и совестно при Адольфе Васильиче говорить, а уж скажу, – кивнул Костя на Шлимовича. – Наврал ему, что сегодня надо идти в заседание конкурса одного несостоятельного должника. Узнает старик, что никакого заседания сегодня нет, – страх как рассердится, что я его надул, и никакого наследства не оставит…
– Пой, пой… – ударила его муфтой по носу Надежда Ларионовна. – Знаю я тебя. А я тебе вот что скажу – и это будет мой последний сказ: ежели на этой неделе у меня не будет всего того, что я прошу, то я тебя возьму да и брошу. Ты не веришь? Ей-ей, брошу. Плевать мне на тебя.
Ты думаешь, обожателей-то не найдется? Со всех сторон, батюшка, пристают, только стоит взглянуть на них поласковее. Видел, давеча у моей уборной изнывал брюнетик с бородавкой на щеке и в золотом пенсне? Так вот уж он давным-давно около меня увивается, и стоит мне только слово сказать, так и лошади у меня будут, и ротонда, и бриллиантовая брошка. Все, все будет. Стар он и неказист из лица, так ведь с лица не воду пить. Был бы добрый человек да баловал меня. Что мне такое лицо! Мне хоть бы песок да солил.
Лизавета Николаевна захохотала. Фыркнул и Шлимович.
Костя слушал и сидел как на иголках.
Наконец показались электрические фонари «Аркадии». Ямщик свистнул и погнал лошадей. Лошади понеслись вскачь и вскоре остановились у подъезда. Подбежали посыльные, какие-то люди в полушубках и передниках и начали высаживать из саней компанию. Костя выходил из саней тоже и чуть не плакал. Слезы давили ему горло. Нижняя губа тряслась.
Глава IX
Костя Бережков, Надежда Ларионовна, Шлимович и Лизавета Николаевна шли по зимнему саду ресторана «Аркадия». Перед ними в почтительной позе пятился задом поймавший их еще в прихожей круглолицый слуга – татарин во фраке и белом жилете с салфеткой под мышкой – и говорил:
– Отдельный кабинет вашим сиятельствам? Кабинет с роялем прикажете?
Костя лебезил около Надежды Ларионовны.
– Хочешь в кабинет, душечка, или желаешь ужинать в саду, чтобы музыку слушать? – спрашивал он.
– Конечно же, в кабинет. Что такое музыка? Музыка-то мне и у нас в театре надоела, – отвечала та.
– Кабинет! – скомандовал Костя.
– Пожалуйте, ваше сиятельство.
Компания очутилась в отдельном кабинете. Засуетились уж два лакея-татарина. Один сдергивал скатерть со стола и покрывал его свежею скатертью, другой зажигал канделябры.
– Чем просить прикажете, Адольф Васильевич? – обратился Костя к Шлимовичу. – Наденька… Лизавета Николаевна, чего прикажете?
– Всего, всего, – сказала Надежда Ларионовна. – Да уж угостите хоть раз-то в жизни по-настоящему. Пусть Адольф Васильич заказывает.
Шлимович сделал гримасу и, блеснув бриллиантовым перстнем, поскоблил пробритый подбородок.
– Съедим хорошенькую стерлядку, ежели не жаль денег, – отвечал он.
– Зажарить стерлядь! – крикнул Костя. – В сметане, Адольф Васильич, прикажете?
– Постойте, постойте. Кто же жарит стерлядь! Это ведь значит портить хорошее. Стерлядей разварных едят.
– Будто? Ну, так разварить.
– Ты вот что… Ты уж сам не суйся. Пусть Адольф Васильич один заказывает, – повторила Надежда Ларионовна. – Заказывайте, Адольф Васильич.
Были заказаны закуска, ужин и вина. Лакеи суетились, гремя тарелками. Лизавета Николаевна села за рояль и играла польку. Надежда Ларионовна отвела Костю в сторону и шепнула:
– Проси же денег у Шлимовича. Ведь затем и приехали.
– Погоди, Надюша. Просто язык не поворачивается. Пусть прежде подадут закуску. Хвачу я для храбрости рюмку-другую и уж тогда.
Подали закуску. Все подсели к столу.
– Адольф Васильич, по рюмочке… – предложил Костя. Выпили. Пили и дамы. Повторили, но Костя все еще не решался приступить к Шлимовичу насчет денег. Надежда Ларионовна дернула Костю за рукав и прошептала:
– Что ж ты?
– Сейчас.
– Пентюх! – обозвала она его презрительно и обратилась сама к Шлимовичу: – Костя хочет с вами о чем-то переговорить, Адольф Васильич, – сказала она.
– О чем? О чем? – спрашивал тот.
Костя смутился и покраснел.
– А разве Лизавета Николаевна ничего вам не говорила насчет меня? – спросил он, смотря в тарелку.
– Лизавета Николаевна? – протянул Шлимович. – Да, она говорила, что вы нуждаетесь в деньгах.
– Большая заминка насчет денег в нашем министерстве финансов. Изволите видеть, у нас все больше торговля в кредит, в кредит продаем, и деньги не всегда в кассе бывают. На наличные самые пустяки продаем.
– Знаю я торговлю вашего дяди.
– То есть получки есть, но они идут на оборот торговли. У дяди много свободных денег, но в оборот торговли он их не пускает. У него и дома, и все… но то само по себе… Свободные деньги отдельно, а торговые отдельно.
– Понимаю, понимаю.
– Попросту сказать, дядя его богат, как черт, но скуп и даже, можно сказать, скряга, – перебила Надежда Ларионовна.
– Скупенек-то скупенек, – согласился Костя. – Но все-таки он мне дает денег на житье и не запрещает, коли ежели в кассе достаточно. У дяди лавки отдельно, капиталы отдельно… Дома у него очень большой шкап, стоит около кровати… – Костя путался, но все-таки продолжал: – Ежели рассчитать дядины капиталы, то он и торгует-то только так… для прокламации.
– Как? – спросил Шлимович.
– Только для прокламации, чтобы какое-нибудь дело делать. Привык, ну и… А то ежели расчесть все его доходы по домам только… Ну, и значит, что для прокламации…
Серьезное лицо Шлимовича скривилось в улыбку.
– Я на его месте взял бы и плюнул на торговлю, закрыл бы лавочку. Ведь ежели бы мы кому-нибудь должны были, а то покупаем все на наличные, – рассказывал Костя. – У самих в кредите гуляет ужасть сколько, а сами… – Да говори ты прямо, – опять перебила его Надежда Ларионовна. – Ну чего ты о торговле-то Адольфу Васильичу размазываешь!
– Погоди, Надюша… Нельзя же вдруг… Надо все обстоятельно…
– Что «обстоятельно»! Мы не затем сюда приехали, чтобы о торговле слушать.
– Выпьемте, Адольф Васильич, еще по рюмке.
Выпили.
– По частям, конечно, можно из торговли брать, но в том-то и дело, что мне нужно теперь сразу побольше, – снова начал Костя. – Обратиться к старику – старик болен, можно даже сказать, при смерти… Сейчас разговоры: зачем? Почему? Да что, да как?.. Вы понимаете, Адольф Васильич?
– Да понимаю, понимаю.
– Вот оттого-то я к вам и обращаюсь. Не можете ли вы мне дать денег взаймы? – высказал наконец Костя.
Произошла пауза. Шлимович опять сделал гримасу, молчал и скоблил пробритый подбородок.
– Вот видите ли, – сказал он, растягивая слова. – Я сам денег не даю, я сам этим не занимаюсь.
Костя был облит как водой.
– Не занимаетесь? – проговорил он. – А мне сказали, что вы занимаетесь.
– Нет. Я комиссионер. Я подыскиваю таких людей, которые деньги дают, и свожу их с заемщиками, и, разумеется, беру за это комиссионные.
– Так, так… Так будьте добры порекомендовать меня. Я под вексель…
– Это уж само собой. Иначе нынче и не дают… Даже под вексель и без бланка-то трудно достать.
– Похлопочите уж, Адольф Васильич. Что нужно будет вам за хлопоты – я с удовольствием…
Костя схватил Шлимовича за руку и пожал ее.
– Сколько вам денег-то надо? – спросил Шлимович.
– Мне?..
Костя замялся и взглянул на Надежду Ларионовну.
– Да просите уже больше. Чего тут! – отвечала та.
– Просить можно, но можно ли достать – вот вопрос, – подмигнул ей Шлимович.
– Тут деньги верные. Он отдаст. Эдакий богатый дядя, да чтобы не отдать! Наконец, дядя – старик и при смерти. Умрет – все ему оставит.
– Сколько же вам надо? – повторил Шлимович, обращаясь к Косте.
– Дайте ему пять тысяч, – сказала Надежда Ларионовна.
– Нет, две, две… Две тысячи мне будет довольно, – подхватил Костя.
– Вот дурак-то! – всплеснула Надежда Ларионовна руками. – Да вы рассудите только: ведь вы должны мне ротонду меховую хорошую купить, должны брошку купить бриллиантовую…
– Позвольте, Надежда Ларионовна, – остановил ее Шлимович. – Я считаю так, что и две-то тысячи очень трудно будет мне достать для Константина Павлыча… Константин Павлыч? Так, кажется?
– Как ни зовите, лишь хлебом кормите. Но так, так. Достаньте, Адольф Васильич, две-то тысячи.
Шлимович снова поскоблил подбородок.
– Ежели и достану, то предупреждаю вас, что условия будут очень тяжелые, – отвечал он и опять сделал гримасу. – Я на все согласен. Только достаньте.
– Похлопочу и завтра же дам ответ. Только послушайте… Из разговоров ваших я успел заметить, что вам нужны деньги на меховую ротонду и на бриллиантовую брошку для Надежды Ларионовны.
– Вот, вот…
– Так зачем вам деньги? Я рекомендую вам лучше меховщика и бриллиантщика. Те продадут вам брошку и ротонду и возьмут с вас вексель, причтя к нему проценты. Разумеется, вы и мне за комиссию заплатите. Это гораздо проще будет. Проще и легче достать.
Костя задумался.
– Мне, Адольф Васильич, также и денег нужно. Я в деньгах нуждаюсь, – произнес он наконец.
– Денег? Вот денег труднее. Даже я так думаю, что без второго бланка совсем невозможно.
– Мне хоть бы рублей тысячу наличными. Ну, даже хоть пятьсот.
– Возьмите все товаром. Те же деньги. Вы человек торговый и должны это понимать. Возьмете товаром, то есть бриллиантами и мехами, – и продадите их. Ну, конечно, немного потеряете, так уж у хлеба не без крох – говорит русская пословица, – проговорил Шлимович.
– Бери, Костя, бери. Бери, коли дают, – пихала его в бок Надежда Ларионовна. – Главное уж то хорошо, что я ротонду и брошку сейчас же получу.
Костя чесал затылок.
– Ротонду и брошку я возьму, но, кроме того, мне денег надо, – пробормотал он.
– Ах, боже мой! Да не все ли равно, что деньги, что товар! – убеждал его Шлимович. – Чего вы стесняетесь-то! Ежели хотите, то я вам и покупщика потом найду.
– Да не надо нам и покупщика. Зачем продавать? Меха всегда пригодятся, – опять вставила свое слово Надежда Ларионовна и шепнула Косте: – Бери, Костя. Бери, коли дают. Денег потом где-нибудь в другом месте достанешь.
– Я согласен, – проговорил Костя. – По рукам и выпьемте!
Он протянул руку.
– Позвольте, позвольте… Выпить можно, но чтоб ударить по рукам, нужно прежде знать, будете ли вы согласны на условия займа, – откинулся на спинку стула Шлимович.
– Полторы копейки в месяц? – спросил Костя.
– Что? – усмехнулся Шлимович. – Полторы копейки в месяц – это мы считаем процентами коммерческими.
Нет, я так рассчитываю: если я вам за три процента в месяц достану товару, то и это будет уже хорошо.
– Три процента в месяц? – удивился Костя.
– А что же? Ведь вы не купец. По пяти берут.
– Соглашайся, Костя, соглашайся! Ну, что тут! – подбивала Надежда Ларионовна.
– Конечно же, соглашайтесь, – поддакнула Лизавета Николаевна и прибавила: – Ведь Адольф Васильевич еще ничего не знает. Если ему удастся для вас товару дешевле достать, то будет и дешевле.
Костя колебался.
– Ужасти какой несносный человек! – пожала плечами Надежда Ларионовна, бросив строгий взгляд на Костю.
– Согласен! – махнул рукой Костя. – Но когда я могу получить?
– Завтра ответ. Приду к вам в лавку и сообщу ответ, – сказал Шлимович и протянул руку к бутылке.
