автордың кітабын онлайн тегін оқу Летний сад
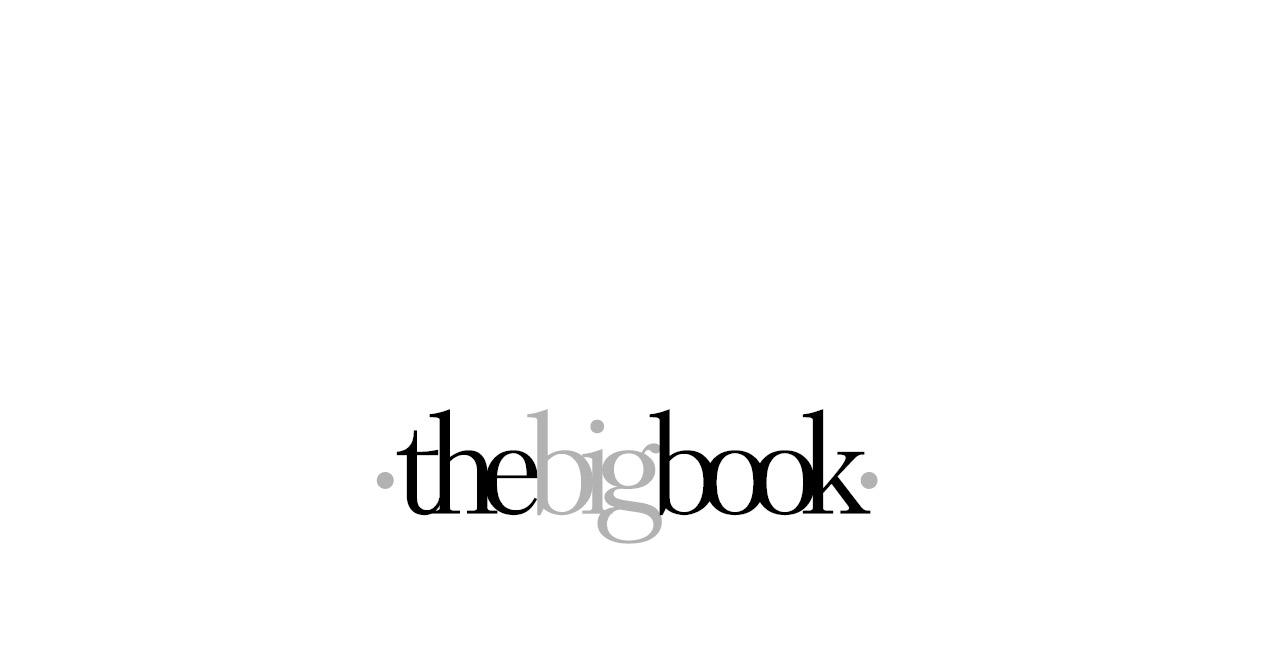
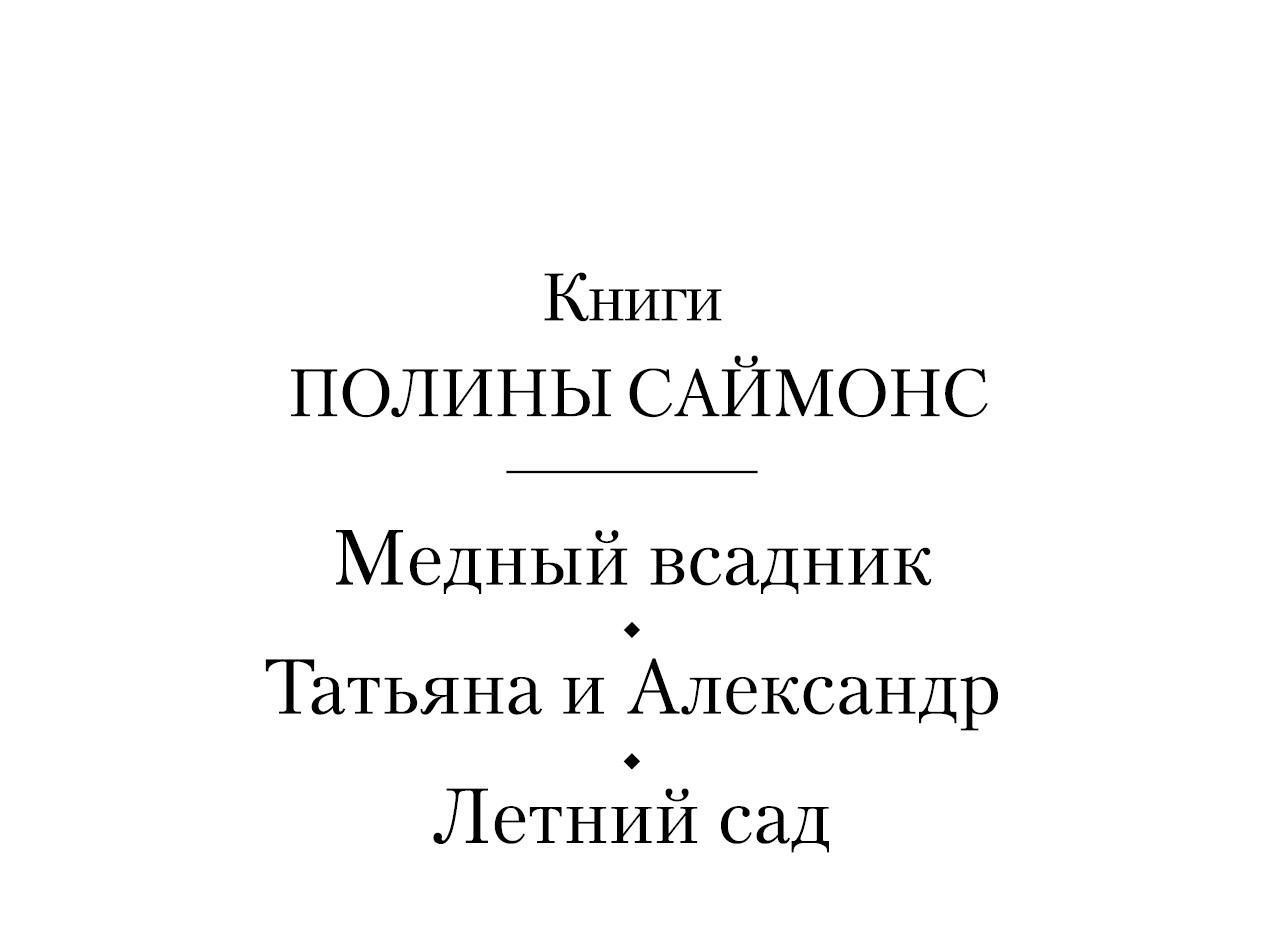

Paullina Simons
THE SUMMER GARDEN
Copyright © 2005 by Paullina Simons
All rights reserved
Перевод с английского Татьяны Голубевой
Оформление обложки Ильи Кучмы
Саймонс П.
Летний сад : роман / Полина Саймонс ; пер. с англ. Т. Голубевой. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — (The Big Book).
ISBN 978-5-389-30437-6
18+
Война и разлука позади. Татьяна и Александр, которые встретились в Ленинграде сорок первого, а потом расстались на долгие годы, снова вместе. Но где же прежнее счастье? Разве они не доказали друг другу, что их любовь сильнее мирового зла? У них растет чудесный сын, они живут в стране, которую сами выбрали. Однако оба не могут преодолеть разделяющее их отчуждение. Путь друг к другу оказывается тернистым; в США времен холодной войны царят страх и недоверие, угрожающие их семье. Татьяна и Александр перебираются из штата в штат, не находя пристанища, как перекати-поле, лишенное корней. Сумеют ли они обрести настоящий дом в послевоенной Америке? Или призраки прошлого дотянутся до них, чтобы омрачить даже судьбу их первенца?
«Летний сад» — завершающий роман трилогии Полины Саймонс, американской писательницы, которая родилась в Советском Союзе в 1963 году и через десять лет вместе с семьей уехала в США. Спустя многие годы Полина вернулась в Россию, чтобы найти материалы для своей книги и вместе с героями пройти сквозь тяжкие испытания, выпавшие на их долю.
Роман выходит в новом переводе.
© Т. В. Голубева, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Посвящается Кевину,
моему мистическому проводнику
У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион.
Там на ивах мы повесили наши арфы.
Там пленившие нас требовали от нас песен, притеснители наши требовали от нас веселья, говоря: «Спойте нам одну из песен Сиона».
Как нам петь песнь Господа в чужой земле?
Псалом 136 (137). Новый русский перевод
Это Песнь песней Соломонова.
Песнь Соломона

Здесь лотос чуть дрожит при каждом повороте,
Здесь лотос блещет меж камней...
Клянемтесь же, друзья, изгнав из душ тревоги,
Пребыть в прозрачной полумгле,
Покоясь на холмах, — бесстрастные как боги, —
Без темной думы о земле.
Альфред, лорд Теннисон
(Перевод К. Бальмонта)
Глава 1
Олений остров, 1946 год
Панцирь
Панцирь (существительное) — твердая толстая раковина или оболочка из кости или хитина, что прикрывает части тела животного, такого как лобстер.
Когда-то давно в Стонингтоне, в штате Мэн, перед рассветом, в конце горячей войны и перед началом холодной, молодая женщина в белом, внешне спокойная, но с дрожащими руками, сидела на скамье у залива и ела мороженое.
Рядом с ней сидел маленький мальчик и тоже ел мороженое; у него было шоколадное. Они время от времени разговаривали; мороженое таяло быстрее, чем женщина успевала есть. Мальчик слушал, как она напевает ему русский романс «Гори, гори, моя звезда», стараясь научить его словам, а он, дразня ее, путал строки. Они наблюдали за тем, как возвращались к берегу ловцы лобстеров. Женщина обычно слышала крики чаек еще до того, как видела сами лодки.
Дул легчайший ветерок, чуть шевеля волосы женщины вокруг лица. Несколько прядей выбились из длинной толстой косы, спадавшей через плечо. Она была светловолосой и миловидной, с прозрачной кожей и прозрачными глазами, веснушчатой. А у загорелого мальчика были черные волосы, и темные глаза, и пухлые детские ножки.
Они как будто сидели здесь без определенной цели, но так лишь казалось. Женщина сосредоточенно наблюдала за лодками на голубом горизонте. Она могла бы посмотреть на мальчика, на мороженое, но не сводила взгляда с залива, словно он притягивал ее.
Татьяна упивалась настоящим, потому что ей хотелось верить, что вчерашнего дня нет, что есть лишь мгновение здесь, на Оленьем острове — одном из длинных пологих островов, расположенных у побережья Центрального Мэна и связанных с континентом паромом или подвесным мостом. По такому мосту длиной в тысячу футов они ехали в своем доме на колесах, старом «номаде-делюкс». Катили через залив Пенобскот, вдоль Атлантики на юг, на самый край мира, в Стонингтон, маленький городок, приютившийся между дубовыми рощами на холмах у самой оконечности Оленьего острова. Татьяна, отчаянно пытавшаяся жить только настоящим, полагала, что нет ничего более прекрасного или мирного, чем эти белые деревянные домики, построенные на склонах вдоль узких грязных дорог и смотрящие на пространство волнующейся воды, за которым она наблюдала день за днем. Это покой. Это настоящее. Все почти так, словно ничего другого нет.
Но с каждым ударом сердца, когда чайки кружили и кричали, что-то вторгалось даже на Олений остров.
В тот день Татьяна и Энтони вышли из дома, чтобы поехать к заливу, и услышали громкие голоса по соседству.
Там жили две женщины, мать и дочь. Одной было сорок, второй двадцать.
— Они снова ругаются, — сказал Энтони. — Вот вы с папой никогда не ссоритесь.
Ссора!
Если бы они ссорились...
Александр ни на йоту не повышал голос. Если он вообще говорил с ней, то никогда не менял глубокого ровного тона, как будто подражал любезному, доброжелательному доктору Эдварду Ладлоу, когда-то любившему ее в Нью-Йорке, — надежному, верному доктору Эдварду. Александр старался приобрести похожие манеры.
Ссора могла бы потребовать пробуждения соучастия в другом человеке. В соседнем доме орали мать и дочь, по какой-то причине они, случалось, препирались в это время дня, и их крики доносились из открытых окон. Хорошая новость: муж и отец, полковник, только что вернулся с войны. Плохая новость: муж и отец, полковник, только что вернулся с войны. Они ждали его, с тех пор как он уехал в Англию в 1942 году, а теперь он здесь.
Он не принимал участия в ссоре. Энтони и Татьяна вышли на дорогу и увидели, что он поставил свою инвалидную коляску в заросшем переднем дворе и впитывал солнце Мэна, подобно какому-нибудь кусту, пока его жена и дочь бесновались в доме. Женщина с сыном приостановились, поравнявшись с его двором.
— Мам, а что с ним такое? — шепотом спросил Энтони.
— Он пострадал на войне.
У полковника не было ног, не было рук, остался лишь торс с обрубками да голова.
— А он может говорить?
Они были перед его воротами.
Внезапно мужчина произнес громко и отчетливо, голосом, привыкшим отдавать приказы:
— Он может говорить, но предпочитает этого не делать.
Энтони и Татьяна остановились перед воротами и несколько мгновений наблюдали за ним. Татьяна открыла защелку, они вошли во двор. Полковник склонился влево, как мешок, слишком тяжелый с одной стороны. Руки отсутствовали почти до локтей. Ноги были отрезаны почти полностью.
— Позвольте вам помочь. — Татьяна посадила его ровно, поправила подушки, что поддерживали его с боков. — Так лучше?
— А-а, — протянул мужчина. — Хоть так, хоть эдак... — Его маленькие голубые глаза уставились на ее лицо. — А вообще знаете, чего бы мне хотелось?
— Чего?
— Сигарету. Я теперь не могу курить; не могу поднести ничего ко рту, как видите. А они... — Он кивнул в сторону дома. — Они скорее сдохнут, чем дадут ее мне.
Татьяна кивнула:
— У меня найдется. Я сейчас вернусь.
Мужчина отвернулся от нее и посмотрел на залив:
— Не вернетесь.
— Вернусь. Энтони, — сказала она, — побудь с этим милым человеком, пока мама не вернется... всего минутку.
Энтони был только рад. Подхватив его, Татьяна посадила мальчика на колено полковника:
— Ты можешь держаться за его шею.
Когда она убежала за сигаретами, Энтони спросил:
— А как вас зовут?
— Полковник Николас Мур, — ответил мужчина. — Но ты можешь называть меня Ником.
— Вы были на войне?
— Да, я был на войне.
— Мой папа тоже, — сказал Энтони.
— Ох... — вздохнул мужчина. — Он вернулся?
— Вернулся.
Прибежала Татьяна и, раскурив сигарету, держала ее у рта Николаса, пока тот курил, глубоко вдыхая дым, как будто втягивал его не просто в легкие, а в самую свою сущность. Энтони сидел на обрубке его ноги, наблюдая за тем, как тот с наслаждением вдыхал дым и с неприязнью выдыхал, как будто не хотел расставаться с никотином. Полковник выкурил две сигареты подряд, и Татьяна склонялась над ним, держа их возле его рта.
Энтони сказал:
— Мой папа был майором, а теперь ловит лобстеров.
— Он капитан, сынок, — поправила его Татьяна. — Капитан.
— Мой папа был майором и капитаном, — сказал Энтони. — Мы собираемся съесть мороженое, пока будем ждать, когда он вернется с моря. Хотите, мы принесем вам мороженое?
— Нет, — ответил Ник, слегка наклоняя голову к черным волосам Энтони. — Но это для меня самые счастливые пятнадцать минут за восемнадцать месяцев.
В этот момент из дома выскочила его жена.
— Что вы тут делаете с моим мужем? — визгливо закричала она.
Татьяна подхватила Энтони на руки.
— Я приду завтра, — быстро сказала она.
— Не вернешься ты, — возразил Ник, уставившись на нее.
И вот теперь они сидели на скамье и ели мороженое.
Вскоре послышались далекие крики чаек.
— Это папа, — затаив дыхание, сказала Татьяна.
Суденышко представляло собой двадцатифутовый шлюп с парусом, хотя большинство рыболовецких судов были оснащены бензиновым мотором. Принадлежал он Джимми Шастеру, достался ему от отца. Джимми любил эту лодку, потому что мог в одиночку выходить на ней в море и ловить лобстеров сетью. «Работа для одного» — так он говорил. А потом его рука застряла в лебедке, попав под канат, что вытягивал тяжелую ловушку для лобстеров из воды. И чтобы высвободиться, ему пришлось отрезать себе руку у запястья, что спасло ему жизнь и избавило от участия в войне, — но теперь он не мог обойтись без помощников. Проблема заключалась в том, что все матросы в последние четыре года находились в Хюртгенском лесу и при Иводзиме.
Десять дней назад Джимми стал матросом. Сегодня он был на корме, а высокий молчаливый человек, сосредоточенный, в оранжевом комбинезоне и черных резиновых сапогах, — выпрямившись, стоял на носу и пристально смотрел на берег.
Татьяна, в белом хлопковом платье, поднялась со скамьи и, когда шлюп подошел достаточно близко, хотя и не к самому берегу, замахала руками, раскачиваясь из стороны в сторону. «Александр, я здесь, я здесь», — словно говорили ее руки.
Увидев ее наконец, он помахал в ответ.
Шлюп встал у торгового причала, ловушки открыли над баками. Спрыгнув вниз, высокий мужчина сказал, что вернется, чтобы разгрузиться и прибраться, быстро ополоснул руки под краном на причале и пошел вверх по склону от причала, к скамье, где сидели женщина и мальчик.
Ребенок побежал ему навстречу.
— Привет! — сказал он и застенчиво замер.
— Привет, дружок. — Мужчина не мог потрепать волосы Энтони: его руки были слишком грязными.
Под оранжевым прорезиненным комбинезоном на нем были темно-зеленые армейские штаны и зеленый армейский джемпер с длинными рукавами, пропитанный потом, рыбой и соленой водой. Черные волосы были подстрижены коротко, по-военному, худое вспотевшее лицо украшала черная щетина.
Он подошел к женщине в ослепительном белом, все так же сидевшей на скамье. Она подняла взгляд ему навстречу — и все поднимала и поднимала, потому что он был очень высок.
— Привет.
Это прозвучало как выдох. И она перестала есть мороженое.
— Привет. — К ней он не прикоснулся. — Твое мороженое тает.
— Ох, я знаю... — Она облизнула вафельный рожок, стараясь остановить капли, но толку в том не было: мороженое уже превратилось в густое молоко и продолжало вытекать. Он смотрел на нее. — Похоже, мне его никогда не съесть до того, как оно растает, — пробормотала она, вставая. — Хочешь оставшееся?
— Нет, спасибо.
Она еще немного откусила, потом бросила рожок в урну. Он показал на ее губы.
Она облизнула их, чтобы снять остатки ванильного молока:
— Так лучше?
Он не ответил. Спросил:
— Вечером у нас опять лобстеры?
— Конечно. Как пожелаешь.
— Я пока хочу вернуться обратно и закончить работу.
— Да, конечно. А нам, может, спуститься к причалу? Подождать тебя?
— Я хочу помочь, — заявил Энтони.
Татьяна энергично встряхнула головой. Ей потом будет не отмыть с мальчика рыбный запах.
— Ты такой чистый, — сказал Александр. — Почему бы тебе не остаться с матерью? Я скоро.
— Но я хочу помочь тебе.
— Ну, тогда спускайся, может, мы найдем для тебя какое-то дело.
— Только пусть не прикасается к рыбе, — пробормотала Татьяна.
Ей не слишком нравилась работа Александра в качестве ловца лобстеров. От него несло рыбой, когда он возвращался. Все, к чему он прикасался, пахло ею. Несколько дней назад, когда она слегка ворчала, почти поддразнивая его, он сказал:
— В Лазареве ты никогда не жаловалась на то, что я ловил рыбу. — И он не шутил. Наверное, она выглядела довольно мрачно, поскольку он добавил: — В Стонингтоне нет другой работы для мужчины. Если ты хочешь, чтобы от меня пахло по-другому, нам придется куда-нибудь переехать.
Татьяна не хотела переезжать. Они только что устроились здесь.
— А насчет другого... — сказал Александр. — Я не хочу снова заводить этот разговор.
Верно, не надо вспоминать Лазарево, другой момент у моря рядом с вечностью. Но он был — в старой, пропитанной кровью стране. В конце концов, Стонингтон — с его теплыми днями и прохладными ночами, с пространством спокойной соленой воды везде, куда ни посмотри, с серебристо-синим небом и пурпурными люпинами, отражавшимися в прозрачном заливе вместе с белыми лодками, — это было больше, чем они когда-либо желали. Это было даже больше, чем они могли вообразить.
Единственной здоровой рукой Джимми замахал Александру.
— И как у вас прошел день? — спросила Татьяна, стараясь поддерживать разговор, пока они спускались к причалу.
Александр был в своих тяжелых резиновых сапогах. Татьяна чувствовала себя невероятно маленькой рядом с ним, в его подавляющем присутствии.
— Хороший был улов?
— Неплохой. Хотя большинство лобстеров были слишком маленькими, пришлось их выпустить. И много самок с икрой, их тоже отпустили.
— Тебе не нравятся самки с икрой? — Татьяна придвинулась чуть ближе, глядя на него снизу вверх.
Слегка моргнув, он шагнул в сторону:
— Они хороши, но их нужно отпустить в воду, чтобы они могли метать икру. Не подходи так близко, я грязный. Энтони, мы не сосчитали лобстеров. Поможешь их сосчитать?
Джимми любил Энтони.
— Приятель! Иди сюда. Хочешь посмотреть, сколько лобстеров поймал сегодня твой папа? Похоже, у нас их сотня, так что пока это лучший день.
Татьяна сумела заглянуть в глаза Александру.
Он пожал плечами:
— Когда мы находим в одной ловушке двенадцать лобстеров, а отпускать приходится десять, я не стал бы считать это хорошим днем.
— Два законных в одной ловушке — это отлично, Александр! — заявил Джимми. — Не беспокойся, ты это поймешь. Иди сюда, Энтони, посмотри на них!
Сохраняя уважительную дистанцию, Энтони заглянул в бак, где лобстеры, уже связанные и измеренные, карабкались друг на друга. Он говорил своей матери, что его не пугают их клешни, тем более связанные. В особенности после того, как отец объяснил ему:
— Они каннибалы, Энт. Им нужно связывать клешни, иначе они начнут есть друг друга прямо в цистерне.
Энтони спросил нарочито ровным тоном:
— Так вы уже сосчитали их?
Александр качнул головой, глядя на Джимми.
— Ох, нет-нет, — поспешно ответил тот. — Я был занят, поливал палубу из шланга. Я лишь приблизительно назвал их число. Хочешь сосчитать?
— Я не умею считать дальше двадцати семи.
— Я тебе помогу, — предложил Александр.
Поднимая лобстеров по одному, он позволял Энтони считать их, пока тот не доходил до десяти, а потом осторожно, чтобы не поломать клешни, складывал их в большие синие переноски.
Наконец Александр сказал Энтони:
— Сто два.
— Вот видишь? — обрадовался Джимми. — Четыре для тебя, Энтони. Тогда мне останется девяносто восемь. И все они отличные, большие, как полагается, с пятидюймовым панцирем — ну то есть их раковиной, приятель. Мы получим за каждого по семьдесят пять центов. Твой папа добыл сегодня для меня почти семьдесят пять долларов. Да, — добавил он. — Благодаря твоему папе я наконец могу зарабатывать на жизнь.
Он посмотрел на Татьяну, стоявшую на безопасном расстоянии от брызг воды из-под лодки. Она вежливо улыбнулась; Джимми коротко кивнул, но не улыбнулся в ответ.
Пока на рыбном рынке не начали собираться покупатели — из небольших магазинов, из ресторанов рыбных блюд, даже из курортного Бар-Харбора, — Александр мыл и приводил в порядок лодку, чистил ловушки, сворачивал канаты и ходил в конец причала, чтобы купить три бочонка сельди для приманки на следующий день, — рыбу он сложил в сетки и опустил в воду. Селедки в этот день поймали много: у него теперь было достаточно приманки для ста пятидесяти ловушек.
Он получил десять долларов за дневную работу и уже тщательно мыл руки очень крепким мылом под краном на причале, когда к нему подошел Джимми.
— Хочешь подождать и вместе со мной продать их? — Он показал на лобстеров. — Я тебе заплачу еще два доллара. А потом мы сможем выпить.
— Я не могу, Джимми. Но спасибо. Может, в другой раз.
Джимми снова посмотрел на Татьяну, солнечную и белую, и отвернулся.
Они пошли вверх по холму к своему дому.
Александр отправился принять ванну, побриться, подстричь волосы, а Татьяна, положив лобстеров в холодильник, чтобы усыпить их, вскипятила воду. Готовить лобстеров было очень легко, десять-пятнадцать минут в соленой воде. Они были очень вкусными, приятно было взламывать клешни, доставая мясо, кладя его в растопленное масло. Но иногда Татьяна думала, что скорее предпочла бы потратить на лобстеров два доллара в рыбной лавке раз в месяц, чем видеть, как Александр каждый день тратит тринадцать часов на лодке и получает четыре лобстера бесплатно. Это совсем не выглядело бесплатным. Прежде чем он вышел из ванной, она встала у двери, осторожно постучала и спросила:
— Тебе что-нибудь нужно?
За дверью было тихо. Она постучала громче. Дверь открылась, он навис над ней, свежий и выбритый, уже одетый. На нем были чистый зеленый джемпер и армейские штаны. Татьяна откашлялась и опустила взгляд. Когда она была босиком, ее губы находились на уровне его сердца.
— Что-нибудь нужно? — повторила она шепотом, чувствуя себя такой ранимой, что ей стало трудно дышать.
— Все в порядке, — ответил он, обходя ее. — Давай поедим.
Они ели лобстеров с растопленным маслом и морковью, луком и картофельным пюре. Александр съел трех лобстеров, бо́льшую часть пюре, хлеба и масла. Татьяна нашла его в Германии полностью истощенным. И теперь он ел за двоих, но все равно оставался очень худым. Она подкладывала еду на его тарелку, наполняла его стакан. Он пил пиво, воду, колу. Они тихо ели в маленькой кухне, которой домовладелица позволила им пользоваться, если они освободят ее до семи или будут готовить ужин и для нее. Они уходили до семи, и еще Татьяна оставляла ей немного пюре.
— Александр, у тебя... боль в груди?
— Нет, все в порядке.
— Вчера вечером чувствовалось — немного мягковато... — Она отвела взгляд, вспоминая прикосновение. — Еще не зажило до конца, а ты постоянно занимаешься этими ловушками. Мне не хочется, чтобы инфекция вернулась. Может, следует наложить повязку с фенолом?
— Я в порядке.
— Может, заново перевязать?
Он промолчал, просто посмотрел на нее, и на мгновение между ними, между его бронзовыми глазами и ее сине-зелеными, проскочило прошлое: Берлин, комната в помещении американской армии... Посольство, где они провели ночь, которая, как оба были уверены, была их последней ночью на земле, когда она зашивала его изодранную грудную мышцу и плакала, а он сидел неподвижно, как камень, и смотрел сквозь нее — почти как сейчас. И тогда он сказал ей: «...У нас никогда не было будущего».
Татьяна первой отвела взгляд — она всегда отводила его первой — и встала.
Александр вышел наружу, чтобы посидеть на стуле перед домом на холме, смотрящем на залив. Энтони потащился за ним. Александр сидел молча и неподвижно, а Энтони носился по заросшему двору, подбирал камни, сосновые шишки, искал червяков, пчел, божьих коровок.
— Ты не найдешь сейчас божьих коровок, сынок. Их сезон в июне, — сказал наконец Александр.
— А-а, — откликнулся Энтони. — Тогда что вот это?
Наклонившись вбок, Александр присмотрелся:
— Я не вижу.
Энтони подошел ближе.
— Все равно не вижу.
Энтони подошел еще, протягивая руку, подняв указательный палец с божьей коровкой.
Лицо Александра было уже в нескольких дюймах от нее.
— Хм... Все равно не вижу.
Энтони посмотрел на божью коровку, потом на отца и медленно, застенчиво забрался к нему на колено, чтобы снова показать насекомое.
— Ладно-ладно, — сказал Александр, обнимая мальчика обеими руками. — Теперь вижу. Вынужден признать. Ты был прав. Божьи коровки в августе. Кто бы подумал?
— А ты раньше видел божьих коровок, пап?
Александр помолчал.
— Очень давно, рядом с городом, который называется Москва.
— Это в... Советском Союзе?
— Да.
— Там у них есть божьи коровки?
— У них были божьи коровки — пока мы их всех не съели.
Энтони вытаращил глаза.
— Просто больше нечего было есть, — пояснил Александр.
— Энтони, твой отец просто шутит, — сказала Татьяна, выходя из дома и вытирая влажные руки чайным полотенцем. — Он старается быть забавным.
Энтони всмотрелся в лицо Александра:
— Это было забавно?
— Таня, — рассеянно произнес Александр, — мне не встать. Можешь принести мне сигареты?
Она быстро ушла и вернулась с сигаретами. Поскольку стул здесь был только один и сесть ей было негде, она вложила сигарету в губы Александра, наклоняясь над ним, положив руку ему на плечо, зажгла ее, а Энтони тем временем положил жучка на ладонь Александра:
— Пап, не ешь эту божью коровку! — Маленькая ручка обвилась вокруг шеи Александра.
— Не стану, сынок. Я сыт.
— А вот что забавно, — сказал Энтони. — Мы с мамой сегодня познакомились с одним человеком. Полковником. Его зовут Ник Мур.
— О, вот как? — Александр смотрел вдаль, глубоко затягиваясь сигаретой из руки Татьяны, все так же склонявшейся над ним. — И каков он?
— Он был похож на тебя, папа, — ответил Энтони. — Просто похож на тебя.
Красный лак для ногтей
Посреди ночи мальчик проснулся и закричал. Татьяна подошла к нему, чтобы успокоить. Он утих, но не захотел оставаться один в своей кровати, хотя ее отделяла от родительской лишь ночная тумбочка.
— Александр, — шепотом окликнула она, — ты не спишь?
— Уже нет, — ответил он, вставая.
Отставив в сторону тумбочку, Александр сдвинул вместе кровати, чтобы Энтони лежал рядом с матерью. Они постарались устроиться поудобнее, он лег у стены, обняв Татьяну, а Татьяна обняла Энтони, который тут же заснул. Татьяна же лишь сделала вид, что тоже спит. Она знала, что через мгновение Александр поднимется с постели.
И действительно, через мгновение он ушел. Она прошептала ему вслед: «Шура, милый...» И через несколько минут тоже встала, набросила халат и вышла из дома. Его не было ни в кухне, ни во дворе. Татьяна искала его всю дорогу вниз до причала. Он сидел на скамье, где обычно сидела сама Татьяна, ожидая возвращения Александра с моря. Она увидела вспышку его сигареты. Он был в одних солдатских штанах и дрожал. Обхватив себя руками, он раскачивался взад-вперед.
Татьяна остановилась.
Она не знала, что делать.
Она никогда не знала, что делать.
Развернувшись, Татьяна ушла в спальню. Она лежала в постели, не моргая смотрела куда-то через голову спящего Энтони, пока Александр не вернулся, замерзший и дрожащий, и не устроился рядом с ней. Она не шевельнулась, а он ничего не сказал, не издал ни звука. Лишь его холодная рука обняла ее. Они лежали так до четырех утра, когда он встал, чтобы отправиться на работу. Пока он размалывал в ступке кофейные зерна, она намазала для него маслом свежую булочку, набрала воду во фляжки и приготовила сэндвич, чтобы он взял его с собой. Он поел, выпил кофе, а потом ушел, но перед этим его свободная рука на мгновение скользнула под ее сорочку, задержалась на ягодицах и между ногами...
Они пробыли на Оленьем острове ровно пять минут, вдохнули полуденный соленый воздух, увидели рыбацкие лодки, что возвращались к берегу, — и Татьяна тут же сказала, что месяца на это место не хватит. Прежде они договорились, что в каждом штате проведут месяц, а после отправятся дальше. Сорок восемь штатов, сорок восемь месяцев, начиная с Оленьего острова.
— Месяца будет недостаточно, — повторила она, когда Александр промолчал.
— В самом деле? — наконец пробормотал он.
— Тебе не кажется, что здесь замечательно?
В ответ по его губам скользнула короткая ироническая улыбка.
На первый взгляд в Стонингтоне было все, что нужно: универсальный магазин, галантерейный магазин, хозяйственный магазин. В универмаге продавали и газеты, и журналы, и, что куда важнее, сигареты. Здесь имелись также кофейные зерна и шоколад. На севере и юге Оленьего острова держали коров — а следовательно, имелись молоко, сыр и масло, — а также и кур, которые несли яйца. Грузовые суда доставляли зерно. Хлеба было в достатке. И много яблок, груш, слив, бобов, помидоров, огурцов, лука, моркови, турнепса, редиса, баклажанов, цукини. И изобилие дешевых лобстеров, форели, разной морской и речной рыбы. И даже говядина и цыплята, хотя они их и не ели никогда. Кто бы мог поверить, что эта страна прошла через Великую депрессию и мировую войну?
Александр сказал, что на десять долларов в день не прожить.
Татьяна заявила, что этого будет достаточно.
— А как насчет туфель на высоком каблуке? И платьев для тебя? Кофе? А мои сигареты?
— На сигареты определенно не хватит. — Татьяна заставила себя улыбнуться при виде его лица. — Я шучу. Этого хватит на все.
Она не хотела упоминать о том, что сумма, которую он тратит на сигареты, почти равняется той, что они тратят на еду для всех троих в течение недели. Но зарабатывал ведь только Александр. И он мог тратить свои деньги так, как ему хотелось.
Когда она пила воскресный кофе, она говорила с ним на английском. А он отвечал на русском, выкуривая воскресные сигареты и читая воскресную газету.
— В Индокитае назревают волнения, — сказал он по-русски. — Там властвовали французы, но во время войны отдали все Японии. Японцы проиграли войну, но уходить оттуда не желают. Французы, спасенные победителями и вставшие на их сторону, хотят вернуть свои колонии. Японцы возражают. Соединенные Штаты, оставаясь нейтральными, помогают своей союзнице Франции, но они буквально стоят между молотом и наковальней, потому что помогают и Японии тоже.
— Мне казалось, Японии теперь не разрешается иметь армию? — спросила по-английски Татьяна.
Он ответил по-русски:
— Верно. Но у них есть постоянная армия в Индокитае, и, пока Штаты их не вынудят, они не сложат оружие.
Татьяна спросила на английском:
— А почему тебя все это интересует?
Он ответил по-русски:
— А-а... видишь ли... как будто и без того мало проблем... но ведь Сталин десятилетиями обхаживал этого крестьянина Хо Ши Мина, платил за его короткие образовательные поездки в Москву, поил водкой и кормил икрой, учил марксистской диалектике и отдавал ему кое-что из старых пистолетов-пулеметов Шпагина и минометов и даже неплохие американские «студебекеры», полученные по ленд-лизу, а заодно тренировал и обучал прямо на территории Советов его небольшую банду вьетконговцев.
— Учил их воевать с японцами, с которыми Советы воевали и которых ненавидели?
— Можешь не поверить, но это не так. Воевать с прежним союзником Советов, колониальной Францией. Ирония? — Александр загасил сигарету, отложил газету. — А где Энтони? — тихо спросил он по-английски, но не успел даже потянуться к руке Татьяны, как в кухню вошел Энтони.
— Я здесь, пап. А что?
Им нужна была комната, где они могли бы просто побыть вдвоем, но Энтони так не думал, и, кроме того, у старой домовладелицы такой комнаты не было. У них был выбор между крошечной комнатой рядом с кухней, в узком вертикальном домике, смотрящем на залив, с двумя двуспальными кроватями, с ванной и туалетом в конце коридора, — и их собственным домом на колесах, с одной кроватью, без ванны и без туалета.
Они заглядывали и в другие дома. В одном жила семья из пяти человек. В другом — из трех. В третьем ютились семеро, и все женщины. Поколения и поколения женщин, заполнявших белые домики, и старики, уходившие в море. И молодые мужчины — кто-то цел и невредим, кто-то нет, — понемногу возвращавшиеся с войны.
Миссис Брюстер жила одна. Ее единственный сын не вернулся, хотя Татьяна не думала, что он воевал. Какая-то фальшь звучала в словах старой леди: «О, ему пришлось уехать на какое-то время». Ей было шестьдесят шесть лет, и сорок восемь из них она вдовствовала: ее муж погиб на испано-американской войне.
— В тысяча восемьсот девяносто восьмом? — шепотом спросила Александра Татьяна.
Он пожал плечами. Его тяжелая рука слегка сжала плечо Татьяны, давая понять, что ему не слишком нравится миссис Брюстер, но Татьяне все равно было радостно ощутить его прикосновение.
— Это ваш муж, да? — с подозрением спросила миссис Брюстер, прежде чем решилась сдать им комнату. — Он не из... — Она неопределенно помахала рукой. — Потому что мне не хотелось бы иметь такого жильца в моем доме.
Александр молчал. Трехлетка спросил:
— Иметь кого?
Домовладелица прищурилась, глядя на Энтони:
— Это твой отец, малыш?
— Да, — ответил Энтони. — Он солдат. Он был на войне и в тюрьме.
— Да, — сказала миссис Брюстер, отводя взгляд. — Тюрьма — это тяжело. — Потом она прищурилась, повернувшись к Татьяне. — Что это у вас за акцент? По мне, так не американский.
Энтони чуть было не сказал:
— Рус...
Но Александр быстро загородил собой жену и сына:
— Так вы сдадите нам комнату или нет?
Она сдала комнату.
А теперь Александр спросил Татьяну:
— Зачем мы купили фургон, если не собираемся в нем жить? Мы могли бы и продать его. Напрасная трата денег.
А что бы они делали, когда попали в пустыню на западе, — хотелось бы знать Татьяне. В белые холмы Калифорнии? В Адский каньон в Айдахо? Несмотря на свою внезапную бережливость, Александр не продал дом на колесах, мечта о нем была еще свежа. Но в том-то и заключалась суть: хотя Татьяна знала, что Александру нравилась идея дома на колесах и именно он хотел купить его, ему не слишком нравилась реальность.
У Татьяны сложилось впечатление, что многое в его новой, гражданской жизни вызывало у него те же чувства.
В фургоне не было проточной воды. А Александр постоянно мыл то одну часть своего тела, то другую. Это стало результатом того, что он слишком много лет находился слишком близко от других людей. Он маниакально мыл руки; конечно, на них почти постоянно были следы рыбы, но в штате Мэн просто не было достаточно мыла, или лимонов, или уксуса, чтобы руки стали достаточно чистыми, по мнению Александра. Им приходилось платить миссис Брюстер лишних пять долларов в неделю за ту воду, что они расходовали.
Александру, возможно, нравилась идея иметь сына, но теперь рядом постоянно находился трехлетний мальчик, который никогда не отходил от матери и спал в одной комнате с ними! И забирался к ним в постель ночами. Нет, это было слишком для солдата, никогда не общавшегося с детьми.
— Ночные кошмары трудно вынести такому малышу, — объясняла Татьяна.
— Я понимаю, — очень вежливо отвечал Александр.
Возможно, когда-то Александру нравилась мысль о том, чтобы обзавестись женой, но насчет реального положения дел... Татьяна и в этом не была уверена. Может, он каждый их день искал Лазарево, но, судя по тому, как он себя вел, Татьяна вполне могла ожидать в ответ: «Какое Лазарево?»
Его глаза, прежде имевшие карамельный оттенок, стали холодными, медными, жесткими и невыразительными. Он вежливо поворачивался к ней лицом, она вежливо поворачивалась к нему. Он хотел тишины — она была тихой. Он хотел веселья — она старалась быть забавной. Он хотел еды — она кормила его до отвала. Он хотел прогуляться — она была готова идти. Ему нужны были газеты, журналы, сигареты — она приносила все. Он хотел молча посидеть на своем стуле — она молча сидела на полу рядом с ним. Все, чего он хотел, она готова была дать ему в то же мгновение.
Теперь, в середине солнечного дня, Татьяна стояла босиком перед зеркалом, в желтом полупрозрачном муслиновом платье, как у крестьянской девушки, — оценивала, определяла, изучала.
Ее волосы были распущены. Лицо тщательно вымыто, зубы чисты и белы. Летние веснушки на носу и щеках были цвета тростникового сахара, зеленые глаза сияли. Она втерла в руки шоколадное масло, чтобы смягчить их, — на случай если он возьмет ее за руку, когда они пойдут после ужина прогуляться по Мейн-стрит. Она капнула за уши мускусного масла, на случай если он наклонится к ней. Наложила немного блеска на пухлые губы и сжала их, чтобы они стали мягче и розовее. И стояла, глядя, раздумывая. Фальшиво улыбнулась, чтобы губы не выглядели надутыми, и вздохнула.
Ее ладони скользнули под платье и обхватили грудь. Соски затвердели. После рождения Энтони тело изменилось. После кормления ее грудь благодаря питательной американской еде не потеряла полноты. Несколько бюстгальтеров, имевшихся у Татьяны, теперь ей не подходили, ей было в них неловко. Вместо лифчика она иногда надевала белые обтягивающие майки, достаточно плотные, чтобы поддерживать грудь, которая имела обыкновение покачиваться на ходу, привлекая взгляды. Необязательно мужа, просто мужчин вроде молочника.
Она медленно приподняла грудь, чтобы посмотреть в зеркало на свои стройные округлые бедра, на гладкий живот. Татьяна была худощава, но все линии ее тела словно округлились после рождения Энтони — будто она перестала быть девочкой в тот момент, когда он вошел в этот мир.
Но она была девочкой со скромной грудью, когда военный с винтовкой за спиной увидел ее и перешел улицу.
Она спустила легкие трусики, чтобы рассмотреть треугольник светлых волос. Прикасалась к себе, пытаясь представить, что он мог почувствовать, когда впервые дотронулся до нее. Заметив кое-что в зеркале, Татьяна присмотрелась, потом наклонила голову, чтобы глянуть на ноги. На внутренней стороне бедер виднелись маленькие свежие синяки — следы его пальцев.
При виде их Татьяна ощутила живое биение в чреслах и тут же выпрямилась, со вспыхнувшим лицом поправила одежду и принялась расчесывать волосы, решая, что с ними делать. Александр никогда прежде не видел ее волосы такой длины: они теперь падали до поясницы. Она подумала, что ему это понравится, но он как будто и внимания не обратил. Татьяна знала, что цвет и фактура ее волос не были естественными. Она восемь месяцев назад, перед поездкой в Европу, покрасила их в черный цвет, потом старательно высветлила в прошлом месяце в Гамбурге, и теперь они были сухими и ломкими. Перестали быть шелковистыми. Может, он поэтому к ним не прикасался? Она не знала, что с этим делать.
Татьяна заплела обычную косу, оставив пряди спереди и длинный свободный конец сзади, перевязала желтой атласной лентой, на случай если он все же коснется ее волос. Потом позвала Энтони, игравшего в пыли снаружи, умыла его, убедилась, что на шортах и рубашке нет пятен, поправила ему носки.
— Зачем ты возишься в грязи, Энтони, как раз перед тем, как мы идем к папе? Ты знаешь, что должен быть аккуратным ради него.
Александру нравилось видеть жену и сына в полном порядке, когда они приходили встретить его на причале. Татьяна знала, что он доволен, когда они выглядят аккуратно, подтянуто, радостно.
Цветы в Стонингтоне выглядели ошеломляюще — высокие мерцающие люпины играли пурпурными и голубыми оттенками; Татьяна с Энтони собрали недавно немного, и теперь Татьяна вплела один в прическу — пурпурный, как сирень, по контрасту с ее золотистыми волосами, потому что раньше ему и это нравилось.
Она внимательно осмотрела свои ногти, убеждаясь в их чистоте. Оба они ненавидели грязные ногти. Теперь, когда Татьяна бросила работу и Александр был с ней, она отрастила ногти немного длиннее, потому что (хотя он никогда ничего не говорил) он молча откликался на легкие прикосновения ее ногтей.
В тот день у нее было несколько минут, и она покрасила их красным лаком.
Тогда он ничего не сказал о ногтях. (Или о сиреневых люпинах, атласе в волосах, о ее губах, бедрах, груди, белоснежных трусиках.) На следующий день спросил:
— Это в Стонингтоне продается такой изумительный лак для ногтей?
— Я не знаю. Этот я привезла с собой.
Он молчал так долго, что Татьяна подумала: он ее не слышал.
— Ну, это должно было понравиться всем инвалидам Нью-Йоркского университета.
Ах, это уже какое-то соучастие... Небольшое... но это начало. Но что на это ответить? «Это не для инвалидов»? Она понимала, что это некая ловушка, код, говоривший: «Если сиделкам не разрешается красить ногти, зачем ты купила этот лак, Татьяна?»
Позже тем вечером, за кухонным столом, она стерла лак ацетоном. Когда он увидел, что лак исчез, сказал:
— Мм... Значит, другие инвалиды не оценили красные ногти?
Она подняла на него взгляд.
— Ты шутишь? — спросила она, и у нее задрожали кончики пальцев.
— Конечно, — ответил он без намека на улыбку.
Татьяна выбросила красный нью-йоркский лак, кокетливые послевоенные нью-йоркские платья с рюшами, нью-йоркские блестящие туфли на высоком каблуке от «Феррагамо». Что-то происходило с Александром, когда он видел ее в нью-йоркской одежде. Она могла бы спросить, в чем дело, а он бы ответил, что ни в чем, и это было бы все, что он сказал бы. Поэтому Татьяна выкинула эти вещи и купила желтое муслиновое платье, и хлопковое платье в цветочек, и белое облегающее платье, и голубое — уже в Мэне. Александр все равно ничего не говорил, но стал менее молчаливым. Теперь он разговаривал с ней о разном, вроде Хо Ши Мина и его военных банд.
Она старалась, старалась быть забавной с ним, как прежде.
— Эй, хочешь услышать шутку?
— Конечно расскажи.
Они шли вверх по холму к Стонингтону следом за пыхтящим Энтони.
— Один человек много лет молился о том, чтобы попасть в рай. Однажды он шел по узкой тропе в горах, споткнулся и упал в пропасть. Но каким-то чудом зацепился за чахлый куст и закричал: «Кто-нибудь! Пожалуйста, помогите! Есть там кто-нибудь?» И через несколько минут ему ответил голос: «Я здесь». — «Ты кто?» — «Господь». — «Если ты Бог, сделай что-нибудь!» — «Послушай, ты так долго просил привести тебя в рай! Так просто разожми пальцы — и тут же очутишься в раю». Немного помолчав, человек крикнул: «Есть тут кто-нибудь другой? Прошу... помогите!»
Сказать, что Александр не засмеялся над анекдотом, было бы ничего не сказать.
У Татьяны дрожали руки, когда бы она ни думала о нем. Она дрожала дни напролет. Она ходила по Стонингтону как во сне, напряженная, неестественная. Она склонялась к сыну, выпрямлялась, поправляла платье, приглаживала волосы... Но нервное ощущение в животе не утихало.
Татьяна старалась быть немножко дерзкой с ним, меньше его бояться.
Он никогда не целовал ее на глазах у Джимми или других рыбаков, вообще на виду у кого-либо. Иногда вечерами, когда они гуляли по Мейн-стрит и заглядывали в магазинчики, он мог купить ей шоколадку, и она поднимала голову, чтобы поблагодарить его, и тогда он мог поцеловать ее в лоб. В лоб!
Как-то вечером Татьяна, устав от этого, вскочила на скамейку и обняла его.
— Хватит уже! — воскликнула она и поцеловала его в губы.
В одной руке он держал сигарету, в другой — мороженое Энтони, и ему ничего не оставалось, как прижаться к ней.
— Слезь сейчас же, — тихо сказал он, мягко отвечая на поцелуй. — Что это на тебя нашло?
Господа присяжные, леди и джентльмены, я представляю вам солдата!
Бродя вместе с Энтони по холмам Стонингтона, Татьяна познакомилась с женщинами, работавшими в магазинах, и мальчиками, развозившими молоко. Она подружилась с одной фермершей на Истерн-роуд; той было слегка за тридцать, а ее муж, морской офицер, все еще продолжал воевать с Японией. Нелли каждый день наводила порядок в доме, выдергивала сорняки в палисаднике, а потом сидела на скамейке перед домом в ожидании мужа — так Татьяна с ней и познакомилась, просто проходя мимо с сыном. После того как они поболтали пару минут, Татьяна пожалела эту женщину: та живо напомнила ей ее собственные горести, — а потом спросила у Нелли, нужна ли ей помощь на ферме. У той имелся акр земли, где росли картофель, томаты и огурцы. Татьяна кое-что понимала в этом.
Нелли с радостью согласилась, сказала, что может платить Татьяне два доллара в день из армейского жалованья мужа.
— Это все, что я могу пока что себе позволить, — пояснила она. — Когда мой муж вернется, я смогу платить вам больше.
Но война кончилась уже год назад, а от него все еще не было вестей. Татьяна твердила, что не стоит беспокоиться.
Как-то за кофе Нелли слегка разоткровенничалась:
— А что, если он вернется, а я не буду знать, как с ним разговаривать? Мы были совсем недолго женаты, когда он отправился на войну. Вдруг окажется, что мы совсем чужие друг другу?
Татьяна покачала головой. Ей было знакомо такое.
— А твой муж когда вернулся? — с легкой завистью спросила Нелли.
— Месяц назад.
— Повезло тебе.
Вмешался Энтони:
— Папа не возвращался. Он никогда не возвращался. Мама мне позволяет его искать.
Нелли непонимающе уставилась на Энтони.
— Энтони, пойди поиграй минутку снаружи. Дай нам с Нелли договорить.
Татьяна растрепала волосы Энтони и выставила его за дверь.
— Уж эти детишки в наши дни... Ты их учишь думать, что говоришь. Я даже не поняла, о чем это он.
В тот вечер Энтони сообщил Александру, что мама нашла работу. Александр задал ему несколько вопросов, и Энтони, радуясь тому, что его расспрашивают, рассказал Александру о Нелли, и ее картошке, и помидорах, и огурцах, и о ее муже, которого дома нет, и как Нелли придется отправиться искать его.
— Вот как мама поехала и нашла тебя.
Александр перестал спрашивать. Он лишь сказал после ужина:
— Мне казалось, ты говорила, что мы проживем на десять долларов в день.
— Это просто для Энтони. На его леденцы и мороженое.
— Нет. Я буду работать вечерами. Если я помогу продавать лобстеров, будет еще два доллара.
— Нет! — Татьяна тут же понизила голос. — Ты и так много работаешь. Очень много. Нет. А мы с Энтони все равно целыми днями играем.
— Это хорошо, — кивнул он. — Играйте.
— У нас есть время на все. Мы с ним будем рады ей помочь. И, кроме того, — добавила Татьяна, — она так одинока.
Александр отвернулся. И Татьяна отвернулась.
На следующий день Александр, вернувшись с моря, сказал:
— Скажи Нелли, пусть прибережет свои два доллара. Мы с Джимми договорились. Если я поймаю больше ста пятидесяти законных лобстеров, он будет платить мне дополнительно пять долларов. И потом еще пять за каждые пятьдесят сверх ста пятидесяти. Что думаешь?
Татьяна подумала:
— Сколько у вас ловушек на траулере?
— Десять.
— По два законных лобстера на ловушку... не больше двадцати на раз... одна ловушка в час, потом вытащить их, снова забросить... этого недостаточно.
— Когда речь обо мне, — сказал он, — ты разве не превращаешься в милого маленького капиталиста?
— Ты дешево продаешь себя. Как лобстера.
Джимми тоже должен был это понимать — рыночная цена на лобстеров росла, и Александр получал много предложений с других лодок, поэтому Джимми изменил условия даже без просьбы, стал платить Александру лишних пять долларов за каждые пятьдесят сверх первых пятидесяти. Вечером Александр так уставал, что с трудом удерживал в руках стакан с пивом.
Татьяна мариновала помидоры Нелли, варила Нелли томатный суп, старалась готовить томатный соус. Татьяна научилась готовить очень хороший томатный соус у своих друзей из Маленькой Италии, почти как будто и сама была итальянкой. Ей хотелось и для Александра приготовить томатный соус, такой, какой обычно готовила его мать-итальянка, но для этого нужен был чеснок, а на Оленьем острове его ни у кого не было.
Татьяна скучала по Нью-Йорку, вспоминала о шумном людном рынке по утрам в субботу в Нижнем Ист-Сайде, о своей веселой подруге Викки, о работе в госпитале на острове Эллис. И поэтому чувствовала себя виноватой: она тосковала по прежней жизни, хотя и не могла так жить без Александра.
Татьяна одна работала на поле, а Нелли занималась с Энтони. Татьяне понадобилась неделя, чтобы перекопать все поле Нелли — сто пятьдесят бушелей картофеля. Нелли поверить не могла, что его так много. Татьяна договорилась с универмагом по пятьдесят центов за бушель и заработала для Нелли семьдесят пять долларов. Нелли была потрясена. А Александр после двенадцати часов на лодке помогал Татьяне перевезти все сто пятьдесят бушелей в магазин. В конце недели Нелли все же заплатила Татьяне те же два доллара за день.
Когда Александр это услышал, он на мгновение даже лишился голоса.
— Ты сделала ей семьдесят пять долларов, ты перетащила все эти долбаные бушели вверх по холму за нее, и ты продолжаешь называть ее подругой, хотя она заплатила тебе гроши?
— Тише... не надо... — Татьяна не хотела, чтобы Энтони услышал солдатские выражения, старательно оберегая его от таких вещей.
— Может, ты в конце концов не такой уж хороший капиталист, Таня.
— У нее нет денег. Она же не получает сто долларов в день, как получает благодаря тебе Джимми. Но знаешь, что она предложила? Переехать к ней. У нее две свободные спальни. Мы могли бы их получить даром и платить ей только за воду и электричество.
— В чем подвох?
— Никаких подвохов.
— Должен быть. Я это слышу в твоем голосе.
— Нет ничего такого... — Татьяна сжимала и разжимала пальцы. — Она просто сказала, что, когда ее муж вернется, нам придется переехать.
Александр загадочно посмотрел на Татьяну через стол, потом встал и отнес свою тарелку в раковину.
Руки Татьяны дрожали, когда она мыла посуду. Ей не хотелось его расстраивать. Нет, возможно, это была не совсем правда. Возможно, она хотела заставить его сделать что-то. Он был так чрезвычайно вежлив, так исключительно любезен! Когда она просила его о помощи, откликался мгновенно. Таскал этот чертов картофель, выносил мусор. Но делал это совершенно автоматически. Когда он сидел, курил и смотрел на воду, Татьяна не знала, где витают его мысли. Когда Александр выходил из дома в три часа ночи и дрожал на скамье, Татьяна предпочитала не знать, где он. Была ли она с ним? Татьяна не хотела знать.
Закончив уборку, она вышла наружу, чтобы сесть на гравий у его ног. Почувствовала, что он смотрит на нее.
— Таня... — прошептал он.
Но Энтони увидел мать, сидевшую на земле, и тут же устроился на ее коленях, демонстрируя четырех найденных им жуков, два из которых были жуками-оленями. Когда она глянула на Александра, он уже не смотрел на нее.
Когда Энтони заснул и они легли в свою двуспальную кровать, Татьяна прошептала:
— Так ты хочешь этого — переехать к Нелли?
Кровать была настолько узкой, что они могли спать только на боку. Если Александр поворачивался на спину, он занимал весь матрас.
— Переехать на время, пока ее муж не вернется и она не выкинет нас, потому что ей захочется уединиться с мужчиной, пришедшим с войны? — сказал Александр.
— Ты... сердишься? — спросила она, как бы умоляя: «Пожалуйста, рассердись!»
— Конечно нет.
— У нас самих могло бы быть больше уединения в ее доме. Она дает нам две комнаты. Это лучше, чем одна здесь.
— Правда? Лучше? — спросил Александр. — Здесь мы рядом с морем. Я могу сидеть и курить, глядя на залив. Нелли живет на Истерн-роуд, где мы только и будем чуять что соль и рыбу. А миссис Брюстер глухая. Думаешь, Нелли тоже глухая? Если Нелли будет рядом с дверью нашей спальни, с ее молодым слухом и пятью годами без мужа, как ты думаешь, это создаст нам уединение? Хотя, — добавил он, — вдруг тебе кажется, что уединения может быть меньше?
«Да, — хотелось сказать Татьяне. — Да. Как в моей коммунальной квартире в Ленинграде, где я жила вместе с бабушкой, дедом, мамой, папой, сестрой Дашей — помнишь ее? — и с братом Пашей — помнишь его? Где туалет был в конце коридора, и нужно было пройти через кухню к лестнице, никогда не освещенной нормально и никогда не убиравшейся, и этим туалетом пользовались десять других жильцов... Где не было горячей воды, чтобы четыре раза в день принимать душ, и не было газовой плиты, чтобы приготовить четырех лобстеров. Где я спала в одной постели с сестрой, до тех пор пока мне не исполнилось семнадцать, а ей двадцать четыре, до той ночи, когда ты увел нас на Дорогу жизни». Татьяна с трудом подавила болезненный стон.
Она не могла — не хотела — перестать думать о Ленинграде.
Другая возможность была лучше. Да, другой путь — тут и говорить не о чем.
Эта кровоточащая рана открывалась каждую ночь. Днем они хлопотали, как будто им это нравилось, как будто они в этом нуждались. Не так давно Александр и Татьяна нашли друг друга в другой стране, а потом как-то пережили войну и как-то добрались до люпинового Оленьего острова. И ни один из них не имел представления, как именно, но в три часа ночи, когда Энтони просыпался и кричал, словно его режут, а Александр дрожал на скамье, а Татьяна судорожно пыталась забыть, — тогда они понимали как.
Запятнанные ГУЛАГом
Он так безупречно держался с ней...
— Хочешь еще немножко? — спрашивал, например, он, поднимая кувшин с лимонадом.
— Да, пожалуйста.
— Хочешь прогуляться после ужина? Я слышал, там у залива продают какое-то итальянское мороженое.
— Да, это было бы неплохо.
— Энт, а ты что думаешь?
— Пойдем! Прямо сейчас!
— Ну, подожди чуть-чуть, сынок. Нам с твоей матерью нужно закончить.
Так официально. С матерью.
Он открывал перед ней дверь, он ставил для нее банки и кувшины на высокие кухонные полки. Было так удобно, что он столь высок ростом: он заменял стремянку.
А она? Делала то же, что всегда, — в первую очередь для него. Готовила для него, подкладывала еду на его тарелку, обслуживала. Наливала спиртное. Накрывала на стол и убирала со стола. Стирала его одежду, аккуратно складывала. Застилала их маленькие кровати, меняла простыни. Готовила ему ланч, чтобы он взял его с собой на лодку, и для Джимми тоже, потому что у однорукого Джимми не было женщины, которая сделала бы ему сэндвич. Она брила ноги, и купалась каждый день, и вплетала в волосы атласные ленты — для него.
— Что-нибудь еще тебе хотелось бы? — спрашивала она.
Могу я сделать еще что-то? Хочешь еще пива? Хочешь прочесть первую страницу газеты или вторую? Хотелось бы тебе поплавать? Может, набрать малины? Ты не замерз? Ты устал? Ты всем доволен, Александр? Ты — всем — доволен?
— Да, спасибо.
Или...
— Да, еще немножко, спасибо.
Так любезно. Так вежливо. Прямо как в романах Эдит Уортон, которые Татьяна читала в то время, пока Александр отсутствовал в ее жизни. «Эпоха невинности», «В доме веселья»...
Случались и моменты, когда Александр не бывал так безупречно вежлив.
Как в тот особенный день, когда стих ветер, а Джимми страдал от похмелья... или это было тогда, когда Джимми страдал от похмелья, а ветра не было? В любом случае Александр вернулся рано, когда Татьяна его не ожидала, и пришел за ней, когда она была еще на картофельном поле Нелли. Энтони был в доме, пил молоко вместе с Нелли. Татьяна, с перепачканными землей руками, с раскрасневшимся лицом, спутанными волосами, выпрямилась навстречу ему, в ситцевом летнем платье без рукавов, узком в талии, облегавшем бедра, с широким вырезом.
— Эй! — удивилась она радостному сюрпризу. — Ты почему так рано?
Он промолчал. Он поцеловал ее, и на этот раз не прохладно и бесстрастно. Татьяна даже не успела вскинуть руки. Он увлек ее далеко в поле, толкнул на землю, покрытую картофельной ботвой, и ее платье стало таким же грязным, как ее рука. И единственным предварительным действием было то, что он сдернул платье с ее плеч, обнажая грудь, и задрал подол над бедрами.
— Посмотри, что ты натворил! — прошептала она потом.
— Ты в этом платье похожа на деревенскую молочницу.
— Платью теперь конец.
— Мы его отстираем. — Он все еще задыхался, но уже был отстранен.
Татьяна прислонилась к нему, тихо бормоча, заглядывая ему в лицо, пытаясь поймать взгляд, надеясь на интимность.
— А капитану нравится, когда его жена похожа на деревенскую молочницу?
— Да, очевидно.
Но капитан уже вставал, поправлял одежду, протягивал ей руку, чтобы помочь подняться с земли.
С тех пор как Александр вернулся, Татьяна сосредоточилась на его руках и по контрасту на своих. Его ладони были как большое блюдо, на котором он нес свою жизнь. Они были крупными и широкими, темными и квадратными, с тяжелыми большими пальцами, но остальные пальцы были длинными и гибкими, словно он мог играть на пианино точно так же, как тащить ловушки с лобстерами. Крупные суставы, выпуклые вены, ладони, покрытые мозолями. Все было в мозолях, даже кончики пальцев, огрубевшие оттого, что он тысячи миль нес тяжелое оружие, затвердевшие от сражений, ожогов, рубки леса, похорон людей. Его руки отражали всю извечную борьбу. Не нужен был прорицатель, или ясновидящий, или читающий по ладоням, достаточно было одного взгляда на линии этих рук, одного мимолетного взгляда, и ты сразу понимал: человек, которому они принадлежали, делал все... и был способен на все.
И это заставляло Татьяну присмотреться к ее собственным крепким рукам. Среди прочего эти руки работали на военном заводе, они изготавливали бомбы, и танки, и огнеметы, работали в полях, мыли полы, копали ямы в снегу и в земле. Они таскали санки по льду. Они занимались умершими, ранеными, умирающими; ее руки знали жизнь и борьбу и все равно выглядели так, словно их весь день держали в молоке. Маленькие, чистые, без мозолей, без распухших суставов и вздутых вен, ладони светлые, пальцы тонкие. Татьяну они смущали — они были мягкими и нежными, как руки ребенка. Кто-то заключил бы, что эти руки ни дня в жизни не работали — и не могли бы!
И теперь, в середине дня, после того как он неподобающим образом обошелся с ней на ухоженном картофельном поле Нелли, Александр протягивал ей огромную темную руку, чтобы помочь подняться, и ее белая рука исчезла в его теплом кулаке, когда он поставил ее на ноги.
— Спасибо.
— Спасибо тебе.
Впервые очутившись на Оленьем острове, вечером, после того как Энтони наконец заснул, они поднялись вверх по крутому холму, туда, где стоял их дом на колесах, на дороге рядом с лесом. Войдя внутрь, Александр снял с нее одежду — он всегда настаивал на том, чтобы она обнажалась для него, хотя в большинстве случаев сам не раздевался, оставаясь в футболке или безрукавке. Татьяна как-то раз спросила: «Не хочешь тоже раздеться?» Он ответил, что нет. И она больше не спрашивала. Он целовал ее, гладил, но никогда не говорил ни слова. Никогда не называл по имени. Мог целовать, прижимать к себе, отвечать на ее жадные поцелуи — иногда даже слишком сильно, хотя она ничего не имела против, — а потом овладевал ею. Она стонала, не в силах сдержаться, и было некогда время, когда он жил ради ее стонов. Сам же он никогда не издавал ни звука, ни до того, ни во время, ни даже в конце. Он задыхался под конец, словно произнося «ХА». Но даже не всегда заглавными буквами.
Многое изменилось между ними. Александр больше не впивался в нее губами, не шептал разное, не ласкал ее с головы до ног, не зажигал керосиновую лампу... даже не открывал глаза.
Шура. Только Татьяна, нагая, в доме на колесах, в этой их новой жизни называла его так, этим обожаемым уменьшительным именем. Иногда ей казалось, что ему хочется зажать руками уши, чтобы не слышать ее. В фургоне было темно, очень темно; видеть что-то было невозможно. И он был в одежде. Шура. Поверить не могу, что снова касаюсь тебя.
В их фургоне не было романов Эдит Уортон, не было «Эпохи невинности». Александр брал ее, пока ей становилось нечего отдать, но он все равно продолжал ее брать...
— Солдат, милый, я здесь, — могла шептать Татьяна, раскрывая объятия, беспомощно протягивая к нему руки, сдаваясь.
— Я тоже здесь, — мог сказать Александр, не шепотом, просто вставая и одеваясь. — Пойдем обратно. Надеюсь, Энтони еще спит.
Это было неожиданно. Его протянутая рука, помогающая ей встать.
Она была беззащитна, истощена, она была открыта. Она могла отдать ему все, чего он захотел бы, но...
Ох, это не имело значения. Просто в том, как Александр молча и жадно, по-солдатски, не как супруг, вел себя, было нечто такое, в чем он нуждался, чтобы заглушить крики войны.
На грани слез она как-то раз спросила его, что с ним происходит — что происходит с ними, — и он ответил:
— Тебя запятнал ГУЛАГ.
И тут их прервал пронзительный детский крик, донесшийся снизу. Уже одетый Александр бегом бросился вниз.
— Мама! Мама!
Старая миссис Брюстер поспешила в его комнату, но лишь сильнее напугала Энтони.
— МАМА! МАМА!
Александр обнял его, но Энтони не был нужен никто, кроме его матери.
Но когда она ворвалась в комнату, он и ее не захотел. Он ударил Татьяну, отвернулся от нее. У него началась истерика. Ей понадобилось больше часа, чтобы успокоить его. В четыре Александр встал, чтобы отправиться на работу, и после той ночи Татьяна и Александр перестали ходить в дом на колесах. Он стоял брошенный на поляне на холме, между деревьями, а они, оба одетые, в тишине, подушкой, или его губами, или его рукой на ее лице, заглушали ее стоны, исполняя танго жизни, танго смерти, танго ГУЛАГа, поскрипывая проклятыми пружинами на двуспальной кровати рядом с беспокойно спящим Энтони.
Они пытались сойтись в течение дня, когда мальчик на них не смотрел. Проблема состояла в том, что он всегда их искал. К концу долгих тоскливых воскресений Александр был молчалив от нетерпения и неудовлетворенности.
Однажды поздним воскресным днем Энтони, как предполагалось, играл в переднем дворике с жуками. Татьяна должна была готовить ужин. Александр, предположительно, должен был читать газету, но на самом деле он сидел под ее пышной юбкой на узком деревянном стуле, стоявшем вплотную к кухонной стене, а она стояла над ним, обхватив ногами его колени. Они тяжело дышали, их ноги подрагивали; Александр поддерживал ее движущееся тело, положив ладони ей на бедра. И в момент пика мучительных ощущений Татьяны в кухню вошел Энтони:
— Мама?
Рот Татьяны открылся в страдальческом «О!». Александр прошептал: «Тсс!» Она сдержала дыхание, не в силах обернуться, переполненная его неподвижностью, твердостью, полнотой внутри ее. Она впилась длинными ногтями в плечи Александра и изо всех сил старалась не закричать, а Энтони стоял за спиной своей матери.
— Энтони, — заговорил Александр почти спокойным голосом, — можешь ты дать нам минутку? Пойди наружу. Мамочка сейчас выйдет.
— Тот мужчина, Ник, он снова у себя во дворе. Он хочет сигарету.
— Мама сейчас придет, малыш. Пойди во двор...
— Мама?
Но Татьяна не могла обернуться, не могла заговорить.
— Выйди, Энтони! — велел Александр.
В общем, Энтони ушел, Татьяна перевела дыхание, Александр увел ее в спальню, запер дверь и довел дело до конца, но что делать в будущем, она не знала.
Вот чего они точно не делали, так это не говорили об этом.
— Хочешь еще немного хлеба, еще вина, Александр? — могла спросить она.
— Да, спасибо, Татьяна, — отвечал он, опустив голову.
Капитан, полковник и сиделка
— Пап, могу я поплыть с тобой на лодке? — Энтони повернулся к отцу, сидевшему рядом с ним за завтраком.
— Нет, малыш. Для маленьких мальчиков опасно находиться в лодке для ловли лобстеров.
Татьяна всматривалась в них обоих, слушая, впитывая.
— Я не маленький. Я большой. И я буду вести себя хорошо. Обещаю. Я буду помогать.
— Нет, дружок.
Татьяна откашлялась:
— Александр... э-э-э... если и я пойду с вами, то смогу присмотреть за Энтом.
— Джимми никогда прежде не пускал на судно женщин, Таня. У него сердечный приступ случится.
— Да, конечно, ты прав. Энт, хочешь еще овсянки?
Энтони, доедая завтрак, не поднимал головы.
Иногда ветер был удачным, иногда — нет. А если ветра не было вовсе, тралить было трудно, несмотря на героические усилия Джимми поднять парус. Поскольку в лодке их было всего двое, Александр опускал косой треугольный парус, и, пока шлюп качался в Атлантике, они сидели и курили.
Джимми как-то сказал:
— Черт побери, приятель, почему ты всегда носишь рукава до запястий? Ты же помрешь от жары. Закатай рукава. Сними рубашку.
А Александр ответил:
— Джимми, друг, забудь ты о моей рубашке, почему бы тебе не купить новую лодку? Ты бы заработал куда больше денег. Я знаю, это лодка твоего отца, но сделай себе услугу, вложись ты в чертову новую лодку!
— На новую лодку у меня нет денег.
— Возьми ссуду в банке. Они там готовы помогать людям встать на ноги после войны. Возьми кредит на пятнадцать лет. С теми деньгами, что ты сделаешь, ты расплатишься за два года.
Джимми разволновался. И внезапно сказал:
— Давай пополам.
— Что?
— Это будет наша лодка. И мы поделим заработок.
— Джимми, я...
Джимми вскочил, расплескав пиво:
— Мы возьмем матроса, еще двенадцать ловушек, поставим чан на тысячу с лишним литров для лобстеров. Ты прав, мы заработаем кучу денег.
— Джимми, погоди... ты не то придумал. Мы здесь не останемся. — Александр сидел, держа в пальцах сигарету.
Джимми откровенно расстроился:
— А зачем вам уезжать? Ей здесь нравится, ты тоже так говоришь. Ты работаешь, у мальчика все в порядке. Зачем уезжать?
Александр сунул сигарету в рот.
— У тебя же будут свободные зимы, чтобы делать что захочется.
Александр покачал головой.
— Но тогда зачем ты искал работу, если обосновался здесь всего на какой-то месяц?
— Я искал работу, потому что она мне нужна. На что бы мы жили, как ты думаешь?
— Мне не доводилось работать вот так, полный день, с довоенных дней, — сердито сказал Джимми. — И что мне делать, когда ты уедешь?
— Сейчас многие возвращаются с войны, — возразил Александр. — Найдешь кого-то другого. Извини, Джим.
Джимми отвернулся и принялся отвязывать канат от паруса.
— Прекрасно. — Он не смотрел на Александра. — Но скажи, кто еще будет работать так, как ты?
Тем вечером Александр сидел на своем стуле, показывая Энтони, как завязывать простой бегущий узел с помощью свайки, пока они оба ждали Татьяну, чтобы отправиться на вечернюю прогулку, и тут раздались крики у соседей; но что было необычным, так это вмешательство мужского голоса.
Вышла Татьяна.
— Мама, ты слышишь? Он им отвечает!
— Я слышу, сынок. — Они с Александром переглянулись. — Вы готовы?
Они вышли за ворота и медленно пошли по дороге — и всё пытались разобрать слова, а не просто услышать голоса на повышенных тонах.
— Странно, да? — сказал Александр. — Полковник спорит.
— Да, — ответила Татьяна таким тоном, каким другой сказал бы: «Разве не фантастично?»
Он удивленно посмотрел на нее.
Они пытались расслышать. Минутой позже в соседский двор выскочила мамаша, толкая инвалидное кресло с Ником по высокой траве. Она чуть не упала сама и не перевернула мужа.
Выкатывая кресло в палисадник, женщина крикнула:
— Вот, сиди! Теперь рад? Ты хочешь здесь сидеть в одиночестве, чтобы все, кто идет мимо, таращились на тебя, как будто ты зверь в зоопарке, ладно, давай! Мне уже плевать. Мне вообще на все плевать.
— Это уж слишком очевидно! — закричал полковник, когда она помчалась прочь. Он задыхался.
Татьяна и Александр опустили головы. Энтони сказал:
— Привет, Ник!
— Энтони! Тихо!
Энтони открыл калитку и вошел в палисадник:
— Хочешь сигарету? Мама, иди сюда!
Татьяна посмотрела на Александра.
— Можно дать ему сигарету? — шепотом спросила она.
Но это Александр подошел к полковнику, слегка скривив лицо и согнувшись, достал из своей пачки сигарету, зажег и поднес к губам полковника.
Мужчина вдохнул, выдохнул, но не с таким пылом, как тогда с Татьяной. И молчал.
Татьяна положила руку на плечо Ника. Энтони принес ему рогатого жука, дохлую осу, вялую картофелину:
— Смотри. Погляди на осу!
Ник посмотрел, но промолчал. Сигарета успокоила его. Он выкурил еще одну.
— Хотите выпить, полковник? — внезапно спросил Александр. — Там на Мейн-стрит есть бар.
Ник кивнул в сторону дома:
— Они меня не отпустят.
— А мы их не спросим. Представьте, как они удивятся, когда выйдут — а вы исчезли! Подумают, вы сами скатились с холма.
Это заставило полковника Николаса Мура улыбнуться.
Такая картинка стоит всех криков, что начнутся потом. Ладно, поехали.
«Суизи» был единственным баром в Стонингтоне. Детям туда входить не позволялось.
— Я отведу Энтони на качели, — сказала Татьяна. — А вы двое развлекитесь.
В баре Александр заказал два виски. Держа оба стакана, он чокнулся ими и поднес выпивку ко рту Ника. Жидкость исчезла в один глоток.
— Пожалуй, закажем еще по одному?
— Знаешь, — сказал Ник, — а почему бы тебе не взять для меня целую бутылку? Я не пробовал спиртного уже восемнадцать месяцев. Я тебе верну деньги.
— Не беспокойся, — сказал Александр и купил Нику и себе бутылку «Джек Дэниелс».
Они устроились в углу, куря и попивая.
— Так что такое с твоей женой, полковник? Почему она вечно раздражена?
Они придвинулись поближе друг к другу, полковник в кресле, капитан рядом.
Ник покачал головой:
— А ты посмотри на меня. Разве ее можно винить? Но не беспокойся... армия собирается вскоре дать мне круглосуточную сиделку. Она будет обо мне заботиться.
Они посидели молча.
— Расскажи мне о твоей жене, — попросил Ник. — Она меня не боится. Не то что другие здесь. Она уже видела такое?
Александр кивнул:
— Да, она такое видела.
Лицо Ника просветлело.
— А ей нужна работа? Армия будет ей платить десять долларов в день за уход за мной. Что скажешь? Немножко лишних денег для твоей семьи.
— Нет, — качнул головой Александр. — Она достаточно долго была сиделкой. Хватит с нее. — И добавил: — Да нам и не нужны деньги, у нас все в порядке.
— Да ладно, всем нужны деньги. Ты мог бы купить свой дом, а не жить у этой чокнутой Джанет.
— А что ей тогда делать с сыном?
— Приведет с собой.
— Нет.
Ник замолчал, но сначала огорченно фыркнул. Наконец он сказал:
— Мы в листе ожидания на сиделку, но не можем пока ее получить. Их недостаточно. Они все уезжают. Их мужчины возвращаются, они хотят завести детей, они не желают, чтобы их жены работали.
— Да, — согласился Александр. — И я не хочу, чтобы моя жена работала. В особенности сиделкой.
— Если я не получу сиделку, Бесси говорит, что отправит меня в армейский госпиталь в Бангоре. Говорит, мне там будет лучше.
Александр влил в горло полковника еще порцию так необходимого ему виски.
— Они-то точно будут счастливее, если я окажусь там, — сказал Ник.
— Пока они не выглядят счастливыми.
— Нет-нет. До войны они были отличными.
— А где тебя ранили?
— В Бельгии. Арденнская операция. Чин имеет свои привилегии и всякое такое. Но взорвался снаряд, мои капитан и лейтенант погибли, а я обгорел. Может, все и обошлось бы, но я пролежал на земле четырнадцать часов, прежде чем меня подобрал какой-то взвод. Началось заражение, спасти конечности не удалось.
Еще по глотку, еще сигарета.
Ник сказал:
— Им бы лучше было просто оставить меня в том лесу. Тогда все было бы кончено для меня пятьсот пятьдесят дней назад, пятьсот пятьдесят ночей назад.
Он понемногу успокоился благодаря виски и сигаретам. И пробормотал наконец:
— Она такая хорошая, твоя жена.
— Да.
— Такая свежая, молодая. Так приятно на нее смотреть.
— Да, — ответил Александр, закрывая глаза.
— И она не кричит на тебя.
— Верно. Хотя, полагаю, иногда ей этого хочется.
— Ох, если бы моя Бесси умела так сдерживаться. Она ведь раньше была милой женщиной. А дочка была чудесной девочкой.
Еще глоток, еще сигарета.
— А ты после возвращения замечал, — заговорил Ник, — что женщины многого просто не знают? Не хотят знать. Они не понимают, каково это было. Они видят меня вот таким и думают, что хуже и быть не может. Они не знают. Это пропасть. Ты проходишь через что-то такое, что меняет тебя. Ты видишь то, что невозможно видеть. А потом бредешь как во сне через реальную жизнь, страдая неврозом. Знаешь, когда я думаю о себе, у меня есть ноги. Во сне я постоянно марширую. А когда просыпаюсь, то лежу на полу — упал с кровати. Я теперь сплю на полу, потому что я постоянно скатываюсь во сне. Когда я сам себе снюсь, я держу оружие, я прикрываю батальон. Я в танке, кричу. Я всегда кричу во сне. Туда! В ту сторону! Огонь! Прекратить огонь! Вперед! Вперед! Огонь, огонь. Огонь!
Александр опустил голову, его руки безвольно упали на стол.
— Я просыпаюсь и не понимаю, где я. А Бесси спрашивает: в чем дело? Ты не обращаешь на меня внимания. Ты ничего не сказал о моем новом платье. И в итоге ты живешь с кем-то, кто готовит тебе еду и раздвигает перед тобой ноги, но ты этих людей совсем не знаешь. Ты их не понимаешь, а они не понимают тебя. Вы просто чужаки, оказавшиеся рядом. Во снах после марша, с ногами, я всегда ухожу, бреду куда-то, долго. Я не знаю, где я, но только не здесь, не с ними. С тобой такое бывает?
Александр тихо курил, проглотил еще порцию виски, еще одну.
— Нет, — сказал он наконец. — У нас с женой противоположная проблема. Она держала оружие, она застрелила тех, кто пришел ее убить. Она была в госпиталях, на фронте... Она была в лагере для перемещенных лиц и в концентрационном лагере. Она умирала от голода в замерзшем городе в блокаду. Она потеряла всех, кого любила. — Александр опрокинул в горло полстакана виски, но все равно не удержался от стона. — Она знает, видит и понимает все. Может, теперь чуть меньше, но это моя вина. Я не был уж очень... — Он умолк на полуслове. — Не был откровенен. Наша проблема не в том, что мы не понимаем друг друга. Наша проблема в том, что мы делаем. Мы не можем смотреть друг на друга, не можем просто болтать, не можем прикоснуться друг к другу, не ощутив креста на наших спинах. У нас просто никогда не бывает ни капли покоя. — Еще одна порция виски скользнула в горло Александра.
Неожиданно в их темном углу возникла Татьяна.
— Александр... — зашептала она. — Уже одиннадцать часов. А тебе вставать в четыре.
Он холодно посмотрел на нее.
Она покосилась на Ника, который глянул на нее с понимающим видом.
— Что вы ему рассказывали?
— Мы просто вспоминали. Старые добрые времена, что привели нас сюда.
Александр слегка заплетающимся языком сообщил, что ему и правда пора, встал, опрокинув свой стул, и вышел шатаясь. Татьяна осталась наедине с Ником.
— Он рассказывал мне, что вы были сиделкой.
— Была.
Он умолк.
— Вам что-то нужно? — Она положила руку ему на плечо. — Что именно?
Его влажные глаза умоляли.
— У вас есть морфин?
Татьяна выпрямилась:
— Где болит?
— Болит вся эта чертова колода, что осталась от меня. Найдется достаточно морфина для этого?
— Ник...
— Пожалуйста. Пожалуйста. Столько морфина, чтобы я уже никогда ничего не чувствовал.
— Ник, бога ради...
— Когда что-то станет невыносимым для вашего мужа, он может взять оружие, которое чистит, и просто вышибить себе мозги. Но что делать мне?
Ник не мог прикоснуться к Татьяне, он наклонился в ее сторону.
— Кто вышибет мозги мне, Таня? — прошептал он.
— Ник, прошу вас! — Ее руки выпрямили его, но он выпил слишком много и все равно кренился.
Вернулся Александр, не слишком крепко стоявший на ногах. Ник замолчал.
Татьяне пришлось самой катить Ника вверх по холму, потому что Александр то и дело отпускал рычаги кресла и Ник откатывался назад. Ей понадобилось немало времени, чтобы доставить его домой. Жена и дочь Ника были красными от гнева. Их визг оглушал Татьяну, да еще полковник что-то ей говорил, а Александр был слишком пьян, чтобы реагировать на выступление двух женщин, и Ник тоже наконец впал в ступор. Он будто исчез, не понятый никем, кроме Энтони, навестившего его на следующий день.
Утром Александр выпил три чашки черного кофе и с похмелья потащился на работу, где смог ставить зараз только по три ловушки вместо обычных двенадцати, и принес всего семнадцать лобстеров, причем все они были недоростками весом в один фунт. Он отказался от платы, лег спать сразу после ужина и не просыпался, пока Энтони не закричал посреди ночи.
Вечером после позднего ужина Татьяна вышла из дома с чашкой чая, но Александра не было на обычном месте. Они с Энтони были в соседнем дворе, с Ником. Александр даже прихватил с собой свой стул. Энтони искал жуков, а мужчины разговаривали. Татьяна несколько минут наблюдала за ними, потом вернулась в дом. Она села за пустой кухонный стол и, удивив себя, разрыдалась.
И на следующий вечер было то же, и на следующий. Александр даже не говорил ей ничего. Он просто уходил, и они с Ником сидели, пока Энтони играл поблизости. И Александр стал оставлять свой стул в палисаднике Ника.
Через несколько дней, не в силах выдержать этого, Татьяна перед завтраком позвонила Викки.
Викки радостно кричала в трубку:
— Поверить не могу, что наконец-то тебя слышу! Что с тобой такое? Как ты там? Как Энтони, мой большой мальчик? Но сначала давай про себя! Ты ужасная подруга! Говорила, что будешь звонить каждую неделю! Я уже месяц о тебе ничего не слышала!
— Вообще-то, не месяц, правда?
— Таня! Какого черта ты там делала? Нет, не отвечай. — Викки хихикнула. — Как вообще дела? — спросила она низким вкрадчивым голосом.
— О, прекрасно, прекрасно, а ты как? Как живешь?
— Неважно, а почему ты не звонила?
— Мы... — Татьяна закашлялась.
— Знаю, чем вы занимались, гадкая девчонка. Как мое обожаемое дитя? Мой любимый мальчик? Ты просто не представляешь, что сделала со мной! Таня его дала и Таня его увезла! Мне так не хватает этих хлопот! Так, что я даже думаю, не завести ли своего малыша.
— И в отличие от моего, Джельсомина, твое собственное дитя ты всегда будешь иметь при себе. Не отдашь его как куклу. А он не будет таким же милым, как Человек-муравей [1].
— Да кто вообще может быть таким?
Они поговорили о работе Викки, об Оленьем острове, о лодках и качелях, и об Эдварде Ладлоу, и о новом мужчине в жизни Викки («Он офицер! Так что ты не единственная, кто обзавелся офицером!»), и о Нью-Йорке («Невозможно пройти по любой улице, чтобы не испачкать обувь в строительном мусоре!»), и о ее дедушке с бабушкой («Они в порядке, они пытаются меня откормить, говорят, я слишком высокая и костлявая. Как будто я стану короче, если они будут меня закармливать!»), и о новой модной стрижке, каблуках новой формы, новых платьях в стиле фанданго... И вдруг...
— Таня? Таня, в чем дело?
Татьяна плакала в трубку.
— В чем дело? Что случилось?
— Ничего, ничего... просто... так приятно слышать твой голос! Я ужасно по тебе скучаю!
— Ну и когда ты вернешься? Я без тебя просто жить не могу в нашей пустой квартире! Абсолютно не могу. Без твоего хлеба, без твоего хулигана, не видя твоего лица! Таня, ты просто губишь меня! — Викки засмеялась. — А теперь говори, в чем проблема.
Татьяна вытерла глаза:
— А ты не думаешь переехать из этой квартиры?
— Переехать? Ты шутишь? Где еще я найду в Нью-Йорке такую, с тремя спальнями? Ты просто не представляешь, что стало с ценами на жилье после войны. И хватит менять тему, говори, в чем дело?
— Нет, правда, все хорошо. Я просто...
У ее ног топтался Энтони. Татьяна высморкалась, стараясь успокоиться. Она не могла говорить об Александре перед его сыном.
— Знаешь, кто здесь тебя искал? Твой старый друг Сэм.
— Что?!
Татьяна мгновенно перестала плакать. И насторожилась. Сэм Гулотта много лет был ее контактом в Министерстве иностранных дел, пока она старалась отыскать Александра. Сэм отлично знал, что Александра нашли; зачем бы ему звонить ей? У нее что-то оборвалось внутри.
— Да, ищет вас. Ищет Александра.
— Ох... — Татьяна попыталась придать тону беспечность. — Он сказал, зачем?
— Говорил что-то о том, что министерству необходимо связаться с Александром. Он настаивал, чтобы ты ему позвонила. Он каждый раз очень на этом настаивал.
— А... э-э-э... сколько раз он уже звонил?
— Ох, не знаю... в общем, каждый день.
— Каждый день? — Татьяна была ошеломлена и напугана.
— Да, точно. Каждый день. Настойчив каждый день. Для меня такая настойчивость — это уж слишком, Таня. Я ему твержу, что, как только что-то услышу от тебя, позвоню ему сама, но он мне не верит. Дать тебе его номер?
— У меня есть номер Сэма, — медленно произнесла Татьяна. — Я столько раз звонила по нему много лет подряд, что он давно отпечатался у меня в памяти.
Когда Александр только еще вернулся домой, они отправились в Вашингтон, чтобы поблагодарить Сэма за помощь в возвращении Александра. Сэм тогда упомянул что-то насчет обязательного доклада министерства, но сказал это спокойно и без спешки и добавил, что, поскольку сейчас лето, нужные люди отсутствуют. Когда они расстались с Сэмом у памятника Линкольну, он больше ничего об этом не сказал. Так почему теперь вдруг такая настойчивость? Имеет ли это какое-то отношение к изменению в отношениях двух недавних военных союзников, Соединенных Штатов и Советского Союза?
— Позвони Сэму, пожалуйста, чтобы он перестал звонить мне. Хотя... — Тон Викки изменился, понизился, став почти флиртующим. — Может, пусть лучше продолжает мне звонить? Он такая прелесть!
— Он вдовец тридцати семи лет от роду, с детьми, Викки, — напомнила ей Татьяна. — Ты не можешь его заполучить, не став заодно матерью.
— Ну, мне всегда хотелось иметь ребенка.
— У него их двое.
— Ой, перестань! Обещай, что позвонишь ему.
— Позвоню.
— Передашь нашему хулигану поцелуй от меня размером с Монтану?
— Да.
Когда Татьяна в поисках Александра поехала в Германию, именно Викки заботилась об Энтони. И очень привязалась к нему.
— Я не могу позвонить Сэму прямо сейчас. Мне нужно сначала поговорить об этом с Александром, когда он вернется домой вечером, так что сделай одолжение, если Сэм позвонит снова, просто скажи, что ты пока что со мной не говорила и не знаешь, где я. Ладно?
— Почему?
— Я просто... Мне нужно поговорить с Александром, а потом еще у нас не всегда есть работающий телефон. Я не хочу, чтобы Сэм паниковал, хорошо? Пожалуйста, ничего ему не говори.
— Таня, ты не слишком всем доверяешь, в этом твоя проблема. Это всегда было твоей проблемой. Ты всегда с подозрением относилась к людям.
— Нет. Я просто... сомневаюсь в их намерениях.
— Ну, Сэм ведь не сделает чего-то такого...
— Сэм служит в Министерстве иностранных дел, ведь так?
— И что?
— Он не может ручаться за каждого. Ты разве не читаешь газеты?
— Нет! — с гордостью заявила Викки.
— Министерство иностранных дел боится шпионажа со всех сторон. Я должна обсудить все с Александром, узнать, что он думает.
— Но это же Сэм! Он не стал бы помогать тебе найти Александра только для того, чтобы обвинить его в шпионаже!
— Повторяю, Сэм служит в Министерстве иностранных дел, разве не так?
Татьяна стала опасаться, что не сумеет объяснить это Викки. В 1920 году мать и отец Александра состояли в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Гарольд Баррингтон слегка впутался в неприятности. И вдруг сын Гарольда возвращается в Америку именно тогда, когда начинает нарастать напряжение между двумя странами. Что, если этому сыну придется ответить за грехи отца?
— Надо бежать, — сказала Татьяна, посмотрев на Энтони и стиснув телефонную трубку. — Я вечером поговорю с Александром. Обещаешь, что ничего не скажешь Сэму?
— Только если ты пообещаешь приехать навестить меня, как только вы уедете из Мэна.
— Мы постараемся, Джельсомина, — сказала Татьяна и повесила трубку.
Я постараюсь однажды выполнить обещание...
Дрожа от волнения, она позвонила Эстер Баррингтон, тете Александра, сестре его отца, жившей в Массачусетсе. Татьяна как бы просто звонила по-родственному, но на деле желала выяснить, не интересовался ли кто-нибудь Александром. Не интересовался. Уже легче.
Вечером, когда они ужинали лобстерами, Энтони сообщил:
— Па, мама сегодня звонила Викки!
— Вот как? — Александр поднял взгляд от тарелки. Его взгляд изучающе уставился на ее лицо. — Что ж, отлично. И как там Викки?
— Викки в порядке. А вот мама плакала. Два раза.
— Энтони! — Татьяна опустила голову.
— Что? Ты плакала?
— Энтони, пожалуйста, можешь ты пойти спросить миссис Брюстер, хочет ли она поужинать сейчас, или мне оставить все для нее на плите?
Энтони исчез. Буквально ощущая молчание Александра, Татьяна встала и отошла к раковине, но, прежде чем она успела что-нибудь сказать в оправдание своих слез, мальчик уже вернулся.
— У миссис Брюстер кровь идет, — доложил он.
Они бросились наверх. Миссис Брюстер сказала им, что ее сын, недавно вернувшийся из тюрьмы, побил ее, требуя отдать ему деньги, что платил за жилье Александр. Татьяна попыталась стереть кровь полотенцем.
— Он со мной не живет. Он живет дальше по дороге, с друзьями.
Мог ли Александр помочь ей в этом? Поскольку он тоже побывал в тюрьме, то должен был понимать, как обстоят дела.
— Только я не вижу, чтобы ты колотил свою жену...
Мог ли Александр попросить ее сына больше ее не бить? Миссис хотела сохранить деньги за аренду.
— Он ведь просто истратит все на выпивку, как всегда, а потом впутается в неприятности. Не знаю, за что сидел ты, но он-то попал туда за нападение со смертельно опасным оружием. Пьяное нападение.
Александр ушел, чтобы посидеть в соседнем дворе с Ником, но поздно вечером сказал Татьяне, что собирается поговорить с сыном миссис Брюстер.
— Нет!
— Таня, мне и самому это не нравится, но каким уродом нужно быть, чтобы бить собственную мать? Я поговорю с ним.
— Нет!
— Нет?
— Нет. Тебя это слишком сильно задело.
— Не так, — медленно произнес Александр ей в спину. — Я просто пойду и поговорю с ним, только и всего, как мужчина с мужчиной. Скажу, что бить родную мать недопустимо.
Они шептались в темноте, сдвинув кровати, а Энтони тихонько похрапывал рядом с Татьяной.
— А он скажет: да пошел ты, мистер. Занимайся своими делами. И что?
— Хороший вопрос. Но возможно, он будет рассудителен.
— Ты так думаешь? Он бьет мать ради денег! — Вздохнув, Татьяна слегка вздрогнула между двумя своими мужчинами.
— Ну, мы не можем просто ничего не делать.
— Нет, можем. Давай не вмешиваться в чужие неприятности.
Нам и своих хватает. Она не знала, как заговорить о Сэме Гулотте; от холодного страха его имя застывало у нее в горле. Татьяна попыталась думать о чужих неприятностях. Ей не хотелось, чтобы Александр вообще приближался к сыну этой женщины. Но что делать?
— Ты прав, — сказала она наконец, откашлявшись. — Мы не можем просто ничего не делать. Но знаешь что? Мне кажется, это я должна пойти поговорить с ним. Я женщина. Я маленькая. Я буду говорить с ним вежливо, как со всеми. Он не будет груб со мной.
Она почувствовала, как Александр напрягся.
— Ты шутишь? Он бьет свою мать! Даже и не думай подходить к нему!
— Тише... Все будет в порядке.
Александр повернул ее лицом к себе.
— Я серьезно, — сказал он, и его взгляд был пристальным и немигающим. — Даже шага не делай в его сторону! Ни единого шага! Потому что полслова против тебя, и он никогда больше ни с кем не заговорит, а я окажусь в американской тюрьме. Ты этого хочешь?
— Нет, милый, — мягко ответила она.
Он разговаривал! Он ожил. Он поднял голос, пусть шепотом! Татьяна поцеловала его, и целовала, и целовала, пока он не ответил на поцелуи, а его руки не скользнули по ее ночной рубашке.
— А я упоминал о том, как мне не нравится, если ты лежишь одетая в моей постели?
— Я знаю, но с нами малыш, — шепнула она. — Я не могу раздеться рядом с ним.
— Ты меня не одурачишь, — яростно возразил Александр.
— Милый, он ведь ребенок, — сказала она, избегая взгляда Александра. — И, кроме того, моя рубашка из шелка, не из мешковины. Ты не заметил, что под ней ничего нет?
Александр сунул руки под рубашку.
— Почему ты плакала, говоря с Викки? — Что-то холодное и неприязненное послышалось в его голосе. — Что, ты скучаешь по Нью-Йорку?
Татьяна виновато глянула на него. Тоскливо.
— А зачем ты каждый вечер ходишь к соседям? — шепотом спросила она, тихо постанывая.
Александр убрал руки.
— Неясно? Ты же видела его семью. Я единственный, с кем Ник может поговорить. У него никого нет, кроме меня.
«У меня тоже», — подумала Татьяна, и жаркая боль от этой мысли отразилась в ее глазах.
Она не могла сказать Александру о Сэме Гулотте и Министерстве иностранных дел. Для этого не было места в пространстве его холодной тоски.
Следующим вечером Энтони один приплелся обратно, пробыв с отцом и полковником полчаса. Солнце село, появились комары. Татьяна искупала его и, смазывая лосьоном «Каламин» следы укусов, спросила:
— Энт, а о чем там говорят папа и Ник?
— Не знаю, — неопределенно ответил Энтони. — Война. Сражения.
— А сегодня что? Почему ты вернулся так рано?
— Ник все просит папу кое о чем.
— О чем же?
— Убить его.
Татьяна, сидевшая на корточках, качнулась вперед, чуть не упав на пол:
— Что?!
— Только не сердись на папу. Пожалуйста.
Татьяна погладила его по голове:
— Энтони... Ты хороший мальчик.
Видя потрясение на лице матери, Энтони захныкал.
Она взяла его на руки:
— Тише, тише... Все будет хорошо, сынок.
— Папа говорит, что не хочет его убивать.
Татьяна быстро одела мальчика в пижаму.
— Подождешь здесь, обещаешь? Не выходи наружу в пижамке. Лежи в постели и посмотри свою книжку о лодках и рыбах.
— А ты куда?
— Позову папу.
— А ты... ты сразу вернешься, когда его позовешь? — неуверенно спросил Энтони.
— Конечно, Энтони, конечно. Я сразу вернусь.
— Ты будешь на него кричать?
— Нет, сынок.
— Мама, пожалуйста, не злись, если он убьет полковника!
— Тсс... Открой свою книжку. Я вернусь.
Татьяна достала из чулана свою сестринскую сумку. Ей понадобилось несколько минут, чтобы собраться с духом, но наконец она решительно направилась к соседнему дому.
— Ух ты! — воскликнул Ник, увидев ее. — Думаю, будет ругань.
— Не будет, — холодно произнесла Татьяна, открывая калитку.
— Он не виноват, — заявил Ник. — Это я. Я его задержал.
— Мой муж — большой мальчик. Он знает, когда достаточно — это достаточно. — Она обвиняюще посмотрела на Александра. — Но он забывает, что его сын говорит по-английски и слышит каждое слово взрослых.
Александр встал:
— Ладно, на этом спокойной ночи, Ник.
— Оставь стул, — велела Татьяна. — Иди. Энт там один.
— А ты не идешь?
— Я хочу поговорить минутку с Ником. — Она твердо посмотрела на Александра. — Иди. Я скоро.
Александр не тронулся с места.
— Что ты делаешь? — тихо спросил он.
Она видела, что он не собирается уходить, и не собиралась спорить с ним на глазах чужого человека. Хотя спор мог бы оказаться кстати.
— Ничего. Хочу поговорить с Ником.
— Нет, Таня. Идем.
— Ты даже не знаешь, о чем...
— Мне плевать. Идем.
Не обращая внимания на его протянутую руку, Татьяна села на стул и повернулась к полковнику:
— Я знаю, о чем вы говорите с моим мужем. Прекратите.
Ник покачал головой:
— Вы были на войне. Разве вы ничего не понимаете?
— Все понимаю. Вы не можете просить его об этом. Это неправильно.
— Правильно? — воскликнул полковник. — Вы хотите поговорить о том, что правильно?
— Да. Я многое старалась понять правильно для себя. Но вы пошли на фронт, и вы пострадали. Это цена, которую вы заплатили за то, чтобы ваши жена и дочь не говорили по-немецки. Когда они перестанут горевать о вас, им станет лучше. Я понимаю, сейчас это трудно, но лучше станет.
— Лучше никогда не станет. Вы думаете, я не знаю, за что сражался? Знаю. На это я не жалуюсь. Не на это. Но это не жизнь ни для меня, ни для моей жены. Это просто дерьмо собачье, извините за выражение.
И поскольку ничего другого он сделать не мог, Ник вывалился из своей коляски на траву. Татьяна задохнулась. Александр поднял его, снова усадил в коляску.
— Я хочу только одного — умереть, — произнес Ник, задыхаясь. — Разве вы не видите?
— Я вижу, — тихо сказала Татьяна. — Но оставьте в покое моего мужа.
— Никто другой мне не поможет!
Ник попытался снова свалиться на землю, но Татьяна решительно удержала его.
— Он тоже не поможет. Не с этим.
— А почему нет? Вы его спрашивали, сколько собственных людей он пристрелил, чтобы избавить от агонии? — закричал Ник. — Что, он вам не говорил? Скажи ей, капитан! Ты их пристрелил без раздумий. Почему ты не хочешь сделать это сейчас, со мной? Посмотри на меня!
Татьяна уставилась на мрачное лицо Александра, потом на Ника.
— Я знаю, что было с моим мужем на войне, — дрожащим голосом произнесла она. — Но вы оставите его в покое. Он тоже нуждается в мире.
— Пожалуйста, Татьяна... — прошептал Ник, прислоняясь головой к ее руке. — Посмотрите на меня. Моим радостям конец. Проявите милосердие. Просто дайте мне морфина. В этом нет жестокости, я не почувствую боли. Просто уплыву... Это доброта. Это правильно.
Татьяна вопросительно глянула на Александра.
— Я вас умоляю, — сказал Ник, видя ее колебания.
Александр рывком поднял Татьяну со стула.
— Прекратите, оба вы! — прикрикнул он тоном, не допускающим возражений даже со стороны полковника. — Вы оба просто свихнулись. Спокойной ночи.
Позже, в постели, они долго молчали. Татьяна тесно прижалась к мужу.
— Таня... скажи, ты собиралась убить Ника, чтобы я не мог проводить с ним время?
— Не говори глупо... — Она умолкла на полуслове. — Этот человек умирает. И хочет умереть. Неужели не понимаешь?
Александр с трудом ответил:
— Понимаю.
О боже...
— Так помоги ему, Александр. Отвези его в Бангор, в армейский госпиталь. Я знаю, он не хочет туда, но это необходимо. Тамошние сиделки обучены уходу за такими людьми. Они будут вставлять в его губы сигареты, будут читать ему. Будут заботиться о нем. И он будет жить.
Этот человек не может находиться рядом с тобой. Ты не можешь находиться рядом с ним.
Александр перебил ее:
— Мне тоже следует лечь в госпиталь в Бангоре?
— Нет, милый, нет, Шура, — прошептала она. — У тебя есть собственная сиделка, прямо здесь. Круглосуточная.
— Таня...
— Пожалуйста... Тсс...
Они отчаянно шептали, он в ее волосы, она в подушку перед собой.
— Таня, а ты бы... сделала это для меня, если бы я попросил? Если бы я... был таким, как он...
Александр замолчал.
— Быстрее, чем ты можешь себе представить.
Где-то слышались щелчки, щелчки, это сверчки, сверчки, летучие мыши шелестят крыльями, Энтони посапывает в тишине, в печали. Было однажды, когда Татьяна уже готова была помочь Александру... так почему не сделать это еще раз?
Она плакала беззвучно, только ее плечи дрожали.
На следующий день Александр отвез полковника в армейский госпиталь в Бангоре, в четырех часах пути. Они выехали рано утром. Татьяна наполнила их фляги, приготовила сэндвичи, постирала и отгладила армейские штаны Александра и его рубашку с длинными рукавами.
Перед уходом Александр спросил, наклонившись над маленькой фигуркой Энтони:
— Хочешь, чтобы я тебе привез что-нибудь?
— Да, игрушечного солдатика.
— Ты его получишь. — Александр взъерошил сыну волосы и выпрямился. — А как ты? — спросил он Татьяну, подходя к ней.
— О, мне и так хорошо, — с намеренной небрежностью ответила она. — Мне ничего не нужно.
Татьяна старалась глубже заглянуть в его бронзовые глаза, в нечто более далекое, понять, что он думает, что чувствует, пыталась дотянуться через океан, не зная дороги.
Ник уже был в фургоне, а его жена и дочь топтались неподалеку. Слишком много людей вокруг. Александр погладил Татьяну по щеке.
— Будь хорошей девочкой, — сказал он, целуя ее руку.
Она на мгновение прижалась лбом к его груди, прежде чем он отступил назад.
Когда Александр уже был у кабины «номада», он обернулся. Татьяна, стоявшая неподвижно, напряженно, крепко сжала руку Энтони, но это было единственным признаком внутренней бури, потому что для Александра она должна была выглядеть крепкой и надежной. Она даже сумела улыбнуться. И послала ему воздушный поцелуй. Он поднял руку к виску в неуверенном салюте.
В тот вечер Александр не вернулся.
Татьяна не спала.
Он не вернулся на следующее утро.
Или на следующий день.
Или на следующий вечер.
Татьяна порылась в его вещах и обнаружила, что его пистолет исчез. Остался только ее собственный, германский Р-38, который он дал ей в Ленинграде. Он был завернут в полотенце и лежал рядом с толстой пачкой купюр — денег, которые он заработал у Джимми и оставил для нее.
Она оцепенело лежала рядом с Энтони в их двуспальной кровати.
На следующее утро Татьяна отправилась на причал. Шлюп Джимми стоял там, а Джимми старался починить какое-то повреждение в борту.
— Привет, малыш! — сказал он Энтони. — Твой папа еще не вернулся? Я собираюсь отправиться добыть немножко лобстеров, только нужно тут починить.
— Он еще не вернулся. Но он привезет мне игрушечного солдатика.
Татьяна спросила:
— Джимми, он что-нибудь говорил тебе, на сколько дней уезжает?
Тот качнул головой:
— Нет, он сказал, что, если я захочу, я могу нанять одного из тех парней, что приходят сюда искать работу. Если его долго не будет, я так и сделаю. Надо же вернуться к делу.
Утро выдалось изумительное.
Татьяна, таща Энтони за руку, буквально взбежала вверх по холму к дому Бесси и стучала до тех пор, пока Бесси не проснулась и не вышла к двери с несчастным видом. Татьяна, не извиняясь за ранний визит, спросила, сообщал ли Ник что-нибудь из госпиталя.
— Нет, — ворчливо ответила Бесси.
Татьяна отказалась уходить, пока Бесси не позвонила в госпиталь и не выяснила, что полковник был туда принят без каких-либо проблем два дня назад. Мужчина, привезший его, пробыл там день, а потом уехал. Больше никто ничего не знал об Александре.
Прошел еще день.
Татьяна сидела на скамье у залива, глядя на утренние волны, наблюдая за сыном, качавшимся на проволочных качелях. Она прижимала ладони к животу. Она старалась не раскачиваться, как раскачивался Александр в три часа ночи.
Он что, бросил ее? Поцеловал руку и ушел?
Нет. Это было невозможно. Что-то случилось. Он не смог справиться, не смог совладать, не смог найти дорогу туда, дорогу обратно. Я знаю. Я чувствую. Мы думали, что самое трудное позади, — но мы ошибались. Жизнь и есть самое трудное. Бороться за жизнь, когда весь ты выгорел изнутри и снаружи, — нет ничего труднее. Боже милостивый... Где Александр?
Она должна была немедленно отправиться в Бангор. Но как? У нее не было машины; могут ли они с Энтом отправиться туда на автобусе? Могут ли они покинуть Стонингтон навсегда, бросив все? И поехать — куда? Но она должна была что-то сделать, она не могла просто сидеть здесь!
Она была напряжена внутри, снаружи.
Она должна была быть сильной ради сына.
Должна быть решительной ради него.
Все будет в порядке.
Она повторяла это как мантру. Снова и снова.
«Это мой ночной кошмар!» — кричало все тело Татьяны. «Я думала, это как сон — то, что он снова со мной, и я была права, а теперь я открыла глаза, и он исчез, как и прежде».
Татьяна смотрела на качавшегося Энтони, смотрела мимо него, думая только об одном мужчине, воображая только одно сердце в бесконечной пустоте вселенной, — после, сейчас, всегда. Она все так же летела к нему.
Жив ли он еще?
Жива ли еще я?
Она думала, что жива. Никто не может страдать так сильно, будучи мертвым.
— Мама, ты смотришь? Я хочу крутиться, крутиться, пока у меня не закружится голова и я не упаду. Ух! Ты смотришь? Смотри, мама!
Ее пустой взгляд скользнул к нему.
— Я смотрю, Энт. Смотрю.
В воздухе сильно пахло августом, солнце сияло так ярко, сосны, вязы, море, кружащийся мальчик, молодая мать...
Татьяна воображала Александра с самого детства, еще до того, как поверила, что некто вроде него вообще возможен. Когда она была девочкой, мечтала о прекрасном мире, в котором добрый человек придет извилистыми дорогами, может быть, его блуждающая душа будет искать ее.
На берегу реки Луги, 1938 год
Мир Татьяны был идеален.
Жизнь может и не быть идеальной, даже совсем нет. Но летом, когда день начинается почти до того, как кончился предыдущий, когда ночь напролет поют сверчки, а коровы мычат, когда еще не улетел сон, когда летние запахи июня в деревне Луге остры — вишня и сирень — и в душе волнение от рассвета до сумерек, когда ты можешь лежать на узкой кровати у окна и читать книги о великих приключениях и никто тебя не тревожит, — а воздух так спокоен, и шелестят ветки, и совсем близко журчит река Луга... тогда мир — идеальное место.
И в это утро юная Татьяна спешила по дороге, неся два ведерка молока от коровы Берты. Она напевала, молоко плескалось, Татьяна торопилась, чтобы поскорее дойти и забраться в кровать и читать изумительную книгу, — и девушка невольно подпрыгивала на ходу, а молоко проливалось. Она остановилась, опустила коромысло с плеча на землю, подняла одно ведро и выпила из него теплого молока, потом подняла другое и выпила еще. Снова подняв коромысло на плечи, побежала дальше.
У Татьяны были длинные руки и ноги, все вытягивалось в прямую линию — ноги, колени, бедра, грудная клетка, плечи, сходясь к длинной шее, и все это венчало круглое русское лицо с высоким лбом, крепким подбородком, розовым улыбающимся ртом и белыми зубами. Глаза ее сверкали озорной зеленью, щеки и маленький нос покрывали веснушки. Это радостное лицо окружали очень светлые волосы, легкие как перышки; они падали ей на плечи. Никто не мог сидеть рядом с Татьяной и удержаться от того, чтобы не погладить ее шелковую голову.
— ТАТЬЯНА! — Этот крик раздался с крыльца.
Кто же это мог быть, кроме Даши.
Даша всегда кричала. Татьяна, нужно то, Татьяна, нужно это. «Ей бы научиться расслабляться и понижать голос», — подумала Татьяна. Хотя зачем? Все в семье Татьяны были шумными. А как еще можно кого-то услышать? Их было слишком много. Ну, ее седой дедушка как-то умудрялся быть тихим. И Татьяна тоже. Но все остальные: ее мать, отец, сестры, даже брат Паша — ему-то зачем кричать? — все орали, словно только что появились на свет.
Дети шумно играли, а взрослые ловили рыбу и выращивали овощи в огороде. У кого-то были коровы, у кого-то козы; они меняли огурцы на молоко, молоко на зерно; мололи рожь и сами пекли хлеб. Куры несли яйца, которые меняли на чай у горожан, и время от времени кто-то привозил из Ленинграда сахар и икру. Шоколад был таким же редким и дорогим, как бриллианты, и потому, когда отец Татьяны (который недавно по служебным делам ездил в Польшу) спросил детей, что им привезти, Даша тут же сказала: «Шоколад!» Татьяна тоже хотела сказать «шоколад», но вместо того произнесла: «Может быть, красивое платье, папа?» Она донашивала одежду за сестрой, и она ей была велика.
— ТАТЬЯНА!
Голос Даши несся со двора.
Неохотно повернув голову, Татьяна недоуменно посмотрела на сестру, стоявшую у калитки, упираясь ладонями в широкие бедра.
— Да, Даша? — негромко произнесла она. — В чем дело?
— Я тебя уже десять минут зову! Охрипла от крика! Ты меня слышала?
Даша была выше Татьяны и полнее; ее непослушные волнистые каштановые волосы были связаны в хвост, карие глаза негодовали.
— Нет, не слышала. Может, надо было кричать громче.
— Где ты была? Ты два часа пропадаешь — и это чтобы принести молоко через пять домов по дороге!
— А где пожар?
— Прекрати! Я тебя жду.
— Даша, — философски заметила Татьяна, — Бланка Давидовна говорит, что Христос благословляет терпеливых.
— Ох, ты умеешь зубы заговаривать, хотя ты — одна из самых нетерпеливых особ, кого только я знаю.
— Ладно, скажи это корове Берты. Я ждала, пока она вернется с пастбища.
Даша забрала у Татьяны бадейки.
— Берта и Бланка тебя накормили, так?
Татьяна округлила глаза:
— Они меня накормили, они меня поцеловали, они прочитали мне проповедь. А сегодня даже не воскресенье. Так что я сыта, чиста и едина с Господом. — Она вздохнула. — В следующий раз можешь сама пойти за молоком, нетерпеливая язычница.
Татьяне оставалось три недели до четырнадцати лет, а Даше в апреле исполнился двадцать один. Даша считала себя второй матерью Татьяны. Их бабушка видела в себе третью мать Татьяны. Старые леди, дававшие Татьяне молоко и беседовавшие с ней об Иисусе, думали, что они четвертая, пятая и шестая матери. Татьяна чувствовала, что ей вряд ли нужна даже та одна раздражительная мать, которая у нее имелась, — к счастью, в данный момент она находилась в Ленинграде. Но Татьяна знала, что по той или иной причине эти женщины, сестры, другие люди ощущали потребность быть ей матерями, удушать ее своей заботой, сжимать в сильных руках, заплетать ее пушистые волосы, целовать ее веснушки и молиться за нее Господу.
— Мама оставила на меня заботу о тебе и Паше, — авторитетно заявила Даша. — И если ты не желаешь этого признавать, я не расскажу тебе новости.
— Какие новости? — Татьяна подпрыгнула на месте. Она любила новости.
— Не скажу.
Татьяна запрыгнула на крыльцо, следом за Дашей вошла в дом. Даша поставила на пол бадейки. Татьяна, в детском летнем сарафане, бросилась к сестре и обняла ее, и та чуть не упала, прежде чем смогла восстановить равновесие.
— Не делай так! — не слишком сердито сказала Даша. — Ты уже слишком большая.
— Я не слишком большая.
— Мама меня убьет, — сказала Даша, похлопывая Татьяну по спине. — Ты только то и делаешь, что спишь, читаешь и не слушаешься. Ты не ешь, не растешь. Ты посмотри, какая ты маленькая!
— Ты вроде бы только что говорила, что я слишком большая. — Руки Татьяны обхватили шею Даши.
— А где твой чокнутый братец?
— Ушел на рассвете рыбу ловить. Хотел, чтобы и я с ним пошла. Чтобы я встала на рассвете. Я ему сказала, что я думаю на этот счет.
Даша обняла ее:
— Таня, да хворостины для растопки толще, чем ты! Давай съешь яйцо.
— Я съем яйцо, если ты расскажешь новости, — ответила Татьяна, целуя сестру в щеку, потом в другую. Чмок-чмок-чмок. — Ты никогда не должна придерживать для себя хорошие новости, Даша. Это правило: плохие новости для себя, хорошие для всех.
Даша усадила ее к столу.
— Не знаю, хорошие ли это новости, но... У нас новые соседи, — сообщила она. — По соседству теперь живут Канторовы.
Татьяна вытаращила глаза.
— Ты же не хочешь сказать... — потрясенно произнесла она, прижимая ладони к щекам. — Только не Канторовы!
— Именно это, ничего другого.
Татьяна засмеялась:
— Ты говоришь «Канторовы» так, словно они Романовы!
Даша продолжила взволнованным тоном:
— Говорят, они из Центральной Азии! Из Туркменистана, может быть? И у них, похоже, есть девочка — будет тебе с кем играть.
— И это твои новости? Туркменская девочка, чтобы играть со мной? Даша, тебе бы лучше соображать. У меня здесь целая деревня девочек и мальчиков для игр, и они говорят по-русски. И еще двоюродная сестра приедет на две недели, Марина.
— И еще у них есть сын.
— Вот как? — Татьяна окинула Дашу взглядом. — А! Понимаю. Не моего возраста. Твоего.
Даша улыбнулась:
— Да, в отличие от тебя некоторые интересуются мальчиками.
— То есть на самом деле это новости не для меня. Они для тебя.
— Нет. Девочка — это для тебя.
Татьяна вышла с Дашей на крыльцо, чтобы съесть сваренное вкрутую яйцо. Ей пришлось признать, что и она тоже взволнована. Новые люди не слишком часто появлялись в деревне. Вообще-то, никогда. Деревня была маленькой, дома из года в год сдавались одним и тем же людям, они росли здесь, обзаводились детьми, старели.
— Ты говоришь, они переехали в соседний дом?
— Да.
— Где жили Павловы?
— Больше не живут.
— А что с ними случилось?
— Я не знаю. Но их здесь нет.
— Это ясно. Но что с ними случилось? Прошлым летом они ведь здесь были.
— Они здесь были пятнадцать лет.
— Пятнадцать лет, — согласилась Татьяна, — а теперь в их дом переехали новые люди? Когда в следующий раз поедешь в город, загляни в местный Совет, спроси председателя, что стало с Павловыми.
— Ты в своем уме, что ты говоришь? Чтобы я пошла в Совет выяснять, куда подевались Павловы? Ты ешь лучше. Съешь яйцо. И хватит задавать вопросы. Я уже от тебя устала, а еще только утро.
Татьяна сидела, надув щеки, как бурундук, держа во рту яйцо и моргая. Даша засмеялась и прижала ее к себе. Татьяна отодвинулась.
— Сиди спокойно. Я заново заплету тебе волосы, они растрепались. Что ты сейчас читаешь, Танечка? — спросила она, занявшись ее волосами. — Что-то интересное?
— «Королеву Марго». Прекрасная книга.
— Не читала. О чем она?
— О любви. Ох, Даша... ты и представить не можешь такую любовь! Осужденный солдат Ла Моль влюбляется в несчастную католичку, жену Генриха Четвертого, королеву Марго. Такая невероятная любовь, просто сердце разрывается!
Даша засмеялась:
— Таня, ты самая милая из всех девочек! Ты абсолютно ничего ни о чем не знаешь, но рассуждаешь о любви в книге!
— Да, ты явно не читала «Королеву Марго», — спокойно откликнулась Татьяна. — Это не просто слова о любви. — Она улыбнулась. — Это песня любви!
— Я не могу позволить себе роскошь читать о любви. Я занята только тем, что забочусь о тебе.
— Но ты оставляешь немножко времени для вечернего общения.
Даша ущипнула ее:
— Для тебя все шутка. Ну, погоди немного, детка. Однажды ты перестанешь думать, что вечернее общение — это смешно.
— Может быть, но все равно я думаю, что ты смешная.
— Я тебе покажу смешное! — Даша опрокинула сестру на спину. — Ты хулиганка! Когда уже ты повзрослеешь? Ладно, я больше не могу ждать твоего невозможного братца. Пойдем познакомимся с твоей новой подругой, мадемуазель Канторовой.
Сайка Канторова.
Летом тридцать восьмого, когда Татьяне исполнилось четырнадцать, она стала взрослой.
Люди, переехавшие в соседний дом, были кочевниками; они перебрались из тех частей мира, что отстояли очень далеко от Луги. У них были странные азиатские имена. Отец, Мурак Канторов, слишком молодой для пенсионера, пробормотал, что он военный в отставке. Но у него были длинные черные волосы, связанные в хвост. Разве солдаты носят такие длинные волосы? Мать, Шавтала, сказала, что она «в общем учительница». Сын Стефан, девятнадцати лет, и дочь Сайка, которой было пятнадцать, ничего не сказали, только по слогам произнесли имя Сайки: «Са-хии-ка».
Правда ли, что они приехали из Туркменистана? Они бывали там. Из Грузии? И там случалось бывать. Канторовы отвечали на все вопросы неопределенно.
Обычно новые люди бывали общительнее, не такими настороженными или молчаливыми. Даша сделала попытку:
— Я помощница дантиста. Мне двадцать один. А ты, Стефан?..
Даша уже флиртовала! Татьяна громко кашлянула. Даша ущипнула ее. Татьяне хотелось пошутить, но, похоже, в этой полной неловко стоявших людей темной комнате места для шуток не хватало. Снаружи сияло солнце, но внутри нестираные занавески были задернуты на грязных окнах. Канторовы даже не распаковали свои чемоданы. В доме осталась мебель Павловых, которые как будто уехали ненадолго.
Но на полке над печью появились новые вещи. Фотографии, рисунки, странные фигурки и маленькие золоченые картинки, похожие на иконы, хотя на них не было Иисуса или Марии... просто какие-то штуки с крыльями.
— А вы знали Павловых? — спросила Татьяна.
— Кого? — грубовато спросил отец семейства.
— Павловых. Это был их дом.
— Ну, больше это не их дом, так? — сказала мать.
— Они не вернутся, — сказал Мурак. — У нас есть документы из Совета. Мы теперь прописаны здесь. Не слишком ли много вопросов для ребенка? Кому вообще это интересно? — Он изобразил улыбку.
Татьяна изобразила такую же в ответ.
Когда они уже вышли, Даша прошипела:
— Ты это прекрати! Я просто поверить не могу, что ты задаешь бессмысленные вопросы. Помалкивай, или, клянусь, я все расскажу маме, когда она приедет.
Даша, Стефан, Татьяна и Сайка стояли в солнечном свете.
Татьяна молчала. Ей не разрешили задавать вопросы.
Наконец Стефан улыбнулся Даше.
Сайка осторожно посматривала на Татьяну.
Именно в этот момент Паша, маленький и шустрый, подбежал к ним, сунул Татьяне ведерко с тремя окунями и громко заявил:
— Ха, смотри-ка, мисс Ничего-не-знаю, что я сегодня поймал...
— Паша, познакомься с нашими новыми соседями, — перебила его Даша. — Паша... это Стефан и Сайка. Сайка твоего возраста.
Теперь Сайка улыбнулась:
— Привет, Паша.
Тот широко улыбнулся в ответ:
— Ну да, привет, Сайка.
— А сколько тебе лет? — спросила Сайка, оценивающе глядя на него.
— Ну, мне столько же, сколько вот этой. — Темноволосый Паша сильно дернул Татьяну за косу. Та толкнула его. — Нам скоро четырнадцать.
— Так вы двойняшки! — воскликнула Сайка, присматриваясь к ним. — Кто бы подумал! Вы совсем не похожи. — Она усмехнулась. — Ладно-ладно. Ты выглядишь старше сестры.
— О, он намного старше меня, — сказала Татьяна. — На целых девять минут.
— Ты кажешься старше, Паша.
— И на сколько старше, Сайка? — ухмыльнулся Паша.
Сайка улыбнулась.
— Минут на двенадцать, пожалуй, — проворчала Татьяна, подавляя желание состроить гримасу, и как бы случайно опрокинула ведро, и драгоценные рыбины вывалились на траву. Внимание Паши шумно обратилось на них.
Просыпаться и слушать утреннюю тишину, просыпаться и ощущать солнце, ничего не делая, ничего не думая, не суетясь. Татьяна жила в Луге, не тревожась о погоде, потому что во время дождя она читала, а в солнечные дни плавала. Она жила в Луге, не тревожась о жизни: она никогда не задумывалась о том, что надеть, потому что у нее ничего не было, или что есть, потому что в общем еды хватало. Она жила в Луге в безвременном детском блаженстве, без прошлого и без будущего. И думала, что нет в мире ничего такого, что не могло бы исправить лето в Луге.
Последний снег. 1946 год
— Мама, мама!
Она вздрогнула и обернулась. Энтони бежал, показывая на холм, вниз по которому шел Александр. На нем была та же одежда, в какой он уехал.
Татьяна вскочила. Ей хотелось побежать к нему, однако ноги ее не слушались. Они даже едва позволяли ей стоять. Энтони, храбрый мальчик, прыгнул прямо в руки отца.
Неся сына, Александр по прибрежной гальке подошел к Татьяне и поставил Энтони на землю:
— Привет, малышка.
— Привет... — произнесла она, с трудом сохраняя спокойное выражение лица.
Небритый и грязный, Александр стоял и смотрел на нее, тоже едва сдерживаясь; под глазами у него залегли черные круги. Татьяна забыла обо всем и шагнула к нему. Он наклонился к ней, прижался лицом к ее шее, волосам... Татьяна обняла его. Она почувствовала в нем такое черное отчаяние, что задрожала.
Обнимая ее крепче, он прошептал:
— Тише, тише, не надо, мальчик...
Когда он ее отпустил, Татьяна не подняла взгляда; она не хотела, чтобы он увидел в ее глазах страх за него. Облегчения не наступило. Но он был с ней.
Дергая отца за руку, Энтони спросил:
— Пап, почему ты так долго не возвращался? Мама так волновалась!
— Да? Мне жаль, что мамочка волновалась, — сказал Александр, не глядя на нее. — Но, Энт, игрушечных солдатиков не так-то легко найти.
И он достал сразу трех из своей сумки. Энтони взвизгнул:
— А маме ты принес что-нибудь?
— Мне ничего не нужно, — сказала Татьяна.
— А вот это хочешь? — Александр достал четыре головки чеснока.
Татьяна попыталась улыбнуться.
— А вот это? — Теперь он предъявил ей две плитки хорошего шоколада.
Она снова изобразила улыбку.
Когда они поднимались на холм, Александр, несший Энтони, предложил руку Татьяне. Положив ладонь на его локоть, она на мгновение прижалась к мужу всем телом.
Александр помылся, переоделся, побрился, поел. Теперь в их узкой кровати она лежала на нем, целовала, обнимала, ласкала, плакала. Он лежал неподвижно, молча, с закрытыми глазами. Чем более навязчивыми и отчаянными становились ее ласки, тем больше он становился похожим на камень, пока наконец не оттолкнул ее:
— Довольно. Перестань. Ты разбудишь малыша.
— Милый, милый... — шептала она, стремясь к нему.
— Перестань, говорю тебе. — Он отвел ее руки.
— Сними рубашку, милый, — тихо, со слезами, бормотала она. — Смотри, я сниму ночную рубашку. Буду голой, как тебе нравится...
Он остановил ее:
— Нет, я слишком измотан. Ты разбудишь мальчика. Кровать слишком скрипит. Ты очень шумишь. Перестань плакать, говорят же тебе.
Татьяна не знала, что делать. Лаская его, пока он не затвердел в ее руках, она спросила, не хочет ли он кое-чего. Он пожал плечами.
Дрожа, она коснулась его губами, но не смогла продолжить; она была слишком потрясена, слишком печальна. Александр вздохнул.
Спустившись с кровати, он положил ее на дощатый пол, повернул, поставив на четвереньки, повторяя, чтобы она не шумела, и взял ее сзади, одну руку положив ей на поясницу, а другой поддерживая за бедро. Закончив, он встал, вернулся в постель и больше не издал ни звука.
После той ночи Татьяна просто не могла разговаривать с ним. Одно дело — что он просто не рассказывал ей, что с ним происходит. Но другое — что она не могла набраться храбрости спросить. Молчание между ними разрасталось до черной пропасти.
Три вечера подряд Александр непрерывно чистил свое оружие. То, что у него было оружие, уже достаточно беспокоило, но он еще и не мог расстаться хоть с чем-то, что привез из Германии, — ни со знаменитым «Кольтом М1911» сорок пятого калибра, который купила для него Татьяна, ни с «коммандо», ни даже с девятимиллиметровым Р-38. Кольт 1911, король пистолетов, был у Александра любимым: Татьяна видела это по тому, как долго Александр его чистил. Она могла уйти, уложить Энтони в постель, а когда снова выходила из дома, он мог все так же сидеть на стуле, вставляя и вынимая магазин, взводя курок, снимая предохранитель и снова его поднимая, протирая пистолет лоскутом.
Три вечера подряд Александр не прикасался к ней. Татьяна, не зная, не понимая, но отчаянно желая сделать его счастливым, держалась в сторонке, надеясь, что со временем он объяснит или вернется к прежнему. Он возвращался так медленно... На четвертый вечер он снял одежду и в темноте предстал перед ней обнаженный, а она села на кровати, готовая принять его. И посмотрела на него снизу вверх. Он смотрел на нее.
— Хочешь, чтобы я к тебе прикоснулась? — неуверенно прошептала она, протягивая к нему руки.
— Да. Я хочу, чтобы ты ко мне прикоснулась, Татьяна.
Он немного раскрылся, но так ничего и не объяснил в темноте, в их маленькой комнатке, рядом со спящим Энтони.
Дни стали прохладнее, комары исчезли. Листья начали менять цвет. Татьяна и не думала, что в ее теле осталось столько сил, чтобы сидеть на скамье и наблюдать за холмами, менявшими краски на киноварь, и винный цвет, и золото и отражавшимися в спокойной воде.
— Энтони, — тихо спрашивала она, — это ведь прекрасно, или как?
— Это или как, мама.
На нем была офицерская фуражка отца, та, которую много лет назад отдал ей доктор Мэтью Сайерз, предполагая, что Александр мертв. Он утонул, Татьяна, провалился под лед, но у меня осталась его фуражка; хотите взять?
Бежевая фуражка с красной звездой, слишком большая для Энтони; она заставляла Татьяну думать о себе и своей жизни в прошедшем времени вместо настоящего. Внезапно пожалев, что дала ее мальчику, она попыталась ее забрать, спрятать, даже выбросить, но Энтони каждое утро спрашивал:
— Мама, где моя фуражка?
— Это не твоя фуражка.
— Моя! Папа сказал, она теперь моя.
— Зачем ты ему сказал, что он может оставить ее себе? — как-то вечером недовольно спросила она Александра, когда они не спеша шли к городу.
Прежде чем он успел ответить, мимо пробежал парнишка, которому явно не было еще и двадцати, легонько коснулся плеча Татьяны и произнес с широкой радостной улыбкой:
— Привет, девица-красавица!
Отсалютовав Александру, он помчался дальше вниз по холму.
Александр медленно повернулся к Татьяне, державшей его под руку. И похлопал ее по пальцам:
— Ты его знаешь?
— И да и нет. Ты пьешь то молоко, которое он приносит каждое утро.
— Так это молочник?
— Да.
Они пошли дальше.
— Я слышал, — заговорил наконец Александр, — что он заигрывает со всеми женщинами в деревне, кроме одной.
— Ох, — мгновенно ответила Татьяна, — могу поспорить, это та задавака Мира из тридцатого дома.
И Александр рассмеялся.
Он смеялся! Смеялся!
А потом он наклонился к ней и поцеловал:
— Вот это забавно, Таня.
Татьяна была довольна тем, что он доволен.
— Можешь ты мне объяснить, почему ты не возражаешь против того, чтобы Энт носил твою фуражку? — спросила она, сжимая его руку.
— Ну, вреда-то в этом нет.
— Не думаю, что это так уж безвредно. Иногда вид твоей армейской фуражки мешает мне видеть Стонингтон. Это ведь не безвредно, а?
И что заставило ее неподражаемого Александра сказать так, когда он шел с женой и сыном этой прекрасной осенью Новой Англии по холму, смотрящему на прозрачные океанские воды?
Он сказал:
— А что такое со Стонингтоном?
Лишь день спустя Татьяна наконец-то разобралась, почему это место так близко ее душе. Высокая трава и сверкающая вода, поля цветов и сосны, мимолетные запахи в прозрачном воздухе — все это напоминало ей Россию! А когда она это осознала — минуты и часы багряных и красно-коричневых красок кленов, золотые горные ясени и качающиеся березы, пронзающие ее сердце, — она перестала улыбаться.
Когда в тот вечер Александр вернулся с моря, и поднялся по холму к ней, сидевшей как обычно на скамье, и увидел ее пустое лицо, он сказал, кивнув:
— А... Наконец-то. Итак... что ты думаешь? Приятно вспоминать о России, Татьяна Метанова?
Она промолчала, просто пошла с ним к причалу.
— Почему ты не берешь лобстеров, давай! Энт побудет со мной, пока я заканчиваю дела.
Татьяна взяла лобстеров и бросила их в мусорный бак.
Александр насмешливо прикусил губу:
— Что, сегодня никаких лобстеров?
Татьяна прошла мимо него к лодке:
— Джим! Я вместо лобстеров приготовила спагетти с фрикадельками. Хочешь сегодня поужинать с нами?
Джимми просиял.
— Хорошо. — Татьяна повернулась, чтобы уйти, но тут, как бы вдруг вспомнив, добавила: — Ох, кстати, я пригласила еще и мою подругу Нелли с Истерн-роуд. Она слегка подавлена. Только что узнала, что потеряла на войне мужа. Надеюсь, ты не против.
Как выяснилось, Джимми не был против. И слегка подавленная Нелли тоже.
Миссис Брюстер снова достались колотушки из-за арендных денег. Татьяна промывала порез на ее руке, а Энтони наблюдал, так же серьезно, как и его отец, глядя на мать со скамеечки у ее ног.
— Мама была сиделкой! — почтительно произнес он.
Миссис Брюстер всмотрелась в нее. Что-то было у нее на уме.
— Ты мне никогда не говорила, откуда ты, а этот твой акцент... Похож на...
— Русский! — сообщил трехлетка, рядом с которым не было отца, чтобы остановить его.
— А! А твой муж тоже русский?
— Нет, мой муж американец.
— Папа американец! — с гордостью заявил Энтони. — Но он был капитаном на...
— Энтони! — одернула его Татьяна. — Пора встречать папу.
На следующий день миссис Брюстер высказала мнение насчет того, что Советы были отвратительно коммунистическими. Так думал ее сын. А ей нужно было еще семь долларов за воду и электричество.
— Ты постоянно готовишь на моей плите!
Татьяна была потрясена таким вымогательством:
— Но я готовлю ужин и для вас!
Миссис Брюстер заявила, поглаживая наложенную Татьяной повязку на руке:
— И с учетом духа коммунизма мой сын говорит, что хочет получать за комнату тридцать долларов в неделю, а не восемь. Или вам придется найти другую коммуну, товарищ.
Тридцать долларов в неделю!
— Хорошо, — процедила Татьяна сквозь зубы. — Я доплачу вам еще двадцать два за неделю. Но это останется между нами. Не говорите моему мужу.
Она ушла, в бешенстве на женщину, которую сын колотил из-за денег, но которому она все равно доверяла больше, чем другим.
Как только они встретили у причала Александра, Энтони сообщил:
— Па, миссис Брустер называет нас гадкими коммунистами!
Александр посмотрел на Татьяну.
— Что, в самом деле?
— Да, и мама расстроилась!
— Так или нет? — Александр повернулся к ней.
— Нет, не расстроилась. Энтони, беги вперед, мне нужно поговорить с твоим отцом.
— Расстроилась, расстроилась! У тебя всегда губы вот так сжимаются, когда ты расстроена! — Он скривил губы, показывая отцу.
— Сейчас это не так, — заметил Александр.
— Хватит, вы оба! — тихо сказала Татьяна. — Ты пойдешь вперед, Энтони?
Но он протянул к ней руки, и она подняла его.
— Пап, она назвала нас коммунистами!
— Поверить не могу.
— Пап?
— Что?
— А что такое коммунисты?
Вечером перед ужином из лобстеров («Ох, неужели снова?») и картофеля Энтони спросил:
— Пап, а двадцать два доллара — это много или мало?
Александр посмотрел на сына:
— Ну, как посмотреть. Для покупки машины — мало. А для леденцов — очень много. А что?
— Миссис Брустер хочет, чтобы мы дали ей еще двадцать два доллара.
— Энтони! — Татьяна стояла у плиты. Она не обернулась. — Нет, этот ребенок просто невыносим! Иди мыть руки! С мылом! Как следует! И прополощи хорошенько.
— Они чистые!
— Энтони, ты слышал маму. Быстро! — вмешался Александр.
Энтони ушел.
Александр подошел к Татьяне:
— Что вообще происходит?
— Ничего.
— Пора двигаться дальше, тебе не кажется? Мы здесь уже два месяца. А скоро сильно похолодает. — Он немного помолчал. — Я даже и говорить не стану о коммунистах или двадцати двух долларах.
— Я бы не возражала, если бы мы вовсе отсюда не уезжали. Мы здесь на краю света. Ничто сюда не вторгнется. Разве что... — Она махнула рукой, показывая наверх, где была миссис Брюстер. — Я здесь чувствую себя спокойно. Как будто никто никогда нас не найдет.
Александр затих. Потом спросил:
— А кто-то... ищет нас?
— Нет-нет. Конечно нет. — Она ответила слишком быстро.
Александр двумя пальцами подцепил ее подбородок и заставил поднять лицо:
— Таня?
Она не смогла ответить на его серьезный взгляд:
— Я просто пока что не хочу уезжать, ладно?
Татьяна попыталась увернуться от его руки. Но Александр ее не отпустил.
— Это все! Мне здесь нравится. — Она подняла руки, чтобы отвести его ладонь. — Давай переберемся к Нелли. У нас будут две комнаты. У нее кухня больше. И ты сможешь ходить выпить с твоим приятелем Джимми. Насколько я понимаю, он туда изредка заглядывает. — Она улыбнулась, стараясь убедить его.
Отпустив ее, Александр поставил свою тарелку в раковину, громко звякнув ею по алюминиевой поверхности.
— Да, давай. Нелли, Джимми, мы. Прекрасная идиллия, жизнь в коммуне. Нам это прямо необходимо. — Он пожал плечами. — Ох, ладно. Полагаю, можно забрать девушку из Советского Союза, но тебе не вытряхнуть Советский Союз из девушки.
По крайней мере, это было хоть какое-то соучастие. Хотя, как твердила себе Татьяна, не слишком большое.
Они переехали к Нелли. Воздух стал сначала немного прохладнее, потом намного холоднее, потом холодным, особенно по ночам, а Нелли, как они обнаружили, была крайне экономна в отоплении.
Энтони совершенно не желал оставаться один. Александру пришлось перетащить двуспальную кровать к нему и сдвинуть обе кровати вместе — снова. Они платили за две комнаты, но жили в одной.
Они жались друг к другу под толстыми одеялами, а потом вдруг, в середине октября, пошел снег! Он летел с неба округлыми хлопьями и в одну ночь покрыл залив, а почти голые деревья окутал белым пухом. Работы для Александра больше не было, теперь везде лежал снег. В то утро, когда он выпал, они посмотрели в окно, а потом друг на друга. Александр улыбнулся до ушей.
Татьяна наконец поняла:
— Ах, ты! Ты такой самодовольный из-за того, что знал!
— Такой самодовольный, — согласился он, все так же улыбаясь.
— Ладно, но насчет меня ты ошибаешься. Немножко снега — что тут такого?
Александр кивнул:
— Верно, Энтони? Мы с тобой привыкли к снегу. В Нью-Йорке тоже бывает снег.
— Не только в Нью-Йорке.
Улыбка в глазах Александра потускнела, словно затуманенная тем самым снегом, который он восхвалял.
...Ступеньки были скользкими, их покрывал слой старого льда толщиной в четыре дюйма. Наполовину полное железное ведро с водой было тяжелым, вода постоянно выплескивалась на ступеньки, когда она цеплялась одной рукой за перила, держа ведро в другой и поднимаясь на одну опасную ступеньку шаг за шагом. Ей нужно было одолеть два лестничных пролета. На седьмой ступеньке она упала на колени, но не выпустила ни перила, ни ведро. Медленно поднялась на ноги. И попыталась снова сделать шаг. Если бы здесь было хоть немножко света, она бы видела, куда ступает и, возможно, избегала бы льда. Но дневного света не будет еще два часа, а ей еще нужно пойти за хлебом. Если она будет ждать здесь два часа, хлеба в магазине не останется. А Даше становилось все хуже. Ей нужен был хлеб.
Татьяна отвернулась от Александра. Стояло утро. Но освещение не убавляли в начале дня; такое не позволялось.
Они отправились кататься на санках. Взяли в универмаге напрокат двое деревянных санок с рулями и провели день с остальными жителями деревни, скатываясь с крутого холма Стонингтона: склон тянулся до самого залива. Энтони ровно два раза поднялся на холм. Холм был большим, а Энтони был храбрым и крепким, но все же остальные двадцать раз наверх его нес отец.
Наконец Татьяна сказала:
— Дальше без меня. Я больше не могу ходить.
— Нет, идем с нами! — заныл Энтони. — Пап, я могу сам подняться. Можешь ты донести маму?
— Думаю, смогу.
Энтони потрусил вперед, а Александр понес Татьяну на спине. Она визжала, на ее лице замерзали слезы. Но потом они помчались вниз, Татьяна с Энтони вместе на одних санках, и они старались обогнать Александра, который был тяжелее матери и сына, вместе взятых, и он отлично маневрировал, его не тормозил страх маленького мальчика, как Татьяну. А она все равно неслась во весь дух, и Энтони восторженно и испуганно верещал. Она почти победила Александра. Только внизу налетела на него.
— Ты прекрасно знаешь, если бы не Энтони, тебе бы не победить! — заявила она, рухнув на него.
— О, я победил бы, — возразил он, сталкивая ее в снег. — Давай мне Энта и посмотрим.
Это был хороший день.
Они провели еще три долгих дня среди белых горных ясеней у белого залива. Татьяна пекла пироги в большой кухне Нелли. Александр читал от корки до корки все газеты и журналы и рассуждал о послевоенной политике с Татьяной и Джимми, даже с безразличной Нелли. На картофельном поле Нелли Александр соорудил для Энтони снеговиков. Вынув пироги из печи, Татьяна вышла из дома и увидела шесть снеговиков, выстроенных как солдаты, от большого до маленького. Она неодобрительно хмыкнула, сделала большие глаза и утащила Энтони подальше, чтобы слепить из снега ангелов. Они соорудили их тридцать, тоже выстроив в ряд, как солдат.
На третью ночь зимы Энтони лежал в их постели, забывшись тревожным сном, а они не спали. Александр поглаживал ягодицы Татьяны под ее ночной рубашкой. Единственное окно их комнаты залепил снег. Татьяна предполагала, что за снегом сияла луна. Ее руки становились настойчивыми. Александр тихо сбросил на пол одно одеяло, тихо уложил на него Татьяну, тихо перевернул ее на живот, и они тайком занялись любовью, как два пехотинца, молча ползущие к линии огня, — его живот прижимался к ее спине, его тело полностью закрывало ее маленькое тело, одной рукой он сжимал ее запястья у нее над головой. Удерживая ее так, он целовал ее плечи и затылок, а когда она поворачивала голову, целовал в губы, и его свободная рука блуждала по ее ногам и бокам, а он двигался глубоко и медленно, что уже было удивительно само по себе, но еще более удивительным было то, что он развернул ее лицом к себе, чтобы закончить, но все так же удерживал ее руки и даже с заметным шумом резко, коротко выдохнул в лихорадке последнего момента... а потом они неподвижно лежали под одеялами, и Татьяна тихонько заплакала под ним, а он сказал:
— Тихо, тихо, не надо.
Но не слез с нее сразу, как обычно.
— Я так боюсь, — прошептала она.
— За что?
— За все. За тебя.
Он промолчал.
Татьяна сказала:
— Так, значит, ты хочешь убраться отсюда?
— О боже... Я уж думал, ты никогда не спросишь.
— Куда вы надумали отправиться? — спросил Джимми на следующее утро, увидев, что они складывают вещи.
— Просто уезжаем, — ответил Александр.
— Ну, вы знаете, что обычно говорят. Человек предполагает, бог располагает. Мост с Оленьего острова обледенел. Несколько недель по нему не проехать. Пока снег не растает.
— А как ты думаешь, когда он может растаять?
— В апреле, — ответил Джимми, и они с Нелли рассмеялись.
Джимми обнял ее своей единственной рукой, и Нелли, весело глядя на него, похоже, вовсе не беспокоилась о том, что второй руки у него нет.
Татьяна и Александр переглянулись. Апрель! Александр сказал Джимми:
— А знаешь что, мы все же попытаемся.
Татьяна заговорила, хотела сказать: «Может, они правы...» — но Александр остановил ее взглядом, и она умолкла, устыдившись того, что чуть не начала возражать ему при чужих людях, и вернулась к сборам. Они попрощались с огорченными Джимми и Нелли, попрощались со Стонингтоном и повели свой «номад-делюкс» через Олений остров к материку.
И именно в этот момент распорядился человек, не Бог. Мост был очищен командой Оленьего острова. Ведь когда мост был покрыт льдом, никто не мог доставить все необходимое жителям Стонингтона.
— Что за страна! — сказал Александр.
Он вел фургон на материк и на юг.
Они остановились у тети Эстер, и Александр обещал, что это будет семейный трехдневный визит.
Пробыли они там шесть недель, до Дня благодарения.
Эстер жила в большом старом доме, в старомодном белом Баррингтоне вместе с Розой, своей экономкой. Роза знала Александра с самого рождения. Обе женщины кудахтали над Александром и его женой и сыном так страстно, что уехать быстро было просто невозможно. Они купили Энтони лыжи! Они купили Энтони санки, и новые ботинки, и теплые зимние куртки! И мальчик целыми днями пропадал на улице. Тогда они купили ему настольные игры и книги! И он теперь целыми днями сидел дома.
— Чего еще тебе хотелось бы, милый Энтони?
— Мне бы хотелось пистолет, как у папы.
Татьяна яростно замотала головой.
— Ты только посмотри на Энтони, какой изумительный мальчик, и он так хорошо говорит в свои три с половиной года, и разве он не похож на отца как две капли? Вот здесь у нас фотография Александра в детстве, Таня!
— Да, — согласилась Татьяна, — он был прелестным ребенком.
— Был когда-то, — сказал Александр, — только никогда не улыбался.
И Татьяна чуть не заплакала.
Эстер, ничего не заметив, продолжила:
— Ох, да мой брат просто обожал его. Он ведь появился так поздно, понимаешь, Таня, а они так отчаянно хотели ребенка, они много лет пытались... Я никогда не видела мужчины, так любящего своего сына. И его мать тоже... Мне хочется, чтобы ты это знал, Александр, милый, для них весь мир состоял только в тебе.
Тик-так, тик-так, шесть недель, их просили остаться на каникулы, на Пасху, на Четвертое июля, а может, и на День труда, вообще на все дни, просто остаться.
Но внезапно поздно вечером, когда Александр, устав от игры в снегу с Энтони, задремал в гостиной, а Татьяна перед сном мыла чайные чашки, в кухню вошла тетя Эстер, чтобы помочь ей, и сказала:
— Только не роняй чашки, когда это услышишь. Некий человек по имени Сэм Гулотта, из Министерства иностранных дел, звонил сюда в октябре. Не расстраивайся, сядь. И не беспокойся. Он звонил в октябре и снова звонил сегодня днем, когда вы трое гуляли. Пожалуйста... что я тебе говорю! Не дрожи, не дергайся. Тебе следовало сказать мне что-то, когда ты звонила в сентябре, предупредить меня, что такое может случиться. Это мне помогло бы. Ты должна доверять мне, чтобы я смогла помочь вам. Нет-нет, не извиняйся. Я сказала этому Сэму, что не знаю, где вы. И не знаю, как с вами связаться, вообще ничего не знаю. Вот так и сказала. А тебе говорю, что я и не хочу ничего знать. Не рассказывай. Сэм заявил: чрезвычайно важно, чтобы Александр с ним связался. Я пообещала, что если что-то услышу от вас, то дам ему знать. Но, милая, почему ты мне ничего не говорила? Разве ты не знаешь, что я на твоей стороне, на стороне Александра? А он знает, что Сэм его ищет? Ох... Ладно. Нет-нет, ты права, конечно. У него и так достаточно причин для беспокойства. Кроме того, это же правительство; им понадобились годы просто для того, чтобы выслать ему ветеранский чек. Вряд ли они будут так энергично продолжать. Вскоре все просто забудется. Сама увидишь. Не говори ничего Александру, так лучше. И не плачь. Тише, тише...
— Тетя Эстер! — В кухню вошел Александр. — Что ты сказала Татьяне, почему она плачет?
— Ох, ты и сам знаешь, такая уж она в эти дни, — ответила тетя Эстер, поглаживая Татьяну по спине.
В День благодарения Роза и Эстер заговорили о том, чтобы окрестить Энтони.
— Александр, убеди свою жену! Ты же не хочешь, чтобы твой сын был язычником, как Таня!
Это случилось после великолепного ужина, во время которого Татьяна благодарила тетю Эстер, а потом они засиделись допоздна перед пылающим в камине огнем, попивая яблочный сидр. Энтони давно искупали, бесконечно хлопоча над ним, и уложили спать. Татьяна, сонная и довольная, приютилась под рукой Александра. Ей все это напоминало о другом времени ее жизни, когда она точно так же сидела рядом с ним перед мигающей маленькой печкой-буржуйкой, ощущая исходивший от него покой, несмотря на апокалиптические события, творившиеся в нескольких шагах от ее комнаты, от ее квартиры, от ее города, в ее стране. И все равно она, как и сейчас, прижималась к нему и на несколько мгновений погружалась в тишину.
— Таня не язычница, — возразил Александр. — Ее должным образом окунали в реку Лугу сразу после рождения, это сделали русские женщины, такие старые, что выглядели так, словно жили еще во времена Христа. Они забрали ее у матери, запеленали и три часа бормотали над ней молитвы, призывая на нее Христову любовь и Святого Духа. Мать Татьяны больше никогда не разговаривала с этими женщинами.
— И мне об этом не рассказывала, — сказала Татьяна.
— Таня, это правда?
— Александр просто вас поддразнивает, Эстер. Не слушайте его.
— Она не об этом, Таня. Она хочет знать, правда ли это. — Глаза Александра сверкали.
Он шутил! Татьяна поцеловала его руку, прижалась щекой к его свитеру:
— Эстер, вам не стоит беспокоиться об Энтони. Он крещен.
— Действительно? — спросила Эстер.
— Правда? — удивленно спросил Александр.
— Да, — тихо ответила Татьяна. — На Эллис-Айленде крестили всех детей, потому что очень многие из них болели и умирали. Там была часовня, и они даже нашли для меня католического священника.
— Католического священника!
Католичка Роза и протестантка Эстер вскинули руки к небесам, громко вскрикнув, одна радостно, другая не очень.
— Почему католического? Почему даже не православного, как ты сама?
— Я хотела, чтобы Энтони был как его отец, — застенчиво пояснила Татьяна, отводя взгляд от Александра.
И в ту ночь в их постели, где они снова лежали втроем, Александр не спал, обнимая Татьяну. Она чувствовала, что он бодрствует.
— Что, милый? — шепотом спросила она. — Чего тебе хочется? Энт здесь...
— Не знаю, — прошептал он в ответ. — Хотя нет, нет... Скажи мне... — У него сорвался голос. — Он был... очень маленьким, когда родился?
— Я не знаю... — сдавленным шепотом произнесла она. — Я ведь родила его на месяц раньше срока... Да, он был маленьким. Черноволосым. Я не помню как следует. У меня была лихорадка. У меня была пневмония. Меня уже готовили к смерти, приходил священник, я была слишком слаба...
Она прижала кулаки к груди Александра, но все равно тихо застонала.
Александр заявил, что больше не может оставаться в холодном Баррингтоне, не может выносить снег, зиму.
— Ни за что больше — ни единого дня.
Он хотел поплавать на Рождество.
То, что желал получить отец Энтони, отец Энтони получал.
— Солнце встает и садится только ради тебя, муж мой, — шептала ему Татьяна.
— Чаще садится, — шептал он в ответ.
Они с благодарностью распрощались с Эстер и Розой и поехали дальше через Нью-Йорк.
— Мы разве не остановимся повидаться с Викки?
— Нет, — решила Татьяна. — Викки на Рождество всегда ездит в Калифорнию, навестить свою психически больную мать. Это ее искупление. Кроме того, слишком холодно. Ты же говорил, что хочешь поплавать. Мы с ней встретимся летом.
И они миновали Нью-Джерси и Мэриленд.
Они проезжали Вашингтон, округ Колумбия, когда Александр спросил:
— Хочешь остановиться и повидать своего друга Сэма?
Вздрогнув, Татьяна ответила:
— Нет! Почему ты спросил?
А его, похоже, удивил ее ответ.
— Что это ты так напряглась? Я просто поинтересовался, не хочешь ли ты его увидеть. Почему ты заговорила так, словно я попросил тебя помыть его машину?
Татьяна попыталась расслабиться.
Слава богу, он тут же оставил эту тему. В прошлом он никогда не бросал ничего, не получив ответа.
Виргиния, все еще слишком холодно.
Северная Каролина, очень холодно.
Южная Каролина. Немного лучше.
Они останавливались в дешевых мотелях и принимали горячий душ.
Джорджия. Недостаточно хорошо.
Сент-Огюстен во Флориде — тепло! Теплый океан. В Сент-Огюстене, старейшем городе Соединенных Штатов, были красные испанские черепичные крыши, на улицах продавали мороженое, как летом.
Они посетили Источник вечной молодости Понсе де Леона и купили немного воды бессмертия в бутылке.
— Ты ведь знаешь, что это простая водопроводная вода, так? — спросил Александр, когда Татьяна отпила немного.
— Знаю, — ответила она, передавая ему бутылку. — Но ты должен во что-то верить.
— Верю, это не водопроводная вода, — кивнул Александр, проглотив половину.
Рождество они встретили в Сент-Огюстене. В день Рождества отправились на пустынный белый пляж.
— Вот теперь это то, что я называю смертью зимы, — заявил Александр, бросаясь в океан в плавках и футболке.
Вокруг никого не было, кроме его сына и жены.
Энтони, не умевший плавать, бродил по кромке воды, копал ямки, похожие на кратеры, собирал ракушки, быстро обгорел и с красными плечами прыгал по пляжу, встряхивая выгоревшими волосами. Он пел, держа в одной руке длинную палку, а в другой камень, ритмично вскидывал руки и опускал их в такт мелодии, а его мать и отец наблюдали за ним из воды.
— Мистер Солнце-Солнце, мистер Золотое Солнце, свети, пожалуйста, вниз, свети, пожалуйста, вниз, свети, пожалуйста, на меня...
Они провели неделю в Сент-Огюстене, а затем поехали на юг вдоль побережья.
[1] Имя Энтони созвучно с именем персонажа комиксов 1960-х: Ant-Man — Человек-муравей.
