автордың кітабын онлайн тегін оқу Цимес
Информация
от издательства
Художественное электронное издание
Дизайн обложки — Борис Берлин
Берлин, Б.
Цимес : рассказы / Борис Берлин. — М. : Время, 2018. — (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1826-3
Эту книгу можно назвать антологией обреченных. Обреченных друг на друга. Двоих, у которых иногда получается, а иногда нет — как у всех, вот только красок в их жизни гораздо больше. А значит, и счастья, за которое все равно приходится платить…
© Берлин Б., 2018
© Состав, «Время», 2018
Цимес Бориса Берлина — лакомство или наоборот?
Лев Аннинский
«— Наоборот? Это как?
— Как вам объяснить… Некоторые великие мастера умели так изобразить на полотне взгляд — с какой стороны ни посмотришь, глаза с портрета всегда направлены прямо на тебя. Всегда. Неотрывно. А вы смотрите в глаза, а взгляд поймать — невозможно. Наоборот…»
Ждешь цимеса, непременного, обещанного, законного лакомства… Получаешь что-то… наоборот.
«— Хорошее кончается… Обязательно кончается?
— А как же иначе? Оно всегда кончается… Это только плохое тянется, и никуда от него…
— Но есть же на свете счастливые люди?
— Я не встречала…»
Артистичный переклик женской и мужской «половинок» души — мелодический принцип Бориса Берлина. Трепетное переглядывание. Попытка контакта… Проба счастья…
Борис Берлин — из того поколения, которое теперь получает наконец и Россию, и весь мир — в законное наследство Это поколение не застало ни войны, ни послевоенной сталинской диктатуры. Им сейчас — пятьдесят «с хвостиком». Или, если очерчивать другую границу, — шестьдесят «без хвостика». Наследники!
Но дело не только в том, что входят в жизнь наследники, — это, так сказать, хронологическая неизбежность. Дело в том, что они получают миропорядок, которого не чаяли дождаться ни их отцы, ни деды, ни вообще страна, в которой они выросли. Страна, которая вышла, покалеченная, из эпохи мировых войн и смертельных смут. Да и до того веками или отбивалась от захватчиков, или готовилась от них отбиваться.
И вот наконец ситуация переменилась. Призрак атомной катастрофы заставил человечество отодвинуться от этой грозящей жути. Семь десятков лет — без войны! Неслыханно, невиданно, нереально…
И встает перед наследниками эта нереальность — как новая, неопробованная реальность.
И что же? Как вживаются наследники в эту неведомость? Чувствуют счастье, которое им привалило?
Да наоборот же! Чувствуют боль, которой грозит обернуться неслыханное счастье.
«— Про разноцветную жизнь — да, все понятно. Но счастье наше неизмеримо больше того, что может представить себе обычный человек. Разве это рассказать возможно? Все равно получится только бледная, ускользающая тень. Тень нашего счастья».
Любимый человек, как и обещал, возвращается после службы.
«Поначалу не узнала: вместо левой руки — пустой рукав, вдоль левой половины лица — шрам».
Инерция кровавого века?
А это что за инерция? Героиня в метро на эскалаторе «…споткнулась уже почти на самом верху. Еще бы несколько секунд — могла без руки остаться. Даже понять не успела, как это произошло, увидела только, как ступени уходят куда-то — под…»
Вот оно, мирное время. Повернешь голову не туда — катастрофа. Если и не летальный исход, то на всю оставшуюся жизнь — оставайся калекой…
А если головы не поворачивать, так что будет? Счастье?
«— Он был пьяный, уселся на перила, а я… просто толкнула его в грудь. Несильно, слегка. И он упал с десятого этажа. Вот и все…»
Смерть — рядом.
«Счастью всегда что-нибудь мешает. Всегда».
Это ожидание неотвратимой беды и выносит из нового миропорядка молодое поколение.
«Вечная тоска от невозможности овладеть красотой». Можно устроить жизнь, можно найти спутника или спутницу… Любовь все равно глубже. Глубже всего, чем можно овладеть. Или хотя бы понять.
И неизбежно рядом с ожиданием: «Люби!» — ожидание конца: «Убей!»
Любовь и гибель — вместе. Неразрывно. Словно в природе человека, агрессивной и безжалостной, есть что-то, делающее счастье несбыточным. Или эта несбыточность — в самой природе мироздания, которое объявлено мирным?
Прикосновение к любви — прикосновение к смерти. Неизбежно! Читаешь тексты Бориса Берлина — и уже от его имени и фамилии веет какой-то германской интеллектуальной неотвратимостью… Хотя в поле его зрения — вовсе не германцы, а непредсказуемые славяне. Более же всего — евреи, привыкшие находить опору в ситуации, изначально и окончательно беспочвенной.
«— В каждой стране небо разное. Поэтому и люди разные, понимаешь? Русские не такие, как французы, итальянцы отличаются от немцев. Вот, например… Небо Франции — оно легкомысленное, веселое — безмятежная лазурь, а на ней штрихи, мазки, птичьи всплески — сплошной импрессионизм. В России глубокое, как колодец — синева молчалива, а на дне может быть и счастье, но вдруг — тяжесть и нечем дышать…»
Дело не в той или иной национальной традиции. Дело в той бытийной трагедии, которую прозревает Борис Берлин в самой попытке людей стать счастливыми. Счастливыми — в любви.
Модель такая: раньше с нами никогда такого не было. И после нас такого уже не будет. И окружает счастливую пару ощущение пустоты — круговой бесконечности. Эта пустота не заполнена ничем. Она зияет. И пахнет гибелью.
Смерть — естественный, закономерный и неизбежный финал любви.
«— Умереть не для того, чтобы не жить. Умереть для того, чтобы обрести покой. А обрести покой здесь, среди такой красоты, что может быть лучше?»
«— Ты плачешь, значит, испытываешь боль, значит — любишь».
«Одиночество приносит с собой пустоту. Сама по себе пустота не страшна, но как только ты пытаешься ее заполнить, делается все хуже и хуже, делается просто невыносимо».
«— Смерть — это не наказание, это избавление, пропуск в рай».
«Труднее всего понять, что счастье кончилось. Особенно, если оно еще длится».
«…за всем она следила так, словно от этого зависело, наступит или нет конец света. Вернее, делала вид, что еще не наступил. Счастье ведь ужасно странная штука: не важно, приходит ли оно, покидает ли — и в то и в другое одинаково трудно поверить».
«Жизнь слишком беспощадна, мир слишком несправедлив…»
«— Тебе когда-нибудь было так хорошо, что хотелось умереть?»
«— Желать абсолютного счастья — грешно».
«Чем больше счастья, тем меньше времени на него отпущено. И кто объяснит — почему?»
«…мы в самом деле все время рассуждаем про любовь и даже вроде бы хотим ее, а сами — боимся ее. Да и как тут не бояться… Разве можно остановить время?»
«Я люблю тебя, а любовь — это как химическая реакция, когда два человека, встретившись, сливаются мыслями, привычками, запахами — всем. Правда, иногда получается гремучая смесь. И что тут поделаешь, если она взрывается? Всё от любви…»
«— …любовь — это бесконечная величина: чем дольше длится счастливое сегодня, тем дольше не наступает завтра, то есть время останавливается. А значит, наступает смерть».
«— Люди не умирают. С концом одной жизни наступает другая. Это как пересесть из старой лодки в новую, чтобы плыть дальше по реке времени.
— Куда плыть? И зачем?
— За тем, что каждый из нас стремится найти. Свое отражение, свою тень, а на самом деле — себя. Ведь каждый человек лишь половина целого, половина того, чем может быть, вот он и ищет недостающую половину. Но одной жизни для этого бывает мало».
«Нюта любит повторять, что, встретив друг друга, мы с ней нашли бога, хотя и она, и я знаем, что на самом деле бог — это лишь вечные поиски его. Во всем. Обретения, потери и вечная жажда. Бог — это все мы, отчаявшиеся, голодные, неправедные, ищущие».
«— Никогда не бойся того, что придет. Ведь все уже было, все было…»
«— Адамчик, а что такое любовь?
— Наверное, то, что у нас с тобой. Ведь так?
— Раз наверное, значит, ты не уверен.
— Не знаю, я ведь кроме тебя никого еще не любил. Тогда скажи сама.
— Любовь, миленький, это взаимная капитуляция.
— Выходит, вся остальная жизнь — это война?
Да, так оно и есть на самом деле. Вся жизнь война, и только иногда случаются маленькие передышки. Вот как ты сейчас…»
«— Когда ты меня бросишь, это будет нестерпимо больно. Это будет невыносимо…»
«С самого начала, кроме нежности — что-то еще…»
«Наверное, так оно и должно быть, ведь на то оно и счастье, что понять его невозможно. Не успеешь задуматься, а оно уже и улетело…
А бывает, чтобы счастье — и без подвоха?..»
Может, достаточно?
Понятно ли, почему для меня так существенно понимание счастья Борисом Берлиным и почему его исповедь так важна в нынешней литературной ситуации? В безоблачном варианте и осмыслять нечего. А если рядом в душе дремлет и просыпается зверь? И только смерть становится избавлением от этой напасти?
Трагическая готовность к «напасти» позволяет вынести ее даже тогда, когда вместо обещанной сладости цимеса судьба подкладывает тебе что-нибудь… «наоборот».
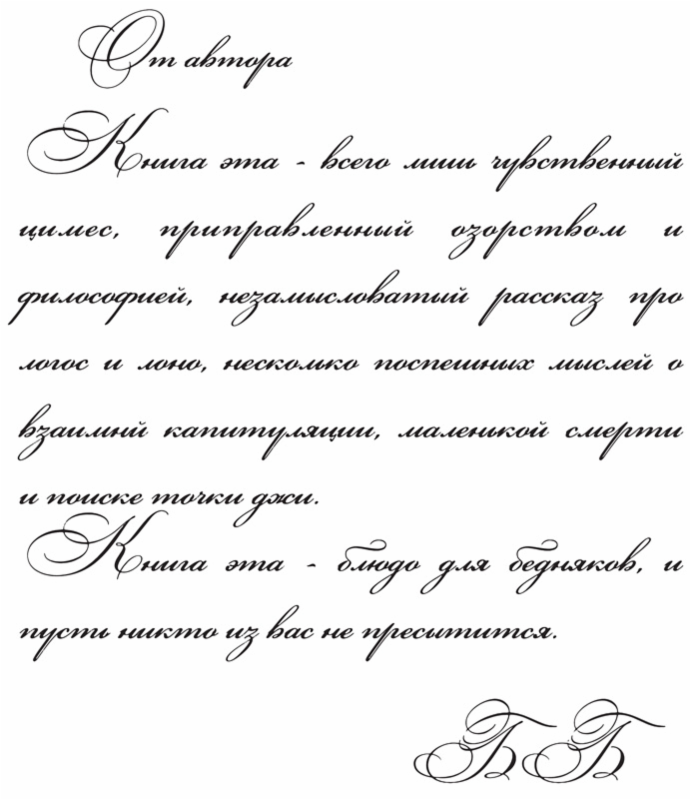
ЦИМЕС
рассказы
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
ГЛАВА САМАЯ ПЕРВАЯ
«Легче воздуха мои мысли о тебе…»
Журавлев морщится, захлопывает папку, бросает на меня взгляд исподлобья и недовольно произносит:
— Ты в самом деле уверен, что мне это надо читать? Что мне стоит это читать?
Господи, встать бы, выхватить у него из-под носа рукопись, повернуться и хлопнуть дверью. И забыть сюда дорогу. Только вот… Приходится жить в условиях окружающей реальности, данной нам в ощущениях. А ощущения почти напрямую зависят от чего? Вот именно. Их — деньги — пока еще никто не отменял. Правда, когда-то давно, в прошлом веке, что-то такое вроде было. Обещали вроде, но так до сих пор и…
— Слушай, у тебя настроение плохое? С Машкой что-то? Или живот прихватило? Ты меня сколько лет знаешь, а? Сколько ты моих книг издал и сколько ты, между прочим, на них заработал? Я к тебе не просто как к издателю пришел, а как к моему издателю, понял?
— Вот я тебе как твой издатель и говорю, другому бы не сказал. Ты посидел, в окно на дождь поглядел, о бабе своей или чужой подумал, и пошло-поехало. Глядишь, через месяц-два повесть, а то и поболе. И вагон самомнения. А мне что делать? У меня от вашей гениальности уже руки по утрам трясутся. Только прочесть это все…
— Коля… — я несколько секунд молчу, а потом тянусь к лежащей перед ним папке с рукописью. — Так, ясно. Я пошел.
Его рука на рукописи не двигается. Наконец он устало изрекает:
— Ладно, ладно, не гоношись. Прочту. Погляжу я твои «мысли легче воздуха»… В ближайшие дни не обещаю, но прочту. Скоро. Созвонимся. Пока. Иди…
Я выхожу из издательства и иду домой — к своей любимой. Вот приду и обниму ее.
— Здравствуй, птичка моя.
А она уткнется всем своим лицом прямо мне в шею, в мой колючий шарф, и замрет на секунду. И тоже обнимет меня прохладными тонкими руками и зашепчет прямо в ухо разные свои глупости. И негромко — только ей одной — я скажу:
— Знаешь, любимая, а я все-таки отнес в издательство эту повесть.
— Какую? Неужели «Легче воздуха»? — спросит она, задохнувшись.
— Конечно. Ведь это лучшее, что я написал.
— Зря… — поникнет она своей светлой головкой. — Я же тебя просила.
— Да. Но я так и не понимаю — почему?
— Потому что она… Она слишком счастливая, эта твоя повесть.
— Ну и что?
— Люди могут не так ее понять и, прочитав, натворить глупостей. Потерять голову, понимаешь?
— Нет, не понимаю.
— Ну как же, сам подумай. Живет себе человек, живет. Думает, что счастлив и все у него хорошо. И вдруг оказывается, что все это время ему показывали черно-белое кино. А тут оторвался он от экрана, окно распахнул, а жизнь-то вокруг — разноцветная. И так ему обидно сразу. Так обидно, что он от этой самой обиды в это самое окно и…
— Все равно не понимаю. То есть про разноцветную жизнь — да, все понятно, мы с тобой ее уже вон как долго проживаем. И счастье наше неизмеримо больше того, что может представить себе обычный человек. Я лишь попытался о нем, но разве нас с тобой рассказать возможно? Все равно получится только бледная, ускользающая тень. Тень нашего счастья.
— Нет, получилось слишком хорошо, слишком небесно, не по-людски, — и она по-детски упрямо сожмет губы, а я поцелую ее в самый их уголок, над ним как раз родинка, — чтобы улыбнулась.
А может… Может, этого ничего и не будет. И лишь холодный дом встретит меня. Пустой холодный дом, говорящий сквозняк, пустые вешалки и пустые бутылки. Да еще фотография в рамке с треснутым стеклом. Ее опрокинуло ветром, и стекло треснуло. А на ней улыбается женщина, и та же родинка. Только стекло треснуло — сквозняк…
В общем, все было, есть и будет, как я захочу. Как я напишу, так и будет.
А пока — вот:
«Легче воздуха мои мысли о тебе»…
ГЛАВА СЛЕДУЮЩАЯ
«Легче воздуха мои мысли о тебе»…
— Журавлев, это что за «легче воздуха»? Снова чью-то рукопись принес? Ну что ты опять все в прихожей навалил? Бумаги, бумаги… Сколько можно работу домой таскать? И грязи от нее… Лорд, фу! Уже не только у меня, у собаки на нее аллергия. Лорд, я кому сказала! Фу! Отдай, собака! Отдай, слышишь! Ах ты… А теперь марш на место! На место пошел, быстро! Вот порвет он тебе однажды какую-нибудь рукопись так, что неприятностей не оберешься, может, хоть тогда до тебя дойдет…
В руках у нее та самая папка со следами собачьих зубов, с беспорядочно торчащими из нее листами. Она раскрывает ее, поправляет, подравнивает листы и вновь останавливается на первой строчке:
«Легче воздуха мои мысли о тебе…»
Она пробегает глазами еще несколько слов, потом несколько строк, потом присаживается на табуретку прямо здесь же, в прихожей, погружается в чтение, начинают шевелиться губы…
— Маш, ты что-то сказала? Прости, я не слышал, у меня тут вода шумела в душе. Маш!
— Что, Коля? Да нет, ничего, ничего… Там ужин на столе, иди поешь…
— Маш, ты рукопись положи на тумбочку в спальне, может, я перед сном почитаю, если не усну, ладно?
«Легче воздуха мои мысли о тебе. Легче этого только твое дыханье. Я не знаю, зачем встретил тебя в мудрую пору своей жизни. Неужели для того, чтобы снова наделать глупостей? Забудь, забудь это слово — любовь. Нашего слова еще не придумали…»
Она вздыхает, смотрит в окно, в сумерки. Опускает глаза, продолжает читать дальше: страница, еще одна, еще…
Как странно выходит. Столько лет, а будто и не было ничего. Ни радости, ни горя — ничего.
— Милый мой, милый, — шепчут губы. — Митя…
Дрожат пальцы, перелистывая страницы…
— Девушка, простите! Вы не могли бы мне помочь?
Маша оборачивается и видит худого мужчину спортивного вида. Еще молодой, а виски седые. И глаза такие, что хочется верить. Синие, как…
— А в чем дело?
— Да в принципе ничего особенного. Видите ли, я за вами наблюдаю все время, пока едем, а как вас зовут, не знаю. Имени вашего не знаю. Должно же мне быть известно, кого я сегодня вечером пригласил… в кафе и потанцевать. Скажем, в девятнадцать часов? А еще лучше — давайте я вас провожу. По дороге и познакомимся. Вам когда выходить?
— Мне… на следующей.
— Ну тем более, мне тоже. По-моему, это судьба, вам не кажется?
Оказалось, он живет через дом от нее. Она была студенткой второго курса, а он офицером-афганцем. По дороге от остановки она его спросила:
— А вы в отпуске?
— Почти, да не совсем. Командировка, груз сопровождал к месту назначения. Ну и заодно десять суток дома.
Это потом, много позже, она узнала, что такое груз двести, а тогда…
Им было весело вместе и так — звонко…
Целых полторы недели. Он нежил ее, любил, лелеял. На руках носил, как пушинку, — сильный. Он был, как никто потом, после. Единственный.
На вокзале, прощаясь, он сказал:
— Жди. Мне уже немного осталось, полгода, чуть больше. Вернусь — никому тебя не отдам.
И не вернулся. Вернее, вернулся, но не через полгода, много позже и не к ней.
Маша увидела его случайно, совершенно случайно, на другом конце города, у гастронома. Поначалу не узнала, а потом… вместо левой руки пустой рукав, вдоль левой половины лица шрам. И все — снова. Он ведь и одной рукой так мог обнять, что она себя забывала. И глаза его те же, синие, как…
Через месяц родители вошли к ней — счастливой — в комнату и сказали:
— За увечного замуж — никогда. Думать забудь.
Это бы и ничего, она все равно бы не послушалась, но отец и с ним поговорил. По-мужски. Объяснил. И все кончилось, как будто и не было никогда. Месяц ходила черная, зареванная, да не ходила, а дома почти все время просидела, выходить не хотелось, жить не хотелось…
А потом…
С Николаем ее познакомил брат. Молодой перспективный журналист, да еще московская прописка…
«Это значит, если мне сейчас сорок семь, то ему должно быть… пятьдесят пять. Помнит ли? И что мне, даже если помнит? У меня вон сын взрослый, Николай, дача двухэтажная. Господи, да при чем здесь дача-то… Митенька, родной мой, как же я все это время, так долго, без тебя, а?»
А почему рядом с ним она таяла — и не вспомнить. Только было, было что-то, чему и названия нет. Легче воздуха.
И куда подевалось потом?
И ЕЩЕ ОДНА
— Мам, ты что, плачешь, что ли? Случилось что?
— Да ничего, сыночек. Это я лук резала.
— Здесь, в прихожей?
— Так я как раз сюда и убежала от лука-то. Злой попался…
— А-а-а…
— А ты что хмурый такой?
— Все нормально, мам, не обращай внимания.
— Обедать будешь? Я пойду разогрею.
— Нет, не хочу, спасибо.
— Так ведь ты же не обедал, я знаю. Не обедал, да?
— Ну не обедал, не важно.
— Даже очень важно. Иди умойся пока, я позову.
Сашка посмотрел на лежащую рукопись, взял в руки.
«Наверное, опять отец с работы. Муть какая-то… Будешь тут хмурым, новости такие получать. Обухом по темечку… А, мне пофиг, сама дура. Сама пусть и разбирается, как хочет. Не первая и не последняя. Так, что тут? Точно — муть. Легче воздуха… Ну и что там легче воздуха?»
— Саня, Санечка! Обед на столе, кушать иди.
В ответ — тишина. Нет ответа. Сын сидел на той же табуретке в прихожей, читал рукопись. Мать он даже не слышал.
Маша постояла, посмотрела на него. Долго стояла, минуту, не меньше. И ушла — молча. Ничего, ничего, пусть почитает, долго ли разогреть еще раз. Пусть…
Он перевернул последнюю страницу и застыл, уставившись в угол. Потом поднялся и, войдя в свою комнату, достал сверху, из шкафа, из самого дальнего угла, старую коробку от компакт-дисков, а из нее тощую пачку купюр. Пересчитал, вытащил из кармана сотовый телефон, поглядел на фото на дисплее — Ленка улыбается. Это еще до… Когда же он ее снимал, а? Прошлым летом вроде. Вот время летит. Звонит.
— Лен, послушай. Забудь все, что я сегодня наговорил, ладно? Ну сама подумай, я просто слетел с катушек. Так ведь любой бы… Забудь, и все. Мы по-прежнему вдвоем и вместе. Я тебя люблю, не думай. И денег достану. Если не хватит… короче, достану, не беспокойся. И все будет нормально. Просто будем осторожнее, и все. Справимся. А ребенок… Ну куда нам сейчас, ни денег, ни жилья. Успеем. Жизнь только начинается. И пожалуйста, не надо, не начинай снова реветь, ладно? Ну Лен…
ГЛАВА ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ
«Легче воздуха мои мысли о тебе. Легче этого только твое дыханье. Я не знаю, зачем встретил тебя в мудрую пору своей жизни. Неужели для того, чтобы снова наделать глупостей? Забудь, забудь это слово — любовь. Нашего слова еще не придумали. Да и какая разница? Кто бы мне сказал раньше, что за одно-единственное прикосновение к женщине я… И я протягиваю к тебе руки — через всю прошедшую без тебя жизнь».
Журавлев лежит на спине, заложив руки за голову. За окном темно. Ночник уже давно потушен, лишь на потолке мутное, желтоватое пятно света от уличного фонаря. На тумбочке рядом она, та самая, «легче воздуха». Рядом, спиной к нему — Маша. Спит, даже дыхания не слышно. Она вообще спит очень тихо. И почему-то спиной к нему. Всегда спиной к нему. А вот Женя…
Почему счастье — это всегда, почти всегда прошлое? Только и слышишь: я был счастлив, я была счастлива, они были счастливы. Был, была, были… Как будто счастье — это еще и функция времени. А что, может быть. Очень даже может быть. Скорее даже не функция времени, а функция молодости. Но и времени — тоже. Потому что… ну сколько мне тогда было лет, уже за сорок, какая, к черту, молодость. Всего-то двенадцать лет прошло. А счастье было, и понимание этого было тоже. Но все равно… Нежелание причинять боль, нежелание ее испытывать, ломать устоявшийся порядок вещей. Санька… Как у всех и всегда. Неоригинально. Только вот она, Женя, никогда не поворачивалась ко мне спиной. Ни разу. А однажды мы так и уснули — в поцелуе. Губы в губы… Чего уж теперь. Поздно. Двенадцать лет и один инфаркт тому назад. И сын, который вырос без отца. Лешка, Алексей Николаевич… Нет, не Толстой, но и не Журавлев. Да и знает ли он вообще? Все-таки хотелось бы. Я бы ему помог, я ведь кое-что могу в этой жизни, пока еще могу. И было бы у меня два сына. А? Завтра прямо с утра найду их, Женю найду, единственную женщину мою, сына от нее — моего сына. Всех на уши поставлю, Сереге позвоню, если что, мало ли, они же и уехать могли, а у него доступ есть к закрытым базам данных. И вообще… Всю сеть перелопачу. Чем черт не шутит? А может? Завтра… завтра… зав…
Маша проснулась с улыбкой — ей снился Митя. Он держал ее за руку и улыбался тоже. И что-то говорил, не важно что. Еще они куда-то шли… Она открыла глаза — уже светло, должно быть, часов девять, не меньше.
— Журавлев, доброе утро! Ты еще дома? Журавлев!
Наверное, уже ушел на работу. Она села, потянулась всем своим, очень еще даже ничего, телом, увидела укрытые одеялом его ноги, повернула голову.
И — закричала…
ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ
В тот день я вернулся домой поздно. Было дождливо и ветрено, и вечер. За окнами громыхало, и наш пес скулил, потому что боялся грозы. А ты — ты встретила меня в прихожей и поставила передо мной тапочки.
— Ну что? Как дела с твоей рукописью? С той, «Легче воздуха…». Напечатают? Ну что же ты молчишь?
— Понимаешь ли, никто ничего мне не сказал. Им там не до меня, владелец издательства вчера умер. Ночью. Совершенно неожиданно — лег спать и не проснулся. Вроде сердечный приступ. Все говорят — легкая смерть. Жена его утром проснулась, а он — уже…
— Вот ужас, а? Беда…
— Н-да… Бедлам там у них сейчас страшный, полный бедлам. Где рукопись — неизвестно, да и не искал никто. Кого она сейчас интересует? Я так думаю, потеряна она, не найти. Потеряна окончательно. Ну ничего, я еще распечатаю. Человека вот жалко. Он неплохой мужик был, правда. На самом деле…
— Бедный он и бедная жена. Представляешь, вот так проснуться и… А рукопись твоя — я ее наизусть помню. И даже если бы она совсем-совсем потерялась — не страшно.
Потом прижалась ко мне, улыбнулась и произнесла престранную фразу:
— Ах, милый мой, если бы ты только мог любить меня поменьше.
— Это как? Почему?
— Потому что все всегда кончается. И я не переживу, если…
— Ну уж это нет, дудки. Бог не допустит. Да и я не допущу тоже. Я могу, ты же меня знаешь.
— Я знаю тебя. Я знаю про тебя все…
Потом мы долго сидели в нашем любимом кресле. Я в кресле, а ты у меня на коленях. Твои губы искали мой голос. Ты прямо так и сказала:
— Говори со мной, а я буду целовать твой голос.
И я снова рассказывал про книгу, про нас с тобой и вообще про все. И было ужасно щекотно от твоих губ. А когда ты уснула, я поднялся и отнес тебя в спальню и смотрел на тебя спящую. И вдруг понял, что это такое: любить тебя меньше. О чем это…
Дело ведь даже не в будущем, все гораздо проще. Ты боишься настоящего, нашего, сиюминутного настоящего. Того, что невозможно испытывать восторг каждую минуту, всегда. Есть быт, работа, болезни, десятки и сотни других — важных и не очень — дел, мелочей. А если думаешь все время только об одном…
Ты сказала мне как-то:
— Не хочу тебя растерять…
Это ведь когда — по кусочкам. Рассыпать.
И еще:
— Тебя во мне столько, что ничего больше и не умещается.
А когда возникал разговор о детях, ты сразу испуганно замолкала, и я замолкал тоже. Ведь сначала была — ты. И потом тоже — ты. Хотя, конечно, я мужчина, я сделан по-другому. Просто по самой природе вещей в меня вмещалось еще многое. Сначала. Пока я не стал все больше и больше замыкаться на тебе. Короткое замыкание — в самом прямом смысле. И ты меня тормошила и отвлекала сама от себя. Может, беспокоилась за меня, может, за себя, — ведь зависеть гораздо удобней, чем быть за кого-то в ответе. Ты и не умела никогда быть в ответе. Зато как ты умела — любить.
Именно поэтому легче воздуха мои мысли о тебе.
Если бы не сквозняк.
Если бы…
Впрочем, я отменил «если бы». А значит, и бояться тебе нечего.
Я написал про нас книгу. И любой, кто прочтет ее, проживет каждую секунду нашего счастья по-своему. И пусть.
А ты просто повторяй за мной:
«Легче воздуха мои мысли о тебе. Легче этого только твое дыханье. Я не знаю, зачем встретил тебя в мудрую пору своей жизни. Неужели для того, чтобы снова наделать глупостей? Забудь, забудь это слово — любовь. Нашего слова еще не придумали. Да и какая разница? Кто бы мне сказал раньше, что за одно-единственное прикосновение к женщине я… И я протягиваю к тебе руки — через всю прошедшую без тебя жизнь. Через прошлое, настоящее и будущее. Через все, что не случилось и не случится уже никогда. Но все равно, все равно, все равно — что сделала ты со мной, что сделал с тобой я? Забудь, забудь это слово — любовь…»
Повторяй.
И время — остановится.
ГЛАВА САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ
Почти через год после смерти Журавлева Маша споткнулась на эскалаторе, уже почти на самом верху. Еще бы несколько секунд, всего несколько — могла без руки остаться. Она даже и понять не успела, как это произошло, увидела только, как ступени выравниваются и уходят куда-то — под. Может, она бы и испугалась, но чья-то очень сильная рука подхватила ее, подняла в воздух и поставила обратно уже по ту сторону — на обычный, неподвижный пол.
— Что же вы в таком месте падать надумали, девушка? Лучше не надо, можно, знаете ли, без руки остаться.
Худой, заросший седой щетиной нищий смотрел на нее и усмехался. Пустой левый рукав. Глаза — синие, как…
«Девушка, простите! Вы не могли бы мне помочь?»
«За увечного замуж — никогда…»
«Легче воздуха мои мысли о тебе…»
— Митя, — прошептала она, — Митенька… Господи…
Вдруг вся жизнь, та самая, которая так и не случилась, вернулась, будто и не уходила никогда. Только несказанных слов оказалось так много, что они встали комом в горле, но она все-таки выдохнула:
— Ты же не знаешь еще, у нас ведь с тобой внук родился. Счастье-то какое. Внук, понимаешь, мальчик. Митенькой назвали…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Девочки, я тут какие-то листочки нашла. Они, видно, в этой папке были, почти совсем рассыпались. Я собрала. Что делать-то с ними теперь? Может, что-то нужное?
— Да выбрось ты их, Кать. Здесь бумаг этих… Тут ведь раньше, до нас, издательство какое-то было или редакция…
— Так может, это рукопись чья-нибудь, что-то нужное? Название «Легче воздуха».
— Наверное, про летчиков.
— Нет, не похоже. Похоже — про любовь…
— Тогда читай вслух. Про любовь — это всегда интересно. А там посмотрим…
Светлая головка склоняется над нашим счастьем, и я слышу, как она произносит:
— Легче воздуха мои мысли о тебе…
НЮ
— Я бы хотел тебя нарисовать. Можно?
— Легко…
Так я познакомился с Ню.
Ее звали Аня. Ню — потому что рисовал я ее почти всегда обнаженной, вернее голой, — понимаете, в чем разница? У профессионалов не принято говорить «голой», принято — «обнаженной», «полуобнаженной»… «Завтра у меня обнаженка…» Натурщицы голыми не бывают. Со всеми до нее так и было. И со всеми после. И даже во время. А вот с ней…
Она сидела на лавочке — маленькая, зареванная, совершенно одна. Куча народу проходила мимо, и никто даже не обращал на нее внимания, ее просто не видели. Ни опухшего от слез лица, ни рук, теребящих сумочку, ни высоченных каблуков ее туфель.
Знаете, с чего начинаются войны? С необдуманных поступков. То-то и оно…
Я не просто ее увидел — я подошел. Но почему-то, вместо того чтобы спросить, не нужна ли ей помощь, или хотя бы протянуть носовой платок, я вдруг произнес вот это самое:
— Я хотел бы тебя нарисовать…
Так все и началось…
Я звал ее по-разному: то Нюрой, то Нюшей, иногда просто Ню. Ей было все равно. Кто-то думает, что рисовать обнаженную женщину — значит обязательно с ней спать. Это не так. Врачи тоже довольно часто имеют дело с обнаженным женским телом, но никому и в голову не приходит… Конечно, профессия. Конечно, бывает все. И даже нередко, но художник — это тоже профессионал, и его отношение к натурщице — отношение профессионала. И тот свет, то чудо, которое потом все мы видим на полотне, это не отражение натурщицы как таковой, а отражение того неуловимого «нечто», которым ее наделил художник. Это не она. Это — его ощущение ее, то есть совершенно разные вещи. Ну и умение это нечто изобразить.
Ню без одежды была неописуема. Она была невероятна. Все эти рассуждения совершенно к ней не относились. Они любили друг друга — Ню и свет. Ее можно было рисовать в любой позе, при любом освещении и в любом ракурсе — свет всегда падал на нее, ложился на нее, обтекал ее так… В общем, она начинала светиться сама.
Каким образом я смог почувствовать это неким верхним чутьем, и подошел к ней, и спросил, и — услышал в ответ?.. Не знаю.
Я почти никогда не просил ее принять определенную позу, она просто снимала с себя одежду, выходила из-за ширмы и вставала, садилась или ложилась так, как хотела в данный момент сама. И в мастерской становилось светлей.
А уж если она молчала во время сеанса…
В своем обычном состоянии она была ужасная болтушка. Аутист, который вдруг заговорил, и за все годы молчания… При этом никаких авторитетов, никаких правил и совершенно точечный кругозор.
Но иногда мне удавалось упросить ее помолчать. Или у нее вдруг было такое настроение… И тогда на два часа я чувствовал себя равным Рембрандту, или Босху, или Леонардо…
Любил ли я ее?
Я и сейчас ее люблю…
Но в тот год я в своем отношении к ней оставался прежде всего художником. С ней я был способен на многое и понимал это. И желание, которое владело мной, — положить ее на холст, написать ее. Написать ее так…
Ню стала моей Моной Лизой, моей голубкой, моей девочкой на шаре.
Моей мечтой о себе…
— Гоша, уже давно пора сделать перерыв, слышишь? У меня нога затекла. Левая… И в туалет. И рефлектор у тебя барахлит, почти не греет, холодно…
Сколько ни прошу не называть меня Гошей — бесполезно.
— Ну почему Гоша?
— А почему Нюша?
— Так ведь ты Аня!
— Ну а ты?
— А я — Марк, но логика у тебя железная. Женская логика…
Может, она и в самом деле забывала, как меня зовут…
Вначале она приходила редко, раз в полторы-две недели. Плела что-то про строгого отца и занятия в институте. Я даже не помню наш первый раз. Наверное, тут же, прямо на полу, на брошенном на пол чехле от подрамника или в углу, на старом продавленном диване… Как обычно. Девчонка — еще одна, только и всего…
Мне на самом деле было безразлично и про институт, и про отца, и про личную жизнь. Она ведь тоже дистанцию держала, и вполне со знанием дела, вполне. Она как ежик была, еще до меня, иголки наружу и в свою жизнь — ни-ни… Да и у меня ни времени, ни желания не было на нежности всякие. Натурщица от бога, одна на миллион, а остальное… Главное и единственное: только бы она продолжала приходить. Чтобы снова увидеть игру света на ее груди и бедрах, прозрачность кожи, тень, заплутавшую в подмышечной впадине… И — рисовать, рисовать, рисовать…
Ее единственный каприз: с дороги чай с баранками и сахаром вприкуску — чтобы похрустеть, затем сразу же за ширму и — к станку…
А потом… С началом зимы она стала появляться гораздо чаще, причем безо всяких видимых причин — наши отношения остались прежними, но… В общем, я постарался и кое-что о ней узнал. Ну хотя бы заботясь о собственной… безопасности.
Аня, как оказалось, жила с бабкой, родители умерли. Год назад бросила институт и… Что может молоденькая девчонка в ее положении, и чего вы об этом не знаете? А сейчас она встречалась с каким-то… и подрабатывала в ночном клубе. По крайней мере, пластика движений у нее была от природы такая…
За это время я сделал с нее сотни эскизов всем, чем только возможно — от угля до пера и акварели, и два портрета маслом, в довольно необычной манере. Думаю, что в этом все дело. За манерой я потерял ее. Настолько был уверен, что само ее присутствие на холсте и есть чудо, что чуда не произошло. Не случилось…
Я прислонил к стене оба портрета, а между ними поставил ее. И раздвинул шторы…
…Пока она бегала в магазин, я изрезал их на куски. Потом мы сидели за столом, и она смотрела на меня, как никогда раньше. На этом же столе она впервые стала моей. Я не оговорился, мы были любовниками уже несколько месяцев, но первый раз моей Ню стала именно тогда…
Наутро мы уехали в Крым, к морю.
Две недели мы жили в старом, покосившемся теткином доме, почти на самом берегу. Он достался мне в наследство, и я с самого начала не знал, что с ним делать. Заниматься ремонтом слишком дорого, продавать слишком дешево. Я называл его: теткин дом. Так он и стоял…
Мы валялись на теплом песке, грызли семечки, покупали на рынке парное молоко и мохнатые персики. Вечером разводили костер и пекли картошку и молодую кукурузу. И странное дело, Ню вдруг стала меня стесняться. Как только я это почувствовал, я захотел ее по-настоящему. Как не хотел женщину уже очень давно. Та чертовщина, которая возникла между нами… Не знаю, что это такое, может и…
— А маленьких чаек я называю знаешь как? Чаинками.
— Что? Что ты сказала?
— Я говорю, что маленьких чаек…
— А-а-а-а…
— А ты умеешь ловить ртом виноградинки?
— Я… не знаю. А зачем?
— Как зачем? Чтобы поймать!
— Нет, не умею.
— А я вот — запросто. Гляди.
— Ню-ю-ю-ш… Я сплю, Нюша…
… — Гоша…
— Что?
— А почему ты уже не ругаешься, когда я тебя Гошей зову?
— Привык…
— Вот и я тоже. Если привыкну к кому, потом не отдерешь. Хорошо, что к тебе привыкнуть невозможно, а то бы я, наверное, влюбилась…
— Почему невозможно привыкнуть?
— Так ты разный. Вот как море. Ах, Гоша, Гоша, море ты мое…
… — Скажи… А ты часто влюблялась?
— А я все время влюблена.
— Как это так — все время?
— Вот так — все время, а что?
— И сейчас влюблена?
— Конечно.
— В кого, можешь сказать?
— Да в парня одного. Так, ничего особенного.
— Ты спишь с ним?
— А как же. Тут самое главное обмен жидкостями.
— Это как? Какими такими… жидкостями? — сон сразу как рукой…
— Ну… всякими. Пот, сперма, слюна… Еще вдохновение…
— А это еще что такое?
— Что-то типа оргазма по-вашему.
— По-нашему…
— Сложно объяснить, Гоша. Да и ни к чему тебе.
Она опустила голову на подушку, прижалась ко мне так крепко-крепко и уснула. Прямо в старой вылинявшей футболке. Улыбаясь.
А я только под утро…
…Луна глядела на нас потому, что на море глядеть ей уже, наверное, надоело. Ню лежала рядом, обессиленная и нездешняя. И улыбалась как-то вовнутрь. А мне вдруг страшно захотелось узнать, о чем она думает, когда, как сейчас — сразу после…
Прежде мы никогда не спали вместе, в одной кровати рядом. Мы спали друг с другом, но в другом смысле, по-другому. А когда — засыпать и просыпаться…
Я подумал, что рай, очень может быть, существует…
Когда она перестала быть для меня обнаженной натурой? Телом? Ню?
Иногда — сразу после — мы болтали.
… — Гоша, скажи… А вот ты, когда портреты мои резал…
— Ну?
— Ты сильно… переживал?
— Переживал…
— А как?
— Что как? Переживал, и все.
— Понимаешь, об этом лучше говорить.
— О чем об этом?
— О смерти.
— О смерти? А кто умер? Не мы с тобой — это точно…
— Картины. Ты же их убил. Значит, они умерли. А тех, кто умер, надо вспоминать, иначе они умирают на самом деле…
Я поворачиваю к ней голову и вижу только ее силуэт на фоне ночного неба. Ну вот откуда у нее…
— Ты же не хочешь, чтобы они умерли совсем?
— Наверное, нет…
— Тогда говори…
— Ну как тебе объяснить… Было два момента. Первый — я никогда раньше не работал в такой технике. Очевидно, это в какой-то момент стало доминировать, а я не заметил. И получилось — техника ради техники. Это, конечно, упрощенно, но тем не менее… И потом — это не главное…
— А что главное?
— Пожалуй, излишняя самоуверенность. Вот… ты приходила, позировала, я на тебя смотрел… Иногда просто смотрел, даже ничего не делал, ни одной линии, ни одного мазка — ничего. Я тебя впитывал, понимаешь. Ну вот… Мне когда-то давно попались стихи, там строчка была такая, я ее запомнил. «Твоих мелодий гибельная суть, твоих шагов ленивое начало…» Лишь когда ты в меня входила и наполняла меня, и твои мелодии начинали звучать, и я слышал эти шаги, я принимался рисовать. И однажды мне показалось, что в этом уже нет необходимости, что ты во мне — всегда, что я могу в любой момент, не глядя, передать этот свет — тебя и из тебя. И эту твою мелодию. Иллюзия… Мне показалось, что я до конца познал то, что познать нельзя. Свет — неисчерпаем. Но оказалось, что и ты неисчерпаема тоже… Слишком сложно, да?
— Послушай, Гоша… А хочешь, мы это повторим, ну, еще раз. Я тебе помогу, подскажу…
— Ты — мне? Что ты можешь подсказать?
— Что надо сделать, чтобы все получилось.
— Да? И что же?
— Ты должен… сам меня раздеть. Попробуй — раздеть меня — сам. Вот увидишь…
— Как ты сказала? Раздеть?
Но Нюша уже спала…
Я все никак не мог на нее наглядеться. Вот просто… Даже подглядывал, надеялся увидеть нечто такое, чего еще… Потому что было всегда мало.
Она была невысокого роста, ямочки на щеках, румянец, совершенно беззащитные плечи. Копна каштановых волос. И самое главное, у нее были потрясающе правильные пропорции тела. Она вся была как золотое сечение — идеальная соразмерность во всем — и необыкновенный, только ее оттенок кожи. А если до нее дотронуться. Положить на нее ладонь. Провести по ней… Порой мне было жаль, что я не скульптор, мне хотелось передать не просто форму, цвет, тепло, но — чудо прикосновения к Ню…
Как-то раз она уснула на берегу, а к ночи у нее подскочила температура — она, конечно же, обгорела. Порывшись в теткиных шкафах, я нашел какую-то, на мой взгляд, подходящую мазь, перевернул ее, сонную, на живот и стал осторожно натирать ей спину и плечи. И вдруг поймал себя на нежности к ней. В эту секунду Ню кончилась. Или, наоборот, началась…
…Утром, двигаясь на мне, она наклонилась, поцеловала меня в губы и произнесла только одно слово:
— Марик…
Мы начинались вместе — Ню и я…
— А ты уже приезжал сюда с женщинами?
— Приезжал.
— А ты был уже женат?
— Угу, был…
— А хочешь еще раз?
— Жениться? Нет…
— Вот и я нет.
— Ты еще молодая… Но вообще-то и молодые тоже хотят замуж. Все хотят.
— А я не все!
— Это я уже успел понять. Так почему нет?
— Это больно.
— Что — жениться?
— Да нет. Ты балда… Больно потом, когда хорошее кончается.
— Обязательно кончается?
— А как же иначе? Оно всегда кончается. Это только плохое тянется, тянется и никуда от него…
— Но есть же на свете счастливые люди…
— Я не встречала…
Солнце палило. И ее горячий живот под моей рукой. А губы, вот они, наклонись и пей. И я пил. Пожалуй, действительно, и я не встречал тоже…
Так что очень может быть, она…
Однажды перед самым закатом мы случайно набрели на заброшенный яблоневый сад. Покосившийся забор из прогнившего штакетника, и дыр больше, чем этого самого забора. Но сад… А какой там стоял запах…
Нюша носилась между деревьями, хватаясь за стволы и радуясь как ребенок. Подбирала валявшиеся повсюду яблоки и ела. А они хрустели у нее на зубах…
— Смотри, сколько их тут, — она повела рукой вокруг. — Они же просто пропадут и все, сгниют, жалко. Давай возьмем с собой, ну хоть немного, хоть на сегодня, а?
— А во что? У нас же ничего нет, Нюша…
— Я сейчас что-нибудь придумаю, подожди минутку…
Она шустро стянула через голову свою белую майку, простую, на резинке, юбку задрала до подмышек — получилось платье. Не слишком длинное, до середины бедер…
— Вот, из этого можно сделать узелок, видишь?
— Вижу… — я смотрел на ее голые плечи. — Знаешь что, верни-ка юбку на место…
— Но я…
— Я сказал — верни юбку на место, слышишь…
Она стояла передо мной — смущенная, враз покрасневшая и почему-то беспомощная. Я ее такой…
— Ну…
— Я… Я стесняюсь.
— Кого? Здесь же никого нет.
— Ты есть. Я тебя стесняюсь…
— Почему? Я что, тебя голой не видел?
— Это совсем другое, это работа. А сейчас…
— А ночью? Тоже работа?
— Ночью темно…
— Ну и что? Что изменилось?
— Ты не понимаешь…
— Ну так объясни.
Она подняла на меня глаза и несколько секунд молчала. Потом отвернулась.
— Если ты часто будешь видеть меня голой, я тебе надоем… тело мое тебе надоест. Я ведь для тебя — тело. Ты его рисуешь. Ты его… — она запнулась. — А я не хочу… надоесть. Хочу, чтобы ты каждый раз удивлялся мне, вот…
Передо мной стояла — смущенная, покрасневшая и вся целиком моя — Ню…
— Я понял. А теперь верни юбку на место…
…Ню медленно подняла руки, ухватила ткань и потянула ее вниз. Ее глаза были полны слез.
— Еще, — сказал я. — Сними ее совсем, все сними… Вот так, да…
… — Что… дальше? — спросила она, хлюпая носом.
— Подойди к дереву и прижмись к стволу. И не хлюпай ты, дуреха. Чуть опусти голову и чуть вправо… левую ногу… все… замри и не шевелись…
Я знал ее тело. Я помнил каждый его изгиб и каждую ложбинку. И как она сказала: попробуй раздеть меня сам… Я сделал это — ее руками, и все в самом деле получилось. Я написал ее «Портрет в солнечном свете», хотя солнца почти уже не осталось — закат, закат, закат… Но она — светилась. И техника была особая, уникальная. Когда все мазки выполняются одной-единственной кистью — нежностью.
Такой же слепящей и обжигающей, как…
Назавтра мы уезжали.
Умри мы вместе, одновременно, в ту последнюю ночь, было бы легче потом, потому что этого «потом» не было бы вовсе…
Город ждал нас. И жизнь резво взяла меня в оборот, так что уже на следующий день Ню оказалась почти призрачным существом и жить без нее стало возможно. Не слишком весело, все-таки я к ней изрядно привык, но возможно. Да и куда мне ее — в заваленную подрамниками и старыми холстами мастерскую с завтраками на этюднике? И отсутствие стабильного заработка… Даже при моем нездоровом отношении к светящимся женщинам. Правда, не светилась больше ни одна из… Ни как Нюша, ни вообще…
Ее не было месяца три. На звонки не отвечала, сама не звонила, ее просто не стало. Я, конечно же, мог ее отыскать, но когда представлял, как являюсь к ней нежданный-незванный… Возможно, застану ее не одну, а с…
В один прекрасный день она появилась и осталась аж на две недели. И разумеется, это были совсем другие две недели, не те — крымские, морские, яблочные. Снегопад и сосульки…
— Нюша, где ты была все это время?
Она молча стояла, прижавшись ко мне всем телом, и, по-моему, дрожала.
— Замерзла?
Несколько раз подряд судорожно кивнула.
— Ладно, потом расскажешь, проходи, чаю горячего, с баранками, да?
… — Ну? Теперь рассказывай все, слышишь? Все. Где была, что делала?
— Была…
— Я звонил, а ты не отвечала…
— Не хотела…
— Допустим. А что сейчас?
— Ничего особенного. Вот только… бабушка умерла. Теперь у меня никого…
— Как это никого, а я? — но этого я не сказал…
… — Слушай, Марик, можно я поживу у тебя недельку, а то мне пока некуда идти…
— Живи, разумеется. А почему некуда идти? У тебя же вроде квартира была?
— Да. Там сейчас Алик…
— Кто это — Алик?
— Ну тот парень. Который ничего особенного. Помнишь?
— И почему он там, а тебе некуда идти?
— Не знаю. Не хочет уходить. Но я разберусь…
…Как-то само собой мы оказались в постели, и резанула воспоминанием линия загара внизу ее живота… И нежность, тенью проскользнувшая на кончиках пальцев. И вкус яблок на ее губах. И что не моя. А может, все это мне только…
Утро теперь состояло из омлета и кофе, день — из оформления очередной выставки в очередном доме культуры, вечер — из усталости, душа и легкого ужина, ночь — из Ню… Жизнь то ли остановилась, то ли еще не началась.
Чем она занималась дни напролет, я не спрашивал, но видно было, что дома не сидела. Не то чтобы меня это совсем не интересовало, но… Некое подсознательное мужское нежелание раздавать авансы. Чтобы не подумала, не строила иллюзий. Чтобы…
Встречала почти всегда одинаково — улыбкой и голыми плечами. Она знала мое отношение к ее телу и показывала мне его украдкой, словно случайно, ненароком, дарила себя. И я перестал ее рисовать. Совсем…
Вечерами мы болтали, даже не помню о чем. О ерунде.
— Нюш, скажи… А вот ты пришла именно ко мне. Почему?
— А что, мешаю, да? — и сразу испуганные глаза, вот-вот рванется вещи собирать.
— Да нет, ну что ты, в самом деле, я просто так спрашиваю, ну… Да живи ты сколько хочешь…
Она выдыхает и мгновенно успокаивается — верит.
— А что тебе непонятно-то? Что — почему?
— Ну… У тебя своя жизнь, свои друзья. Мало ли. Неужели среди них — никого…
— Дело совсем не в этом.
— А в чем? Я и спрашиваю…
— Ты — хороший.
— Это ты ошибаешься, точно. Это не про меня.
Она уставилась на меня исподлобья, вот-вот полезет драться, защищать меня от самого себя.
— Ты добрый. Ты не врешь. Ты не такой, как другие.
— Я вру, и еще как! И часто. А доброта моя… Ну, может, зла прямо такого во мне и нет, но и доброты особой…
— Ты мне не врешь, понимаешь? Мне. И все, мне достаточно. И со мной ты добрый. И открытый. Я же для тебя тело — картина — девочка. Не больше. Но и не меньше. И ты этого никогда не скрывал, не требовал от меня больше, чем получаешь. Не пытался взять больше, чем я отдаю. Ко мне ты добрый, а что еще надо…
Она пожимает плечами, и я утыкаюсь ей в шею. И думаю о том, как я буду жить без нее дальше, если она…
Когда она снова пропала, я затосковал.
Сначала я пытался завалить себя работой, потом поехал к ней домой — в ее квартире жили незнакомые люди. А потом работа закончилась, и я начал пить. Сначала понемногу, но в одиночку, а дальше…
Весна пришла серая и слякотная, жить не хотелось.
Ню появилась в конце апреля — исхудавшая и какая-то встрепанная, как воробей. Влетела и повисла у меня на шее.
— Гоша!
И увидела пустые бутылки…
Она набрала полную ванну и засунула меня туда. Следом и себя. Так я и отмокал — постепенно. А когда более-менее отмок и попытался ей улыбнуться — заплакала…
— Почему ты пьешь?
— Мне пусто.
— Что такое пусто? Чего тебе не хватает?
— Тебя.
— Ты врешь!
— Тебе — нет. Тебе я не умею…
— Больше не пей!
— Больше не уходи…
— Раз ты просишь, не уйду.
— Я хотел тебя найти. Я пытался…
— Напрасно. Раз не прихожу, значит, так надо.
— А что с квартирой? И этот, как его, Алик? Что с ним?
— Все в порядке, Гоша. Квартиру я продала. А Алик… Его я убила.
— Что ты сказала?!
— Что я его убила.
— Нюша…
— Что?
— У тебя с головой — как?
— Как всегда. И вообще, теперь все хорошо…
— Теперь?
— Да. Теперь я смогу к тебе приходить, когда захочешь. Хочешь — рисуй, а хочешь…
— А раньше нет?
— А раньше мне надо было долг вернуть. И много разного другого сделать…
— Вернула?
— Да, весь, до конца. И еще кое-что осталось, могу не работать. Так мне приходить?
— Нет, не надо. Не приходи…
— ?..
— Ты просто не уходи. Не уходи — и все. Совсем…
Она осталась…
— Нюша, я сегодня поздно…
— Хорошо, я дождусь.
— Не надо, ложись спать, я тут сам…
— Хорошо.
Вернувшись, я находил ее спящей, свернувшись калачиком на узкой кушетке, прямо у входной двери. Рядом, на этюднике — клубника и плитка шоколада.
Я брал ее на руки и нес в постель.
— А шоколад-то зачем?
— Чтобы грустно не было.
— А клубника?
Улыбается…
— Клубника для запаха.
— А почему у двери, тоже, чтобы грустно не было?
— Нет… — смотрит.
— А почему?
— Чтобы, как собака хозяина…
— Ох, Нюша… Нюша… ты…
И никогда ни одного вопроса. Ничего.
Так не бывает.
А летом мы снова уехали в Крым.
Я не хотел брать с собой этюдник и краски. Потому что не хотел писать. В том числе и ее, Аню. А может быть, ее прежде всего… Наверное, просто боялся, что если еще раз…
Она меня, конечно, уговорила. И даже тащила на себе здоровый, тяжелый, полный кистей и тюбиков с красками, этюдник до самого вокзала.
Я не мог ее рисовать, я не мог ее подчинить. Она никогда не спорила, покорялась во всем, глядя на меня снизу вверх или, наоборот, сверху вниз преданными, только что не собачьими глазами, и всегда все выходило по ее. Я это видел, понимал и ничего не мог поделать. Она была сильней. Я был ей не нужен. Она светилась — сама…
А сад нас помнил. Мы навещали его раз в два-три дня, уносили с собой яблоки и этот дурманящий плодовый запах…
Дней через пять после приезда, ночью, пришла гроза. По крыше и стенам дома застучали капли, потом начался настоящий ливень. Мы проснулись. Аня встала, чтобы прикрыть окно, и в этот момент совсем близко сверкнула молния, на долю секунды осветившая все. Впервые за долгое время я увидел ее снова. Снова и заново, другую Ню, Ню-незнакомку. Она вернулась ко мне в постель, прижалась и спросила:
— А теперь ты будешь меня рисовать, скажи?
— Может быть. Завтра…
— У тебя получится, все получится, вот увидишь.
...