автордың кітабын онлайн тегін оқу Баку — Воронеж: не догонишь
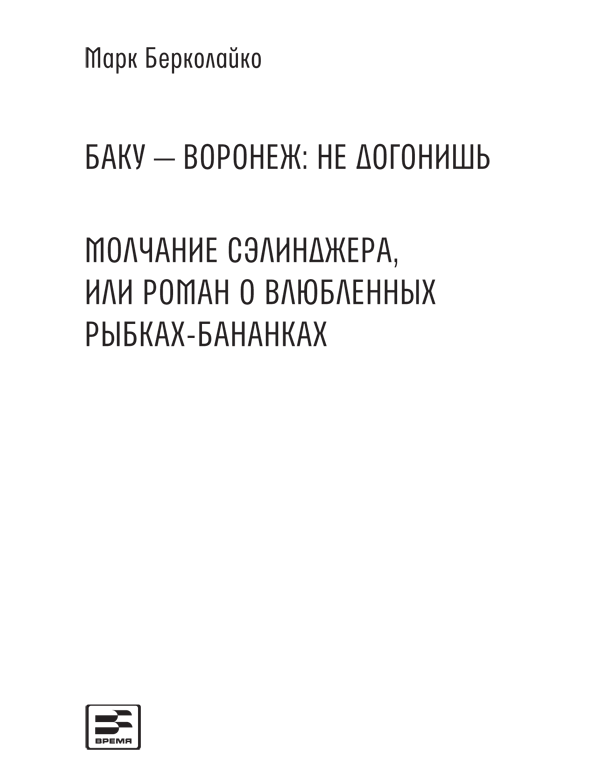
Информация
от издательства
Художественное электронное издание
16+
Макет, оформление — Валерий Калныньш
Берколайко, М. З.
Баку — Воронеж: не догонишь : Документальная повесть ; Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках / Марк Зиновьевич Берколайко. — М. : Время, 2019.. — («Проза времени»).
ISBN 978-5-9691-1849-2
Повесть «Баку — Воронеж: не догонишь» можно было бы назвать повестью-воспоминанием, если бы в первых строках ее автор не предупредил читателя, что самое главное для него — выразить свое восхищение родным Баку и той удивительной общностью, которая называется не бакинцами даже, а бакинским народом. И с каждой страницей для нас все более раскрываются, становятся все роднее и город великой судьбы, и его люди: нефтяники, ученые, ремесленники, поэты, музыканты, врачи, учителя — все те, о ком, следуя мудрому завету Василия Жуковского, мы с благодарностью говорим: «Были!»
«Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках» — здесь «пересказывается» произведение, которое самый популярный и загадочный писатель двадцатого века написал, по версии автора, в последние два года жизни. А сюжетом этого романа Сэлинджера стала история любви наших современников, Влады и Стаса, и мы убеждаемся, что «повесть о Ромео и Джульетте» — не только легенда, а описанные великим писателем судьбы придуманных им «рыбок-бананок» — не только красивая метафора.
© Марк Берколайко, 2019
© «Время», 2019
БАКУ — ВОРОНЕЖ: НЕ ДОГОНИШЬ
Документальная повесть
Моим бакинским друзьям, — и пребывающим со мною в этом мире: Саше, Савелию, Эльдару, Ниязи, и тем, кто уже ушел из него: Эмину Алиеву, Рауфу Сафарову, Шурику Тверецкому, Лене Прилипко
Не властны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
Евгений Баратынский
Стереотип воспоминаний о городе, в котором вырос, хорошо известен: родной дом — родной двор — родная улица — опять же родные детский сад, школа и институт — первая любовь — первая разлука… И все это потрескивает от чувств; потрескивает однообразно и утомительно, как кастаньеты у долго выплясывающей испанки.
Много подобного содержится в моей повести «Седер на Искровской», теперь же, отдавая воспоминаниям более скромную дань, пишу не ради них, а для того, чтобы выразить свою привязанность к той великой и уникальной общности, которую называю бакинским народом; для того, чтобы еще раз восхититься Баку, где совсем недавно провел свой семьдесят третий день рождения.
А до этого дня не видел его тридцать семь лет — такой вот мистический перевертыш чисел: 73 — 37!
…Проспал, потрясенный впечатлениями, шесть часов кряду. Вышел на балкон и увидел, что рассвело едва ли наполовину.
До первых поздравительных звонков и эсэмэсок было еще долго, жена крепко спала, так что я, семидесятитрехлетний «новорожденный», оказался один на один с миром, в котором царила тишина.
От бухты дул ветер, та самая благословенная моряна, которая и в самые жаркие, душные ночи дарит пару часов «провидческого» полусна. И в голове моей стало что-то такое проясняться, и я негромко, чтобы никого не будить, заговорил, обращаясь к едва видневшемуся в молочной дымке острову Нарген. Заговорил, будто бы поясняя строгому экзаменатору длинную и запутанную формулу своей жизни:
— Прости меня, Баку. Прости мои тогдашние глупость и высокомерие, из-за которых я считал тебя не устремленным в будущее, не могущим вырваться из обрекающего на архаику ярма нефтегазовой триады «добыча — транспортировка — переработка». Прости, я не понял, что это не ярмо твое, а корона, — ведь оказалось, что даже двадцать миллионов тонн недоразведанной отцом кобыстанской нефти, даже эта капля в море в сравнении с ежегодно добываемыми в России пятьюстами пятьюдесятью миллионами тонн, помогает тебе становиться еще краше, еще чувственнее, еще величественнее.
Я недооценил тебя, прости!
ВОРОНЕЖ
Из Баку я уехал осенью 1967 года, после окончания университета. В моем красном дипломе значилось «математик, учитель математики», но быть учителем меня не привлекало, — мечтал решать сложные и интересные задачи. Волны счастья от набитого одним пальцем на машинке «Теорема доказана» (моя! мною доказана!) уже не укачивали, — понял, что результаты, которые получил в дипломной работе, которыми гордился еще в июле, примитивны.
Однако способен ли создавать что-либо, чему можно было бы радоваться не только через два месяца, но и через два года — не знал.
И все равно мечтал, и даже определилась область математики — нелинейный функциональный анализ, — в которой тянуло работать, однако в Баку именно в этой области не было того, что называется школой.
Не той, конечно, школой, в которой геометрия зиждется на воззрениях Евклида, — нет, речь о том, не учрежденном формально, однако более чем реальном, что даже по ночам заставляет думать над услышанным на семинарах Красносельского, Крейна, Владимира Ивановича Соболева; где задачи, над которыми бьешься (а ты непрестанно над чем-нибудь бьешься) развивают классические исследования Никольского, Сергея Львовича Соболева, Канторовича, Бесова, Лизоркина… Это нечто такое, что заставляет ежемесячно перелистывать лучшие советские и зарубежные математические журналы и радоваться статьям «своих», тех, с кем, встречаясь в коридорах университета, в фойе филармонии или театра, обмениваешься приязненным: «Как дела? Все вершины покорил?» — «Пока не все. Штурмую», — а на конференциях, по ночам, на берегу Байкала или Японского моря, в номере турбазы «Березка» или гостиницы в новосибирском Академгородке — поешь Окуджаву…
В Баку такой школы не было, а в Воронеже была, и имена легендарных ее основателей: Марка Александровича Красносельского, Селима Григорьевича Крейна и Владимира Ивановича Соболева мною с глубочайшим почтением уже упомянуты. Еще назову Якова Брониславовича Рутицкого, заведующего кафедрой высшей математики ВИСИ (Воронежского инженерно-строительного института), аспирантом которого в 1968-м я стал, а до того год преподавал в пединституте Курска.
И вот оттуда-то, выхлопотав три свободных дня, направился в Воронеж — знакомиться.
Железная дорога от Курска до Воронежа однопутная и одолевалась поездом «Киев — Воронеж» за восемь часов. На перрон курского вокзала из купейного вагона вышло человек двадцать с чемоданами и сумками, а вошел в него, с неплотно набитым портфелем, только я. Из этого следовало, что можно будет завалиться на верхнюю полку любого свободного купе и заняться тем, чем стоит заниматься в медленном поезде: изредка любоваться пейзажами, совсем изредка пить чай, а в остальное время спать. Но пассажир предполагает, а проводник располагает, — и уверенной в своем праве располагать воронежанкой (или воронежкой?) я был определен «на постой» к молодой женщине с дочкой лет восьми-девяти. Женщина, по моему разумению, должна была бы запротестовать, но нет, смолчала, и даже, как мне показалось, заинтересованно смолчала. Каюсь, отнес это на счет бросившегося ей в глаза моего обаяния, однако вскоре стало ясно, что с интуицией завзятой болтушки она разглядела во мне нечто большее, нежели зачатки мужской привлекательности, — а именно, готовность слушать.
Инна! Не знаю, живы ли вы — как-то так случилось, что за пятьдесят лет ни разу вас не увидел, хотя Воронеж маленький, в общем-то, город…
Инна! Откуда вы так хорошо были осведомлены о секретных КБХА и ОКБ моторостроения? о полусекретном механическом заводе? о таинственном и постоянно расширяющемся комплексе «почтовых ящиков» микроэлектроники на левом берегу? Называли фамилии Колесникова1 и Толстых2, предрекая этим людям большое будущее; рассказывали о трагической гибели Косберга3, упоминая при этом о Конопатове…4 Откуда вы все это знали?!
Инна! Я понимаю, в России все тайна и ничто не секрет, но как вы не боялись выкладывать столько «не общедоступного» мне, совершенно незнакомому человеку? За восемь часов пути вы дважды насильно меня накормили, задали шесть вопросов: кто такой? зачем еду в Воронеж? как три года буду жить вдали от семьи? знаю ли Юлия Гусмана? Муслима Магомаева? Полада Бюль-Бюль-оглы? Без особого интереса выслушали ответные десять фраз, а все остальное время говорили, говорили, говорили…
Потом, уже выходя из купе, наказали очень серенькому мужу и его еще более серенькому водителю нести чемоданы предельно аккуратно, поскольку в них много стекла, взяли за руку молчавшую (!) всю дорогу дочь и ушли, бросив мне «до свидания», равнодушное, как поклон уставшей примы едва заполненному залу.
И исчезли из моей жизни навсегда, сыграв в ней фантастически значимую роль!
Ибо, глядя вам вслед, я твердо решил не возвращаться в Баку после аспирантуры! Решил, что если даже вознамерятся вытолкать взашей, то растопырюсь, упрусь, но сумею угнездиться в Воронеже, в этом негромком городе с неведомым мне прошлым, великим настоящим и, несомненно, грандиозным будущим.
А друзья, еще когда заканчивал университет, узнав о моих планах учиться в аспирантуре в Воронеже, спрашивали: «Ладно, то, что уезжаешь, еще понять можно — ради математики. Но почему не в Москву, не в Ленинград, не в Новосибирск, в конце концов? Почему по принципу: “Баку — Воронеж: не догонишь!”?» И получалось, что убегаю из родного города в какое-то неприметное место, где обречен быть таким же неприметным. Это как-то царапало, не скрою… Может, поэтому в первых двух моих романах действие происходит во вроде бы вымышленном Недогонеже.
Но как после рассказов Инны было не принять решение остаться в Воронеже навсегда?! — ведь кроме замечательных математиков он вместил в себя самолето-, ракето- и двигателестроение, предприятия радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники, производство синтетического каучука, шин, тяжелых прессов и экскаваторов. И из этого манящего изобилия науки и индустрии — обратно в мой славный Баку, в котором жилось так ласково, но в котором, кроме нефтедобычи и нефтепереработки, кроме лишенного ауры дальних плаваний Каспийского пароходства и нескольких небольших заводов, не было, казалось мне, ничего сравнимого с воронежским великолепием?! Ах, Инна, вы подвели меня к двери в манящую инаковость — и я принялся в нее биться, радуясь приоткрыванию еще на сантиметр, еще на чуть-чуть… и бьюсь до сих пор, уже твердо зная, что никакой инаковости за нею нет.
Легко получил место в гостинице «Воронеж», — она располагалась тогда в здании с часами на площади Ленина, — просто подошел к стойке регистрации, сказал: «У меня забронировано», — и подал паспорт с вложенной в него двадцатипятирублевкой. Метод этот, усвоенный из рассказов бакинцев о поездках в Москву, оказался действенным, однако хватило бы и десятки, поскольку я оказался пятым в номере с двумя армянами, одним дагестанцем и снабженцем из Житомира, и все они, люди опытные, просветили меня, что двадцать пять — это поощрение разврата. Просвещали и во время вечернего застолья, в котором я поучаствовал бутылкой азербайджанского коньяка, долго-долго хранимой мною в Курске, а опустошенной в первые же часы пребывания в Воронеже. Так же дружно были распиты старка и водка «Московская» — взносы остальных участников. Полтора литра на четверых крепких мужиков и тогдашнего меня, — худого математика мужеска пола, — явный недобор относительно нормативов тех времен (пол-литра на брата), однако и это количество алкоголя обеспечило честной компании непоказное воцарение дружбы народов. Не ленинской, которая, если верить пропаганде, крепнет исключительно в труде и борьбе, а пышно расцветающей тогда, когда есть что выпить и чем закусить; когда не над чем трудиться, а бороться с американским империализмом, сионистской военщиной и китайским ревизионизмом невозможно хотя бы по причине их полного отсутствия и рядом, и в непосредственной близости5.
Правда, снабженец, щирый украинец, успел уведомить, что после войны в Житомире опять развелось много евреев, на что дагестанец возразил: «Среди евреев тоже много хороших людей есть!» — и тема была исчерпана.
Правда, армяне успели заявить, что азербайджанский коньяк — это армянский, завозимый в Азербайджан бочками и разливаемый там в бутылки: «Только этикетки, и то плохо, азербайджанцы делают!» И в том поклялись мамами — однако тут уже я не выдержал и заспорил. Пояснил (моя мать, в отличие от их матерей, работала экономистом в «Азсовхозтресте», которому подчинялась вся тогдашняя винодельческая промышленность Азербайджана), что виноградники и предприятия, обеспечивающие эриваньский и одесский заводы Шустовых коньячным спиртом, находились и находятся именно в моей родной республике; что рецептуры азербайджанского, дагестанского и грузинского коньяков были в тридцатые годы разработаны, а не куплены у французов, — в отличие от тех, что задолго до революции были приобретены у них для производства армянского. «Так что Черчилль любил, по сути дела, не армянский коньяк, а французский, приготовленный из азербайджанского виноматериала!» — хотелось мне добавить, но удержался. И правильно сделал, упоминание о Черчилле было бы уже чрезмерным — и без этого прозвучавшая в русском Воронеже фамилия замечательных русских промышленников произвела сильное впечатление. В номере повеяло присутствием «старшего брата», и вопросы межнациональных отношений более не поднимались.
Воцарилось единодушие, особенно полное в том впечатлении, какое на моих сотрапезников произвел Воронеж: «Большой город — говорят, в войну весь был разрушен… Пьяных немного — не то что в Рязани, Ярославле, Новгороде… Люди бедно живут, но не злые, только хмурые какие-то, — а девушки красивые…» Так что наутро, отправившись от площади Ленина пешком по улице Кирова, а потом 20-летия Октября, до Строительного института, «строяка», я внимательно разглядывал дома и оценивал встречных.
Улицы были явно не окраинные, однако даже многоэтажные дома на них рождали ощущение беспросветной чеховской скуки. Их даже нельзя было назвать разностильными, — скорее, одинаково лишенными каких бы то ни было признаков стиля, словно бы за процессом проектирования надзирал кто-то, бубнивший угрожающе: «Вы у меня навсегда забудете, что архитектура — это застывшая музыка!» И вот, все волшебное многообразие мелодий и ритмов свелось к барабанной дроби, и дома выстроены так, чтобы с первого дня выглядеть именно выстроенными, а не возведенными.
Не по-январски слякотно и серо было в тот мой первый день в Воронеже. Да, это штамп — утверждать, будто при знакомстве с городом сияние солнца или нахмуренность неба определяют последующую жизнь в нем, однако уверенность в том, что осяду в Воронеже надолго, ужилась во мне в то утро с другой уверенностью: радости в этом бытовании будет немного.
«Для веселия планета наша мало оборудована…» — писал Маяковский, которого тогда очень любил. «Для веселия планета наша мало оборудована…» — повторял мысленно, входя в «строяк», где мне была назначена встреча с научным руководителем. И понимал, повторяя, что всегда буду воспринимать Воронеж оборудованным для веселья не более, нежели вся остальная планета.
Так и воспринимаю уже пятьдесят лет — что бы там ни говорили ура-патриоты в вечном споре с увы-патриотами.
Нет-нет, моя жизнь в Воронеже не была безрадостной, — в конце концов, здесь выросли мои дети, а сейчас подрастают двое из троих внуко-внучек, и в одном только этом — море радости…
Море…
А стол, за которым я в Баку делал уроки, занимался математикой и получал первые, пусть совсем еще слабенькие, результаты, стоял у окна, и так хорошо была видна бухта — вся, с островом Нарген6, и безлунными, беззвездными зимними ночами свет его маяка упирался в беспросветную темь горизонта…
Но зато в Воронеже случались у меня, — и это, право, гораздо важнее веселья или его отсутствия, — взлеты; даже и теперь, когда мое бытие гнет к земле мое же сознание, о нескольких таких вспоминаю — и становится легче: «Все же когда-то летал!»
О самом первом расскажу подробнее.
Первый год аспирантуры начался с потрясения, едва не приведшего меня на грань нервного срыва: уровень лучших студентов третьего-четвертого курсов матфака оказался неизмеримо выше моего. Их доклады на посещаемых мною семинарах, их рассуждения, которыми они обменивались буквально на бегу, были не просто мне не понятны — не знал, станут ли они когда-нибудь понятнее. Бросился в библиотеку, просиживал в читальном зале, листал монографии и паниковал, что не только трех лет аспирантуры, но и всей жизни будет мало, чтобы прочитать хотя бы одну от корки до корки.
И тут Яков Брониславович, словно почувствовав мое состояние, сказал: «Хватит метаться. Займитесь-ка лучше вот чем…» — и сформулировал нечто сложное, но хотя бы доступное пониманию.
И в самой постановке задачи (великое искусство научного руководителя — ставить перед учеником именно такие задачи!) мне словно бы послышалось: «Либо сделаешь, либо сдохнешь!» Готов ли я был ко второму варианту — до сих пор не знаю. Тогда, однако, знал точно: ничтожеством, размазанным по вечно разбитому асфальту воронежских улиц, я не буду. Убегать оттуда, где трудно, — обратно ли в Баку, или «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», или «искать по свету, где оскорбленному есть чувству (самоуважения) уголок», — не для меня. Убегать от угроз вообще не для меня — спасибо родному городу, воспитал, расскажу позже, как именно.
Оставалось — сделать.
Недели, в течение которых доказывал первую свою серьезную теорему, запомнились мерной ходьбой по аспирантской клетушке.
Четыре шага между узенькими общежитскими кроватями с продавленными металлическими сетками, комковатыми матрасами и желтоватым от стирки хозяйственным мылом бельем.
Два шага вдоль стоящих друг против друга тумбочек и мимо висящих над ними книжных полок. На моей — стопка общих тетрадей и несколько книг; на полке Алика, тоже бакинца, «добивающего» уже второй год в аспирантуре на кафедре технологии строительства и пропадающего на полигоне, где проводились испытания пневмоопалубок, — ничего научного и даже околонаучного.
Но зато на ней подружка соседа, парикмахер Аня, держит инструменты, причем это не случайное для них пристанище, потому что раз в неделю, перед свободным от работы днем, дама приходит к Алику на ночь, а я отправляюсь в какую-нибудь другую аспирантскую комнату (где-то свободная кровать непременно найдется). Однако дама стесняется, если я начинаю собирать постельные манатки и зубную щетку сразу после ее приветственного «Добрый вечер, как жизнь?», поэтому мы сначала по-семейному, втроем, пьем чай. Алик нетерпеливо ерзает на стуле (подозреваю, впрочем, что подчеркивая таким образом огненный темперамент бакинца), а Аня внимательно разглядывает мои волосы (начал лысеть рано, однако тогда на голове моей еще была вполне полноценная прическа); потом говорит: «Дай-ка с боков тебе подправлю» или «Что-то чубчик уж больно закучерявился», а на мое: «Аня, ведь еще неделю назад все было в порядке!» — следует решительное: «Не спорь!».
Я и не спорю, чувствую, что никакая другая женщина не станет так истово сражаться за порядок на моей голове, не покушаясь на постоянный беспорядок внутри нее — на беспорядок, порожденный раздвоением сознания, меньшая часть которого послушно участвует в окружающей жизни, а большей части на окружающее наплевать, поскольку занята решением очередной задачи, безумно трудной в сравнении с предыдущими, уже решенными, а потому тривиальными.
Не спорю, ибо комплект Аниных инструментов, лежащий на полке Алика, предназначен для меня и только для меня — а ее парень, со всем его огненным темпераментом, раз в месяц плетется к ней в парикмахерскую.
Не спорю, ибо в ее прикосновениях есть, как мне чудится, и сожаление по поводу того, что скоро уйду я, а не он (бакинец у бакинца женщину да не уведет!); и обещание, что если перетерплю неизвестно насколько длинную череду этих «скоро», то когда-нибудь… может быть…
Однако вернемся к тому, как вышагивалось доказательство теоремы — по угловой комнате, вытянутой подобно тощему служаке-сержанту, который даже спит так, будто получил команду «Смирно!».
Так вот: после двух шагов вдоль тумбочек и полок нужно сделать еще два — мимо расшатанных, доживающих последние годы конторских письменных столов; изредка присаживаюсь за один из них, чтобы подсчитать параметры звеньев ломаной. Да, я затеял построение хитрющей ломаной и хилыми всплесками шестого чувства угадывал, что поддастся, поддастся мне моя желанная, что не станет она меня уговаривать перетерпеть…
Потом еще пять шагов вдоль стола, — одного на двоих, за которым едим и раз в неделю чаевничаем с Аней; и вдоль шифоньера, — тоже одного на двоих.
Все, дошел до входной двери, теперь разворот — и обратно.
Но в один из декабрьских, уже предновогодних, дней, когда вечерние сумерки надвинулись с самого утра, сделав город за замызганным окном еще бесприютнее, мне вдруг стало ясно, что чертовой дюжины шагов туда и чертовой дюжины обратно для завершения доказательства не хватает, что необходим простор. Дождался Алика, надел теплую фуфайку, самый толстый свитер, пиджак — и пальто налезло поверх всего этого с усилиями, сравнимыми с теми, как если бы натягивал противогаз на голову слона, — и сообщил уже горящему в предвкушении «верного свидания» соседу:
— Чувствую себя плохо, спать лягу здесь, так что у вас с Аней есть часа три, не больше.
Погода соответствовала календарю, но хорошо хоть скользко не было и широкому шагу ничто не мешало. За временем не следил, только отмечал краешком сознания, что сначала было холодно, потом, от быстрого движения, стал, под всеми своими одеждами, противно влажным, потом, — когда до полной и окончательной победы оставалось получить одно коротенькое неравенство, — замерз так, как может только замерзать еще не привыкший к северу южанин, однако не сдавался.
За витриной центрального универмага была выставлена елка, богато — по меркам тех времен — украшенная, но гирлянда на ней не сияла и не излучала, а мигала со сбивчивой частотой предсмертных вдохов… и клянусь вам! — в голове моей, одновременно с очередной вспышкой лампочек, вспыхнули все необходимые для получения неравенства выкладки!
Зачем-то дошагал до гостиницы «Луч», втридорога купил бутылку водки в тамошнем заштатном ресторане и устремился в общагу, мечтая, как разопьем бутылку «на троих», как, глядя в лукавые Анины глаза, поделюсь обретенной уверенностью в том, что вовсе даже не ничтожество, во всяком случае не беспросветное ничтожество, коль скоро доказал-таки теорему… Но в комнате никого не было, и я долго ждал Алика, чтобы выпить хотя бы «на двоих». Он, однако, объявился только утром и рассказал, как Аня за меня волновалась, с каким трудом удалось уговорить ее поехать в гостиницу «Луч», сколько пришлось дать на лапу, чтобы снять на ночь номер, и каких усилий, — что совсем уже дико, — ему стоило продемонстрировать обычную свою вулканичность.
Не могу простить Чехову снобизм его заявления о том, что жизнь любого человека — это всего лишь сюжет для небольшого рассказа. Да жизнь любого человека буквально напичкана сюжетами для рассказов! и повестей! и романов! Лишь множество разных сюжетов и есть смысл нашего существования!.. А смерть, по сути своей, сводится, к сожалению, о том, что сюжеты эти не были прожиты как следует.
Аню я увидел снова лишь через четыре года, потому что в общежитие она больше не приходила.
Да и я съехал оттуда, сняв после Нового года комнату в одном из частных домов, и вот где замерзал по-настоящему! Вот где испытал первый свой полет — во сне, конечно, наяву так не летают!
…Февраль в 1969-м случился запредельно морозным, а круглая печь, единственная на весь дом, в комнату мою выходила узенькой полоской, и температура у письменного стола, как бы старательно ни топили хозяева, выше пятнадцати градусов не поднималась.
А я уже почти два месяца безуспешно придумывал пример, подтверждающий существенность условий «вышаганной» теоремы; время поджимало, подходил срок сдачи в университетский сборник статьи, — первой! полноценной!.. Вернее, пока еще не полноценной, а куцей.
Незачем и говорить, что голова моя, полусонная от неотступного холода, думать отказывалась, что опять казался себе абсолютным ничтожеством, — потому и «уходил» от этой безнадеги единственно доступным способом: подремывая под двумя ватными одеялами да еще и под накинутым сверху пальто.
Главное, есть не хотелось; примерно так же, уверен, чувствует себя, — вернее себя не чувствует, — впавший в спячку медведь, только вот того чуда, что случилось со мною, с ним бы точно не произошло.
…Был удивительно солнечный полдень особенно морозного дня и, приоткрыв глаза, я с удивлением обнаружил на стене иней. Он показался мне вполне подходящей «доской», а потому, вытащив из-под одеяла руку, я вдруг несколькими формулами, подтекающими прямо под пальцем, набросал конструкцию примера.
Да, именно так, придумал его в три минуты потрясающего по ясности видения, после чего провалился, — но уже не в дремоту, а в сон, и в этом сне, очень маленький и очень крепко сбитый, я летал под грозовыми тучами и держал в руках чудесный пример. А вокруг грохотал гром и гремели овации; все живое и неживое поздравляло меня с тем, что я, карла ничтожный, сумел-таки влететь в Чертоги и выкрасть у Высшего Разума кусочек Тайного Знания.
Спал до самого вечера, а разбудила меня, вернувшись с работы, жена, незадолго до того перебравшаяся ко мне в Воронеж.
Пристыдила, что весь день провалялся голодный, поздравила с обретением примера и сообщила, что на улице за считаные часы потеплело.
И мы понеслись в ресторан.
В «Маяк», как сейчас помню. Обедать и ужинать одновременно.
…Вот так! А вы, Антон Павлович, говорите, будто всего только один сюжет, да и то для небольшого рассказа!
За пятьдесят лет пребывания в Воронеже я кроме математики состоялся еще в пяти как минимум профессиях: автора коротких рассказов, кавээновских и эстрадных миниатюр; драматурга; топ-менеджера (был генеральным директором консалтинговой компании, руководил крупным аграрным проектом); политтехнолога; экономиста и специалиста по биржевым стратегиям. А еще с 2005 года пишу прозу — пять романов и повесть изданы, а кое-что и переиздано.
Чем-то из перечисленного увлекался, во что-то был и остаюсь влюблен, что-то делал ради денег.
Но «летал», — увы! — нечасто. В основном тогда, когда получал интересные и неожиданные результаты; о некоторых из них не могу сейчас рассказать даже самому себе, поскольку перестал их понимать — ведь математику пришлось оставить в 1996-м. Но вот об одном не забуду даже в последний час жизни, и только в окончательно отлетающем моем сознании исчезнет воспоминание о том, как полученные мною общие результаты позволяют увидеть новые и неожиданные свойства хорошо к тому времени изученных так называемых пространств Соболева.
Когда рассказал об этом Селиму Григорьевичу Крейну, он прокомментировал словом, любимым им со времен его одесского детства: «Шикарно!».
Когда рассказал на семинаре в Математическом институте Академии наук, «классики жанра» отозвались: «Сенсация!»
Однако самая высокая оценка, хотя и несколько косвенная, была получена в новосибирском Академгородке, на защите докторской диссертации. Дело в том, что двое из членов совета были чуть ли не со-основателями имевшего антисемитский душок общества «Память» и при малейшем подозрении о наличии у соискателей хоть капли еврейской крови голосовали против. В моем же случае даже и подозревать не надо было — все значилось в анкете, которую в начале защиты зачитал ученый секретарь.
В Институте математики Сибирского отделения Академии наук, основанном в начале 60-х тем самым Сергеем Львовичем Соболевым, многие мне симпатизировали и о двух неизбежных при голосовании черных шарах предупредили. Ревнители чистоты рядов советских математиков среди членов совета обнаружились легко: в начале моего доклада они смотрели не на исписанную формулами доску, а в окно, однако когда я заговорил о новом явлении в «изъезженной», казалось бы, вдоль и поперек теории пространств Соболева, то не выдержали, головы повернули…
При объявлении результатов тайного голосования по залу прошел гул: двенадцать «за», два бюллетеня оказались недействительными, — то есть одобрить присуждение мне, еврею, степени доктора физико-математических наук «памятникам» не позволили убеждения, однако проголосовать против не позволила научная совесть!
Спасибо Воронежу: во всем, что затевал здесь на протяжении пятидесяти лет, был успех более или менее явный.
Но трижды спасибо Баку: не подари он мне такое детство, такую юность и таких друзей, не отмой он меня от пятен мелочного тщеславия, не приучи бить, но не добивать, выигрывать, но не возноситься, проигрывать, но не сдаваться, не научи работать — не было бы в моей жизни никаких успехов.
Ни в Воронеже, ни в любом другом городе мира!
2. Толстых Б. Л., Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. В 1971—1985 гг. главный инженер, генеральный директор НПО «Электроника» и ВЗПП. 1987—1989 гг. — заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Госкомитета СССР по науке и технике; 1989—1991 гг. — председатель Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике.
1. Колесников В. Г., Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. В 1966—1971 гг. — директор Воронежского завода полупроводниковых приборов (ВЗПП), генеральный директор Воронежского производственно-технического объединения (НПО) «Электроника»; 1985—1991 гг. — министр электронной промышленности СССР.
5. Для современного читателя следует, наверное, пояснить, что советско-китайские отношения, обострившиеся в связи с тем, что Мао Цзэдун категорически отвергал проводимую под руководством Н. С. Хрущева десталинизацию, при воцарении Л. И. Брежнева не только не улучшились, но стали враждебными вплоть до многочисленных вооруженных столкновений, что и послужило основной причиной сближения США и КНР, приведшего, вкупе с хорошо продуманными реформами Дэн Сяопина, к «китайскому чуду». Последствия всего этого сегодня проявляются в полной мере.
6. С 1990 г. Бёйюк Зыря — остров в Бакинской бухте. Наргеном был назван в XVII веке казаками, желавшими сделать приятное Петру Первому: два одноименных острова, один на севере, в Финском заливе, близ Ревеля (Таллина); второй на юге, рядом с Баку, символизировали необъятность Российской империи. Во время Первой мировой войны на Наргене находился лагерь для турецких военнопленных; в 30—40-е годы прошлого века он был местом массовых казней жертв репрессий, а в 1942 году, по слухам, на нем располагались зенитная батарея с военнослужащими-поляками из армии Андерса и две английские эскадрильи истребительной авиации — и то и другое по настоянию Черчилля, который вполне справедливо полагал, что захват Баку немцами или разрушение его промыслов и заводов с воздуха означал бы для Советского Союза полное поражение.
3. Косберг С. А., Герой Социалистического Труда, создатель и главный конструктор Воронежского КБ химавтоматики, в котором были разработаны (и до сих пор производятся) жидкостные реактивные двигатели третьих ступеней ракет-носителей. Известно восклицание Гагарина: «Косберг сработал. Какая красотища!», когда корабль «Восток» был выведен на орбиту, третья ступень отделилась и в иллюминаторе стала видна Земля. Менее известно, что Семен Ариевич первым из прилетевших на место приземления Юрия Алексеевича получил его автограф, а в нем было написано: «Спасибо за третью ступень!»
4. Конопатов А. Д., Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, ученик Косберга и его преемник на посту главного конструктора Воронежского КБ химавтомитики.
БАКУ
«Ты кто по национальности?» — типично бакинский вопрос, который задавался в расчете на развернутый ответ. И даже если можно было пояснить одним словом, например, «азербайджанец», то непременно прибавлялось, что мать из Баку, а отец из Шамхора или из Гянджи; если «русский» или «еврей», то как и когда в Баку оказались родители. Дети смешанных браков называли национальность по отцу — и не потому даже, что именно так себя осознавали, а постольку поскольку фамилия-то отцовская! Это при том, что мать почиталась, и в смеси самых разноязычных ругательств обычное для России «…твою мать!» считалось смертельным оскорблением, после которого завязывалась драка или даже поножовщина.
А уж если поклялся матерью и хлебом, то это священнее, чем Аллахом, или Христом Богом, или Всевышним.
Но вопрос этот задавался не для различения по признаку «свой — чужой», а скорее во избежание ненужных осложнений: разговаривает, скажем, еврей с азербайджанцем и неодобрительно отзывается, например, об украинцах — и вдруг слышит: «Ты мою родню зачем обижаешь?» Выясняется, что у собеседника, чья принадлежность к народу азери сомнения не вызывает, мать или даже бабушка откуда-то «с Винницы», и нужно долго и искренне извиняться, чтобы уйти от ненужного конфликта.
Я как-то раз так вляпался: перейдя из своей 6-й, лучшей в мире школы, ставшей, во имя очередного заскока Хрущева, одиннадцатилеткой, в другую, оставшуюся десятилеткой, и плохо еще зная одноклассников, заявил с пубертатным идиотизмом, что никогда не прощу украинцам их зверств во время погромов, чинимых когда-то запорожцами, а позже — соратниками Богдана Хмельницкого, Петлюры и Бандеры. Маленький, на голову ниже меня, мальчуган, азербайджанец Адиль, отреагировал: «Моя мать — украинка!» …Что ж, извинялся и убеждал, что имел в виду не тех, которые… а других, которые… Потом, кстати, мы с Адилем подружились. После этого случая я опасался резко отзываться или уничижительно говорить о любом народе, тем паче в Баку, где парень, разрез глаз которого наводил на мысль о близости к степнякам Средней Азии, мог вполне иметь совсем другие, чукотские, скажем, корни, — и анекдоты из ходившей тогда серии «про чукчей» лучше было при нем не вспоминать. Поначалу просто опасался, потом привык опасаться, а потом опасения улетучились и взамен осталась привычка к тому, что резкость или уничижительность в отношении любого народа или этноса безнравственны.
Так на собственной шкуре получил подтверждение хорошей усвояемости уроков, преподносимых ударами грома, — и неважно, крестишься ли ты до того, как он грянет, или после; говоришь ли «Иншалла!»7 в преддверии грозы или «Машалла!»8 во время оной.
Но заговорил я об ответах на «бакинский» вопрос еще и потому, что когда количество смешанных браков в Советском Союзе пошло на убыль, в Баку ничего подобного не случилось. Сам я и мой кузен, тоже Марк, женились на русских, да и многие мои друзья не принимали во внимание «чистоту крови» — поэтому теперь, когда в России все чаще слышится, как важно во имя нации, скреп, традиций и черт его знает чего еще сохранять в семьях моноэтничность (а теперь еще и единоверие), хочется ответить: «А вы посмотрите на детей, рожденных и воспитанных нами, “не сохранявшими”. Они что, хуже, глупее или ленивее ваших?»
У меня дочь и два сына, все от русских матерей. Старший сын считает себя евреем, а женат на женщине из народа телугу (Индостан); младший — русским и женат на русской, но когда мои парни сидят рядом, никто не верит, что у них — разные матери, настолько оба похожи на меня. А вот во внешности их детей не усматривается ничего еврейского, и никто из них ни на кого другого ничуть не похож. Во всяком случае пока.
Но я знаю, что все они, каждый по-своему, замечательно хороши, и благодарю судьбу за то, что истоки этого знания — из Баку.
Об одной чудесной, смешанно-перемешанной семье расскажу особо. Я знаю ее благодаря моему однокласснику Эльдарчику, — не буду называть его фамилию, как и фамилии всех моих ближайших друзей, поныне, к счастью, пребывающих в этом мире… Такое вот странное, внезапно возникшее у меня суеверие: тех, кто жив, — только по имени; уже, к несчастью, ушедших: Эмина Алиева, Рауфа Сафарова, Шурика Тверецкого, Леню Прилипко — буду вспоминать, будто бы произнося на перекличке в дорогой сердцу 6-й школе; будто бы надеясь, что откуда-то оттуда услышу их ответное, разноголосое «Я!».
Эльдар всегда был для нас Эльдарчиком, может быть, потому, что рос не очень стремительно, хотя вымахал в конце концов изрядно — наверное, благодаря баскетболу, в который играл хорошо и страстно. Вернее, настолько страстно, что не успевал вполне продемонстрировать, насколько хорошо: пять фолов он зарабатывал на первых пяти минутах игры, после чего сидел на скамье и давал квалифицированные советы своим осиротевшим партнерам.
А может, потому же не Эльдар, а Эльдарчик, почему Эмин был Эминчиком, почему и Шурик, Сашок, Ленчик, Марик, а поскольку от «Ниязи» уменьшительное образуется с трудом, то всегда: «Ниязи, дорогой!» И потому, что — часто насмешничая друг над другом, иногда ссорясь и даже иногда дерясь, — мы называли друг друга так, как называли нас наши мамы.
Это — Баку! Это бакинская расположенность, бакинская нежность… Но даже с ними и при них не было и нет у нас более неравнодушного друга, чем Эльдарчик, до сей поры он говорит о способностях и успехах друзей так упоенно и страстно, как вел когда-то мяч на баскетбольной площадке, — но упорно молчит о своих способностях и успехах, очень и очень немалых.
Но и никогда в жизни не встречал я другого такого же взрывного человека, который, правда, умел успокаиваться так же мгновенно, как минуту назад завелся.
И никогда не видел я другой семьи, в которой дивные черты разных народов, сплавленные воедино Баку и сумасшедшей температурой двадцатого века, образовали бы личность, достойную вечности.
Об этой семье прекрасно написал наш общий с Эльдарчиком школьный друг Саша в своей повести «Скачут по аулу три всадника», из которой я приведу несколько небольших отрывков.
Любимый тост Эльдара (произносимый очень редко и в очень узком кругу):
Ночь. Скачет по аулу всадник. Стучит в окно. «Выходи!» — «Сейчас».
Скачут по аулу два всадника. Стучат в дом. «Кто там?» — «Выходи». — «Иду!»
Скачут по аулу три всадника. Стук в окно: «Выходи!» — «Зачем?» — «Не нужно, оставайся!»
Скачут по аулу три всадника…
<…>
— Встретим в аэропорту гостя из Москвы?
— Поехали!
Разговор привычный для нас в те годы. Но эта встреча запомнилась.
Сидели на пляже в Нардаране, бросив подстилку прямо на песок, и ели арбуз. Каспийские волны набегали уютно, норд дул несильный, и день получился замечательный.
Приезжий был заметно старше нас, и я из-за этой разницы в возрасте поначалу чувствовал себя скованно. Но собеседник был так деликатен и внимателен — без всякой фамильярности и похлопываний по плечу, что уже через полчаса мы общались на равных, и перипетии недавнего футбольного матча «Нефтчи» обсуждали, и анекдоты рассказывали.
А еще я, раскрыв рот, слушал о разного рода космических делах, которые в СССР тогда были тайной за семью печатями. И еще чем покорил меня сразу этот человек — предложил называть его просто по имени — Довлет.
На Востоке отчества вообще не приняты, но существует изощренная система вежливых слов — приставок к имени, которые помогают прояснить взаимоотношения беседующих и их места в «табели о рангах». В Азербайджане самое распространенное уважительное слово в те годы было «муаллим» — «учитель». Однако мои попытки употребить это слово Довлет отвел вежливо, но твердо. «Саша, я вам не учитель. Хотите, называйте меня Довлет Ислам-Гиреевич, а я тогда буду вас тоже по имени-отчеству величать — пожалуйста, если вам так проще…» Конечно, я с радостью согласился обходиться именами.
День получился чудесный, а после я узнал от Эльдара, что мы беседовали с руководителем одного из московских НИИ, имеющих отношение к оборонному комплексу, профессором Довлетом Юдицким… И тут я узнал одну из тех историй, про которые сказано кем-то: «К чему писать романы, если сама жизнь — роман?»
<… >
Приехал служить на Кавказ молодой офицер царской армии поляк Леон Юдицкий. В дагестанском ауле полюбил он красавицу Мариам. Посватался — и получил категорический отказ. Родители не желали, чтобы девушка выходила замуж за иноверца. А дальше — нет, никто никого не крал темной ночью, и не бросалась красавица со скалы на острые камни… Жизнь — она суровее и проще. Леон Юдицкий понял, что не может и не хочет жить без Мариам. Он поставил крест на своей карьере, простился с предыдущей жизнью и принял ислам. И был наречен Ислам-Гиреем. Жили они с Мариам долго и счастливо, и были у них дочь и сын.
С сыном его, Довлетом, мне и выпала удача познакомиться…
А чтобы круг повествования замкнулся полностью, скажу, что Мариам была младшей сестрой бабушки Эльдара — Сакинат-ханум, которую все звали только мама Сакинат, и не иначе.
<…>
Остается в бутылке два-три глотка водки, я тянусь разлить и допить, но Эльдар меня останавливает: «На компрессы!» — и смотрит со значением. Я этот взгляд понимаю — это слова мамы Сакинат.
Мама Сакинат… Бабушка Эльдара. Мама Эльмиры Алиаббасовны.
Долгими часами она просиживала в своей комнате за столиком, раскладывая пасьянсы. Вокруг нее и ее имени в доме существовал ореол уважения, почтения, даже — некоторой робости. Ее роль в семье — я бы сказал, королевская. В самом деле, какую повседневную работу делает королева для Англии? Никакой. Но что Англия без королевы?..
Не стало мамы Сакинат много позже, уже когда мы закончили институт. В день, когда ее хоронили, было солнечное затмение. Я до сих пор помню этот свет полузакрытого солнца — он стал каким-то призрачным, бутафорским… Народу собралось много, и я ушел на веранду, чтобы не быть в толпе, и там дожидался выноса покойной. И чем ближе к этой минуте, тем трепетнее и нереальнее становился солнечный свет… Так ушла мама Сакинат.
Спасибо, Сашок, теперь продолжу я: Сакинат, девушка из почтеннейшего кумыцкого рода, суннитка, вышла замуж за азербайджанца, капитана дальнего плавания Алиаббаса, шиита разумеется. Не знаю, по каким религиозным канонам жила семья, но жила хорошо. А Эльмира Алиаббасовна, мать Эльдарчика, — для нас «тетя Эльмира», — глядя на которую так легко было себе представить красавиц-горянок из чудесных стихов аварца Расула Гамзатова и романов даргинца Ахмедхана Абу-Бакара, — вышла замуж за еврея, талантливого инженера. До конца дней своих мама Сакинат, когда (крайне редко) сердилась на обожаемую свою и ответно ее обожавшую Эльмиру, кричала ей: «У, персючка!», что и было в их семье единственным проявлением многовековой розни суннитов и шиитов; той самой розни, которая ныне определяет столько скрытых и явных конфликтов не только в обширном исламском мире9, но и на всей планете.
У Эльмиры Алиаббасовны и Израиля Давидовича родились два сына: Рауф и Эльдар.
Эльдарчик, Эльдар Израилевич, стал прекрасным специалистом в области микроэлетроники и приборостроения, работал главным технологом НПО космических исследований. Защитил в Зеленограде диссертацию; Солмаз, первая его жена, родила ему троих детей: дочь Нигяр, сыновей Руфата и Салима. Видел в 1981-м всю эту шумную и веселую семью, радовался за нее. А всего через десять лет, когда власть в Азербайджане перешла от бездарных бывших комсомольцев к еще более бездарным радикальным националистам (интересно, а хотя бы в одной стране мира даровитые среди таковых попадались?), оголтелые деятели Народного фронта назвали Эльдарчика «типичным ставленником советского ВПК». Не в характере моего друга стерпеть такое — но он, вопреки этому самому характеру, не взорвался, чтобы вскоре остыть; он понял, что прежняя жизнь ушла следом за прежней страной — и уехал из Баку.
Жил в Москве, с ужасом видел, как разрушаются приборостроительная и электронная индустрии СССР, как хиреют комплексы в Зеленограде, Воронеже… везде; комплексы, которые при толковом руководстве долго бы еще конкурировали с «буржуинской» радиофизикой и микроэлектроникой — ведь мы создали интегральную микросхему вторыми в мире, с отставанием всего на полгода; ведь, к примеру, портативные системы пеленга, разработанные еще в 1943 (!) году в легендарном Горьковском институте радиофизики, долго-долго оставались недосягаемой мечтой для всех научно-технических центров мира, а теперь принципы, по которым действовали те системы, лежат в основе кажущейся нам столь привычной моментальной геолокации!
Но, впрочем, я об Эльдарчике… так вот, привыкший к каждодневной о себе заботе, он жил в Москве одиноко и временами, чтобы просто прокормиться, вынужден был хвататься за любую работу…
Однако все выдержал, нашел себя во второй раз. Во второй раз родился — встреченная им Юля, замечательная той особой русской милотой, которая охраняет и хранит, и старший сын, Руфат, буквально оттащили его от края пропасти, разверстой тяжелой болезнью. Во второй раз состоялся в профессии: его приборы и методики, позволяющие оценивать перспективы длительно эксплуатируемых скважин, были отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники.
Рассказ мой о семье Эльдарчика начался с имени поляка-мусульманина Ислам-Гирея (Леона) Юдицкого, а закончится замечательной чередой азербайджанских, еврейских и русских имен: Марьям, Зулейха, Алиаббас, Натан, Этель, Марфа, Лиза.
Это — внучки и внуки Эльдарчика. Видел их на семидесятилетнем юбилее деда; видел, как он купается в их любви, — воистину, это не маркесовская, а золотая осень патриарха.
«Дети разных народов», — скажете вы. «Нет, — возражу я, — дети одного народа, бакинского, вне зависимости от того, кто в каком городе родился!»
Да, с Баку, как фальшивая позолота, слетало то идеологически выдержанное, трибунно-газетно-тивишное, что именовалось «дружбой народов», а взамен оставалось подлинное дружелюбие этих самых народов по отношению друг к другу. Это не было единством обездоленных и угнетенных, это не было спаянностью в настойчиво пропагандируемой борьбе за что-то привлекательное или против чего-то враждебного. Вряд ли бакинский народ остро ощущал свою всечеловечность, так что глобалистами нас не назовешь; вряд ли бакинский народ остро ощущал свою «советскость», так что и в первых рядах строителей коммунизма мы тоже не шли. Однако всегда следует помнить, что в годы войны воевали свыше шестисот тысяч жителей Азербайджана10, а не вернулись назад более двухсот, и очень-очень значительную часть этих сотен тысяч составляли бакинцы, — это ли не причастность общей судьбе?
Я намеренно не подсчитываю, какую долю среди воевавших составляли азербайджанцы, какую русские и так далее — это соответствовало этнической структуре населения и никаких выяснений, какой народ сколько крови пролил, в Баку не случалось; лживое, с ехидством обращенное к евреям: «Ташкент защищали!», я услышал очень далеко от дома.
Дал в морду, а в Баку избил бы.
Здесь же скажу, что даже в подлые времена «дела врачей», когда быть антисемитом значило проявлять личную преданность товарищу Сталину, никаких признаков враждебного к евреям отношения в Азербайджане не было. Да и не могло быть там, где во время сбора денег на строительство ашкеназской синагоги, большую сумму внесли миллионеры-нефтепромышленники Гаджи Тагиев и Муса Нагиев. Казалось бы, какое им, азербайджанцам, дело до евреев, да еще и не «местных», горских евреев, живущих бок о бок с ними издавна, а пришлых, «понаехавших», «перекати-поле», тщетно ищущих на территории огромной империи место, где не унижают?
Да вот ведь, было, оказывается, им дело — и потому, думаю, было, что разбогатели они, Гаджи-ага и Муса-ага, на нефти, — дивной, сложносоставной, ароматной бакинской нефти, которую оскорбляют, называя «черным золотом», то есть сравнивая с блестящим металлом, функциональным разве что в микросхемах.
И которую воистину возносят до небес, именуя Черной кровью Земли — да, именно с заглавной буквы! как Бога! Бога, которого, — считали правоверные мусульмане Нагиев и Тагиев, — все равно как называть, которому все равно как молиться — лишь бы молились чему-то неизмеримо высокому, даже если оно, это высокое, проявляется небольшим, всего лишь метровым, вечным пламенем на гребне горы Янардаг11, у которой издревле падали ниц паломники-огнепоклонники.
Воевали призванные в Азербайджане мужественно — и вечная слава им за это!
Однако будем честны и максимально тактичны, они внесли весомый, но не решающий вклад в Победу, а вот добытая и переработанная в Баку нефть — решающий!
Это признавали и советские военачальники, начиная с Г. К. Жукова; об этом писал выдающийся министр нефтяной промышленности СССР, председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков. С дотошностью экономиста и инженера Николай Константинович указывал, что советская боевая машина на 75—80 процентов приводилась в движение благодаря труду бакинцев, а я, — с дотошностью математика, — попытался выяснить: «А на остальные 20—25 процентов благодаря чьему труду?»
Кроме Баку нефть в годы войны добывалась еще на промыслах Моздока и Грозного, созданных усилиями бакинских инженеров и буровых мастеров; еще в так называемом Втором Баку — нефтеносных районах Поволжья, — а туда в 1941 году был переброшен многотысячный трудовой десант из Азербайджана, например, в полном составе трест «Азнефтеразведка», переименованный в «Башнефтеразведка». Совсем немного нефти и нефтепродуктов давали республики Средней Азии, но и там трудилось немало бакинцев, так что, глубокочтимый Николай Константинович, царствие вам небесное, не на 75—80, а на все 90 процентов!
Как это было? Двенадцатичасовой рабочий день без выходных и отпусков, а ночью, выполняя требования светомаскировки, трудились почти вслепую, пользуясь маломощными карманными фонариками, — и ни одной крупной аварии!
Как это было? Когда немцы, захватив Северный Кавказ, перерезали все железнодорожные пути на север, а под Сталинградом заблокировали движение по Волге, от Баку до Красноводска, по бурному осенне-зимнему Каспию, пошли буксиры, таща за собою длинные караваны снятых с вагонных тележек и прикованных одна к другой цистерн, заполненных бензином, керосином, мазутом и сырой нефтью лишь наполовину, а потому плавучих.
Как это было? Когда на бакинском рейде потерпел крушение доставивший арахис пароход из Ирана, Мир Джафар Багиров, талантливый и грозный руководитель Азербайджана, велел поднимать со дна мешки, вылавливать зерна — и бесплатно раздавать бакинцам. Отмывали как могли, отжимали масло, мололи, жарили лепешки — многих это спасло тогда от дистрофии и голодной смерти.
Приведу слова Ф. И. Толбухина, маршала Советского Союза: «Красная Армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками за многие победы…»
Да, в долгу, и не только Красная Армия, а все мы. А еще и вся Европа! В долгу, который не надо возвращать, но о котором следует помнить.
Академик Иван Губкин, исходив весь Апшерон и изучив его недра, по каким-то своим, ведомым только гениям, ассоциациям и аналогиям «разглядел» нефтеносные пласты «Второго Баку», а еще предположил, что Западная Сибирь покоится на невиданных по размерам «подушках» из нефти и газа. Предвидение о татарских, башкирских, куйбышевских (самарских), пермских залежах подтвердилось блистательно и сразу, а с Западной Сибирью было много сложнее — все развивалось по пословице «Близок локоть, да не укусишь»: неоднократно проводимое разведочное бурение то выявляло признаки нефти, то не выявляло, а самой нефти не было.
Однако всевидящая судьба, о которой писал Евгений Баратынский, действительно все видела и не спеша, без ненужной суеты, готовилась преподнести стране неслыханной щедрости дар. Такой щедрости, что Советский Союз, словно бы оглушенный и ослепленный свалившейся на него милостью, через тридцать лет после марта 1961 года скончался от болезни, которая называется «кому много дано, с того много и спросится — и не приведи Господь спросу этому не соответствовать»; такой щедрости, которой до сих пор живет Россия, но — слава богу! — суть диагноза мы вроде бы усвоили и, по крайней мере, говорим, — много и красноречиво, — о том, что данному нам за не наши заслуги надо бы соответствовать, ой надо бы!
Однако все по порядку: 28 июля 1931 года в одном из сел Шамхорского района Азербайджана родился мальчик, нареченный Фарманом — первый из четырех детей семьи Салмановых. В 37-м его отца арестовали, мать и дети выжили благодаря односельчанам, деду Сулейману и бабушке Фирузе. А фундамент будущего нефтегазового могущества страны волею судеб был заложен задолго до того: еще в 1888 году юного бунтаря Сулеймана приговорили к 20-летней ссылке в Сибирь за конфликт с имамом гянджинской мечети и старшим муллой губернии. Отправившись добровольцем на Русско-японскую войну, он воевал так храбро, что был награжден и досрочно освобожден; женился на русской сибирячке Ольге Иосифовне, принявшей ислам и получившей новое имя Фируза, — и вернулся в родное село.
Внук Фарман впитывал рассказы деда о Сибири и Дальнем Востоке и учился русскому языку у бабушки, а судьба тем временем не дремала: министр нефтяной промышленности СССР, уроженец Баку Николай Байбаков, выпускник Азербайджанского нефтяного института, по своим депутатским делам приехал в Шамхор.
Во второй уже раз я вспоминаю эту легендарную, — без каких-либо преувеличений, — личность и хочу рассказать историю, наверняка не всем читателям известную.
Когда в августе 1942 года немцы вплотную подступили к нефтепромыслам Северного Кавказа, Гитлер на одном из совещаний сказал, что с кавказской нефтью войну он выиграет за две-три недели. Сталин, узнав об этом, приказал Байбакову срочно вылететь на Кавказ и сформулировал задание в любимой своей манере: «Если вы оставите противнику хоть тонну нефти, мы вас расстреляем, но если вы уничтожите промыслы, а немец не придет, мы вас тоже расстреляем». Байбаков, которого вождь еще в конце тридцатых учил, что главное для молодого наркома — это «бичьи» нервы плюс оптимизм, решился возразить: «Вы не оставляете мне выбора, товарищ Сталин». — «Выбор здесь», — ответил Верховный главнокомандующий и постучал пальцем у виска. Этот ответ Сталина трактуют как призыв напрячь ум, но рискну предположить, что был в нем еще один смысл: пуля в висок из собственного пистолета, — до того как в затылок выстрелят из энкавэдэшного.
…Штаб Южного фронта уже поспешно «переместился» в Туапсе, а бригады, руководимые Байбаковым, еще бетонировали скважины моздокских промыслов, взрывали станки-качалки и нефтепроводы. В Москву штабисты доложили, что нарком погиб, а на самом деле он и его подчиненные чудом успели уйти к партизанам, и спустя два дня Николай Константинович добрался через горы до Туапсе.
Под Грозным же не законсервировали ни одной скважины, а когда немцы разбомбили промыслы и нефтеперегонные заводы, то пожары невиданной силы были потушены и все разрушенное восстановлено — за считаные дни.
Полгода фашистские дивизии оккупировали Северный Кавказ, но им не досталось не только ни одной тонна, но и ни одной капли нефти!
Итак, Байбакова в Шамхоре повели осматривать школу, в которой учился восьмиклассник Фарман Салманов, — говорящий по-русски почти так же свободно, как и на азербайджанском, он-то и давал министру пояснения. Прощаясь, тот спросил, кем хочет стать паренек после окончания школы, на что получил ответ: «Нефтяником». — «Это хорошо, — одобрил Байбаков, — нефть — будущее нашей страны». И в 1948 году Фарман, проработав до того два года коллектором Ширванской комплексной геологической экспедиции, поступил на геологоразведочный факультет, — чувствуете, как неустанно трудилась судьба! — Азербайджанского нефтяного института, который к тому времени уже назывался Азербайджанским индустриальным. В 1954-м, перед окончанием института, он написал письмо Байбакову с просьбой направить его на работу в Сибирь. Министр собрату своему по alma mater не отказал, и Фарман Салманов два года, работая начальником нефтегазоразведочных экспедиций, искал нефть в Кемеровской и Новосибирской областях.
На этом работа судьбы не завершилась, а в дело вступили еще и огромный талант молодого геолога и унаследованное от деда Сулеймана бунтарство! Фарман Салманов счел дальнейший поиск нефти и газа в Кузбассе бесперспективным, начальство в Новосибирске слушать его не хотело, и тогда он в августе 1957 года самовольно (!), тайком (!) перевел свою геологическую партию в Сургут. Это был неслыханный по дерзости поступок, который вполне могли счесть проступком или даже преступлением, а на поддержку Байбакова рассчитывать не приходилось: Николай Константинович хоть и был уже в то время Председателем Госплана СССР, но, резко возразив против поспешного и оказавшегося провальным перехода от отраслевой к территориальной системе управления экономикой (полюбившиеся Хрущеву совнархозы), вскоре попал в опалу и был сослан в провинцию.
То, что сделал Салманов, было настолько вопиющим (головы летели за куда меньшее), что начальство струсило, — будь оно за это благословенно! Избегая огласки, задним числом, оно выпустило приказ о переводе партии в Сургут.
Почти четыре года Фарман Курбан-оглы, или Фарман Курбанович Салманов и поверившие в него работники геологической партии, зимой замерзая на 50-градусном морозе, летом увязая в болотистых топях, измученные комарами, мошкой и неустроенным бытом во времянках, искали нефть.
Никем не сменяемые, финансируемые по минимуму — искали. Упорно и безуспешно.
Но 21 марта 1961 года, словно бы в честь любимого азербайджанцами праздника Навруз-байрам, ударил первый фонтан. Всем оппонентам экпедиции была отправлена телеграмма: «Уважаемый товарищ, в Мегионе на скважине № 1 с глубины 2180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов». Оппоненты ответили, что это случайность, что недели через две-три фонтан иссякнет, так как по-настоящему большой нефти в Западной Сибири нет и быть не может; мол, Губкин сболтнул, а упрямые глупцы поверили.
Судьба поусмехалась, испытывая Салманова и его людей еще два с половиной года, а в октябре 1963-го фонтан забил из скважины в районе Усть-Балыка. Начальству сообщили о том, что скважина «лупит по всем правилам», а на имя Хрущева ушла телеграмма: «Я нашел нефть. Вот так, Салманов».
Теперь это уже стало ясно всем: Губкин не сболтнул, а предвидел; Салманов поверил и нефть нашел. Большую нефть, а этот упрямец утверждал, что огромную, утверждал, что еще и газ есть, только не огромный — а гигантский!
Кстати, насчет Кузбасса он тоже оказался прав.
Тем временем Байбакова вернули в Москву, а с 1965-го, когда Хрущев уже был отстранен от власти, он в течение двадцати лет возглавлял Госплан СССР (с Горбачевым, естественно, не сработался). Алексей Николаевич Косыгин доверял ему безоговорочно, и в Западную Сибирь пошли большие ресурсы.
Окупившиеся тысячекратно!
О том, как ничтожества во главе с бровастым генсеком и Сусловым, подлинной реинкарнацией Победоносцева, мешали работать Косыгину, и впрямь последней надежде Советского Союза на динамичное развитие и даже мировое лидерство, свидетельствует, в том числе, известный лично мне факт — в масштабах страны малозначительный, но очень красноречивый.
Байбаков хорошо знал и ценил моего отца, своего ровесника, учившегося в том же Азербайджанском индустриальном институте, правда, несколько позже (сыну служащего для поступления в вуз требовалось сначала наработать такой стаж, после которого его могли бы приравнять к рабочим или крестьянам) — сначала как одного из лучших студентов и секретаря институтского комитета комсомола, а потом как толкового нефтеразведчика и инженера-экономиста. В начале 1965 года, когда Министерству нефтяной промышленности СССР, обескровленному совнархозовскими новациями, стало придаваться прежнее значение, Николай Константинович предложил отцу переехать в Москву и возглавить Управление сводного планирования. Пришлось бы пару-тройку лет прожить вдали от семьи, одному, в скромной министерской гостинице для командированных, но отец с превеликой радостью согласился. Его кандидатура была одобрена во всех управленческих и гэбистских инстанциях, оставалось пройти утверждение в Отделе промышленности ЦК партии, однако там воспротивились: процентная норма сотрудников-евреев в этом министерстве уже была выполнена, а перевыполнять ее никто не решался. Байбаков, председатель Госплана СССР, заместитель председателя Правительства, был не просто уязвлен, он понимал, как важно иметь в одном из ключевых министерств, — тем более что предстояло ускоренное развитие добычи и инфраструктуры в Западной Сибири, — человека, цифрам и расчетам которого можно доверять, не перепроверяя, а потому надавил на секретаря ЦК по промышленности. Тот, страхуясь, побежал советоваться к Суслову, который без долгих раздумий сказал категорическое «нет». Косыгин, спасая репутацию Байбакова, своего ближайшего соратника, обратился к Брежневу, который примирительно ответил: «Алексей Николаевич, ну как же мы с тобой можем игнорировать мнение ЦК?»
Понятно, что ему, сравнительно недавно разместившемуся в кресле № 1 Советского Союза, не хотелось лишний раз спорить с великим инквизитором Сусловым, да еще и по столь ничтожному (с его точки зрения) поводу, но, право же, смешно сопоставлять уровень назначения и уровень обсуждения.
А анализировать степень идиотизма «партейных» порядков и нравов противно до тошноты.
Связка великих фамилий «Циолковский — Королев — Гагарин» почитается абсолютно заслуженно, но разве не заслуживает почитания другая: «Губкин — Байбаков — Салманов»?
И если на вопрос: «Кто такой Губкин?» в Москве еще некоторые ответят: «Академик, улица такая есть — Академика Губкина… А, да, еще “керосинка” есть — Университет нефти и газа его имени», то жители Воронежа или Тамбова, скорее всего, пожмут плечами: «Кто ж его знает!..»
Про Байбакова и в Москве не вспомнят, а единственный его бюст установлен в школе Сабунчинского района Баку — в которой он учился.
Салманову повезло чуть больше: памятники и бюсты ему, человеку, при самом непосредственном, деятельном и эффективном участии которого в Западной Сибири открыто более ста тридцати (!) месторождений нефти и газа, установлены в Москве, Баку, Сургуте, Салехарде, Ханты-Мансийске; а авиакомпания «ЮТэйр» присвоила его имя двум бортам.
Мы всё мечтаем слезть с «нефтяной иглы» и говорим об этом так, будто бы стесняемся нашего газа и нашей нефти, как попавшие из грязи в князи стесняются неотесанного отца и нескладной матери. Мы едим то, что они, такие «невысокотехнологичные», присылают нам из своих «зачуханных деревенек»; мы ворчим, что еда не вполне соответствует нынешним представлениям о здоровом питании… и все это так: и деревеньки наши совсем непохожи на парадиз, и еда не вполне соответствует, да ведь только ею и живы!
И потому не вредно было бы говорить каждодневное спасибо за благо, посланное нам не нашими трудами, а прошлыми героическими усилиями десятков тысяч безымянных и троих великих: Губкина, Байбакова, Салманова.
Говорят, вот-вот поднатужимся — и слезем с этой чертовой иглы, и прорвемся в цифровую эпоху, в постиндустриальную экономику, — ой, не верю, разучились прорываться! Разве что проползем, да и то чудом, на которое только и стоит рассчитывать.
А пока… Пока не стану повторять, что нефть и газ — наше национальное достояние, скажу поэтичнее и задушевнее.
Гораздо поэтичнее и гораздо задушевнее: без них, без нефти и газа Сибири, давно бы уже сдохли!
По мнению историков, Баку появился еще во времена античные и бывал столицей заметного в исламском мире ханства. Оно, занимавшее территорию Апшеронского полуострова, сравнительно ненадолго возникало в разные времена: в XII веке, XVII, а в последний раз — в 1748 году. Тогда в нем уже добывалось немного нефти для обогрева жилищ и освещения, а помимо того — драгоценная по тем временам соль. Развивалось судоходство по Каспию, рыболовство, земледелие, в общем, жить бы ему, да жить, этому ханству, но крупные государства имели тогда повадки еще более хищнические, чем теперь, и Хусейн-Кули-хан, рассчитывая спастись от притязаний Ирана и надеясь на благородство русского царя, в конце XVIII века попросил принять его в российское подданство, то есть попросил фактически о протекторате России. В 1803 году просьба была удовлетворена, но уже в 1806 году игры в благородство закончились, 3 октября русские войска захватили Баку, а Хусейн-Кули-хан бежал в Персию.
Говорю здесь об этом, дабы подчеркнуть вот что: Азербайджан, присоединенный к Российской империи силой оружия, был лоялен Советскому Союзу дольше и в гораздо большей степени, нежели, скажем, Грузия и Украина с их пылко когда-то звучавшими клятвами о вечной любви и верности; в конце концов Армения, обретшая хоть какое-то подобие государственности только благодаря России и самоотверженности русского дворянства, того же Грибоедова, в конце концов, нежели Армения, фактически объявившая о своей независимости еще летом 1990 года, за год до губительного путча, и на территории которой референдум весны 1991 года о сохранении СССР даже не проводился.
Может быть, все же стоит «подпустить» светлой печали воспоминаний о детстве и юности в родном городе? Разбавить повествование пейзажными зарисовками, описаниями шашлычных и чайхан, кебабных и хашных?
А то ведь складывается у меня даже и не «Песнь о Баку», но «Песнь о нефти и газе».
Господи, как же правильно, что именно так складывается!
Как хорошо, что убежден: только уникальные залежи нефти и газа смогли создать на рубеже XIX и XX веков тех, кто в душе моей объединены не в бакинцев даже, а в уникальный бакинский народ; только уникальный бакинский народ мог создать великий и уникальный Баку — точнее, они непрерывно создавали и создают друг друга!
Стало общим местом повторять, что с развитием информационных и нанотехнологий мир переходит (перешел?) из индустриальной эпохи в постиндустриальную; переживает начало (развитие?) шестого технологического уклада Кондратьева — Шумпетера, а на горизонте уже виднеется седьмой…
Сам об этом неоднократно читал лекции, зажигаясь перспективами почти так же, как когда-то, перебираясь из Баку в тяжело и уверенно шагающий в будущее Воронеж, — только вот что-то, глубоко внутри запрятанное, воспарению моему во время этих лекций мешало.
Что именно? — не понимал, «не догонял», как говорит молодежь и не совсем молодежь.
А недавно «догнал»: нет еще такого перехода, по глубинной его сути — нет! Более того, пока не предвидится. Да, информационные технологии есть кардинальный и очень важный прорыв в области коммуникаций, связи и инфраструктурной поддержки индустриального производства! Да, нанотехнологии — это возможность создания волшебно иных материалов! — и все же…
Истинный переход состоится только тогда, когда человечество научится использовать принципиально другие виды энергии (гравитационную, например); принципиально другие двигатели (ионные, например, или с ускорением в магнитном слое).
В худшем случае найдет хотя бы более совершенные способы получения все той же родной нам и привычной электроэнергии.
Однако и то, и другое, и третье либо «за горами», либо вообще нигде.
А пока мировое производство электроэнергии в 2015 году в сравнении с 1992 годом выросло практически вдвое! При этом: доля выработки на атомных электростанциях упала с 17,5 процента в 1992-м до 10,6 процента в 2015-м; на гидроэлектростанциях снизилась с 18,4 процента до 16,6 процента, а вот доля выработки на ТЭС — станциях, где сжигается органическое топливо (торф, уголь, газ, нефть) выросла с 63,8 процента до 68,6 процента. При этом доля угля в «сжигании» осталась в 2015 году наибольшей, хоть и упала, а доля газа и нефти выросла.
В связи с ростом производства электромобилей потребление нефти и газа, согласно расхожему мнению, снизится, поскольку, вытесняя автомобили с двигателями внутреннего сгорания, они, электромобили, по истечении десятилетия будут потреблять количество электроэнергии, соответствующее примерно 8 процентам ныне добываемой в мире нефти. Однако даже если произойдет именно так, то «высвободившиеся» углеводороды не станут ненужными, а пойдут на выработку этой самой электроэнергии!
Такова реальность, а все остальное — либо вранье пиарщиков и лоббистов, либо фантазии футурологов. И по крайней мере в ближайшие тридцать-сорок лет потребности человечества в нефти и газе не уменьшатся, их месторождения не потеряют своей ценности, а умение добывать углеводороды, транспортировать и перерабатывать — останутся важнейшими из людских умений.
Это-то триединство глаголов: «добывать, транспортировать, перерабатывать» и породило когда-то особую энергетику бакинского народа, а стало быть, и величие самого Баку.
Шамаханская царица возникла в сказке Пушкина «Золотой петушок» не случайно: про Шемаху, центр губернии, знал весь образованный Петербург, а вот о Баку, находящемся на оконечности Апшеронского полуострова, у острого выступа, похожего на опущенный в Каспий клюв чайки, — очень немногие. Настолько немногие, что когда граф Воронцов 14 июля 1848 года в своей докладной на высочайшее имя сообщил о том, какой мощный фонтан бьет в поселке Биби-Эйбат близ Баку из пробуренной двумя годами раньше горным инженером Семеновым нефтяной скважины (первой в мире! вторая, в Пенсильвании, появилась лишь через тринадцать лет!), никакой реакции не последовало, что, конечно, свидетельствует о «высоком даре» предвидения Николая Первого, а также его окружения.
Александр Второй был гораздо прозорливее отца: в 1859 году, после того как Шемаха сильно пострадала от землетрясения, центр губернии был перенесен в Баку, а в 1868 году было дано высочайшее разрешение на бурение нефтяных скважин (до того нефть накапливалась в вырытых колодцах). А далее — почти вскачь: в 1871 году скважину глубиной 64 метра, с большим дебитом, пробурили (механическим способом) в поселке Балаханы, в 1872 году была отменена откупная система предоставления участков, и они стали продаваться с публичных торгов; нефтяной промысел объявлялся свободным, керосин облагался акцизом в 40 копеек с пуда, первые торги состоялись 31 декабря, в самый канун 1873 года, и казна вместо запланированного полумиллиона получила три!
В Баку наступила эпоха нефтяного бума!
Баку стал местом рождения передовых технологий!
В Баку потек азербайджанский, русский и армянский капитал; в Баку хлынул капитал из-за рубежа — шведский, французский, английский!
Развитие экономики России в конце XIX — начале XX века действительно впечатляет, однако, к сожалению, оно сопровождалось таким притоком иностранного капитала, который лишал страну значительной доли политической и хозяйственной самостоятельности. Известно, что внешний долг, рост которого начался с так называемых французских займов, организованных банкирским домом Ротшильдов, вырос с 1900-го по 1913 год с 4 до 5,4 миллиарда рублей, а ежегодные процентные выплаты по нему составили в 1913 году гигантскую (по тем временам) сумму 400 миллионов — это привязывало Россию к Антанте намертво и заставляло ее участвовать в европейских дрязгах. При наличии огромных запасов каменного угля, даже его России импортировала: в 1912 году был ввезен из Англии и Германии (!) объем, равный 15 процентов от добытого внутри страны, а дополнительно к этому, еще почти 700 тысяч тонн кокса — понятно, как болезненно сказалась невозможность этих поставок в годы Первой мировой войны. И уж совсем неприятный факт: четыре пятых всего производства меди сосредоточилось на заводах, находящихся в руках иностранцев, что отрицательно сказывалось на ценах; более того, значительная часть меди в слитках и вся электролитическая продавались через немецкий «Торговый дом Вогау и К°».
А вот с нефтью и нефтепродуктами затруднений не было — ее добыча была наивысшей в 1901 году, затем, в связи с мировым кризисом, упала и незначительно колебалась вокруг уровня 9 миллионов тонн, из которых примерно один миллион тонн экспортировался, принося бюджету немалый доход в виде пошлин.
Присутствие в Баку значительной доли частного российского капитала заставляло иностранные фирмы учитывать интересы державы, — и госкомпании для этого не понадобились!
Но самое главное, чему учил Баку: острая и умело организованная конкуренция капиталов выливалась не в «разборки и наезды», а в конкуренцию подходов к ведению бизнеса, в конкуренцию технологий, умов и умений, в конкуренцию репутаций и уровней общественной значимости, наконец!
Известна замечательная фраза великого писателя Николая Лескова: «У русского царя есть много разного народа», — так вот, в азербайджанском Баку разного народа было, возможно не меньше, чем у русского царя, причем сама нефть требовала этого разнообразия и — одновременно — слитности столь разных и непохожих темпераментов и жизненных воззрений.
Упомяну лишь Людвига и Роберта Нобелей, братьев Альфреда, — знаменитого изобретателя динамита и учредителя премии, — они, в отличие от вернувшихся в Швецию остальных членов многочисленной семьи, остались жить и делать бизнес в Петербурге.
Сейчас в Баку есть музей с экспозицией, освещающей их деятельность, — и удостоены они этой чести не потому, что были любимы и чтимы более, нежели, скажем, уже упомянутые мною Тагиев и Нагиев. Нет, напротив, Нобелей в Баку, скорее, недолюбливали за нескрываемое высокомерие и нежелание вариться в его жизни, однако, не любя — не завидовали; это одна из лучших черт формировавшегося тогда бакинского народа: не завидовать чужим успехам, а стараться их превзойти.
Братья Нобель и правда на своем примере показывали, как следует вести индустриальный бизнес, служили образцом не только для своих российских конкурентов, но и для Ротшильдов, и Рокфеллеров. Одновременно с первым же нефтеносным участком они приобрели нефтеочистительный завод в Черном городе; освоили огромное количество промыслов в Балаханах, Сураханах, Биби-Эйбате, на острове Пираллахи; взяли в аренду гигантскую территорию между Черным и Белым городом и на ней построили нефтеперегонные, сернокислотные, медеплавильный (!) и чугунолитейный (!) заводы — тем самым были сокращены затраты на оборудование для добычи и переработки.
Ими (попутно!) было налажено производство бидонов, канистр, цистерн, крупных баков-резервуаров, конструкцию которых разработал вскоре ставший легендой при жизни великий русский инженер Владимир Шухов, чьи идеи являются основой для современной архитектуры и высотного строительства; на их деньги велась активная поисково-разведывательная работа в акватории Каспия, на Прикаспийской и Прикуринской низменностях, на пастбищах Кобыстана, под Майкопом и Грозным.
Что это за транспортировка нефти — бочки и бурдюки на арбах?! К черту такую архаику! Строится нефтеналивной флот, создаются причалы в Красноводске, в Астрахани и во всех (!) крупных волжских городах, а чтобы местные купцы и судовладельцы не мешали, их включают в число пайщиков «Товарищества братьев Нобель»; под руководством того же Шухова прокладываются первые нефтепроводы «промысел — завод», разрабатывается проектная документация и начинается прокладка нефтепровода Баку — Батуми, построена железная дорога Баку — Балаханы.
Большая, чудовищная война неизбежна, братья это понимают и строят в Грозном первый в мире завод по производству получаемого из нефтепродуктов толуола, основы для производства тротила, — вещества меньшей взрывчатой мощи, нежели «братский» динамит, однако более любимого военными за безопасность хранения и удобство использования в бомбах и снарядах; а потом там же тратят большие деньги на установки для усовершенствованного крекинга, позволяющего получать продукт излишней в те времена степени очистки12 — лет через двадцать он, по понятным причинам, получит название авиационного керосина.
И так далее, и так далее, и так далее…
Однако для становления Баку как великого города главным, на мой взгляд, в деятельности братьев Нобель было то, с каким размахом удовлетворялась порожденная их инвестиционной активностью потребность в кадрах: в геологах, химиках, технологах, инженерах-строителях, проектировщиках, промысловых инженерах, буровых мастерах, юристах, бухгалтерах — в самых лучших кадрах, а потому! — а потому да здравствует то, что сейчас зовется вложениями в человеческий капитал! Они, черт возьми, окупаются — мир увидел, что как только инженеры «Товарищества братьев Нобель» догадались для сжигания в котлах танкеров и торговых пароходов использовать мазут, цены на него выросли в несколько раз, а на уголь, дрова и торф в несколько раз упали.
Однако высококлассные специалисты из Европы13 отказывались жить в тесном соседстве с промыслами и заводами — что ж, товарищество построило для них коттеджный поселок внутри роскошного парка «Вилла Петролиа», разбитого в окружении нефтяных резервуаров, дымящих труб и пышущих паром установок.
За два года на пропитанную нефтью землю уложили изрядный слой чернозема, доставленного из Ленкорани на арбах; вода для орошения восьмидесяти тысяч (!) деревьев и кустарников, откуда только не завезенных, приплывала на танкерах из Астрахани…
Прошло почти 140 лет, и этот парк (теперь имени Низами) радует глаз и поныне.
Нет, филантропами братья Нобель не были, однако их «вложений в человеколюбие» еще до 1904 года хватило на введение десятичасового рабочего дня, что считалось чрезмерной заботой о людях, на устройство молельных комнат для рабочих-мусульман прямо на промыслах и заводах, на развертывание вокруг них сети аптек и амбулаторий, на выдачу надежным работникам льготных ссуд на строительство домов. Скажем братьям спасибо и за это, в конце концов, если бы их примеру следовали не только в Азербайджане и на Северном Кавказе, то в Российской империи воцарилась бы пропагандируемая жандармским полковником Зубатовым гармония между трудом и капиталом, которую левые снобистски именовали «полицейским социализмом», а правые, со свойственным им поклонением идеологеме: «Выпороть, отпустить помолиться и исповедаться, а потом выпороть еще раз!», считали покушением на устои, то, глядишь, монархия продержалась бы дольше, во всяком случае, не рухнула бы в самое тяжелое для страны время.
Темпы развития нефтяной и сопутствующей промышленности Азербайджана были так высоки (в 1901 году свыше 50 процентов нефти и нефтепродуктов всего мира!), что Максим Горький не преувеличивал, называя вид на Черный город талантливо исполненной картиной ада. Приток людей самых разных национальностей на промыслы, заводы, суда, стройки был огромен и стремителен, жизнь в Баку малоквалифицированных рабочих в начале XX века была, мягко говоря, очень тяжела. Жили в бараках, получали по 60 копеек за 12—14-часовой рабочий день; для питья и приготовления пищи приходилось собирать дождевую воду, а для обогрева жилья использовали тряпки, пропитанные нефтью из окружавших скважины луж. Никто не обещал им «город-сад» — ни через четыре года, ни через сорок четыре, правда, и надрывались они не из великого страха и не ради мечты о земном социалистическом рае, как много позже, во времена индустриализации, их потомки, — а потому в июле 1903 года и декабре 1904-го состоялись бакинские стачки, потрясшие всю империю своей массовостью и организованностью. Инициаторами второй историки называют двух грузин: Иосифа Джугашвили и Алешу Джапаридзе, которого в 1918 году расстреляют в числе 26 бакинских комиссаров. А Джугашвили-Сталин, проживет, как печально известно, еще очень долго.
Но как ни заходился в ярости пребывавший в довольно сытной эмиграции Ленин, как ни старались в Баку его верные соратники Сталин и Джапаридзе, четыре политических требования бастующих растворились в восемнадцати экономических — речь идет о списке, выработанном стачкомом, в состав которого Джапаридзе вошел, а Сталин, предусмотрительно — нет. На многолюдных демонстрациях транспаранты с призывом «Долой самодержавие!» не носили, однако войска и казаки шествия все равно разгоняли; десять человек погибло, много было раненых, в том числе трое военных. Вспыхнули пожары. Это продолжалось несколько дней, потом терпящие многомиллионные убытки нефтепромышленники по инициативе все тех же Тагиева, Нагиева и братьев Нобель пошли на переговоры со стачкомом.
Так появился первый в истории России коллективный договор, согласно которому устанавливался 9-часовой рабочий день и 8-часовые ночные смены; зарплата была увеличена до рубля в день, вводился ежемесячный четырехдневный отпуск. Работодатели обязались улучшить жилищные условия и медицинское обслуживание рабочих, создать школы и то, что мы сейчас назвали бы профтехучилищами.
Нобели были довольны: многое из оговоренного в коллективном договоре они сделали раньше и теперь несли меньшие в сравнении с конкурентами затраты.
Другие крупные и средние нефтепромышленники, — а к этому времени трест Нобелей, «Шелл» и «Русское главное нефтяное общество» контролировали чуть более 50 процентов добычи, к 1910 году — 60 процентов, — благодарили судьбу за то, что потеряли сравнительно немного. (Позже Сталин писал, что установился известный порядок, некая «конституция», в силу которой «мы получили возможность… сообща договариваться с нефтепромышленниками, сообща устанавливать с ними взаимные отношения».)
Недовольно было только правительство — главноначальствующий гражданской частью на Кавказе писал министру внутренних дел, что «проявленная нефтепромышленниками уступчивость <…> обратила на себя внимание <…> государя императора, так как уступчивость эта может отразиться чрезвычайно неблагоприятными последствиями на других фабричных и заводских районах».
Может быть, именно из-за боязни этих «неблагоприятных последствий» всего через девять дней после заключения в Баку коллективного договора так жестоко расстреляли мирную демонстрацию на Дворцовой площади в Петербурге? Может быть, именно эти «неблагоприятные последствия» вылились в трагические события 1905—1906 годов, включая восстания на броненосце «Потемкин» и крейсере «Очаков»; в события, ход которых не остановил даже вынужденный Октябрьский манифест царя, давший России множество невиданных ранее свобод, — и всего через два месяца полыхнуло в Москве, и Пресня стала воистину красной от пролитой на ней крови?
Или, может быть, если последовали бы в «других фабричных и заводских районах» примеру Баку, обошлось бы множеством компромиссных коллективных договоров?!
Но что толку в этом «или», если Николай Второй, сам себя называвший «хозяином Земли Русской», народ свой слышать и понимать не хотел.
Итак, Нобели были лидерами — это бесспорно.
Но за ними шли, стараясь не отставать, а еще лучше, обогнать и превзойти — это тоже бесспорно!
Братья в 1878 году соорудили первый нефтепровод «промысел — завод» длиною 12 километров. Почин был немедленно подхвачен, и через двадцать лет общая длина подобных артерий составила 230 километров с пропускной способностью миллион тонн в год; в 1896 году Нобели начали прокладку нефтепровода Баку — Батуми, — что ж, десятки их конкурентов тоже вложили деньги в это строительство и через десять лет состоялся пуск уникального по тем временам сооружения длиной 833 километра с несколькими десятками промежуточных насосных станций!
Нобели используют достижения технического прогресса, но и остальные не лыком шиты: с 1900 года началась ускоренная электрификация промыслов, заводов, рабочих поселков и самого Баку.
Нобели начали бурить на мелководье Биби-Эйбатской бухты, а конкуренты, чтобы их превзойти, в 1901 году задумали ее осушить! Тендер (!), при полностью готовом проекте, был объявлен в 1906-м, а первые работы начались в 1909-м, когда специально для осушки были построены 23 судна. Через восемь лет нефть уже добывалась с площади 193 гектара!.. Потом почти пятилетний перерыв, национализация, — и за дело взялась новая власть. К 1927 году бухта в 300 гектаров была осушена полностью; итак, от задумки до победного финиша — 21 год. Заметим, что по объему и сложности гидротехнических работ этот проект был вторым после Панамского канала, на сооружение которого ушел 41 год.
А еще заметим, что без этого уникального эксперимента были бы невозможны последующие эпохальные события: в 1924 году из скважины, пробуренной с деревянных свай, была получена первая в мире по-настоящему «морская» нефть; в 1932 году нефть стали получать уже с основания площадью 950 кв. метров, установленного над шестиметровой толщей морской воды и на расстоянии 270 метров от восточного ограждения осушенной Биби-Эйбатской бухты! В ноябре 1948 года на так называемые Черные Камни — скалы, покрытые пленкой нефти, в пятидесяти километрах от берега, — доставили отряд специалистов-нефтяников (горжусь тем, что среди них был и мой отец), возглавляемый Николаем Байбаковым и руководителем треста «Азнефтеразведка» Сабитом Оруджевым; прямо там было принято решение начать промышленную разработку месторождения, признанного выдающимися геологами Азербайджана перспективнейшим. В конце августа 1949 года бригада Михаила Каверочкина начала бурение первой в мире по-настоящему глубоководной скважины; уже 7 ноября того же года она дала фонтан с глубины около 1000 метров. Ее суточный дебит был внушителен — 100 тонн. В первой половине следующего года начала фонтанировать вторая скважина, примерно того же дебита, пробуренная бригадой Гурбана Абасова. Черные Камни были переименованы в Нефтяные. До бурения в шести милях от побережья Калифорнии, в Мексиканском заливе, Северном море, Персидском заливе еще оставались десятилетия.
Гурбан Абас Гули-оглы Абасов, родиля в 1926 году в Нахичеванской АССР, прожил, по сегодняшним меркам, недолго — 68 лет. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, депутат Верховных Советов СССР и Азербайджана, крупный руководитель: с 1976 года был начальником нефтегазодобывающего управления «Нефтяные Камни», а с 1980 года начальником всесоюзного промышленного объединения «Каспморнефтегазпром».
А вот судьба Михаила Павловича Каверочкина, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской премии, родившегося 20 ноября 1904 года в селении Мараза Бакинской губернии, сложилась трагично: 21 ноября 1957 года на Каспии разыгрался шторм невиданной силы и продолжительности. Корабли спасателей не могли прорваться к Грязевой Сопке, где вела тогда разведку бригада Каверочкина, во время последнего сеанса радиосвязи Михаил Павлович сказал, что вместе с двадцатью двумя подчиненными переходит на буровую; что они остановят работы и привяжут себя к вышке.
...Только через сутки корабли смогли подойти к Грязевой Сопке, — следов буровой не было. Никаких. Наверное, ураган и бешеные волны перевернули вышку, которая вырвала все опоры и ушла на дно, упокоив нефтеразведчиков в братской могиле там, куда тогда не могли даже спуститься водолазы. Сейчас бы могли, но не делают этого. И правильно, незачем тревожить.
Но каждый год — 21 ноября, в почти совпадающие день рождения и день гибели Михаила Каверочкина, над местом, где случилась катастрофа, разбрасывают цветы, мулла и православный священник читают поминальные молитвы…
А Нефтяные Камни стали поселком городского типа с двух-, пяти- и девятиэтажными домами, пекарней, поликлиникой, столовой, домом чая, парком, футбольным полем, а также с мемориалами жертвам трагедии 1957 года — нефтяникам, и жертвам Карабахского конфликта, с памятником первой скважине и музеем Гейдара Алиева, за годы президентства которого этот уникальный город на сваях преобразился, похорошел и нарастил добычу нефти и газа во славу Азербайджана, великого Баку и бакинского народа.
И вот наконец мы подошли к рассказу о выдающихся делах живших в Баку Тагиева, Нагиева, Селимханова, Караева, Гаджинского, Рогозина, Митрофанова, Пашковского, Лазарева, Гукасова, Цатурова, Манташева, Маилова, Саломона, Абрамовича и многих других не только для своего бизнеса, но и для родного города, для бакинского народа, привлекая, обучая и воспитывая лучшие кадры — и тем самым формируя этот самый народ.
Нобели выискивают хороших инженеров в Швеции и прочей Западной Европе? — отлично, а мы будем привлекать очень хороших инженеров со всей Российской империи!
Нобели лечатся в Петербурге? — отлично, а мы соберем лучших врачей со всей России и выстроим больницы и амбулатории, о которых заговорят в обеих столицах!
Архитекторы, строители, юристы, финансисты, ювелиры, краснодеревщики, скорняки, куаферы, портные, обувщики! Вы умеете что-то делать лучше других? — отлично, все сюда, к нам! Здесь много денег, здесь по-настоящему много денег! Их не спускают в пьяном чаду, в надрыве однообразных гульбищ; здесь нет бывших каторжан и забубенных авантюристов, здесь не грабят и не убивают, здесь собираются те, кто любит работать — и от этого богатеть, кто любит жить — и для этого хорошо работает.
Здесь строят гимназии и реальные училища, в которых преподают хорошие, самые лучшие учителя; отсюда посылают детей в лучшие университеты и институты Российской империи и Европы — и они возвращаются в Баку, в город, где любят и умеют работать, где любят и умеют жить!
Нобели, вы наслаждаетесь в Мариинке звучанием лучших голосов мира? А ты, Тифлис-джан, шумный гедонист, вечно пирующий, поющий, танцующий, рисующий и неизвестно когда работающий, соблазняешь своим гостеприимством выдающихся певцов? — что ж, не Нобели, а другие братья: врач Илья Маилов и бизнесмен Даниил Маилов в течение года (!) строят оперный театр, во многом повторяющий тифлисский, но кое в чем его превосходящий. А музыкальная жизнь в Баку уже кипит! Уже окреп новаторский талант Узеира Гаджибекова, автора первых в исламском мире опер и оперетт, будущего учителя великого Кара Караева; уже раскрылось огромное дарование еще одного композитора и дирижера, Муслима Магомаева — деда своего тезки, любимого советского певца, которого все, независимо от возраста, называли меж собою просто Муслимом.
Нобели построили парк для своих инженеров и служащих? — отлично, спасибо им за науку, но мы сделаем Баку зеленым ради его народа! И вот уже красуются скверы «Молоканский» и «Парапет», расширяется территория «Губернаторского садика», на месте сада купца Красильникова появляется парк, ныне носящий имя народного поэта Самеда Вургуна…
Но самое, самое, самое главное! — в 1909 году у самой кромки воды Каспийского моря зазеленел первый участок знаменитого Бульвара; следующий же важнейший этап его развития начался уже в советское время, усилиями выдающегося главы города Алиша Джамилевича Лемберанского, про которого бакинцы беззлобно шутили: «Расцвет Италии начался с эпохи раннего Ренессанса, а расцвет Баку — с эпохи позднего Лемберанса». Насчет «позднего», впрочем, было явным преувеличением: Алиш Джамилевич, родившийся в 1914 году в семье видного азербайджанского травматолога и ортопеда, стал председателем исполкома Бакинского совета в 1959 году, когда ему исполнилось всего-навсего 45 лет. Правда, до того он успел окончить Азербайджанский индустриальный, воевал и в течение шестнадцати лет директорствовал на одном из нефтеперерабатывающих заводов, в 37 лет получив Сталинскую премию за разработку нового вида моторного топлива. За недолгое время его пребывания бакинским градоначальником были построены фуникулер и Зеленый театр, а Бульвар превратился в одну из красивейших набережных мира. Позже Лемберанский работал в Москве заместителем начальника Главного управления микробиологической промышленности, но когда в 1969 году Первым секретарем Азербайджанского ЦК стал Гейдар Алиевич Алиев, когда Азербайджан зажил новой, кипучей жизнью, стало ясно, что капитальное строительство в республике должен курировать Алиш Джамилевич, больше некому.
И Азербайджан, в отличие от остальной страны, забыл, что такое долгострой!
Множество крупных промышленных объектов, потрясающей красоты станции метро, здание морского порта, дворец «Гюлистан», цирк, гостиницы «Москва», «Азербайджан», «Апшерон», — список можно длить и длить.
Все это обрело достойное соседство рядом с великолепными дворцами, особняками и домами, возведенными когда-то по проектам лучших архитекторов на деньги нефтепромышленников — и уже тогда, на закате СССР, сделало Баку прекрасной европейской столицей с дивным восточным колоритом.
7. Иншалла (ин ша Аллах) — если пожелает Аллах (араб.). Соответствует русскому «Если Бог даст» и в какой-то мере знаменитой аббревиатуре ЕБЖ (если буду жив) из толстовских дневников.
8. Машалла (ма ша Аллах) — так захотел Аллах, на то воля Аллаха (араб.).
11. Горящая гора (азерб.) — известняковый холм в 27 километрах севернее Баку, из расщелин которого вырывается природный горючий газ.
12. И здесь заслугу гениального Владимира Шухова трудно переоценить!
9. Напомню, что персы (иранцы) — шииты; царственная мама Сакинат прекрасно владела русским и знала, конечно, что правильно «персиянка», а потому рискну предположить, что употребляла она в минуты гнева «персючка» в силу явного созвучия этого слова с… но стоп! Закрываем тему, а не то попадет этот текст на глаза Эльдарчику — и взрыва не миновать.
10. В 1940 году население республики составляло примерно 3 200 000 человек.
13. В основном, конечно, шведы. Некоторые из инженеров и служащих оседали в Баку: сын одного из таких, Леонид Эдуардович Юрфельд, был легендарным физруком и военруком школы № 6, в которой я учился. Но Нобели, сохраняя в своем петербургском дворце все приметы шведского быта, так упоенно и ярко показанного Бергманом в фильме «Фанни и Александр», искали лучших специалистов не только в Швеции или, скажем, в традиционно «поставляющей кадры» Германии: мой сокурсник, староста параллельной группы механико-математического факультета, был внуком мадьяра — бухгалтера, выписанного когда-то не из Будапеш
