автордың кітабын онлайн тегін оқу Баталист. Территория команчей
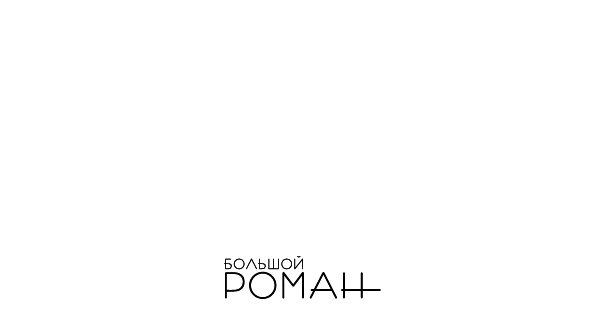
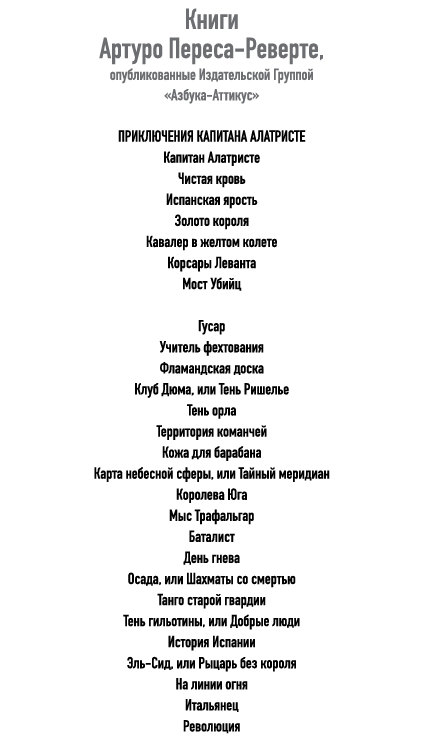
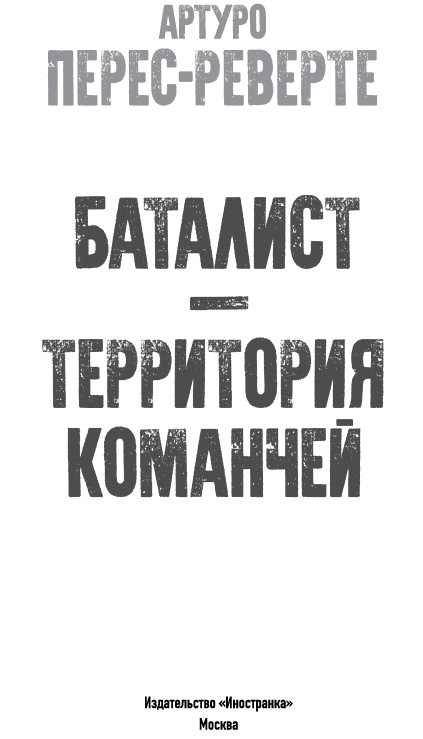
Arturo Pérez-Reverte
EL PINTOR DE BATALLAS
Copyright © 2006 by Arturo Pérez-Reverte
TERRITORIO COMANCHE
Copyright © 1994 by Arturo Pérez-Reverte
All rights reserved
Перевод с испанского Надежды Беленькой,
Ирины Ляйтгиб-Бурнаевой
Оформление обложки Егора Саламашенко
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Перес-Реверте А.
Баталист ; Территория команчей : романы / Артуро Перес-Реверте ; пер. с исп. Н. Беленькой, И. Ляйтгиб-Бурнаевой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2024. — (Большой роман).
ISBN 978-5-389-25259-2
18+
Бывший военный фотограф, удалившись от мира, сидит в башне и пишет фреску — свою самую важную, абсолютную, финальную работу, полную боли, крови и войны. Нынешний военный тележурналист и его оператор на Балканах караулят взрыв моста. К фотографу приходит тот, чья жизнь полетела под откос из-за одного-единственного фотокадра, — и посреди осторожных разговоров о мировом искусстве, маскирующих горе утраты, и жажду мести, и любовь, и отчаяние, и постыдные секреты, у обоих открываются глаза. Мост пока цел, но взрыв случится вот-вот, и журналисты снимут его, если успеют, если останутся живы на этой территории команчей, где «инстинкт подсказывает военному репортеру, что нужно тормозить и поворачивать назад... <где> дороги безлюдны, а дома превратились в обгоревшие руины; <где> кажется, что вот-вот наступят сумерки... <Где> ты не видишь снайперских винтовок, но они видят тебя»... «Баталист» и «Территория команчей» — две истории Артуро Переса-Реверте, вымышленная и документальная, об одном и том же: грязь, кровь, страх и горе войны в Боснии и всех прочих войн глазами людей, чья работа — смотреть и показывать другим то, что увидели.
Перес-Реверте — бывший военный журналист, работавший во множестве горячих точек, прославленный автор блестящих исторических, военных, приключенческих романов, переведенных на сорок языков, создатель цикла о капитане Диего Алатристе, обладатель престижнейших литературных наград. Ему есть что рассказать о войне — он там был, и не раз. «На любой войне, — говорит он, — происходит одно и то же: где-то несчастные, полумертвые от страха люди в военной форме разных формирований стреляют друг в друга, сидя в окопах, перемазанные глиной, а какой-нибудь урод в уютном кабинете с кондиционером, покуривая сигару, далеко от линии фронта занимается разработкой дизайна знамен, созданием национальных гимнов и установкой памятников неизвестному солдату, зарабатывая таким образом на всей этой крови и дерьме». На войне невозможно быть романтиком. На войне невозможно быть объективным. На войне невозможно не понять, что войны быть не должно.
«Баталист» и «Территория команчей» снабжены обширными комментариями. «Территория команчей» публикуется в новом переводе.
© Н. М. Беленькая, перевод, 2006, 2024
© И. И. Ляйтгиб-Бурнаева, перевод, примечания, 2024
© А. Б. Грызунова, примечания, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®

Блаженный Августин видел, что люди пускаются в плавание по морю, идут на войну... но не ведал о правилах игры.
Блез Паскаль, «Мысли», 452 [1]
[1] Здесь и далее фрагменты из «Мыслей» Блеза Паскаля цитируются в переводе Эльги Линецкой (Фельдман); нумерация фрагментов также дается по ее переводу.
1
Он проплыл привычные полторы сотни метров в открытое море и еще столько же к берегу, пока не коснулся ногами круглой прибрежной гальки. Вытерся полотенцем, висевшим на сухом белом стволе выброшенного морем дерева, надел рубашку и сандалии и поднялся по узкой тропинке от бухты к башне. Там он приготовил кофе и принялся за работу. Несколько дней подряд ему не удавалось подобрать нужный оттенок для неба, и теперь он кропотливо наносил на грунт голубые и серые мазки. Последнее время он почти не спал, сон его был беспокойной дремотой, и в эту ночь он наконец понял, что лишь холодные цвета способны правильно оттенить унылую даль, где белесая дымка скрывает силуэты шагающих по кромке моря солдат. Четыре дня подряд, бродя вдоль берега и глядя на поверхность воды, он тщетно пытался уловить странный цвет бледного утреннего неба и затем передать его на фреске легкой лессировкой титановыми белилами [2]. На этот раз он добавил к белилам кобальт, немного светлой охры и получил пронзительный голубой оттенок. Затем, сделав несколько пробных мазков на подносе, служившем ему палитрой, приглушил тон, добавив немного желтого кадмия, и безостановочно проработал все утро. Наконец сунул кисть в зубы, отступил назад и полюбовался результатом. Теперь море и небо на фреске, покрывающей всю внутреннюю стену башни, сочетались гармоничнее, и, хотя впереди по-прежнему было много работы, он добился главного: зыбкая полоска на далеком размытом дождем горизонте подчеркивала одиночество людей — темных силуэтов с металлическим отблеском доспехов.
Он промыл кисти и разложил их на просушку. Внизу, у подножья отвесных скал, послышались шум мотора и музыка, доносившиеся с туристического катера, который ежедневно в одно и то же время проплывал вдоль берега. Андрéсу Фольку не надо было смотреть на часы: он знал, что настал час пополудни. Как обычно, он услышал женский голос, усиленный громкоговорителем; когда катер подошел к самому берегу, голос раздался сильнее и звонче, потому что теперь звук свободно долетал до башни сквозь кустарник и сосны, которые, несмотря на сильный уклон и каменистую почву, крепко цеплялись к скалам.
«Перед вами бухта Арраэс — когда-то она служила прибежищем берберским корсарам. Наверху возвышается старинная дозорная башня, построенная в начале восемнадцатого века. Башня играла роль защитного сооружения — ее дозорные оповещали окрестные селения о приближении сарацин...»
Он слышал эту женщину ежедневно. Отлично поставленный молодой голос, хорошая дикция. Скорее всего, местный гид, сопровождавший туристов во время трехчасовой прогулки на катере, небольшом бело-голубом суденышке метров двадцати длиной; в остальное время оно стояло на якоре в Пуэрто-Умбрии, где-то между островом Повешенных и Кабо-Мало. В последние два месяца Фольк ежедневно видел с обрыва палубу, по которой разгуливали туристы с фотоаппаратами и видеокамерами, из громкоговорителей доносилась бодрая музыка, такая резкая и оглушительная, что по сравнению с ней женский голос казался нежным и мелодичным.
«В этой сторожевой башне, давно покинутой ее защитниками, живет известный художник, который в настоящее время украшает внутреннюю стену обширной панорамой. К сожалению, башня является частной собственностью и вход в нее запрещен...»
На сей раз женщина говорила по-испански, однако прежде она неоднократно вела экскурсию на английском, итальянском и немецком. Лишь когда раздавался французский язык — четыре или пять раз за все лето, — голос гида был мужским. В любом случае, думал Фольк, сезон вот-вот подойдет к концу, с каждым разом на палубе катера все меньше туристов, еще совсем немного — и ежедневные поездки превратятся в еженедельные, а чуть позже, когда с запада подует резкий зимний ветер, от которого море и небо становятся свинцово-серыми, экскурсии прекратятся совсем.
Он внимательно рассматривал фреску и образовавшиеся на ней новые трещины. Круговая панорама на круглой стене башни складывалась из разрозненных фрагментов, написанных маслом. Остальное пространство покрывали наброски углем, черные линии, разбросанные по белоснежной поверхности грунтовки. Бескрайний тревожный пейзаж, безымянный, безвременный; на его фоне полузасыпанный песком щит, забрызганный кровью средневековый шлем, винтовка над лесом деревянных крестов, обнесенный стеной древний город, современные башни из стекла и бетона были скорее невольными соседями, нежели символами времени.
Фольк работал терпеливо и тщательно. Он неплохо владел техникой, однако не надеялся сотворить шедевр. Он умел рисовать, но был посредственным живописцем и сам это сознавал. По правде говоря, свои способности он оценивал весьма скромно, но фреска предназначалась единственному зрителю, ему самому, и не была произведением искусства. Скорее — детищем памяти, добычей глаз, тридцать лет подряд прикованных к видоискателю фотокамеры. Отсюда раскадровка (более всего здесь уместно именно это слово) и все эти жесткие линии и безжалостно прямые углы, отчасти напоминающие кубизм, отчего силуэты живых существ и предметов казались неумолимо жесткими очертаниями рвов или колючей проволоки. Стена первого этажа представляла собой единую панораму длиной около двадцати пяти метров и почти трехметровой высоты, чью целостность нарушали только два прямоугольника узких окон, расположенных друг против друга, а также входная дверь и винтовая лестница, которая вела на верхний этаж, служивший Фольку жилищем: переносная газовая плита, маленький холодильник, обтянутая парусиной лежанка, стол со стульями, ковер и сундук. Он поселился здесь семь месяцев назад и вполне обжил первые два этажа: заказал подвесной потолок из водонепроницаемого дерева, укрепил стены бетонными балками, сделал оконные ставни и коридор в уборную, выдолбленную в камне на манер узкого полуподвала, выходящего в отвесные скалы. Вода собиралась в специальный резервуар — он громоздился снаружи на крыше сарая, сколоченного из досок и служившего одновременно душем и гаражом для мотоцикла, на котором Фольк каждую неделю ездил в поселок пополнить запас провизии.
Трещины беспокоили Фолька. Слишком уж быстро они появились, сказал он себе. И слишком их много. Дальнейшая судьба фрески его не волновала — у его детища не было будущего, так он решил в тот день, когда нашел заброшенную башню и задумал свою картину; однако они осложнят работу, и она отнимет у него больше времени. Он погрузился в раздумья, и кончики его пальцев пробежали по паутине трещин, покрывающих наиболее завершенную часть фрески, по красным и черным мазкам, изображавшим резкие неровные очертания пылающих стен охваченного пожаром старинного города — что-то от Босха, Гойи и доктора Атля [3]; дела людские, неумолимый рок и природа образовывали странные сюжеты, замысловато переплетенные в тревожном мареве. Трещины, несомненно, поползут дальше. Они возникли уже давно. Косметический ремонт стены, шпаклевка из песка и цемента, белая акриловая краска не могли спасти дряхлое трехсотлетнее строение, уничтожить полностью губительные следы непогоды и едких испарений, поднимавшихся с моря. Своего рода борьба со временем — у него мирный характер, но оно неизбежно побеждает. Но главная сложность не в трещинах, размышлял Фольк с привычным профессиональным фатализмом, — в конце концов, разнообразных следов разрушения он навидался в своей жизни немало.
Боль — пронзительный укол где-то в правом боку — настигла Фолька, как обычно в это время. Верная их регулярным свиданиям каждые восемь-десять часов, на сей раз она явилась без предупреждения. Фольк остановился, перевел дыхание, дожидаясь, пока утихнет первый приступ; затем взял со стола баночку, достал из нее две таблетки и проглотил их, запив глотком воды. За последние две недели ему пришлось вдвое увеличить дозу. Немного погодя стало полегче; несравненно хуже, когда боль настигает ночью, и, хотя он снимал приступ лекарствами, уснуть не удавалось до рассвета. Он не спеша осматривал расстилавшуюся перед ним панораму: далекий современный город вдали; другой город, на первом плане, охваченный пламенем пожара; сгорбленные фигурки, бегущие от огня, сумрачные силуэты воинов, багровые отсветы пламени — тонкие частые мазки, киноварь на желтом кадмии, — пляшущие на железных стволах ружей с тем особенным блеском, который сразу же бросается в глаза невольного участника событий; бум, бум, бум, ночной топот сапог, лязг железа и винтовок, неизбежный и естественный, как в разыгранной по нотам пьесе; и мгновение спустя человека выгоняют наружу и отрубают — выражаясь проще, сносят — голову. Фольк постарался сделать так, чтобы отблески охваченного пожаром города плавно переходили в серые предутренние сумерки на берегу, так чтобы унылый пейзаж, дождливое небо, дремлющее море сливались с вечной мглой, прелюдией той же самой или в точности подобной ей ночи, и так бесконечными витками — маятник Истории поднимается выше и выше, чтобы затем снова грянуть вниз.
Женщина с катера называла его известным художником. Она всегда повторяла одни и те же слова, и Фольк, который представлял, как туристы наводят объективы фотоаппаратов на башню, спрашивал себя, откуда взялись у нее столь ошибочные сведения (мужчина, проводивший экскурсии по-французски, ни разу не упомянул о хозяине башни). Вероятно, думал он, это было всего лишь уловкой, способом сделать экскурсию насыщеннее. Если Фольк и был известен, то в узкопрофессиональных кругах, и уж никак не своими картинами. После первых юношеских опытов он забросил кисти и краски, твердо убедился, что они навсегда изгнаны из его профессиональной жизни, полной событий, пейзажей и людей, увиденных в глазок фотографической камеры, завораживающего мира красок, переживаний и человеческих лиц, где он искал тот последний, самый главный образ, неуловимое вечное мгновение, которое раскрыло бы тайные законы, правящие в неумолимой математике хаоса. Парадоксально, однако: лишь отложив камеру и взявшись за кисти в поисках иной перспективы — не исключено, что он видел в ней новые многообещающие возможности, — которую ему никогда не удавалось уловить с помощью объектива, Фольк почувствовал близость того, что так долго искал и не мог найти. В конце концов, размышлял он, цель его бесконечных исканий не имела ничего общего с нежной зеленью рисовых полей, пестрой суетой рыночной площади, плачем ребенка и глиной траншеи; она существовала внутри его самого — в горечи собственной памяти и призраках, которые населяли ее берега. В линиях рисунка и цветовых пятнах, неторопливых, аккуратных мазках, которые удаются, лишь когда сердце бьется ровно, а старые жалкие боги с их постылыми страстишками перестают досаждать человеку гневом и милостью.
Панорама, изображающая войну. Такие картины потрясают каждого, будь то знаток или же неискушенный зритель; и Фольк принялся за дело с величайшим усердием, кропотливо используя все свои скромные технические средства. Прежде чем приобрести эту башню и поселиться в ней, он несколько лет собирал материалы, ходил по музеям, изучая жанр, который ни в малейшей степени не интересовал его прежде — даже во времена ученичества и юношеского увлечения живописью. От батальных залов Эскориала и Версаля до фресок Риверы и Ороско, от греческих амфор до мельницы Фрайлес [4], от специальных книг до произведений, выставленных в музеях Европы и Америки. Глаза Фолька, три десятилетия подряд жадно вбиравшие в себя образы войны, постигали двадцать шесть веков военной иконографии. Его фреска стала результатом этих поисков; в ней было все: надевающие доспехи воины на красной или черной терракоте, легионеры, выгравированные на колонне Траяна [5], гобелен из Байё [6], «Флёрюс» Кардучо [7], «Сен-Кантен» глазами Луки Джордано [8], кровавая бойня Антонио Темпесты [9], эскизы Леонардо да Винчи к «Битве при Ангьяри» [10], гравюры Калло [11], «Троянский пожар» Кольянтеса [12], «Второе мая» и «Бедствия» Гойи [13], «Самоубийство Саула» Брейгеля Старшего [14], грабежи и пожары Брейгеля Младшего и Фальконе [15], сражения Бургундца [16], «Тетуан» Фортуни [17], наполеоновские гренадеры и всадники Мейссонье и Детая [18], кавалерийские атаки Лина, Мейлена [19] и Роды, «Взятие обители» Пандольфо Рески [20], ночная битва Маттео Стома [21], средневековые стычки Паоло Уччелло [22] и множество других шедевров, которые он изучал целыми днями, месяцами и годами в поиске ключа, секрета, объяснения или правильного приема. Сотни статей и книг, тысячи изображений скапливались вокруг Фолька и внутри его самого, в его башне и в памяти.
Однако батальной живописью дело не ограничивалось. Технические задачи, которые ставил перед ним подобный жанр, вынуждали изучать произведения, посвященные не только войне. В некоторых леденящих кровь картинах и гравюрах Гойи, на фресках и холстах Джотто, Беллини и Пьеро делла Франчески [23], в мексиканских настенных росписях или в произведениях современных художников — Леже, де Кирико, Шагала или первых кубистов [24] — Фольк искал и находил решение практических вопросов. Как и мастерство фотографа, выбирающего фокус, свет и экспозицию, старательно наводя объектив на предмет, который он собирается запечатлеть, живопись также предполагает определенную систему формул, законов, опыта, интуиции и, конечно же, вдохновения — если оно есть. Фольк знал кое-какие приемы, владел техникой, но ему весьма недоставало того особенного свойства, которое отличает ремесло от таланта. Осознав это, он еще в юности оставил попытки заняться живописью. Но теперь жизненный опыт и необходимые знания подтолкнули его на отчаянную творческую авантюру: передать образ, который он долго пытался поймать в видоискатель и вынашивал в памяти все последние годы. Глазам внимательного зрителя панорама на стене раскрывала неумолимые законы войны, с виду хаотичной, а по сути — истинного отражения жизни. Он не надеялся создать произведение искусства; он даже не стремился быть оригинальным, хотя изображение представляло собой необычное сочетание и подбор заимствованных из живописи и фотографии сюжетов, чье существование становилось возможным только благодаря художнику, который решил их объединить. По замыслу Фолька фреска не предназначалась для вечной жизни, даже не предполагалось показывать ее посетителям. Закончив работу, он собирался покинуть башню и бросить свое творение на произвол судьбы. В дальнейшем время и стихия довершат его работу, запечатлев своими кистями известные только им сложнейшие математические решения. Это также входило в общий замысел произведения.
Фольк рассматривал окружавший его со всех сторон ландшафт, составленный по большей части из воспоминаний, раздумий, издавна преследовавших его образов, получивших с помощью акриловых красок новую жизнь. Этим образам, которые за долгие годы обошли тысячи километров, блуждая по бесконечным извилистым лабиринтам нервов и кровеносных сосудов, составлявших ткань его мозга, суждено было угаснуть вместе с ним в момент его смерти. Когда-то много лет назад они с Ольвидо Феррара впервые заговорили о батальной живописи. Это было в галерее дворца Альберта в Прато, они стояли напротив картины Джузеппе Пиначчи под названием «После боя» [25], внушительного исторического полотна с поразительно гармоничной и не совсем правильной композицией, которую ни один профессиональный художник, несмотря на мастерство, искусное владение техническими приемами и опыт, никогда бы не осмелился оспорить. Как странно, сказала она, — среди изувеченных и агонизирующих тел какой-то солдат добивает поверженного врага, похожего на краба в своем шлеме и в непроницаемой броне, — как странно, что почти все значительные художники-баталисты жили до семнадцатого века. А потом никто, за исключением Гойи, не осмеливался изображать человека в минуту, когда его настигает смерть, не решился нарисовать взаправдашнюю кровь вместо героического томатного сока; как видно, заказчики, на чьи средства существовали более поздние художники, считали это излишним. Затем на смену живописи пришла фотография, и все изменилось. Я имею в виду твои работы, Фольк. И не только твои. Однако в наше время такая фотография не приветствуется, правда? Откровенные ужасы социально некорректны. Даже ребенку с поднятыми руками на знаменитой фотографии из Варшавского гетто [26] сегодня затенили бы лицо, чтобы не нарушать закона о защите детей. Кроме того, в наши времена забыто главное, о чем лишь силой можно заставить камеру лгать. Сегодня все изображающие людей снимки лживы или неубедительны, не важно, напечатан под ними текст или нет. Фотография перестала быть свидетелем, помогающим человеку понять окружающую его реальность. Каждый может спокойно выбрать для себя небольшую порцию ужасов, придающих жизни остроту. Тебе не кажется? Как же мы далеки от старинных портретов, где лицо человека окружает тишина, которая успокаивает глаз и пробуждает совесть. Отныне дежурное сочувствие к любой разновидности жертв освобождает нас от ответственности. От угрызений совести.
В то время Ольвидо не знала, что ее слова (как и другие, произнесенные во Флоренции напротив картины Паоло Уччелло) окажутся пророческими: они с Фольком только еще начинали странствовать вместе по горячим точкам и художественным галереям. Именно ее слова пробудили в Фольке нечто, дремавшее с давних пор, возможно, с того дня, когда одна из его фотографий — молоденький ангольский партизан рыдает над телом друга — была выбрана для рекламы модной одежды, или когда после тщательного изучения снимка Роберта Капы, изображавшего убитого испанского ополченца — канонически правильной военной фотографии, — Фольку внезапно пришло в голову, что ни на одной войне из тех, где ему случалось побывать, он ни разу не видел, чтобы человек погибал в бою в аккуратно заштопанных, безупречно чистых брюках и свежей рубашке [27]. Эти события, а также многие другие, мелкие и значительные, завершившиеся исчезновением Ольвидо Феррара на Балканах и навсегда отпечатавшиеся в сердце и памяти фотографа, были глухими отзвуками, сложным хитросплетением причин и следствий, которые привели его в башню к фреске.
Оставалось еще много работы — половину стены занимали наброски углем по белой грунтовке, — но Фольк чувствовал удовлетворение. Работа, проделанная в то утро, — берег моря под дождем и корабли, уплывающие прочь от объятого пожаром города, печальный серовато-голубой, размытый горизонт между морем и небом — открывала глазам зрителя невидимые сходящиеся линии, что связывали далекие силуэты, ощетинившиеся блестящими копьями, колонну беженцев, где выделялось лицо женщины: большие глаза, прямая линия лба и подбородка, рука с растопыренными пальцами, пытающаяся скрыть лицо, написанное яркими красками на переднем плане, что подчеркивало его реальность. Никто не в силах изобразить то, чего не познал сам, думал Фольк. Живопись — так же как фотография, влюбленность или просто задушевный разговор — напоминает те пустые комнаты в разбомбленных отелях, разоренные, с выбитыми стеклами, где единственное украшение — пара-другая нехитрых предметов, которые достаешь из собственного рюкзака. Горячие точки, события, портреты; при другом стечении обстоятельств их вполне могли заменить Париж, Тадж-Махал или Бруклинский мост: девять из десяти снимков фотографов-новичков подчиняются ритуалу в поисках кадра, который позволит им войти в избранное общество туристов, собирающих ужасы. У Фолька все наоборот. Он не собирался оправдывать жестокую правдивость своих снимков, подобно другим фотографам — тем, кто утверждает, будто рвется в горячие точки, потому что ненавидит войну и желает покончить с ней навсегда. Он не собирался коллекционировать различные проявления бытия и не пытался их истолковать. Он хотел лишь одного: постичь законы и формулы, подобрать ключ к шифру, который сделает терпимой любую боль. С самого начала он искал нечто особенное: точку отсчета, фокус, который поможет просчитать или уловить интуитивно путаницу изогнутых и прямых линий, головоломку, беспорядочное движение шахматных фигур, сквозь которое проступает механизм жизни и смерти, хаоса и его проявлений; его интересовала война как структура, как голый бесстыдный скелет гигантского космического абсурда. Прежде чем стать автором этой огромной панорамы, изображающей сражение всех сражений, Фольк провел много часов, пытаясь различить некую неведомую закономерность; подобно терпеливому стрелку, которого судьба забрасывает в самые неожиданные места — на террасу разрушенного дома в Бейруте, на берег африканской реки, на перекресток Мостара — в ожидании чуда, которое внезапно появится в объективе, в простой черной коробке его фотокамеры (настоящей платоновской пещере) [28] и на сетчатке глаза, он выслеживал тайну сложнейшего хитросплетения, какие возвращают жизни ее первоначальный смысл захватывающего путешествия к смерти и небытию. Чтобы прийти к подобным выводам через собственное творчество, многие фотографы и художники уходят от мира, прячась затворниками в своих мастерских. Но у Фолька был иной путь. Забыв о навыках, приобретенных за годы изучения архитектуры и искусства, в двадцать лет он ринулся в горнило войны, держа камеру наготове, — внимательный, чуткий, осторожный, словно любовник, впервые коснувшийся тела возлюбленной. И пока в его жизнь не вошла Ольвидо Феррара, которая затем исчезла из нее навсегда, он верил, что переживет и войну, и любовь.
Фольк пристально всмотрелся в женское лицо — вернее сказать, в его условное изображение на фреске. Этот портрет несколько раз печатали на обложках журналов. Он сделал его почти случайно — его величество случай, усмехнулся он, удачно пойманное мгновение — в лагере беженцев на юге Судана, в обычный рабочий день, ничем не отличавшийся от других таких же рабочих будней, во время осторожных перемещений с камерой в руках среди детей, умирающих от истощения перед объективом, худых женщин с потерянным взглядом, костлявых стариков, чье единственное будущее — воспоминания о прошлом. С однообразным жужжанием «Никон-Ф3» перемотал пленку, и вдруг Фольк краем глаза увидел девушку. Она лежала на плетеной циновке, постеленной прямо на земле. Возле подола ее платья стоял глиняный кувшин с отбитым краем, и она протирала водой лицо усталыми, худыми пальцами. Именно движения рук девушки привлекли внимание Фолька. Он машинально прикинул, сколько кадров оставалось в старой доброй «Лейке 3МД», объектив 50 мм, которая висела у него на поясе. Трех достаточно, подумал он, осторожно направляясь к девушке, стараясь ее не спугнуть; «непрямой подход» называла подобную тактику Ольвидо, с изрядной долей цинизма применявшая в их совместной работе военные термины. Но едва Фольк прицелился видоискателем, выбирая фокус, девушка заметила на земле его тень, подняла голову и взглянула на него в упор. Вот почему он сделал только две экспозиции, поспешно спуская затвор, в то время как чутье подсказывало ему, что нельзя терять ни секунды, потому что в этот лагерь он больше не вернется. Осознавая, что это единственная возможность запечатлеть на пленку увиденное, прежде чем оно исчезнет из его жизни навсегда, он нашарил пальцем ролик регулировки диафрагмы и установил ее на отметке 5.6, что, как ему показалось, соответствовало освещению, на несколько сантиметров сдвинул ось камеры и сделал последний кадр; в следующий миг девушка отвернулась, прикрыв лицо рукой. Фольк успел сделать только три снимка; когда же мгновением позже он приблизился с двумя заряженными камерами наготове, взгляд девушки был совершенно иным, момент упущен. Фольк пустился в обратный путь, думая об этих трех фотографиях. Останутся ли они после проявки пленки и печати такими, какими он их видел, спрашивал он себя, воспроизводя их в памяти. А позже, в красном полумраке темной комнаты, с нетерпением ждал появления линий и красок, наблюдая, как медленно оживает лицо и глаза пристально смотрят на него со дна фотографической кюветы. Просушив отпечатки, Фольк долго разглядывал их, размышляя о том, что он почти вплотную подошел к тайне и ее физическому воплощению. Первые два снимка не удались — подвел фокус; но третий вышел чистым и четким. Девушка была совсем юной и трогательно красивой. В ней была какая-то прозрачная невыразимая красота, которую не портили ни шрам на лбу, ни растрескавшиеся от жажды и жара губы — точно такие трещины виднелись сейчас на его фреске. И все особенности этого образа — шрам, трещины на губах, тонкие костлявые пальцы, касающиеся лица, очертания подбородка и мягкие, чуть заметные линии бровей, уголок пестрой плетеной циновки, спокойное безнадежное смирение — вобрало в себя сияние ее глаз, искорки света в черной радужке. Древняя трагическая маска, где сходятся все неведомые линии и углы. Математика хаоса в нежном лице умирающей девушки.
[20] Пандольфо Рески (1643–1699) — итальянский художник-баталист, ученик упомянутого выше Джакомо Кортезе (Бургундца). «Взятие обители» («Un asalto armado en un convento») изображает вооруженное нападение на монастырь.
[22] Паоло Уччелло (1397–1475) — флорентийский художник, живописец, рисовальщик периода раннего итальянского Возрождения, увлеченный исследователь перспективы; помимо многого прочего, написал серию из трех картин «Битва при Сан-Романо» («Battaglia di San Romano», 1436–1440; лондонская Национальная галерея; Уффици; Лувр), изображающую разные эпизоды битвы между флорентийцами и сиенцами при Сан-Романо 1 июня 1432 года в ходе Ломбардских войн.
[21] Маттео Стом (1643–1702) — итальянский художник-баталист нидерландского происхождения; очевидно, имеется в виду его картина «Ночная битва христиан с турками перед горящим городом» («Battaglia notturna tra cristiani e turchi dinanzi a una città in fiamme», 1680).
[24] Жозеф Фернан Анри Леже (1881–1955) — французский живописец, скульптор, кинематографист, в ранние годы практиковал собственную разновидность кубизма («тубизм»), впоследствии перешел к фигуративному искусству; считается предтечей поп-арта. Джорджо де Кирико (1888–1978) — итальянский художник, основатель направления метафизической живописи и предтеча сюрреализма. Марк Захарович Шагал (1887–1985) — российско-французский живописец, график, сценограф, крупнейшая фигура авангардного искусства. Среди первых кубистов логично назвать, к примеру, Пабло Пикассо, Жоржа Брака, упомянутого Леже, Робера Делоне, Жана Метценже, Альберта Глеза и Анри Ле Фоконье.
[23] Джотто ди Бондоне (ок. 1266 — 1337) — итальянский живописец и архитектор XIV века, ключевая фигура в искусстве Западной Европы, один из первых представителей проторенессанса, чьи работы вдохновляли всех последующих крупнейших художников Возрождения. Якопо Беллини (ок. 1400 — ок. 1470) — один из основателей венецианской школы эпохи раннего Возрождения, отец Джентиле (ок. 1429 — 1507) и Джованни (ок. 1430 — 1516) Беллини, живописцев периода кватроченто и тоже представителей венецианской школы. Пьеро дела Франческа (ок. 1420 — 1492) — живописец и теоретик искусств того же периода, испытавший влияние флорентийской школы; как и Джотто, исследовал живописную перспективу и был сильным геометром.
[26] Имеется в виду черно-белая фотография, сделанная, по всей видимости, в 1943 году и прилагавшаяся к рапорту Юргена Штропа, командующего немецкими войсками, которые ликвидировали Варшавское гетто; фотограф не установлен, как и личность изображенного мальчика, хотя некоторые люди с фотографии были впоследствии опознаны.
[25] Джузеппе Пиначчи (1642–1718) — итальянский художник, один из «старых мастеров». Картина «После боя» («Dopo la battaglia») была написана в период между 1700 и 1718 годами.
[28] Имеется в виду метафора, приводимая Сократом в диалоге Платона «Государство»: Сократ уподобляет людей, чувственно воспринимающих мир и на этом основании полагающих, будто его понимают, узникам, которые закованы в состоянии полной неподвижности в темной пещере и вынуждены постигать проносимые мимо них предметы по теням на стенах от далекого огня.
[27] Роберт Капа (Эндре Эрнё Фридман, 1913–1954) — франко-американский фоторепортер, основатель военной фотожурналистики как жанра, один из создателей первого в мире фотоагентства Magnum Photos (1947). Речь идет о снимке «Павший солдат» («The Falling Soldier», тж. «Loyalist Militiaman at the Moment of Death, Cerro Muriano, September 5, 1936», 1936; Метрополитен-музей), который Капа сделал во время гражданской войны в Испании. На фотографии изображен только что убитый человек в момент падения; долгое время считалось, что это ополченец-анархист Федерико Борель Гарсиа, однако уже с 1970-х годов и личность убитого, и, собственно, достоверность фотографии ряд исследователей подвергает сомнению, поскольку некоторые косвенные признаки указывают на то, что снимок был постановочный, а Капа при жизни сообщал противоречивые сведения об обстоятельствах, в которых его сделал.
[11] Жак Калло (1592–1635) — лотарингский рисовальщик и гравер, ученик Антонио Темпесты; создал более полутора тысяч гравюр и разработал новую технику офортов. Среди его работ — серия из 18 офортов «Большие бедствия войны» («Les Grandes Misères de la guerre», 1633; Лотарингский музей), созданная по мотивам событий Тридцатилетней войны; серия считается первым в истории Европы пацифистским заявлением.
[10] «Битва при Ангьяри» — неоконченная и считающаяся утраченной фреска да Винчи, сохранившаяся только в копиях (в том числе работы Рубенса, которая хранится в Лувре; эта копия была сделана с более ранней копии). Да Винчи писал фреску в 1503–1506 годах во флорентийском Палаццо Веккьо (а тем временем над другой стеной работал Микеланджело); здание спустя полвека перестроили, и фреску заменила работа Джорджо Вазари; есть пока еще не до конца расследованные подозрения, что Вазари сохранил фреску да Винчи, просто поместив поверх нее свою работу. Битва при Ангьяри — сражение между Миланским герцогством и Итальянской лигой под предводительством Флорентийской республики, произошедшее в ходе Ломбардских войн 29 июня 1440 года у тосканского города Ангьяри; победителем вышла Итальянская лига.
[13] «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» («El dos de mayo de 1808 en Madrid», 1814; Прадо) — картина Гойи, посвященная восстанию горожан против наполеоновских войск, оккупировавших Мадрид; парной к ней Гойя написал картину «Третье мая 1808 года в Мадриде» («El tres de mayo de 1808 en Madrid»), на которой изображен расстрел повстанцев. «Бедствия войны» («Los desastres de la guerra», 1810–1820) — опубликованная уже после смерти Гойи серия из 82 гравюр, написанных под гнетущим впечатлением от событий Второго мая, затем Пиренейских войн и реставрации Бурбонов; предположительно, отчасти на Гойю повлияли упомянутые выше «Большие Бедствия Войны» Жака Калло.
[12] Франсиско Кольянтес (1599–1656) — испанский художник эпохи барокко; «Троянский пожар» («El incendio de Troya»; Прадо) — его картина маслом не вполне ясной датировки, красочно изображающая падение Трои.
[15] Аньелло Фальконе (1600–1656) — неаполитанский живописец и гравер эпохи барокко, считается одним из крупнейших художников батального жанра за всю его историю.
[14] Питер Брейгель Старший (1525–1569) — нидерландский художник, одна из крупнейших фигур Северного Возрождения; Питер Брейгель Младший (1564–1638) — его старший сын, выросший на творчестве отца, а затем выработавший свой стиль; с развитием карьеры стал предпочитать бытовой жанр и пейзажи, как и его отец, однако поначалу тяготел к изображениям ада, Страшного суда и т. д. «Самоубийство Саула» («De zelfmoord van Saul in de slag tegen de Filistijnen bij Gilboa», 1562; Музей истории искусств, Вена) — масштабная батальная работа Брейгеля Старшего, изображающая соответствующий библейский сюжет (Первая книга Царств, 31: 1–6).
[17] Мария Фортуни (Мариано Фортуни-и-Марсаль, Мариа Жозеп Мария Бернат Фортунь-и-Марсал, 1838–1874) — испанский художник, представитель романтического ориентализма. «Битва за Тетуан» («La batalla de Tetuan», 1862–1864, Национальный музей искусства Каталонии) — его крупнейшая работа, заказанная ему барселонскими властями и так и не оконченная. Картина изображает важнейшее сражение Испано-марокканской войны 1859–1860 годов, начавшееся 4 февраля 1860 года и продлившееся три дня; в результате испанцы заняли Тетуан, и с этого началась испанская колонизация Северного Марокко. В 1962 году в честь столетия начала работы Фортуни над картиной Сальвадор Дали выставил в Барселоне свою версию «Битвы при Тетуане» — переосмысление, оммаж и пародию — вместе с оригиналом Фортуни.
[16] Бургундец (Бургуньон, тж. Боргоньоне) — Жак Куртуа, он же Джакомо Кортезе (1621–1676), франко-итальянский академический художник, живописец, гравер, рисовальщик, мастер батального жанра, зачастую изображавший кавалерию в бою.
[19] Адам Франс ван дер Мейлен (1632–1690) — очень популярный при жизни фламандский живописец, акварелист, гравер, художник-баталист, представитель стиля Людовика XIV (классицизм пополам с барокко и академизмом); был известен, помимо прочего, своим мастерством при изображении лошадей.
[18] Жан Луи Эрнест Мейссонье (1815–1891) — французский живописец, график, иллюстратор, скульптор; баталист, очень популярный среди современников. Жан Батист Эдуар Детай (1848–1912) — французский художник-баталист, ученик Мейссонье; материал черпал в том числе из собственного военного опыта, поскольку участвовал во Франко-прусской войне 1870–1871 годов. И учитель, и ученик создали много работ по мотивам событий Наполеоновских войн.
[2] Лессировка — способ нанесения красок просвечивающим слоем для более тонкой нюансировки оттенков; был в ходу у всех европейских старых мастеров XV–XVII столетий. Существуют специальные лессировочные краски с повышенным содержанием связующего вещества (лака, масла и т. д.).
[4] Диего Ривера (Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес, 1886–1957) и Хосе Клементе Ороско (1883–1949) — мексиканские живописцы-монументалисты, одни из основателей движения мексиканского мурализма, благодаря которому фрески с внятным общественно-политическим, гражданским посылом стали популярны сначала в Мексике, а затем и по всему миру; оба, естественно, придерживались левых взглядов. Мельница Фрайлес, — очевидно, имеется в виду одна из нескольких старых мельниц, носящих название «Монашья мельница»; например, такая мельница, совершенно крепостного вида, которая была построена самое позднее в XVI веке и молола муку до середины XX, сохранилась по сей день в Мансадерос-эль-Реаль к северо-западу от Мадрида.
[3] В целом пожары и вулканы — популярные мотивы среди художников-романтиков, хотя встречаются, конечно, не только у них. Нидерландский художник периода Северного Возрождения Иероним Босх (Ерун Антонисон ван Акен, ок. 1450–1516) то и дело изображал городской пожар на дальнем плане своих работ: город горит на правой панели триптихов «Сад земных наслаждений», «Страшный суд» и «Воз сена», на центральной панели «Искушения святого Антония», на левой панели «Распятой мученицы» и т. д. У испанского гравера и художника-романтика Франсиско Хосе де Гойи-и-Лусьентеса (1746–1828) пожар — системообразующий элемент, к примеру, в работах «Пожар, огонь в ночи» (1793–1794) и «Пожар в больнице» (1808–1812), хотя города особо не горят. Доктор Атль (Dr. Atl, Херардо Мурильо, 1875–1964) — мексиканский художник, журналист, писатель и вулканолог; годами писал вулканы — в частности, вулкан Парикутин — и оставил после себя тысячи рисунков и пейзажей маслом, изображающих вулканические ландшафты.
[6] Гобелен из Байё, он же ковер из Байё, — гобелен XI столетия длиной 70 метров и шириной полметра, на котором изображена история завоевания Англии нормандцами (с позиции этих последних); выполнен в технике разноцветной лоскутной аппликации и шерстяной вышивки по льну.
[5] Диего Ривера (Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанислао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес, 1886–1957) и Хосе Клементе Ороско (1883–1949) — мексиканские живописцы-монументалисты, одни из основателей движения мексиканского мурализма, благодаря которому фрески с внятным общественно-политическим, гражданским посылом стали популярны сначала в Мексике, а затем и по всему миру; оба, естественно, придерживались левых взглядов. Мельница Фрайлес, — очевидно, имеется в виду одна из нескольких старых мельниц, носящих название «Монашья мельница»; например, такая мельница, совершенно крепостного вида, которая была построена самое позднее в XVI веке и молола муку до середины XX, сохранилась по сей день в Мансадерос-эль-Реаль к северо-западу от Мадрида.
[8] Лука Джордано (1634–1705) — итальянский художник периода позднего барокко, офортист; в основном работал в Италии, но десять лет был придворным художником испанского короля Карла II Зачарованного. Картина Джордано «Битва при Сен-Кантене» («Batalla de San Quintín», 1692–1693; Прадо) посвящена событию Восьмой Итальянской войны — победе испанских сил над французами 10 августа 1557 года при Сен-Кантене в Пикардии; французские силы под командованием коннетабля Монморанси пытались снять осаду города, которую держали испанцы, но потерпели сокрушительное поражение.
[7] «Победа при Флёрюсе» («Victoria de Fleurus», 1634; Прадо) — картина работавшего в Испании (в том числе нередко при дворе Филиппа IV) итальянского художника Винченцо Кардуччи (Кардучо, ок. 1578–1638), посвященная сражению Тридцатилетней войны и Нидерландской войны за независимость, произошедшему 29 августа 1622 года между испанцами и протестантами при Флёрюсе на территории современной бельгийской провинции Эно. Битва закончилась тем, что войска протестантов прорвали линию обороны испанцев (понеся серьезные потери) и испанцы были вынуждены снять осаду Берген-оп-Зома, чего протестанты и добивались.
[9] Антонио Темпеста (1555–1630) — итальянский художник-маньерист, гравер и живописец, создатель более полутора тысяч офортов, в том числе серии о событиях военной истории Древнего Рима (по рисункам Отто ван Веена), а также батальных полотен.
2
Фольк посмотрел в окно, выходящее на рощицу, и внезапно увидел человека. Стоя среди сосен, человек рассматривал башню. На машине к дому Фолька можно было добраться только до середины дороги, до моста, а затем целых полчаса узкая извилистая тропинка вела круто вверх. Довольно сложный путь, учитывая время дня, когда солнце стоит высоко, воздух неподвижен и ни одно дуновение ветерка не охлаждает раскаленные камни. Отличная физическая форма, подумал Фольк. Или очень большое желание наведаться в гости. Он потянулся, разминая затекшие мышцы длинных конечностей, — Фольк был высок, худ, а короткие седые волосы придавали ему смутное сходство с военным, — сполоснул руки в умывальном тазу и вышел во двор. Там они с незнакомцем некоторое время молча смотрели друг на друга. Томительную тишину нарушало лишь пение цикад в зарослях. На незнакомце была белая рубашка, джинсы и походные ботинки. На плече висел рюкзак. Он рассматривал башню и ее хозяина со спокойным любопытством, словно убеждаясь в том, что искал именно это место.
— Добрый день, — произнес он.
У незнакомца был странный акцент, не выдававший происхождения. Фольк подавил досадливую гримасу. Гостей он не любил и, чтобы избавиться от них, развесил в окрестностях хорошо различимые отовсюду плакаты — один гласил: «Осторожно, злая собака!», хотя собак он не держал, — оповещающие, что это частные владения. Народу в этих местах почти не было. Его общение с людьми сводилось к поверхностным знакомствам, которые он поддерживал в Пуэрто-Умбрии, куда ездил по мере надобности. Чиновники из почтового отделения и мэрии, официант в крошечном рыбацком баре на берегу, куда он иногда заходил, продавцы в лавочках, где он покупал еду и материалы для работы, или директор банковского офиса, в котором он получал переводы из Барселоны. Он в корне пресекал любые попытки сближения со стороны других людей, а с теми, кто желал приблизиться, расправлялся беспощадно, ибо знал, что настырность не отступает перед вежливой холодностью. Для особенных случаев — маловероятной, однако постоянно беспокоившей его возможности вторжения на его территорию — он держал наготове смазанное и вычищенное помповое ружье, которое мирно покоилось в сундуке наверху, откуда его ни разу еще не пришлось достать, рядом с двумя коробками картечи.
— Это частные владения, — сказал он сухо.
Незнакомец спокойно и внимательно смотрел на Фолька с десяти-двенадцати шагов. Невысокий, плотного телосложения, в очках. Длинные волосы соломенного цвета.
— Вы фотограф?
Неловкое молчание становилось все напряженнее. Этот человек назвал его фотографом, а не художником. Он коснулся его прошлой жизни, не связанной с нынешней, и это не понравилось Фольку. Тем более человек не был ему знаком. Прошлое не имело ничего общего ни с этим местом, ни с новой жизнью Фолька. По крайней мере, на первый взгляд.
— Я вас не знаю, — сказал Фольк с раздражением.
— Возможно, вы меня не помните, но мы знакомы.
Незнакомец произнес это с такой убежденностью, что Фольк посмотрел внимательнее. А тот приблизился на несколько шагов, явно желая продолжить разговор. Фольк повидал за свою жизнь немало лиц, бóльшую часть — в видоискателе фотокамеры. Одни он помнил, другие забыл: мимолетный взгляд, щелчок затвора, негатив на контрольном листе, который в большинстве случаев не удостаивался кружка фломастером, спасающего снимок от сдачи в архив. Большинство лиц, появлявшихся на фотографиях, распадались на сотни неопределенных черт на фоне чередующихся пейзажей, чьи названия он мог восстановить лишь при некотором напряжении памяти: Кипр, Вьетнам, Ливан, Камбоджа, Эритрея, Сальвадор, Никарагуа, Ангола, Мозамбик, Ирак, Балканы... Одинокие вылазки в поисках добычи, блуждания без начала и конца, унылые ландшафты обширной географии бедствий, войны, сменявшиеся другими войнами, люди, сменявшиеся другими людьми, мертвецы, сменявшиеся другими мертвецами. Бессчетные негативы, из которых он помнил один на сотню, на пятьсот, на тысячу. И повсюду неизбежно одно и то же — ужас, не изменившийся за века, за всю Историю, как бесконечная наезженная колея в тесных границах улиц. Графическая точность неизменна, потому что существует один-единственный, неизменный во все времена ужас.
— Вы действительно меня не узнаёте?
Казалось, незнакомец разочарован. Фольк напрягал память, но никак не мог вспомнить. Европеец, отметил он, рассмотрев его поближе. Могучего телосложения, светлоглазый, с сильными руками. Вертикальный шрам пересекал левую бровь. Очки лишь подчеркивали довольно простоватую наружность. У него был легкий акцент, напоминавший славянский. Возможно, какая-нибудь балканская страна.
— Вы меня когда-то фотографировали.
— Я многих фотографировал.
— Это была особенная фотография.
Фольк сдался. Засунул руки в карманы брюк, ссутулился.
— Очень сожалею, — сказал он. — Не могу вспомнить.
Незнакомец ободряюще улыбнулся краешками губ:
— Напрягите память, сеньор. Эта фотография принесла вам хорошую прибыль. — Он мельком указал на башню. — Может быть, как раз на эти деньги вы ее и купили.
— Башня обошлась недорого.
Улыбка незнакомца стала шире. Слева у него отсутствовал один зуб — верхний клык. Остальные тоже были в плачевном состоянии.
— Это как посмотреть. Для кого-то очень даже дорого.
Он говорил не торопясь, с напряжением, будто строя фразы по учебнику грамматики. Фольк вновь тщетно попытался вспомнить его лицо.
— Вы тогда получили крупную сумму, — продолжил незнакомец, — премию «Интернэшнл пресс» за мой портрет... Вы это тоже забыли?
Фольк пристально вгляделся в его черты. Он отлично помнил ту фотографию и тех, кто был на ней изображен. Мысленно он увидел их всех, одного за другим: трое друзских ополченцев с завязанными глазами — двое падают, третий гордо стоит в полный рост — и шестеро маронитов, которые почти в упор расстреливают друзов. Жертвы и палачи, горы Шуф [29]. Центральные полосы десятка газет, обложки журналов. Посвящение в военные фотографы спустя пять лет после того, как он занялся этим ремеслом.
— Вы не можете быть одним из них. Они погибли — их расстреляли ливанские фалангисты.
Незнакомец смутился. Он пристально смотрел на Фолька несколько секунд, затем покачал головой:
— Я говорю о другой фотографии. О той, что вы сделали в Вуковаре, в Хорватии... Я всегда считал, что именно она получила премию.
— Нет. — Фольк изучал его с возрастающим интересом. — В Вуковаре я сделал другой снимок.
— Тоже удачный?
— В той или иной степени.
— Я солдат с той вашей фотографии.
Фольк замер, по-прежнему держа руки в карманах. Склонив голову чуть вправо, впился глазами в лицо стоящего перед ним человека. И вот наконец, словно медленно проступая на лежащем в кювете снимке, образ из глубины памяти постепенно совпал с чертами незнакомца. Фольк мысленно выругал себя за забывчивость. Нет сомнений — глаза те же самые. Не такие измученные, живые, но он их узнал. Те же губы, чисто выбритый тяжелый подбородок с маленькой ямочкой, на снимке покрытый двухдневной щетиной. Он помнил это лицо исключительно по фотографии, сделанной осенним днем в Вуковаре, на территории бывшей Югославии, когда хорватские войска, спасаясь от артиллерийского огня сербов и бомбардировки со стороны Дуная, отступали, с трудом удерживаясь на узкой защитной полосе осажденного города [30]. Особенно жаркими были сражения в пригородах, и вот на дороге к Петровцам Фольк и Ольвидо Феррара — они проникли в эти места неделю назад единственным доступным путем, потайной тропинкой в зарослях кукурузы, — столкнулись с оставшимися в живых солдатами разгромленного хорватского подразделения. Вооруженные винтовками хорваты отступали, преследуемые вражеской техникой. Изнуренные, они брели гурьбой, их обмундирование состояло из пестрой смеси гражданской одежды и военной формы. Крестьяне, чиновники, студенты, мобилизованные в наспех сколоченную хорватскую народную армию: пыльные лица, приоткрытые от усталости рты, отсутствующий взгляд; их винтовки болтались на ремнях или волочились по земле. Они пробежали четыре километра, за ними по пятам гнались вражеские танки, и теперь они брели, словно привидения, в дрожащем над дорогой знойном мареве. Тишину нарушали только далекие взрывы и шарканье ног по земле. Ольвидо не фотографировала — обычно ее интересовали предметы, а не люди, — но Фольк, проходя мимо них, захотел снять это воплощение усталости. Он поднес к лицу камеру, и, пока устанавливал подходящие фокус и диафрагму, пропустил мимо пару солдат и почти случайно выбрал третьего: светлые, совершенно пустые глаза, расплывшиеся от усталости черты, кожа, покрытая каплями пота, от которого слиплись грязные лохмы на лбу; и старый, небрежно лежащий на правом плече АК-47, который придерживала перевязанная бурым заскорузлым бинтом рука. Щелкнул затвор камеры, Фольк пошел дальше — вот и все. Фотографию опубликовали четыре недели спустя, когда пал Вуковар и были уничтожены все его защитники. Снимок превратился в символ той войны или, как выразился судья, который вручил ему престижную «Европу-Фокус» за тот год, — в символ всех войн и всех воинов.
— Боже мой! Я думал, вы погибли.
— Я почти погиб.
Они помолчали, глядя друг на друга и не зная, о чем говорить и что делать дальше.
— Отлично, — пробормотал Фольк наконец. — Пожалуй, я должен предложить вам выпить.
— Выпить?
— Стаканчик чего-нибудь... Спиртного, если вы не откажетесь. Рюмочку.
Он впервые нехотя улыбнулся, и незнакомец улыбнулся в ответ, показав темное зияющее отверстие на месте отсутствующего зуба. Казалось, он размышляет.
— Да, — ответил он. — Пожалуй, вы должны меня угостить.
— Проходите.
Они вошли в башню. Незнакомец с удивлением вертел головой, рассматривая гигантскую фреску, пока Фольк сосредоточенно что-то искал под столом, покрытым баночками, кистями и тюбиками с краской, затем среди картонных коробок, стоящих на полу, листов бумаги с эскизами и набросками, лестниц мольбертов и досок для лесов, больших ламп по 120 ватт, которые присоединялись к подвижной конструкции на колесиках и питались от стоящего снаружи генератора, — эти лампы освещали стены, когда Фольк работал по ночам.
— Испанский коньяк или теплое пиво, — сказал он наконец. — Это все, что я могу вам предложить. Льда нет. Холодильник включается всего на несколько часов, пока работает генератор.
Не отводя глаз от стены, гость небрежно махнул рукой. Ему все равно что пить.
— Вас трудно узнать, — сказал Фольк. — Вы поправились с тех пор. Я имею в виду фотографию.
— Потом я похудел еще сильнее.
— Думаю, тогда всем было тяжело.
— Вы совершенно правы.
Фольк плеснул коньяку в стакан и подошел к гостю.
— Тогда всем было тяжело, — повторил он.
Он думал о том, что произошло тремя днями позже, неподалеку от места, где он сделал ту фотографию. Вспомнил кювет возле шоссе на Борово-Населье в окрестностях Вуковара. Он протянул стакан гостю и сделал глоток сам. Не совсем подходящее для коньяка время, но он пригласил гостя на рюмочку, а это так или иначе была та самая рюмочка. Незнакомец — не совсем уместное определение, подумал Фольк, — машинально взял стакан, отвернувшись от фрески; его светлые сероватые глаза пристально смотрели на Фолька из-за стекол очков.
— Я знаю, что вы имеете в виду... Я видел, как умерла та женщина.
Усилием воли Фольк подавил охватившее его смятение. Что-то, вероятно, отразилось в его лице, потому что он вновь заметил черное отверстие во рту гостя.
— Это случилось через несколько дней после того, как вы меня сфотографировали, — продолжал тот. — Вы меня не заметили, но я тоже оказался в тот вечер на шоссе в Борово-Населье [31]. Когда раздался взрыв, я решил, что это кто-то из наших... А потом увидел, как вы стоите на коленях рядом с кюветом, возле... тела той женщины.
Он мгновение поколебался, подбирая более уместное слово — «труп» или «тело», — и остановился на втором. Как трогательно и немного старомодно, подумал Фольк, это бережное отношение к словам, неторопливый выбор правильного определения. Наконец гость поднес стакан к губам, не отрывая глаз от собеседника. Они помолчали.
— Очень жаль, — сказал Фольк. — Я вас не помню.
— Еще бы. Вам было не до меня.
— Я имею в виду не Борово-Населье, а фотографию, которую я сделал несколькими днями раньше... Ваше лицо появилось в газетах и журналах, я встречал его сотни раз. Сейчас я вас, конечно, узнаю. Когда понимаешь, кто перед тобой, это не так сложно. Однако вы очень изменились.
— Вы уже об этом говорили, разве нет? Скверные были времена. И столько лет прошло.
— Как вы меня отыскали?
Гость снова принялся рассматривать фреску.
— Я повсюду расспрашивал о вас. Вы человек заметный и известный, сеньор Фольк, — добавил он, рассеянно пригубив коньяк. — Вы давно бросили свое дело, но вас многие помнят. Честное слово.
— Как вам удалось выжить?
Гость бросил на него странный взгляд.
— Вы, должно быть, имеете в виду Вуковар, — уточнил он. — Меня ранили через две недели после того, как вы сделали свою фотографию. Это другая рана, не та, что на снимке, где у меня перевязана рука, — смотрите, до сих пор остался шрам. Потом меня ранили еще раз, намного тяжелее. Это случилось еще до того, как четники отрезали тропинку [32] в кукурузных зарослях. Меня эвакуировали в госпиталь в Осиек [33].
Он коснулся ребер слева, указывая место, куда угодила пуля. Не пальцем, а всей пятерней; Фольк понял, что рана была обширной. Он кивнул, испытывая смутное расположение к гостю.
— Осколок?
— Пуля двенадцатого калибра.
— Вам повезло.
Везение, имел в виду Фольк, было не в том, что незнакомец не умер от раны, а в том, что пуля настигла его в ту пору, когда из Вуковара еще вывозили раненых. Когда сербы отрезали последнюю тропинку, никто уже не мог покинуть осажденный город. А когда город пал, все пленники призывного возраста были убиты. Раненых вытащили из госпиталя, расстреляли и зарыли в общих могилах.
При слове «повезло», лицо гостя приняло странное выражение. Он молча смотрел на Фолька. Потом поставил стакан на стол и обвел глазами стены:
— Удивительная комната. А где же ваши собственные воспоминания?
Фольк кивнул на фреску: погруженная во мрак цитадель на фоне огня, извергающийся вулкан, металлические отблески современных орудий, толпа, беспорядочно движущаяся к пролому в стене, лица женщин и детей, тела, висящие на деревьях, словно грозди диковинных плодов, корабли, плывущие прочь от берега к серому горизонту.
— Это и есть мои воспоминания.
— Я имею в виду фотографии. Вы же фотограф.
— Был.
— Да, конечно. А фотографы обычно вешают на стены фотографии. Фотографии, которые они сделали. Особенно те, за которые получили премии. Вы ведь не стыдитесь своих снимков?
— Они меня уже не интересуют. С ними покончено.
— Ах да. — Гость опять странно улыбнулся. — Покончено.
Он нахмурился и снова принялся изучать изображения на стенах.
— А древние войны вы тоже помните? Трою и все такое прочее?
На этот раз улыбнулся Фольк:
— В этом весь смысл. Подобные места — всегда одно и то же место.
Похоже, слова Фолька заинтересовали гостя — он замер, уставившись в точку и размышляя о только что услышанном.
— Одно и то же место, — повторил он тихо. Он приблизился к фреске на несколько шагов, разглядывая детали. Внезапно остановился, словно смутившись. — Я ничего не понимаю в живописи.
Затем подошел к оставленному у двери рюкзаку, вынул оттуда папку, в которой лежал сложенный пополам лист. Старая, измятая журнальная страница. Обложка журнала «Newszoom», где была опубликована сделанная лет десять назад фотография. Он подошел к столу и положил ее рядом с кистями и тюбиками. Оба молча уставились на обложку. Действительно, необычная фотография, отметил про себя Фольк. Холодная, четкая. Безупречная. Он видел ее много раз, но его вновь заворожили невидимые — точнее, различимые лишь внимательным глазом — геометрические линии, которые держали ее, словно невидимая канва: изнуренный солдат на первом плане, потерянный взгляд, прикованный к разметке на дороге, которая никуда не вела, замысловатый контур, образованный стенами разрушенного дома, изрешеченного шквалом пуль, далекий дым пожара, безукоризненно прямой, похожий на черную причудливую колонну в воздухе, чью неподвижность не нарушало ни единое дуновение ветра. Все эти подробности, схваченные объективом и заключенные в кадр 24 × 36 мм, удались скорее благодаря чутью, нежели расчету, хотя судья, который присуждал премию, подчеркнул, что случайность — понятие относительное. Дело не только в безукоризненной правильности исполнения, заявил член комитета «Европа-Фокус». Главное — наша безусловная уверенность, что удачно пойманный кадр является плодом напряженной работы и громадного опыта, и данный снимок, несомненно, стал итогом долгого личного, профессионального и творческого процесса.
— Мне было двадцать семь лет, — сказал гость, разглаживая обложку ребром ладони.
Он произнес это равнодушно, без печали и сожаления; но Фольк его словно не слышал. Слово «творческого» звенело в ушах, вызывая забытое болезненное беспокойство. В нашем ремесле, сказала как-то Ольвидо — она перематывала пленку лежавшей на коленях камеры, сидя на распотрошенном кресле возле обезглавленного трупа (она сфотографировала только его башмаки), — слова «творчество, искусство» звучат как мистификация или дешевая спекуляция. Уж лучше вызов, чем лицемерие. А сейчас, пожалуйста, поцелуй меня.
— Хорошая фотография, — продолжал гость. — Заметно, что я устал, не правда ли?.. Я тогда и в самом деле очень вымотался. Наверное, именно из-за усталости у моей физиономии такое драматическое выражение... А название вы сами придумали?
Все это полная противоположность искусству, размышлял Фольк. Гармония линий и форм преследует единственную цель — нажать на невидимые пружины. Такой подход не имеет ничего общего ни с эстетикой, ни с этикой, которыми руководствуются другие фотографы — или только утверждают, будто руководствуются, чтобы оправдать свою деятельность. Для него все сводилось к одному: цветным пятнышкам на завораживающем таинственном узоре жизни со всеми ее проявлениями. Его фотографии напоминали шахматы: там, где другие видели борьбу, боль, красоту или гармонию, Фольк различал загадочное чередование ходов. Точно так же относился он и к фреске, над которой работал. Сюжеты на полукруглой стене являлись противоположностью тому, что люди обычно называли искусством. Или, возможно, оставив далеко позади некую неясную черту, где становились бессильными и этика, и эстетика, искусство превращалось — уместно было бы добавить «вновь» — в холодную, расчетливую формулу. Бесстрастный инструмент для наблюдения за жизнью.
Фольк не сразу сообразил, что гость ждет ответа. Он напряг память. Название — вот о чем идет речь. Незнакомец спросил о названии фотографии.
— Нет, — ответил Фольк. — Его выбирали журналы, газеты и литературные агентства. Названия меня не касались.
— «Лик поражения». Звучит здорово. А что еще вы помните про тот день, сеньор Фольк?.. Про наше поражение?
Он рассматривал Фолька с любопытством. Пожалуй, любопытство было чересчур холодным, словно вопрос был задан из вежливости, а не из интереса. Фольк покачал головой:
— Я помню горящие дома и солдат, бегущих с поля боя... Вот, наверное, и все.
Он сказал неправду. Он помнил кое-что еще, но промолчал. Помнил Ольвидо, которая молча шагала по другой стороне дороги с камерой на груди и маленьким рюкзачком за плечами, ее светлые волосы, заплетенные в косички, длинные стройные ноги, обтянутые джинсами, белые кроссовки, ступающие по скрипящему гравию развороченной снарядами дороги. Чем ближе они подходили к фронту, чем отчетливее раздавался грохот сражения, тем более уверенной и целеустремленной становилась ее походка, словно, сама того не ведая, она старалась вовремя успеть на неминуемую встречу, ожидавшую ее тремя днями позже на шоссе в Борово-Населье. Когда же они поднялись на склон и стали мишенью — плавные линии холма вдруг пересеклись с враждебными прямыми траекториями, и над их головами на высоте вытянутой руки просвистели две шальные пули, — Фольк заметил, как она остановилась, чуть пригнувшись, внимательно осмотрелась с осторожностью охотника, приближающегося к добыче, а затем повернула голову и улыбнулась с какой-то немного жестокой нежностью, чуть растерянная — трепещущие крылья носа, блестящие глаза, из которых, казалось, вот-вот хлынет адреналин.
Гость взял со стола стакан, подержал его и поставил на то же место, не сделав глотка.
— Я хорошо помню, как вы меня сфотографировали... несмотря на то что для нас война была разной, — добавил он. Для Фолька очередная работа. Будничная рутина. А он видел такое впервые. Его призвали всего несколько дней назад, и вот он оказался среди таких же, как он, неопытных солдат, перепугавшихся насмерть, когда против их винтовок двинулись сербские танки.
— Они разгромили нас, понимаете? В прямом смысле слова. Из сорока восьми осталось пятнадцать... Их-то вы и встретили.
— Они выглядели плачевно.
— Да, представьте себе. Мы бежали, не разбирая дороги, как кролики, пока не собрались вместе у Петровцов. Мы были так напуганы, что командиры приказали нам отступать к Вуковару... Тогда-то мы и повстречали вас и ту женщину. Помню, я очень удивился, когда ее увидел. Это фотограф, подумал я. Фоторепортер. Она быстро прошла мимо, словно не заметив нас. Я смотрел на нее, а когда обернулся, увидел вас. Вы навели объектив, прицелились — не знаю точно, как это у вас называется, — чтобы меня сфотографировать... Камера щелкнула, и вы пошли дальше — не кивнув, не сказав ни слова. Не взглянув больше в мою сторону. Думаю, вы забыли обо мне, как только опустили камеру, забыли даже о том, что я все еще стою перед вами.
— Возможно, — ответил Фольк с некоторым раздражением.
Гость кивнул на обложку с фотографией:
— Вы даже представить не можете, сколько я всего передумал за эти годы, глядя на снимок. Он помог мне многое понять о себе, о других. Я изучал свое лицо — точнее, то лицо, каким оно было в то время. Я словно видел себя со стороны, понимаете?.. Можно сказать, что на снимке изображен кто-то другой. Однако я-то думаю, что другой — это тот, кем я стал потом... А вы, — он медленно повернулся к Фольку, — не особенно изменились.
Голос звучал как-то странно. Фольк пристально изучал незнакомца, видел, как тот поднимает руку, что в данной ситуации было довольно бессмысленно. Ничего особенного не происходит, говорила ему рука. Я зашел, чтобы с вами поздороваться, вот что означает мой жест. Чего еще могу я хотеть?
— Да, — продолжил гость. — Вы действительно совершенно не изменились... Пожалуй, только волосы поседели. И больше морщин на лице. Найти вас было совсем не просто. Я побывал везде, где только мог, расспрашивая о вас. Обошел агентства, редакции журналов... Поначалу мне было известно о вас очень немного, но постепенно я узнавал все больше. Оказывается, вы известный фотограф. Говорят, один из лучших. Всю жизнь работали на войне, получили кучу премий... Однажды все бросили и исчезли. Сперва я думал, что это связано со смертью той женщины, но потом узнал, что вы проработали еще несколько лет. Вас продолжали публиковать после Боснии, Сараево и даже каких-то событий в Африке, я не ошибаюсь?
— Чего вам от меня надо?
Он не понимал, смеется гость или нет. Холодный, жесткий взгляд не сочетался с кривившей губы улыбкой.
— Благодаря вам я прославился. И мне стало интересно, кто меня сделал знаменитым.
— Как вас зовут?
— Забавно, правда? — Взгляд оставался холодным и пристальным, однако улыбка стала еще шире. — Вы сфотографировали солдата, с которым столкнулись на пару секунд. Даже имени его не знали. А фотография обошла весь мир. Потом вы забыли безымянного солдата и делали другие снимки. Фотографировали кого-то, чьего имени, скорее всего, тоже не знали. Может быть, те безымянные люди прославились, как и я... Удивительная у вас работа.
Он смолк, возможно действительно размышляя о бывшей работе Фолька и рассеянно глядя на стакан с коньяком, стоявший рядом с фотографией.
Потом, словно внезапно очнувшись, взял его и поднес к губам.
— Меня зовут Иво Маркович.
— С какой стати вы меня искали?
Гость поставил стакан и вытер губы тыльной стороной руки.
— Я собираюсь вас убить.
Только пение цикад в зарослях кустарника прерывало наступившую тишину. От удивления рот Фолька приоткрылся. Он обвел глазами комнату, сердце стучало медленно и гулко. Он слышал, как оно бьется в груди.
— За что?
Он медленно отошел в сторону, всего на несколько сантиметров, каждый его шаг был предельно осторожен. Теперь он стоял вполоборота к гостю, подставив ему левое плечо. Он без труда мог протянуть руку и взять широкий острый мастерок, чья рукоятка торчала среди тюбиков и флаконов с краской. Он потянулся к рукоятке. Гость не заметил его движения — по крайней мере, не подал вида.
— Сложный вопрос. — Гость задумчиво смотрел на мастерок в руке Фолька. — Я обдумывал ваше убийство столько лет, рассчитывал каждый шаг, тем не менее ваш вопрос намного сложнее, чем кажется.
Не отрывая глаз от гостя, Фольк оценивал обстановку: свободное пространство, расстояние до двери, физические возможности. К своему удивлению, страха он не чувствовал. Он не понимал, в чем причины такого неожиданного спокойствия — в тоне и поведении незнакомца или в его собственном отношении к жизни.
— Так вот. Сейчас я вижу, что все это слишком сложно. Особенно когда человек в своем уме.
— Что, простите?
— Когда у него все в порядке с мозгами. Если он не сумасшедший. — Маркович покачал головой. — Я слишком хорошо понимаю, что вы живой человек, — сказал он просто. — Раньше, в самом начале, мне казалось, что убить — несложно. Тогда я мог сделать это без лишних разговоров. Без рассуждений. Но время не проходит впустую. Оно идет, а ты все думаешь и думаешь. У меня было достаточно времени, чтобы подумать. И обычное убийство кажется мне теперь слишком простым.
— Вы хотите сделать это прямо здесь?.. Сейчас?
— Нет. Мне нужно многое с вами обсудить. Я же сказал, что не могу сделать это вот так запросто. Сперва мне хотелось бы поговорить с вами, узнать вас получше, да и вы должны кое-что выслушать. Я хочу, чтобы вы все узнали и все поняли... Вот тогда я наконец смогу вас убить.
Он смутился, словно не был уверен, достаточно ли вежливо говорил, правильно ли построил свою речь. Фольк выдохнул воздух, скопившийся в легких.
— Что я должен узнать?
— Все о моей фотографии. Или, лучше сказать, вашей.
Оба посмотрели на мастерок, который Фольк сжимал в правой руке. Неожиданно этот предмет показался Фольку смешным и нелепым, и он положил его на место. Вновь взглянув на гостя, он уловил в его глазах смутное одобрение и кривовато улыбнулся:
— Вам не пришло в голову, что я буду защищаться?
Гость потупился. Казалось, его удивило предположение Фолька, что он не предусмотрел такую возможность. Разумеется, он об этом подумал. У всех нас есть шанс. И у Фолька, разумеется, тоже.
— Кроме того, я могу... — Фольк смутился, поскольку слово показалось ему абсурдным, — убежать.
Гость ответил не сразу. Он поднял руки, словно желая показать, что ничего в них не прячет и не собирается сию минуту зарезать собеседника, затем подошел к рюкзаку и достал потрепанный фотоальбом. Рассмотрев его обложку, Фольк узнал изданный в Англии сборник своих работ «The Eye of War» [34]. Гость открыл альбом и положил его на стол, рядом с обложкой «Newszoom».
— Вы не убежите. — Он перелистывал страницы, не обращая внимания на Фолька, чей взгляд был устремлен не на альбом, а на него самого. — Я много лет изучал ваши работы, сеньор Фольк. Ваши фотографии. Я их так хорошо знаю, что иногда мне казалось, что я знаю вас самого. Поэтому я уверен, что вы не убежите и ничего не станете предпринимать. Пока продолжается наша беседа, вы никуда не денетесь. Не важно, сколько пройдет дней — один или несколько... Точно пока не знаю. Есть вопросы, на которые вы, так же как я, ищете ответы.
[33] Осиек — город на востоке Хорватии, в 30 километрах к северо-западу от Вуковара.
[34] Око войны (англ.).
[30] Вуковар расположен на востоке Хорватии на Дунае. В 1991 году Вуковар — с преимущественно хорватским населением и систематически проводимой властями дискриминацией сербов вплоть до расстрелов (более 13 тысяч человек были вынуждены покинуть город, минимум несколько десятков были убиты) — стал ареной крупномасштабных боевых действий; осаду Вуковара Югославской народной армией и сербскими добровольческими формированиями, продлившуюся с 3 сентября по 18 ноября 1991 года, в хорватском патриотическом дискурсе традиционно сравнивают со Сталинградом. После падения города более 250 хорватских гражданских лиц и военнопленных были расстреляны (Вуковарская резня), город перешел к Сербии, однако эпизод способствовал подъему хорватского патриотизма, а руководству страны дал понять, что изначальный план властей, который и привел к обострению, — провести передел Хорватии, с тем чтобы все сербы жили в одном государстве, — военным путем недостижим. Вуковар реинтегрировался в Хорватию спустя несколько лет после войны, в 1998 году.
[29] Имеются в виду события гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. Марониты — приверженцы восточнокатолической Маронитской церкви; друзы исповедуют специфическую религию, произошедшую от шиитского исмаилизма, но давно от него отколовшуюся; свое вероисповедание сами друзы относят или не относят к исламу в зависимости от контекста, в том числе от их непосредственного окружения. В ходе войны интересы маронитов представляла правохристианская националистическая Ливанская фалангистская партия «Катаиб», изначально созданная (1936) с оглядкой на Испанскую фалангу и итальянский фашизм и во время гражданской войны входившая в Ливанские силы наряду с другими ополчениями. В этой войне марониты и друзы, традиционно соперничавшие за политическое и экономическое влияние минимум с середины XIX века (в 1860 году между ними уже случилась одна гражданская война), находились по разные стороны фронта. В пятнадцатилетнем конфликте также активно участвовали боевики Организации освобождения Палестины, а с 1982 года — Армия обороны Израиля (Ливано-израильская война). Горы Шуф — район Горного Ливана к юго-востоку от Бейрута.
[32] Четники — изначально балканские повстанцы, партизаны и ополченцы патриотических и монархических склонностей; в 1990-х так называли участников любых сербских националистических формирований.
[31] Борово-Населье — район на севере Вуковара, бывшая часть общины Борово Село, в 1980 году вошедшая в состав города. Борово Село, как и Вуковар, находятся через Дунай от Сербии.
3
Звезды медленно поворачивались влево на черном куполе неба вокруг неподвижной Полярной звезды. Фольк сидел у двери башни, прислонившись спиной к каменной стене, выщербленной тремя минувшими столетиями, солнцем и дождем. Моря он не видел, но отчетливо различал отблески маяка вдалеке у Кабо-Мало и слышал шум прибоя внизу, в ущелье у подножья скал, куда, словно нерешительные самоубийцы, клонились сосны, чьи силуэты четко различались в желтоватом свете убывающей луны.
Фольк подлил себе еще коньяка. Гость ушел, не простившись; казалось, его уход был краткой передышкой, вынужденной технической отсрочкой в их непростом общем деле — теперь уже и сам Фольк признавал, что отныне оно, несомненно, касается их обоих. В какой-то момент их беседы, растянувшейся далеко за полночь, гость внезапно смолк на половине фразы; он описывал пейзаж: голый каменистый склон, обвитый колючей проволокой, словно кадр какого-то страшного кинофильма или странная фотография. И тут неожиданно встал — они с Фольком говорили уже довольно долго, сидя друг напротив друга при свете луны, смотревшей через окно, — и на ощупь отыскал свой рюкзак. Его силуэт четко виднелся в прямоугольнике открытой двери. Он мгновение помедлил, словно размышляя, уйти молча или сказать что-нибудь на прощанье. Затем неторопливо направился к тропинке в сторону поселка, а Фольк встал и вышел вслед за ним, провожая взглядом удаляющееся пятно рубашки на темном фоне сосновой рощи.
Иво Маркович, так звали этого человека — у Фолька не было повода усомниться, что его звали именно так, — забыл на столе обложку «Newszoom» со своей фотографией. Фольк заметил ее, когда зажег переносной газовый фонарь. Он отыскал пустой стакан, снова наполнил его и внезапно увидел обложку, лежащую среди тюбиков, грязных тряпок и пустых консервных банок, где он держал кисти. Сейчас ему подумалось, что, вероятнее всего, гость не просто забыл фотографию: он оставил ее сознательно, как и злосчастный «The Eye of War», лежавший на стуле, на котором гость сидел, пока они разговаривали. Мне нужно, чтобы вы кое-что поняли, сказал он. И тогда я смогу вас убить. И так далее.
Возможно, подумал Фольк, ощущение нереальности вызвал коньяк, подействовавший на сердце и голову. Неожиданное вторжение, их разговор, воспоминания и образы, казавшиеся столь же реальными, как журнальная обложка с фотографией или альбом с его работами, посвященными войне, — все казалось теперь привычным и убедительным, обыденным и простым, лишенным своей оглушающей силы. Покрывающая стены фреска, к чьей каменной поверхности Фольк сейчас прислонился спиной, и окутывающая землю бесконечная ночь послушно превращались в далекие пейзажи и картины, по мере того как гость, словно фокусник перед зачарованной публикой, извлекал их из своего рюкзака, а гаснущий свет дня тем временем сначала окрашивал предметы в алые тона, затем сделал их очертания расплывчатыми, а потом — темными и невидимыми. К удивлению Фолька, ничто из того, о чем гость рассказывал или же умолчал, даже угроза, прозвучавшая как обещание или, скорее, компромисс, не было чуждо его собственным задачам, его нынешней работе над огромной фреской в башне. Теоретики искусства утверждают, что фотография заменила живопись в тот момент, когда последняя исчерпала свои возможности. Однако Фольк был убежден, что его работа в башне заменяет фотографию, которая способна лишь намекнуть, но ничего не объясняет: обширная круговая панорама гигантской хаотичной шахматной доски, безжалостный закон, управляющий грозной случайностью — как двусмысленна ее природа! — и реальностью, которая нас окружает. Эта точка зрения утверждает математический характер зла, порядок хаоса, линии и пересечения, скрытые от неопытного глаза, чем-то напоминающие морщины на лбу человека, которого Фольк однажды фотографировал целый час: человек сидел на корточках на краю общей могилы, курил и ощупывал свое лицо, пока в могилу закапывали его брата и племянника. Никто никому не давал сомнительной привилегии различать смерть в предметах, пейзажах и человеческих лицах. С некоторых пор Фольк подозревал, что это становилось возможным лишь благодаря определенного рода впечатлениям или путешествиям, эдакой поездке в Трою с билетом в оба конца. Одиночество номера в отеле, где он разбирал снимки и приводил в порядок камеры, когда на сетчатке глаза еще живы были призраки увиденного; или позже, когда по возвращении он подолгу всматривался в разложенные на столе снимки, перемешивал и перекладывал их с места на место, словно диковинный пасьянс. Улисс, чьи волосы покрывает седина, а руки обагрены кровью; дождь, размывающий пепел дымящегося города, пока корабли уходят в море. До поры до времени всматриваешься, ищешь повсюду, щелк, щелк, щелк, лаборатория, негативы, «Интернэшнл пресс фото», «Европа-Фокус», и затем всю жизнь чувствуешь поражение. Фолька, с некоторых пор избравшего своим путем батальную живопись, привели в эту башню погибшая женщина и твердое убеждение в том, что невозможно запечатлеть сюжеты этой панорамы на пленке в течение одной сто двадцать пятой доли секунды.
Недавно ушедший человек подтвердил его догадки. Еще один сюжет фрески. Еще один вопрос грозно молчащему Сфинксу. Безусловно, он достоин почетного места в панораме. Его привела туда таинственная игра случайностей и совпадений, которая упрямо доказывала, что, хотя прямая линия несвойственна живой природе и редко наблюдается в живом мире вообще — исключение составляют вытянутые силой тяготения веревки, на которых висят повешенные, — хаосу присущи безукоризненно ровные прямые, приводящие в определенные точки пространства и времени. Фольк был потрясен. Иво Маркович положил фотоальбом на стол, молча повернулся к полукруглой стене и долгое время внимательно рассматривал фреску.
— Значит, такой вы видите войну, — пробормотал он наконец.
В его словах не было вопроса или утверждения. Скорее отзвук издавна преследовавшей его мысли. Сюжеты панорамы, думал Фольк, неотделимы от лежащей на столе потрепанной книги, открытой — в этом мире случайность невозможна — на одной из его первых профессиональных фотографий, черно-белой, сделанной после взрыва ракеты, выпущенной красными кхмерами, на Центральном рынке Пномпеня [35]: раненый ребенок, сидящий на корточках, смотрит ослепленными взрывом глазами на свою мать, лежащую лицом кверху по диагонали к камере: изуродованная осколком голова, длинные извилистые ручейки крови, бегущие по земле. Невозможно поверить, скажет Ольвидо Феррара гораздо позже — через несколько лет — в Могадишо [36], когда они стали свидетелями другой сцены, похожей на ту, в Пномпене, а также во многих других местах. Невозможно поверить, что в нашем теле столько крови, сказала Ольвидо. Кажется, пять с чем-то литров... И как просто всю эту кровь пролить. Ты не думал об этом? Фольк вспомнил ее слова и ту фотографию несколько лет спустя, прижав правый глаз к видоискателю камеры на дымящемся рынке в Сараево, куда угодил снаряд, выпущенный из сербского гранатомета. Пять литров, помноженные на пятьдесят или шестьдесят опустошенных тел, — это было кое-что посерьезнее: ручьи, потоки, реки, перекрещивающиеся между собой, блестели и, по мере того как проходили минуты и стихали стоны, загустевали, постепенно становясь матовыми. Дети, умиравшие на глазах у матерей, матери — на глазах у детей, тела, лежавшие по диагонали, перпендикулярно, параллельно другим телам, а внизу под ними — замысловатые переплетения узоров, и все вместе превращается в огромный красный ковер. Ольвидо была права: невозможно поверить, что внутри у нас столько крови. Кровь проливают веками, а ее все столько же. Но Ольвидо в Сараево не было, она не могла оценить справедливость своих слов. Пять литров ее крови были к тому времени пролиты где-то в одной из точек временной и пространственной перспективы между рынком в Пномпене и рынком в Сараево: в кювете у шоссе, ведущего в Борово-Населье.
— Таким вы видите это без камеры
