автордың кітабын онлайн тегін оқу Записки бродячего врача
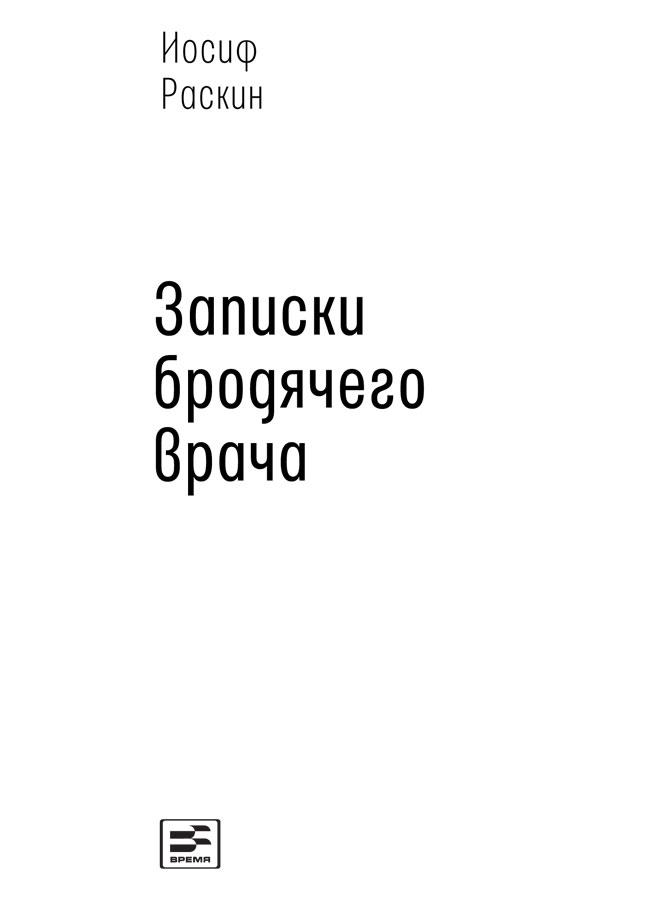
ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Художественное электронное издание
18+
Художник
Валерий Калныньш
Раскин, И. Л.
Записки бродячего врача : рассказы / Иосиф Львович Раскин. — М. : Время, 2021. — (О времена!).
ISBN 978-5-9691-2158-4
Автор книги — врач-терапевт, родившийся в Баку и работавший в Азербайджане, Татарстане, Израиле и, наконец, в Штатах, где и трудится по сей день. Жизнь врача повседневно испытывала на прочность и требовала разрядки в виде путешествий, художественной фотографии, занятий живописью, охоты, рыбалки и пр., а все увиденное и пережитое складывалось в короткие рассказы и миниатюры о больницах, врачах и их пациентах, а также о разных городах и странах, о службе в израильской армии, о джазе, любви, кулинарии и вообще обо всем на свете. Из них и получилась эта написанная с душевным теплом и мягким юмором книга доктора Иосифа Раскина.
© И. Раскин, 2021
© Состав, оформление, «Время», 2021
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Эта книга была написана кусочками на протяжении сорока лет. Сначала это были записки от руки в блокнотах, потом на компьютере, потом публикации на сайте «Сноб» и посты в «Живом Журнале» и Фейсбуке.
Автор родился, вырос, окончил мединститут и проработал первые три года своей карьеры в Баку. Потом холера (она же патологическая страсть к бродяжничеству) схватила его за шкирку и потащила из города в город, из страны в страну, с континента на континент.
Сначала это был бросок на край Ойкумены — в Набережные Челны, на шесть лет. Потом Союз нерушимый республик свободных затрещал по швам и стал разваливаться на глазах, и края Ойкумены начали стремительно раздвигаться…
Израиль, город Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, штат Нью-Мексико (автор обещает больше никуда не ездить).
Больницы большие, больницы маленькие, отделения терапевтические, отделения приемные, блоки интенсивной терапии, скорая помощь, медицинская служба израильской армии, медицина академическая и медицина сельская… И истории, истории, истории…
Некоторые из немедицинских записок написаны в ответ на какие-то события под влиянием сильных эмоций и не отвечают стандартам политической корректности или даже прописного гуманизма, столь характерных для автора в нормальном состоянии. Некоторые написаны в интервале между женами и изначально не предназначались для детей до шестнадцати лет или для борцов за моральный облик.
Но я оставил все как есть.
И самое главное: я не имею никакого отношения к тому Иосифу Раскину, ныне покойному, который написал «Записки хулиганствующего ортодокса». Вы же все равно спросите.
Автор выражает самую искреннюю признательность своим друзьям: Денису Проценко — за то, что он уже много лет понукал автора опубликовать свои рассказы; Пете Воробьеву и Маше Божович — за советы и помощь в подготовке книги; и моей жене Оле, которая мужественно предоставила мне возможность работать над этой книгой (вместо того чтобы делать что-нибудь полезное).
Вместо пролога
ПОЛЯ ВЕЧНОЙ ОХОТЫ
В госпитале где-то на юге Соединенных Штатов в одной из палат на пятом этаже лежит шаман. Самый настоящий, главный шаман своего племени.
Индейцы, покоренные здесь испанцами в конце XVI века, в конце концов после многих баталий (скальпирование миссионеров и сожжение церквей, четвертование индейцев и сожжение их поселений) и прочих издержек интеграции культур все-таки обратились в христианство, но в очень специфическое христианство. То ли в Святой Троице место Духа Святого занял великий вождь Гитчи Маниту, то ли, наоборот, Иисус Христос скачет по правую руку Гитчи Маниту по небесным прериям — хотя из Иисуса охотник так себе. Во всяком случае, по всем резервациям священники мирно сосуществуют с шаманами, а шаманы исповедуют веру в Христа.
Шаман умирает. Ни печень, ни почки его уже почти не работают, и лекарства от этого нет. Он сильный пятидесятилетний мужик, этот шаман, и на его месте любой белый человек, наверное, давно бы помер. А он все держится.
Каждое утро я обхожу своих пациентов один, до того как соберутся резиденты1 и студенты на общий обход. Он лежит с закрытыми глазами, весь желтый, с несколькими каплями темно-коричневой мочи в прозрачном мешке, притороченном к мочевому катетеру.
На вопрос, как он чувствует себя сегодня, отвечает: «Мне хорошо. Я сильный, и Иисус Христос еще не собирается меня забирать».
Возле него постоянно кто-то сидит: то ли родственники, то ли просто люди его племени.
Время от времени мы собираем их в кучу и объясняем, что дела плохи. В индейской культуре прямой разговор о смерти неприемлем, поэтому мы изъясняемся экивоками.
В индейской культуре положено не сдаваться никогда, поэтому они никогда не подписываются под предписанием «Не реанимировать» (DNR). Лечите до последнего патрона, до последнего лейкоцита. Мы вызываем на подмогу врачей хосписа, они-то знают, как объяснить про просушку досок2, но индейцы их просто посылают подальше.
Родственников возглавляет шестидесятилетняя матрона, жесткая, очень умная баба, сестра шамана, которая все понимает, но совершенно не собирается идти против культурных кодов. На все наши разъяснения она отвечает: «Да, но будет чудо». На это я отвечаю, что чудо, может, и случится, но трудно строить какие-либо расчеты на возможности чуда… С тем мы и расстаемся до следующего раза.
Каждое утро я прихожу в госпиталь в полной уверенности, что уж точно прошедшей ночью шаману сильно поплохело, на него бросились, подключили к вентилятору, и теперь он будет долго и мучительно умирать в блоке интенсивной терапии с трубками во всех отверстиях тела.
Ан нет. Вот он на своей койке, желто-серый, после трех доз морфия за ночь. «Я себя чувствую хорошо, доктор, я сильный, мне скоро будет лучше».
Мне остается отработать еще четыре дня, а потом хоть трава не расти. И, если повезет, шаман умрет не у меня, а у моего сменщика.
Я зашел утром к нему в палату, каким-то чудом там никого из родичей не было, сел на стул у кровати и сказал: «Я не знаю, сколько тебе осталось. Я не знаю, будет ли чудо или нет. Чудо может случиться, кто его знает. Но я совершенно точно знаю, что ты не хочешь быть здесь, со мной, а хочешь быть у себя дома, со своими детьми и собаками, со своим народом, дышать воздухом пустыни, а не больницы…» Он лежал тихо, никак не реагируя. Иногда он решает, что понимает только язык навахо. Я посидел немного и пошел по своим делам.
И был вечер, и было утро.
На следующий день ближе к вечеру меня вызвали к шаману в палату. Там сидела матрона и было еще человек пять. Шаман раскрыл глаза и сказал: «Ты знаешь, доктор, я хочу быть дома. Хочу увидеть всех моих родичей, всех людей моего племени. Хочу проехать на машине по городу, увидеть места, где никогда не был. Отпусти меня».
Это был самый короткий процесс выписки за последний год. Я своей властью обрубил все бюрократические канаты, удерживающие шамана в больнице, и через сорок минут его в палате уже не было.
А дальше? Знаю доподлинно, что он не умер ни в лифте, ни внизу, пока его усаживали в машину. То есть какое-то чудо все же случилось… А дальше…
Думаю, что все же доехал шаман до своей резервации и успел увидеть всех своих чад и домочадцев, собак и мустангов… И теперь он дышит полынным воздухом Полей Вечной Охоты в компании великого вождя Гитчи Маниту и его младшего брата Иисуса Христа.
Начинающие врачи, проходящие подготовку по выбранной специальности сразу после окончания медицинского факультета.
С бакинского детства привычное мне выражение, означающее заблаговременную подготовку к неминучей кончине — просушку досок для гроба.
Книга медицинских джунглей
Барон Мюнхгаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет.
Григорий Горин. Тот самый Мюнхгаузен
Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно.
Гиппократ
БАКУ, 1974—1984
Очерк травматологии
Летом 1978 года, окончив четвертый курс бакинского мединститута, я поехал на выездную практику в один из райцентров Азербайджана.
Однажды утром в больницу привезли семнадцатилетнюю девушку, ехавшую на подножке грузовика и свалившуюся прямо под колеса того же грузовика. Ноги были размозжены чуть повыше колен, девушка была в шоке от боли и потери крови. По канонам медицинского искусства (которые, кстати, не изменились и по сей день) ее следовало посадить на механическую вентиляцию легких, перелить кровь, много крови, и срочно ампутировать необратимо поврежденные ноги…
В районной больнице не было ни блока реанимации, ни работоспособного аппарата искусственного дыхания, ни хотя бы минимально достаточного количества крови для переливания; местные хирурги готовы были произвести ампутацию как операцию отчаяния, но семья (набившаяся в больницу к тому времени в количестве человек пятидесяти) воспротивилась этому и потребовала вызвать «профессора» из Баку — чтобы спасти ноги.
«Профессор» был вызван; хотя это называлось «санитарная авиация», хирург и анестезиолог из Баку ехали на машине — два часа езды. Пока что девушка лежала в операционной со жгутами повыше месива, оставшегося от ног, и ей лили жидкости — физраствор и импортный полиглюкин открытой струей.
К тому моменту, когда бакинские врачи вошли в операционную, у девушки уже начался отек легких, пошла розовая пена изо рта и она перестала дышать… Анестезиолог оглядел имеющееся реанимационное оборудование, подавился тем, что ему нестерпимо хотелось сказать, и закрыл обратно свой чемоданчик…
Все врачи как-то незаметно испарились, и в операционную стали входить родственники, биясь головами об стены и раздирая на себе одежды. Медсестры рыдали вместе с ними.
Туберкулез в период застоя
По окончании мединститута я был распределен в туберкулезную больницу в одном из пригородов Баку. Больница располагалась в трехэтажном здании, построенном когда-то под пожарную часть и находившемся в глубине большого оливкового сада.
Больница была не слишком фешенебельная, туда госпитализировали пациентов без связей или денег, позволявших попасть в Институт туберкулеза или в Центральный тубдиспансер. Трудяги из рабочих поселков, алкоголики и наркоманы, профессиональные преступники в интервалах между серьезными отсидками, бродяги, которых снимали с поезда на бакинском вокзале и отправляли в приемник-распределитель. Туберкулеза было много.
У некоторых пациентов не было ни семьи, ни документов, и, если они умирали, похоронить их законным способом не было никакой возможности. Но больница с этой проблемой справлялась. Если умирал такой совершенно бессемейный и беспаспортный пациент, организовывалась похоронная команда из относительно здоровых больных. Лечащий врач покойного отстегивал пятерку, больница выставляла литр спирта. За пятерку нанимали какой-нибудь проезжающий грузовик, и вся команда с трупом ехала на заброшенное кладбище, не очень далеко, где происходила быстрая процедура погребения и затем непритязательная гражданская панихида с распиванием больничного спирта.
Ни пациенты, ни главврачи образцовыми гражданами не были. Непосредственно перед моим появлением в больнице тамошний главврач был снят с должности и посажен за систематическое нанесение побоев пациентам. Старослужащие врачи еще долго ностальгически вспоминали его пребывание на этом посту как времена, когда «в больнице был порядок». Следующим главврачом был симпатичный молодой человек из хорошей семьи, который ходил в должность, только чтобы пить вино и курить анашу у себя в кабинете, и не вмешивался ни в какие медицинские процессы. К сожалению, его довольно скоро посадили за пьяную драку в ресторане, и мы опять остались без руководства. Правда, через некоторое время нам прислали тетку, которая для разнообразия ничего не пила, ни с кем не дралась и даже что-то понимала в туберкулезе.
В начале первого моего ночного дежурства в ординаторскую зашел пациент, один из уважаемых воров, и сказал: «Доктор, какая удача! Мне вовремя сказали, что ты дежуришь, а то я совсем уже собрался зарезать этого армянина! Но у тебя будут неприятности, поэтому я его зарежу в следующий раз. Не волнуйся!» Я выразил ему свою благодарность и сразу перестал волноваться. И продолжал не волноваться до самого утра. Даже когда в полночь ко мне приволокли совсем уже другого пациента, которого товарищи по палате в процессе карточной игры совершенно случайно пару раз уронили головой об фаянсовую раковину умывальника. Впрочем, с казенным фаянсом ничего плохого не случилось.
А утром упомянутый армянин (который на самом деле был не армянином, а курдом) сбежал из больницы, и расправа не состоялась.
Сабирджан — белобрысый невысокий татарин из рабочего пригорода Баку. Его прислали в нашу больницу с диссеминированным туберкулезом, и в процессе осмотра я спросил:
— А как вы обнаружили, что больны? Кашель там, температура, похудание?
— Нет, доктор, — ответил он. — Мне стало трудно пить. Раньше-то никаких проблем не было, а вот уже полгода, как первые три бутылки портвейна приходилось загонять внутрь просто силой. Ясно стало, что что-то неладно.
Со времен Некрасова парадигма русского мужика, который до смерти работает и до полусмерти пьет, оставляя горящие избы и скачущих коней на произвол своей жены, несколько изменилась. Капитализм начала XX века привел к тому, что в аккуратных нобелевских поселках у бакинских нефтепромыслов мужики русские (а также татарские, армянские, азербайджанские и всякие многие другие) уже и работали, и пили до смерти. Правда, приключившиеся вскорости советская власть и электрификация всей страны принесли некоторое облегчение, так что к моменту моего повествования мужики до смерти уже только пили, а работали не до.
Сабирджана госпитализировали и принялись лечить. Скоро ему полегчало, силы вернулись, и он принялся пить по-прежнему, чему полупроницаемые больничные стены помехой не были. Делать целый день все равно было особенно нечего, а в те времена больных со вновь выявленным туберкулезом держали в больнице десять месяцев.
Однажды вечером у Сабирджана заболел живот, совершенно зверски. Соседи по палате, занятые карточной игрой, некоторое время терпели его стоны, но в конце концов не выдержали и привели дежурную медсестру, а следом и меня. Сбор анамнеза обнаружил неумеренное употребление портвейна «Долляр» в последние два дня, а живот при пальпации напоминал хрестоматийную доску, фигурирующую во всех учебниках хирургии. Я легко поставил диагноз — острый панкреатит (а может быть, перфорация желудка, а может быть, еще чего-нибудь острое) — и истратил на больного единственную дежурную ампулу промедола, что помогло не сильно. Пациент прыгал по кровати и кричал благим матом.
Подтверждать или исключать диагноз было особенно нечем. Больничка маленькая, специализировалась на туберкулезе. Была в ней лаборатория, где могли делать только общий анализ крови и посев мокроты на туберкулезную палочку, и рентген-кабинет, где в клубах озона стоял древний рентгенологический аппарат, очевидно брошенный англичанами при эвакуации из Баку в 1920 году. Ночью ни лаборатория, ни рентген не работали.
Исчерпав свои диагностические и терапевтические ресурсы, я занялся переводом больного в большую, настоящую больницу с хирургами, анестезиологами, приемным покоем и прочими атрибутами современного лечебного учреждения.
Сделать это было непросто в первую очередь из-за отсутствия в моей больнице телефона. То есть телефонный аппарат был — с крутящимся диском цвета кофе с молоком. Такие сейчас продаются на антикварных развалах. Но за три года моей работы там телефон функционировал по прямому назначению от силы месяца четыре, а в остальное время был предметом декора. Поэтому мы по установившемуся уже алгоритму послали наиболее трезвого пациента на большую дорогу, проходившую прямо у ворот больницы. Там он проголосовал, сел в попутную машину и доехал до ближайшего поселка, откуда и вызвал по телефону-автомату скорую помощь для перевозки.
Не прошло и двух часов, как к нам прибыл дряхлый уазик с красным крестиком и с крайне расстроенными водителем и фельдшером, явно имевшими какие-то другие планы на этот вечер. Когда экипаж перевозки увидел больного, внешность которого не сулила никаких материальных знаков благодарности, и предназначенную в сопровождение высоченную медсестру с лицом и выправкой старослужащего прапорщика, расстройство это усугубилось на глазах. Тем не менее, выразив свое неудовлетворение происходящим вообще и мной лично, они все-таки погрузили пациента и медсестру и отбыли.
Перевозка доехала неспешно до больницы в Сабунчах и выкинула пассажиров на подступах к главному зданию, и, пока те шли ножками по двору в приемное отделение, медсестра пнула притомившегося было Сабирджана в бок и прошипела ему на ухо: «Ну вот теперь кричи громко». Что, наверно, помогло, потому что в результате бедолагу все-таки в больнице оставили и даже таки нашли панкреатит. Назавтра.
ГОРОД БРЕЖНЕВ
(Набережные Челны), 1984—1990
Бугульма и гений
Эта история произошла в те времена, когда полная электрификация всей страны уже давно закончилась, компьютеризация была в зародыше, а конверсия оборонной промышленности — в самом разгаре. Вторая половина восьмидесятых. Советский Союз дышит на ладан, но его пытаются реанимировать.
Конверсия — это когда по указанию партии танковый завод вместо боевой машины пехоты должен произвести десяток кастрюль или там медицинский прибор для ультразвукового обследования. В результате с кастрюлями лучше не стало, но вот приборы стали-таки появляться на свет, при этом отличие от исходника было не в весе, как вы могли подумать, и не в количестве затраченного железа (тут-то никаких существенных отличий не наблюдалось), а в том, что в смотровую щель БМП еще можно было что-то увидеть, в крайнем случае открыв люк, на экранчике же новорожденного УЗИ-прибора, как правило, не было видно абсолютно ничего, кроме бессмысленного мельтешения белых сигналов по зеленому полю.
И вот медсанчасть в городе Брежнев, где главврач был падок на блестящие цацки, получила по разнарядке плод конверсии — прибор для ультразвукового исследования сердца. Путем напряжения мышечных ресурсов всего наличного персонала машину втащили по частям на третий этаж и установили в предназначенном для нее кабинете, но тут выяснилось, что непонятно, кто, собственно, должен на ней работать (и поехать на стажировку в какое-нибудь хорошее место, поскольку в самом городе таких приборов просто еще не было). Рентгенологи сцепились с кардиологами, и в конце концов руководство решило обратиться к ближайшему медико-технологическому гуру. Мы поехали в город Бугульму.
Бугульма на карте генеральной кружком отмечена не всегда. Пугачев вез в кибитке молодого Гринева где-то в ее окрестностях, и метели с тех пор слабее не стали. В 1919 году комендантом этого города непродолжительное время был Ярослав Гашек, потом Чапаев отбивал ее у Деникина. В описываемые времена Бугульма была вполне глухой провинцией, хотя там и гнездилось управление татарской нефтедобычи.
Туда во времена еще предзастойные был сослан по распределению некий доктор Сигал, который, однако, не спился, не впал в просвещенный шаманизм и не сбежал в столицы, а, наоборот, открыл первый в Среднем Поволжье блок кардиореанимации. Да, не в академических Казани или Саратове, а именно в захудалой Бугульме. Кардиомониторов у него, естественно, не было, и местные инженеры перепаивали промышленные осциллографы. О количестве медицинского спирта, перешедшего из рук в руки, можно было только догадываться. С тех пор слава Сигала выплескивалась далеко за пределы Татарии.
Мы приближались к месту нашего назначения, кругом расстилались безжизненные пустыни, с ними прекрасно гармонировала искомая медсанчасть — трехэтажное здание непримечательной гражданской архитектуры; со стен еще не вполне облупилась та самая блекло-охряная краска, которая, встреченная мною где угодно — на задворках Рамаллы или на домиках индейской резервации в Аризоне, — неизменно вызывает ассоциации с нарядами по кухне и разведением носков на ширину ружейного приклада.
Интерьер тоже не поражал воображения. Ни стекла и бетона, ни ковров и деревянных панелей. В реанимации было чистенько, у коек висели вполне современные по тем временам мониторы и контрастировали с общей обстановкой… но их я уже видел и в других местах. Но зато в центре реанимационного зала стояло оно…
Читатели моего возраста или старше, наверно, помнят электромеханические справочные автоматы, стоявшие когда-то на больших железнодорожных вокзалах задолго до электронных табло. Это были массивные сооружения вроде афишной тумбы. Спереди у такого автомата был набор клавиш и большое окно, за стеклом которого при нажатии соответствующей клавиши с вопросом (расписание поездов на Бологое иль Поповку, как сдать в багаж диван, чемодан, саквояж) начинали со скрежетом вращаться установленные на вертикальной оси большие алюминиевые страницы и в конце концов останавливались, открывая взору вопрошающего слегка выцветший ответ.
Такой автомат был установлен в центре реанимационного зала. На клавишах значились «острый инфаркт миокарда», «отек легких», «передозировка дигоксина», и нажатие на них открывало алгоритмы действий, написанные доктором Сигалом, — простые, практичные, современные и подлежащие неукоснительному выполнению, как батальонный боевой устав, если вы знаете, что такое боевой устав. Для пришедших на ночное дежурство цеховых терапевтов, окулиста и отоларинголога (а кто еще дежурит в захудалой медсанчасти?) это просто был спасательный круг, позволяющий им быстро сделать что-нибудь полезное для больного, а не только лихорадочно рыться в медицинском гроссбухе и черными словами костерить своих родителей, пославших их когда-то учиться в мединститут.
Сам Сигал, которому тогда было под семьдесят, дал нам кратенькую аудиенцию, поскольку уезжал в тот же день в Москву — учиться эхокардиографии, без которой уже было совсем никак. Аппарат у него уже был, естественно, не конверсионный, а настоящий, немецкий. Наш спор он сразу разрешил в пользу кардиологов, и даже мой знающий абсолютно все босс Лева Теллер, вождь лагеря рентгенологов, ничего не пикнул поперек.
С тех пор много воды утекло в Каме, и судьба свела меня со многими удивительными людьми или провела по местам, где совсем недавно ступала их нога.
Мне довелось работать с врачом, в 1976 году бежавшим с пятнадцатикилограммовой медицинской укладкой на спине под кинжальным огнем к зданию аэропорта в Энтеббе спасать заложников; я слушал лекции и общался с отцом американской неотложной медицины. Я выпиваю регулярно с профессорами физико-математических и прочих умных наук и с миллионерами, произошедшими из наиболее предприимчивых и талантливых из числа этих самых профессоров; проходил довольно часто мимо чистенького домика, где в Принстоне каких-то семьдесят лет назад жил Эйнштейн, и даже состою в законном браке с женщиной, которая понимает в деталях, как дезоксирибонуклеиновая кислота чинит саму себя (честное слово!).
Но почему-то горючие слезы невыразимой зависти наворачиваются на глаза только при воспоминаниях об этом дурацком справочном автомате в центре убогой медсанчасти, захороненной в глубине татарских степей… Ну, блин, вот есть же абсолютно гениальные люди, которых не остановили ни советская власть, ни бесплатный спирт, ни Бугульма…
Социалистическое планирование
В году 1988-м я был очень короткое время исполняющим обязанности заведующего терапевтическим отделением в маленькой больничке в городе Брежневе на просторах Татарстана.
Хозяйство было плановое тогда, будущее четко определено, и в один прекрасный день старшая сестра отделения затащила меня в свой кабинет заказывать медикаменты на 1998 год, на десять лет вперед. Был декабрь, все медикаменты, благоразумно вписанные когда-то в план на истекающий 1988 год, давно кончились, и лечили мы больных бог знает какой отравой.
Мы долго размышляли, какая у нас годовая потребность в кокарбоксилазе, и решили потребовать сто коробок. Все равно не дадут, но лучше потребовать побольше. Так и записали.
В 1998 году я вспомнил об этом эпизоде. Я жил и работал в Израиле, город Брежнев превратился обратно в Набережные Челны, советская власть давно накрылась медным тазом вместе с социалистической системой хозяйствования, но хотелось надеяться, что хоть сколько-то кокарбоксилазы та больница все же получила.
ИЗРАИЛЬ, 1990—2003
О дне субботнем, собачке и красивом языке иврите
Эта правдивая история произошла, как пишется в реляциях армейского пресс-атташе, на одном из военных объектов на контролируемых нами территориях на западном берегу реки Иордан в субботу, часа в два дня, когда личный состав только начал погружаться обратно в сладостную дремоту, прерванную ланчем.
Вообще-то, по уик-эндам израильская армия разъезжается по домам. Ну, не вся или не совсем вся… Впрочем, не будем раскрывать военную тайну.
Остающиеся несут караульную службу, или исполняют кухонные обязанности, или что там им еще положено по штатному расписанию. И если начальство, подстегиваемое не перегоревшим за неделю адреналином, не придумает каких-нибудь блестящих операций, и не произойдет никаких форс-мажорных катаклизмов, и если поселенцы из ближайшей еврейской деревеньки не решат сходить на экскурсию в лесок на вон ту горку (и тогда их будут сопровождать два джипа с пулеметами и доктор), то время в военном лагере будет посвящено отдохновению духовному и физическому (дрыхнуть, лопать, читать, травить байки, смотреть видик до одурения и т. д.).
Так вот, в два ноль-ноль пополудни медицинская команда, в которой я был врачом, получила приказ срочно прибыть на соседнюю военную базу. Что такое?
Там нашли вроде дохлую собаку. Как, совсем дохлая? Наша или палестинская? Не морочьте голову своими шуточками, а давайте быстренько туда. А пострадавшие — покусанные? Пока неизвестно, там разберетесь.
Это известие вызвало некоторое оживление — все-таки не обычная авария на дороге, куда мы, как правило, добираемся уже после того, как потерпевшие развезены куда надо гражданской скорой помощью или просто разошлись по домам. Почему после всех? В основном потому, что мы едем на армейской карете скорой помощи, полевом амбулансе — это грузовичок с закрытым кузовом, изяществом очертаний напоминающий полуторку времен Второй мировой, с решеткой от камней на пуленепробиваемом ветровом стекле и мигалкой.
Он обшит якобы броневым листом, который пуля из калашникова, говорят, на излете может и не прошить, и способен развивать скорость километров сорок по шоссе при попутном ветре…
Так вот, мы быстро надели бронежилеты, каски, автоматы, стетоскопы и жилеты с надписями «врач» или «фельдшер» — кому чего положено, схватили ранцы с табельным медицинским имуществом и погрузились в этот рыдван. Минут через двадцать прибываем на место и действительно обнаруживаем в дальнем конце базы совершенно мертвую небольшую собачку без следов насилия на теле, в окружении нескольких мающихся бессонницей непокусанных бездельников и дежурного сержанта, осуществляющего оперативное руководство происшествием. Труп обнаружил какой-то идиот и, вместо того чтобы взять собачку за хвост и зашвырнуть через забор на вражескую территорию, сообщил по команде. А мертвое дикое животное на военном объекте — это дело сурьезное… Положено в таких случаях вести труп в ветеринарную больницу в Бейт-Даган (пригород Тель-Авива — полтора часа езды), где ему сделают секир-башка и определят по анализу мозговой ткани наличие или отсутствие вируса бешенства. И если анализ положительный, то всех облизанных покойным зверем ожидает серия болезненных уколов.
Ситуация ясная; я говорю сержанту: «А нас-то зачем звали? Давайте организуйте транспорт, везите в Бейт-Даган». Сержант звонит дежурному по части, тот отвечает: «Что?! Вы в своем уме?! Дохлую собаку?! Машину на три часа?! Ну вы, орлы, совсем спятили. Нет у меня ни машины свободной, ни шофера. У вас там доктор с амбулансом, вот пусть и везет к себе пока, а завтра и отправите».
Тут мой старший фельдшер, перед мысленным взором которого сиеста уже сменилась генеральной помывкой и дезинфекцией машины, делает строгое лицо и говорит: «Ну вы, ребята, оборзели вконец. А если через пять минут нас вызовут на автокатастрофу или на теракт? Прикажете нам проводить реанимацию и транспортировать пострадавших на машине с дохлой псиной на полу? Нет уж, вы лучше положите ее здесь на ночь в какое-нибудь прохладное место, а завтра и отправьте». Я многозначительно молчу и уже больше не суюсь.
А дело происходит летом на холмах Самарии, и единственное прохладное место — это кухонный холодильник с продуктами. Сержанту, которому хочется спать до умопомрачения, такое решение представляется вполне благоразумным, собаку заворачивают в какой-то мешок и всей толпой торжественно несут к холодильнику. И тут, к счастью, выясняется, что холодильник заперт на замок, а ключ — у заведующего кухней прапора, который спит и будить себя не велел ни под каким видом — дир баллак тому, кто сунется (непереводимое арабское выражение).
Но медицинская команда наседает, потому что суббота проходит, а мы еще ни в одном глазу, в конце концов заведующего кухней поднимают под тем предлогом, что доктор его срочно требует. Появляется прапор, коренастый мужичок марокканского разлива с помятым подушкой лицом, не любящий докторов вообще и не в самом лучшем расположении духа прямо сейчас; окончательно он просыпается уже у двери холодильника, обнаруживает собаку, и тут до него доходит, зачем его разбудили.
Должен признаться, что до этого момента я сильно недооценивал выразительные возможности языка иврит, не говоря уже о том, как расширился мой лексикон. Я узнал, как на иврите звучит слово «падаль», что в дальнейшем облегчило процесс понимания моего следующего босса, человека добрейшего, но гурмана в выборе слов; библейское выражение «пэгер хамитхолех» (ходячая падаль) относилось к числу его любимых и использовалось для выражения умеренного неудовольствия. Кроме того, я узнал, что «куда-то далеко» обозначается старинным еврейским словом «къебенимат» (в Тель-Авиве даже есть кабачок с таким названием) — занесенным, по-видимому, еще основоположниками современного иврита в конце XIX века. Ну что делать, иврит сафа яфа (иврит — язык красивый).
Собаку очень быстро поднимают с земли, и вся процессия отступает на исходные позиции.
После еще одного раунда переговоров принимается соломоново решение: дежурный по части сдается и выделяет машину с шофером — «ну только на сорок минут и чтоб никакого заезда за пиццей по дороге, а то знаю я вас…» Дохлая собака на персональном грузовичке, с почетным караулом в виде бронированного амбуланса с вооруженными до зубов доктором и четырьмя фельдшерами перевозится на нашу базу.
Меня выгрузили у медпункта, где уже дожидался пациент, так что я так и не узнал, где песик провел ночь. А на следующий день он был отправлен в больницу на вскрытие в сопровождении фельдшера, которому все равно надо было в Тель-Авив. И никакого бешенства найдено не было. Полный хеппи-энд в переводе на иврит.
Батальная сцена
В конце совершенно безумного дня в приемном отделении, когда доктора уже ничего не соображали и не помнили, как зовут их самих, когда медсестры от усталости перестали огрызаться и пациенты, ожидающие осмотра, выписки домой или отправки в отделения наверх, лежали, сидели и бродили штабелями… старший по команде доктор Раскин обозрел хаос, в который обратилось вверенное ему поле битвы, поправил треуголку и сказал старшей медсестре:
— Потеряно все, кроме контроля над сфинктерами.
— …
Назад к природе
Около семи вечера Моше захотелось пописать.
Он как был, в шортах и босиком, вышел из своего аккуратного коттеджа под красной черепицей, где на просторах кафельного туалета журчал итальянский кремовый унитаз, обогнул дом по аллее между стеной кухни и изгородью из ошалевшей вконец бугенвиллеи и ступил на задний двор, выходящий прямо на невысокие холмы и весь в густом пожелтевшем бурьяне.
Ласковое предзакатное солнце заливало и двор, и заросли кустарникового дуба на холмах, тянувшихся почти до самого Иерусалима. Несметные полчища невзрачных, но сладкоголосых птиц вели свою вечернюю спевку, и воздух был напоен запахами подсохшей полыни, шалфея и еще чего-то несказанного… Моше вздохнул и, расстегивая ширинку, сделал два шага в глубь двора. И тут его укусила змея…
Через неделю Моше, слегка похудевший и желтовато-бледный, сидел у себя в гостиной перед телевизором и пивом «Маккаби» восполнял потерю крови, высосанной врачами в больнице.
Около семи вечера ему захотелось пописать…
Частная практика
В детстве я был болезненным ребенком, даже более болезненным, чем положено среднему ребенку из средней приличной еврейской семьи. Родители не доверяли меня участковому педиатру — симпатичной и, как я сейчас понимаю, вполне толковой докторше, а водили к частным врачам. Это были профессора медицины, все как на подбор кавалергардского роста мужики с сильными и точными руками. Со мной они не сюсюкали, разговаривали на равных, а к родителям относились как к проштрафившимся новобранцам. Они принимали пациентов в недрах своих профессорских квартир, в кабинетах с диванами и креслами темной кожи, с книжными шкафами мореного дуба во всю стену и письменными
...