Светлана Захарченко
Забытый день рождения
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
© Светлана Захарченко, 2018
В прозаический сборник Светланы Захарченко вошли рассказы и повести для подростков. Рассказы «Сверчок», «Сергий», «Ванечка» включены в московские сборники.
Автор рассматривает современные проблемы общества через призму детского взгляда. Центральный вопрос книги: где скрываются истоки веры.
12+
ISBN 978-5-4490-7309-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Забытый день рождения
- Повести Хозяйка детского дома
- Древо при исходищах вод
- 1. Неделя первая по Пасхе
- 2. Неделя вторая по Пасхе
- 3. Неделя третья по Пасхе
- 5. Неделя пятая по Пасхе: о самарянине
- 6. Неделя шестая по Пасхе: о слепом
- 7. Неделя седьмая по Пасхе: Исаакия, игумена обители Далматской
- 8. Неделя первая по Пятидесятнице
- Рассказы Ванечка (почти святочная история, произошедшая в действительности)
- Урок любви
- ТРИ ОКНА
- Сверчок
- Дождь на Троицу
- Сергий
- Тёзка
- СХЕМА
- Клубок
- Жаба (святочный рассказ)
Глубокую символику названия рукописи книги «Забытый день рождения» стала понимать после прочтения рассказов сборника. Не ежегодный семейный праздник имеется в виду, а суть появления души в этом мире. Для чего, ради какой цели появляется человек на свет? Ответом на это вечный вопрос является каждое произведение, вошедшее в этот сборник.
Повествование захватывает читателя с самых первых строк своим традиционным и потому проникновенным языковым стилем. Точно и чётко оформленная словом мысль, вызывает невольное оживление даже в, казалось бы, дремотном сознании читающего человека. Автор не стремится привлечь внимание читателя дешёвой оригинальностью сюжета, не красуется пустой игрой слов, не пытается «заболтать» читателя, чем сегодня нередко страдает современная литература. Отношение к слову у автора сугубо профессиональное: чуткое и бережное, подчинённое чувству меры, где нет места «лукавому мудрствованию». Но, тем не менее, языковой стиль не исключает яркой художественной образности: «И собор на глазах начал приосаниваться, как будто с него сползала шелуха прошедших лет»… «…почувствовал себя тем самым ребёнком, стоящим на большом шаре, которого нарисовала Клава: одновременно беспомощным и любимым Богом». «…в раме распахнутого окна был изображён живописный берег Онего, запечатлённый ранним утром, когда разноцветье луговых трав тонет в дымке тумана, а весь мир кажется накрытым вуалью сна». «Утренняя дымка висела над озером, отчего казалось, что мир ещё не проснулся и не зажёг яркие краски зелени леса и желтизны солнечного круга»… «…а воздух вокруг Василия становился краснее и краснее, словно кто-то впрыскивал в него новую и новую кровь». «Хохот бросал свои каменья уже не в стенки ушных перепонок, а внутрь, прямо в утробу, отчего Василия неудержимо потянуло вниз»… «…озеро заплыло туманом и скрывалось за серебряным гулом дождя, сшивающего землю и небо»… «…чёрная фигура медленно растворялась в завесе проливного дождя, а Василиса стояла в растерянности перед плачущим озером».
Автор — человек воцерковлённый. Это чувствуется не только по знанию церковных канонов, традиций, терминов, молитв, описанию служб и церковных церемоний, но, в первую очередь, по авторской жизненной позиции, духовному мировоззрению и миропониманию. Однако сюжеты произведений не оторваны от жизни, не уводят читателя «в заоблачную высь», прочно вплетены в современные реалии. И «вплетение» это не искусственное, не поверхностное, а выстраданное, будто выплавленное в горниле собственного жизненного опыта. В произведениях нет привычного для специальной духовной литературы назидания, хоть местом действия чаще всего является Храм.
Диапазон внимания автора очень широк. От нелёгкой судьбы семьи священнослужителя («Древо при исходищах вод») до серьёзных жизненных испытаний бизнесменов разного уровня: («Жаба», «Схема»). От проблем больших и судьбоносных («Хозяйка детского дома», «Ванечка») до переживаний каждодневных и, на первый взгляд, суетных («Клубок».
Особенно трогательны рассказы и повести о детях, психологию которых автор знает очень хорошо. Недаром рассказ «Сверчок» вошёл во всероссийский сборник «Святочные рассказы. XXI век». Он не только подкупает своим состраданием к переживаниям маленькой девочки Нюши, но вызывает глубокие раздумья по поводу нелёгкой жизни многих обездоленных российских семей, оказавшихся на обочине социального бытия.
Повесть «Хозяйка детского дома» пронизана щемящими нотами сострадания к судьбам детей-сирот военной поры, но не банальна, поражает неожиданным ракурсом авторского взгляда на проблему. Читатель привык видеть стремление взрослых работников детского дома заменить этим детям погибших родителей, облегчить их участь любовью и заботой. Но Анна Ивановна, новоиспечённый директор детского приюта, не из их числа и не хочет, чтобы её собственные дети общались с воспитанниками детдома. Она не может побороть в себе неприязнь к сиротке Лизе, к которой так тянется её четырёхлетняя дочь Милка. Однако чистая душа ребёнка пробуждает чувственность и в «обугленном войной сердце» матери.
Великая сила сострадания — вот главный мотив творчества Светланы Захарченко. Каждое произведение источает глубинный свет, расставляет духовно-нравственные ориентиры на «крутых» поворотах жизненного пути человека и, не зависимо от значимости выбранной темы, сквозит философским осмыслением жизненных явлений.
Рассказ «Дождь на Троицу» начинается очень просто, словно автор хочет рассказать близким людям случай из своей личной жизни: «Мы с семилетним внуком обычно бываем на Троицу в монастыре, где все знакомы и грехов, как шило в мешке, не утаишь». А заканчивается философскими раздумьями главной героини: «А я шла и думала: где проходит грань между праведностью и милосердием? Достойна ли была я сама и многие другие прихожане, причастившиеся в тот день? Да и как определить эту меру, не судя и не сравнивая? И что мы и впрямь листики в руке Божией, в которые иногда заворачивается гусеничка».
Рассказ «Сергий», на мой взгляд, очень трогательное повествование о трагической судьбе сына священника. (И сколько было таких судеб!) А заканчивается он простонародными и одновременно мудрыми словами деда-паромщика: «Чего боитеся? Это Ангел пролетел, сегодня же Радонежского память, а он завсегда с Ангелом своим приходит… Вишь в полнеба облако перьевое размахнулось, то крыло Его, задело, видать, покойничка, вот он и того. Чего боитеся? Это странник, Божий человек, от его смерти худа не бывает». Поражает искусное умение автора соединить в рамках небольшого рассказа понятия приземлённые и возвышенные, реальные и мистические.
«Но как только Сергей коснулся тёмного переплёта (книги), вся его усталость, накопленная за годы скитаний, исчезла куда-то. И книга тоже исчезла, а человек своей узкой рукой, похожей на крыло, взял Сергея за руку и повёл его вниз к реке. И Сергей не замечал, что ноги их не касаются земли, и идут они не вниз, а поднимаются вверх». Читаешь — и ловишь себя на мысли, что свято веришь автору. Ведь за каждым словом, за каждой строкой, за каждым характером и событием — сила и беззащитность, тревога и Вера, радость и боль такой, воистину, противоречивой природы человеческой души.
Книга эта найдёт отклик в сердце вдумчивого читателя любого возраста, в ком живы ещё корни высокой любви, острой чувственности и душевного сострадания.
Надежда Васильева, писатель
Повести
Хозяйка детского дома
Худенький светловолосый мальчик в матросском костюме стоял в вагонном проходе и смотрел в окно идущего поезда. Мелькающие за окном зелёные деревья были похожи на стройные колонны солдат, отправляющихся на фронт. Вот и всё, что напоминало о начавшейся два месяца назад войне с немцами. Рядом с мальчиком, держась за поручни, нетерпеливо подпрыгивала маленькая девочка с бантами в русых волосах и всё время о чем-то весело рассказывала.
— Алик, Мила, идите ужинать. — Послышался властный женский голос. Мальчик вздрогнул от звенящих в мамином голосе стальных ноток. Впервые не столько хотелось есть, сколько узнать, что же ждёт их на новом месте, куда они едут. Но маму ослушаться нельзя. Он обещал отцу, ушедшему на фронт, что будет вести себя хорошо. Недавно ему исполнилось девять лет, он уже большой… Да, надо идти, мама зовёт.
Алик вопросительно посмотрел на сестру, которая ожидающе уставилась на него, поправил воротничок её розовой кофточки и, взяв её за руку, открыл дверь купе.
— Да, мама, мы здесь. — Дети вошли в купе и сели за стол, застеленный бумагой, на которой лежали два куриных яйца, сваренных вкрутую, и два куска чёрного хлеба с маслом.
— Через час будет наша станция. Поезд там стоит минуту, поэтому быстро ешьте бутерброды, сейчас я принесу кипяток. — Мама тяжело вздохнула и вышла.
Купе, которое занимало семейство Суворовых, находилось около тамбура для курящих, и за кипятком пришлось идти через весь вагон. Поезд подёргивало, Анну Ивановну дернуло в сторону, и она чертыхнулась, вспомнив былые времена, когда чай разносили по вагону, но быстро взяла себя в руки, потому что им ещё очень повезло: они ехали в литерном вагоне, а не товарняком, где не только кипятка не давали, но и лежачих мест не было.
Анна Ивановна ехала на свою родину, в один из заонежских посёлков, куда её назначили директором детского дома. С ней были её дети: девятилетний Алик и четырёхлетняя Мила. В Карелии Анна Ивановна не была уже шестнадцать лет, с тех пор как вышла замуж за Андрея Суворова, военного железнодорожника. Суворовы за эти годы исколесили всю Сибирь, согласно назначениям главы семьи. Сейчас военный инженер Андрей Суворов, командир Красной Армии, награжденный именным оружием самим Буденным, был на фронте.
Колёса поезда постукивали весело, как будто не было никакой войны, но, когда они время от времени скрежетали на неровных стыках рельс, становилось жутковато.
***
На станции семейство Суворовых встречала повариха, которая приехала на запряженной в телегу мосластой лошади. Повариха была высокой, громкоголосой женщиной средних лет, и звали её Степанидой. Увидев Анну Ивановну с двумя детками, она заохала и стала поправлять ряднину на телеге, чтобы приезжим было ладнее сидеть.
Такая убогая картина встречи несколько расстроила Анну Ивановну. В Ишиме на вокзал её приходил провожать весь детский дом. Все плакали, а малыши цеплялись за полу летнего пальто Анны Ивановны и лепетали:
— Мама, не уезжай.
Даже у нее тогда на глазах выступили слезы, хотя она не из чувствительных натур. Анна Ивановна недовольно покачала головой, как бы отгоняя непрошенное воспоминание, поставила на телегу чемодан с корзинкой и устроилась удобней на сенной подушке. Дети забрались сами, и компания отправилась в путь.
Ехали три часа, сначала до Большой деревни, находящейся на берегу Онежского озера, а потом ещё два часа до детского дома. За это время повариха Степанида рассказала о том, что в детском доме, в основном, дети врагов народа; что в апреле был пожар, и директора тогдашнего из-за этого посадили. Назначили другого, но тот проработал недолго: началась война, и его забрали по повестке на фронт. И до сих пор документы не приведены в порядок: а в пожаре пострадали архивы, теперь и не восстановить, наверно.
— Что пожар-то, сильный был? — Анна Ивановна чувствовала, что размеренная езда и постоянная болтовня поварихи начинают её укачивать, и, чтобы не заснуть, заставляла себя говорить.
— Жутко сильный. Несколько деток погинуло и сторож. Ну, сторож-то пьяный был, охранять лень было, он дверь-то снаружи и подпёр. А там то ли проводка ликтрическая, то ли ещё что случилось. Неведомо то простым людям. Комиссии ездили, одна за другой. Тридцать детей было. Сейчас двадцать одно дитё в корпусе проживает. Сколько-ни в районную больницу увезено. — Повариха причитала, но не отрывала взгляда от дороги, потому что подслеповатая Гнедая могла завести в кусты.
— Сколько отрядов в доме? — Поинтересовалась Анна Ивановна, поправляя задравшуюся полу кофточки Милы, которая разомлела в дороге и уже спала, развалившись на дне телеги.
— Так два. Молодшие, которые дошколята, с ыми Римма воюет; и старшие, они сами по себе, в Большую в школу ходют. Там до третьего класса учут. Вот только как теперь будет, война ведь… — Степанида вздохнула и на время замолчала.
Грунтовая дорога, по которой они ехали, пролегала вдоль восточного берега полуострова прямо по урезу воды. Голубая гладь озера просматривалась сквозь пыльные серо-зеленые заросли. В некоторых местах дорога была заболочена, так как вокруг то и дело встречались болотца с крупной осокой. Но были и высокие ровные места, занятые лугами, которые возникли после сведения лесов и расчистки этих вырубок от камней. Из этих камней сложены гряды или, как их называют заонежане, ровницы.
Впрочем, вдоль каменистых горок бежали ряды можжевельника, высокие, как в Сибири, но не такие сочные и какие-то хлипкие. А тощие карельские ели и берёзы после роскоши пышных густых сибирских лесов напоминали их жалких родственников.
Алька сидел на краю телеги и смотрел на убегающую из-под колёс дорогу, а сам думал о том, как накопит сухарей и тоже отправится на фронт.
Лес кончился, и перед глазами путешественников предстало двухэтажное кирпичное здание, которое когда-то было оштукатурено в белый цвет, а теперь во многих местах из-под штукатурки проступали красные кирпичные проплешины. Перед этим строением простиралась довольно обширная пустынь, заросшая вереском и оттого казавшаяся грязной буро-зелёной. И кусочек озёра, видневшийся слева за нелепым домом, не веселил. Было пасмурно, и волны стального цвета, а также бледно-серое небо только подчеркивали сиротское назначение здания. Само строение было разделено пополам башней, в которой нижняя арочная часть служила проездом на территорию детского дома, а верхняя напоминала барабан, вставленный в коробку без крышки. Слева около башни притулился худосочный можжевеловый куст-переросток. В арочный проём просматривались развалины, отчего у Анны Ивановны совсем испортилось настроение. Гнедая, почуяв близость дома, пошла быстрей. Алик хотел спрыгнуть с телеги, но строгий мамин взгляд остановил его, и всё семейство, чинно сидя на телеге, въехало под кров своего нового обитания.
Квартира для директора была отведена в правом крыле здания; в неё имелся отдельный вход с торца дома, что Анна Ивановна сочла очень удобным, так как членам директорской семьи не рекомендовалось общение с контингентом детдома.
Директорская квартира состояла из двух комнат и кухоньки. Минимум мебели в ней позволял кое-как разместиться семье Суворовых. Анна Ивановна заглянула в комнаты и выяснила, что имеются две кровати, диван, круглый стол и пара стульев. На кухне стоял ещё один стол попроще: прямоугольный, из фанеры и длинная лавка вдоль стены. Стены оклеены дешёвыми, но чистенькими обоями, везде тщательно вытерта пыль, что с удовлетворением отметила директор. Только вот портрета вождя нет, хорошо, что захватила с собой из Сибири. Анна Ивановна вздохнула, вспомнив богатую обстановку в ипатьевских меблированных комнатах, в которых её семья жила последний год.
— Анна Ванна! Возьмите продукты. — Послышался голос поварихи: Степанида успела обернуться на конюшенный двор, где оставила Гнедую, и захватить на кухне месячный директорский паёк, который сейчас принесла на квартиру новоприбывших.
Анна Ивановна собрала на стол, на быструю руку соорудив обед из яичницы-глазуньи. Семейство расселось по местам, и уже через полчаса после приезда директор детского дома была готова приступить к своим должностным обязанностям.
— Алик, не забудь помыть посуду и пол. — Анна Ивановна поправила перед тусклым зеркалом в прихожей прическу из косы, уложенной короной, надела тёмный пиджак и вышла из квартиры.
— Не волнуйся, мама, всё будет сделано. — Спокойным голосом ответил Алька, но сам, только мать вышла за порог, тут же собрался бежать на улицу. А сестре приказал:
— Милка, слышишь, никуда не уходи, дом сторожи.
— А посуду, — не ожидая подвоха, спросила девочка.
— Посуду… Так, Милка, — рассудительно проговорил Алька, — тебе уже скоро пять лет будет, значит, ты большая, надо учиться маме помогать. Поэтому чтобы посуду вымыла как следует. — Уже от самой двери, завязав шнурки на ботинках, брат добавил: — И полы вымой… — И выскочил на улицу.
Милка посмотрела на грязные тарелки, потом на пол, сняла подвешенный на стене таз, поставила его на стол и налила в него воды из оцинкованного ведра. Теперь надо было найти тряпку и мыло. Мыло нашлось в мыльнице, которая лежала в дорожном бауле, а за тряпкой Милка отправилась на кухню. Девочка вышла на крыльцо и стала оглядываться, у кого бы узнать, где найти повариху. На площадке напротив играли малыши. Взрослых нигде не было видно. Милка внимательно всмотрелась в кучку детей, но напрасно: ни воспитательницы, ни нянечки, только какой-то камень торчит возле угла дома. Где же взять тряпку? И тут Милка заметила, как то, что она сначала приняла за камень, задвигалось. Это оказалась девочка, в застиранном непонятного цвета платье, ростом с Милку. Милка окликнула её, и девочка обернулась.
— Ты чья? — Требовательно произнесла Милка, обращаясь к девочке и сравнивая своё розовое батистовое платье в оборках с одеждой детдомовки, у которой даже носков не было.
— Я здесь живу. А ты чья? — Детдомовка с интересом разглядывала незнакомую девочку в воздушном платьице и белых носочках. Особенно красивыми были красные лаковые туфельки. Лиза, так звали детдомовку, и не помнила, когда видала подобную красоту.
— Мамина. Она тут главная, — Милка для убедительности показала на здание детского дома. — А где твоя мама? Она кто?
— Моя мама… Моя мама там, — Лиза посмотрела на небо. — Она… она Царица небесная, — девочка вспомнила, что бабушка говорила так по вечерам, вспоминая маму.
— Царёв не бывает и цариц тоже. Мне мама говорила. И мой папа, красный командир, он сейчас на фронте. Он, знаешь, что рассказывал? Про революцию, как царёв всех выгнали и теперь народ вместо них. — Милка была довольна, что так складно смогла рассказать этой детдомовской девчонке про не очень ей самой понятную революцию.
— А куда царёв выгнали? Вот куда, по-твоему? — Не отступала Лиза. — Они где-то ведь есть, и моя мама тоже там.
— А царёв, а их всех… убили и в землю закопали. — Милке строго-настрого было запрещено вспоминать о расстрелянном царском семействе, но ей так хотелось похвастаться перед настырной детдомовкой, что она продолжала в запале кричать. — Царёв нет, никаких нет! И у тебя нет никакой мамы-царицы, ты врёшь!
— Не вру, моя мама — царица, она на небесах у Боженьки. — Лиза стиснула пальцы в кулаки, чтобы не заплакать.
— А вот и нет, твоя мама шпионица, её убили, всех царёв убили и всех шпионов убили, — голос Милки уже звенел.
— Мила, что ты здесь делаешь? Ну-ка марш домой! — Строго произнесла вышедшая из спального корпуса Анна Ивановна. И Милка, показав Лизе на прощание язык, побежала к маме, которая пропустила её в здание, а сама пошла к Лизе.
— Девочка, почему ты гуляешь без своего отряда. — Директор оценивающе рассматривала худенькую нескладную фигурку, и внутри у Анны Ивановны неожиданно стал нарастать ком раздражения. Она указала рукой в сторону спального корпуса, и Лиза медленно побрела по направлению взмаха. Пройдя несколько метров, девочка оглянулась и увидела, что директорша ушла в свою квартиру. Тогда Лиза развернулась и юркнула к развалинам, которые находились в глубине ограды детского дома. По правую руку находились различные полуразрушенные постройки. Мельница, каменные жернова которой до сих пор лежали на берегу западнее развалин, была конечным строением. Между нею и пожарищем размещались конюшенный двор и баня.
На берегу озера в бухте располагалась Монастырская пристань. Можно было видеть под водой бревенчатые клети, забутованные валунами. Но на берег ходить было нельзя. Вообще запрещалось выходить за ограду без воспитательницы, поэтому Лиза пробиралась в заброшенный круглый дом, в котором слева от входа была маленькая каморка с одним низким окном. Девочка облюбовала себе эту каморку, потому что в ней было удобно прятаться, когда сильно хотелось плакать.
Вот и сейчас хотелось плакать, потому что у Лизы не было никого, кто бы её защитил. А раньше был Андрюша. Он уже ходил в школу в третий класс и был очень сильный. Он приходил по вечерам в палату к Лизе и рассказывал смешные сказки, которые когда-то ему читала мама. И всем ребятишкам очень нравился веселый брат Лизы и его сказки. Но когда ещё была зима, случилось что-то очень страшное. В палате откуда-то стало много дыма, так много, что стало трудно дышать, а дверь была заперта. Наверное, сторож, который ходил в тёмном мохнатом тулупе до пят и пугал своим видом, захотел спать, а чтобы ребятишки не шалили, подпёр входную дверь снаружи палкой.
Когда дети поняли, что им никак не выйти, они начали плакать, а Андрюша пробрался к сестре, подсадил её и вытолкнул в форточку. Лиза попала головой в сугроб, но быстро выбралась из него на дорогу, повернулась в сторону окна, из которого вывалилась, и стала ждать брата. Но из форточки высунулась белобрысая, ушастая голова Сёмушкина Мити — самого младшего мальчишки из Лизиного отряда, — который покатился мячиком к дороге, сбивая с одежды языки пламени. И вдруг раздался грохот с одновременно протяжным многоголосым воем. Дом, в котором были детские спальни, раскрылся, как коробочка. И огонь стал прыгать в разные стороны, а дети, стоящие на дороге рядом с Лизой, отпрыгивали от него. И Лиза прыгала, и ждала Андрюшу, что он сейчас выпрыгнет вместе с очередным огоньком и скажет ей: «Ну что, дурёха, сильно напугалась?», и она перестанет бояться. А потом Лиза ничего не помнила, потому что Андрюша так и не выпрыгнул, и ей так и не перестало быть страшно. Лиза каким-то чутьём догадывалась, что произошло что-то очень страшное и это страшное теперь никогда не кончится, потому что брат никогда не придёт.

Лиза старалась не думать о брате, потому что потом сразу же вылезал этот страх, он был такой же чёрный, как ночь, когда всё горело. И всякий раз внутри у Лизы маленькая куколка съеживалась в чёрную точку. Лиза начинала задыхаться и уже не могла плакать. Она тогда уже ничего не могла, а просто сидела, как тряпичная кукла, которую Сёмушкин, этот лопоухий, бестолковый малышок подобрал где-то после пожара и всё время таскал за собой. Няня Капа, худенькая невысокая старушка, жалела Сёмушкина, называла Минькой и приносила ему перед сном кусок чёрного хлеба с солью. А Лизу никто как будто и не замечал, но девочка к этому давно привыкла. Так было проще для Лизы, которой больше нравилось сидеть одной где-нибудь на берегу озера. Маленькое тщедушное тельце девочки даже комары не трогали.
Считалось, что младшим отрядом, к которому относилась и Лиза, занимается Римма, невысокая полноватая девушка лет двадцати пяти. Она одевалась в бесформенное тёмно-синее бумазейное платье, отчего казалось, что у неё синяки под глазами, а может быть, они были из-за того, что Римма плакала по ночам: недавно пришла похоронка — её жених был убит в первый день войны. А днём Римма всё время зевала и в хорошую погоду сидела на завалинке, смотря за играющей малышнёй. На самом деле ни за кем она не смотрела, а думала о чём-то своём, и Лиза, которой не нравилась возня на площадке, во время прогулки отходила в сторонку от отряда, и немного покопав ямки для секретиков, пробиралась в своё убежище, находившееся недалеко от пожарища.
***
Детдомовцы сначала приглядывались к Альке и Милке, но Анна Ивановна запрещала своим ребятам водиться с детдомовскими: ещё наберутся дурных мыслей от детей врагов народа. И директорские дети были предоставлены сами себе. Мать с утра варила на дровяной плите похлебку из крупы и картошки, и этим, и ещё хлебом и зелёными перьями лука, которого вдоволь росло на огороде, Алька с Милкой и питались. Сама Анна Ивановна кушала в детдомовской столовой вместе с воспитательницей Риммой.
Впрочем, Алька привык к свободе. Вот только здесь в Заонежье совсем не с кем было водиться: с детдомовскими нельзя, а деревня в шести километрах, туда за дружбой не набегаешься. Но Алька недолго тяготился отсутствием друзей. Ещё в поезде он решил, что накопит сухарей и сбежит на фронт, потому что все настоящие мужчины, по его убеждению, должны сейчас быть там. А то, что он настоящий мужчина, Алька не сомневался, ведь ему об этом сказал перед уходом на фронт папа.
Алька в первый же день исследовал территорию, занимаемую детским домом. Можжевеловые заросли по левую сторону от дороги сначала привлекли его, но там здорово было прятаться, а вот хранить сухари вряд ли можно, потому что, во-первых, мог пойти дождь и намочить хлеб, а, во-вторых, в лесу водится множество всякой живности, и даже птицы охочи до сухарей. Нужно было искать более укромное место. И Альке оно попалось. Неподалёку от главного здания мальчик наткнулся на круглый каменный дом, который напоминал планетарий. В планетарий Алька ходил вместе с папой. Это было в Сибири, и там ему очень понравился высокий потолок, который, казалось, уходил в небо. Впрочем, потолок и был звёздным небом. Конечно же, Алька понимал, что откуда в глухом заонежском крае возьмётся столичный планетарий, но на всякий случай забрался через оконный проём в полуразвалившееся строение. Внутри было относительно сухо и светло, это было странным, потому что окон почти не было, но свет шёл откуда-то сверху, как будто в здании и впрямь было небо над головой, только не ночное, со звёздами, а дневное, с солнцем. И Алька невольно задрал вверх голову. Там и вправду было небо. Алька не сразу понял, что круглый свод наверху имел отверстие, вокруг которого на облаках восседали дяденьки с белыми бородами в старинных одеждах. Мальчику захотелось забраться туда и разглядеть всё получше. Он нашёл деревянную лестницу, идущую над входом, и забрался по ней почти на самый верх. Алька вертел головой, рассматривая, как нарисованы облака, которые снизу кажутся настоящими, и вдруг его взгляд наткнулся на страшную картину. Если смотреть немного вниз, то на стене можно было разглядеть чертей в пламени; а неподалёку от них был изображён стоящий на коленях человек в длинном чёрном плаще со сложенными вместе руками. Алька думал, что это утопленник, потому что этот человек был весь в воде, а его руки тянулись вверх. Рисунок сохранился не полностью, поэтому мальчик тут же придумал историю о страшном разбойнике, который убил много человек, и поэтому люди его наказали. Они связали ему руки и бросили в воду. Алька не знал, что человек в чёрном плаще — это основатель монастыря. Алька сначала перепугался изображения чертей и утопленника, но потом сообразил, что они отпугнут и других. Мальчик спустился вниз на один пролёт и по балке пробрался к стене со страшными картинами. Ещё с лестницы он разглядел нишу, образовавшуюся от выпавшего фрагмента росписи. Туда-то мальчик и положил тощий холщовый мешочек с двумя сухарями, который заложил куском штукатурки. За этим куском пришлось спуститься вниз, зато Алька надёжно припрятал своё сокровище и от дождя, и от живности.
Алька был доволен своим открытием, но поделиться увиденным было не с кем, и ещё раз оглядев картины, мальчик отправился на озеро, где можно было наловить окуней на уху. Для удочки ему было достаточно срезать любое молодое деревце, а лесу с крючками мальчик привёз с собой.
Анна Ивановна тоже провела день плодотворно. Познакомилась с персоналом и даже разобралась с продовольственными поставками.
***
Так в хозяйственных заботах проходило лето. Директорские дети были предоставлены сами себе. Но Анна Ивановна не беспокоилась за них, потому что знала, чем они занимаются, или так, по крайней мере, думала. Единственное, что не нравилось директору, так это воспитанница из младшего отряда, которая привязалась к её дочери в день приезда. Кажется, её зовут Лиза. Документов её в архиве не было, но, скорее всего, из-за того, что девочку перевели не так давно, документы где-то застряли, что немудрено в военное время.
Анна Ивановна, несмотря на свой властный характер, почему-то побаивалась этой худенькой детдомовки, которая напоминала ей Машеньку, близняшку Милы, умершую от двухстороннего воспаления лёгких ещё в полуторагодовалом возрасте. Была бы её воля, она отправила бы эту девчонку в другой детский дом, но, во-первых, ещё не пришли документы, а во-вторых, все перемещения на время военных действий должны быть очень хорошо обоснованы.
Лиза даже не подозревала, что чем-то досадила директорше. Девочка и раньше старалась как можно реже попадаться на глаза взрослым, а с началом войны контроль за детьми ослаб, так что Лиза всегда могла потихоньку выбраться из палаты.
Вечерами в хорошую погоду Лиза любила сидеть на берегу озера и смотреть, как заходит солнышко. Оно садилось за первый остров, так его называли взрослые, потому что он был ближе всего к берегу. Но Лиза называла его кораблём, потому что на него были похожи очертания острова, и девочке казалось, что солнышко садилось на кораблик, который плыл в сонную страну. Лиза представляла, что когда-нибудь этот кораблик увезёт и её к маме, папе, бабушке и Андрюше. От этой мысли ей становилось одновременно и радостно, и грустно. А ещё Лиза думала о том, почему у этой вредины Милки такой добрый брат, чем-то похожий на её брата Андрюшу.
Днём Лиза ходила на Змеиную горку посмотреть, не покраснели ли брусничины. Эту горку, которая находилась по левую руку от детского дома между оградой и лесом, облюбовали гады: место сухое, камни гладкие, а вокруг камушков мягкий шелковистый мох растёт. Лизе тоже нравилось сидеть на гладких камушках, особенно когда они были нагреты солнцем. Вот и нынешним днём после обеда девочка отправилась глянуть на ягоды, вдруг они созрели. Иногда во мху попадались маслята. Их коричневые шляпки всегда блестят, как будто смазаны маслом. Лиза собирала их, нанизывая на тонкий прутик, и относила Степаниде, которая жарила их со сметаной. Но сегодня грибков не было, только влажные чешуйки сосновой коры обманывали, притворяясь маслятами.
Уже сидя на тёплом камне Змеиной горки, Лиза услышала голоса. Девочка предусмотрительно шмыгнула за камень, нагнулась и стала смотреть в ту сторону, откуда голоса доносились. А вдруг сейчас появятся парашютисты вражеские или шпионы, как в кино показывали? Но это были обыкновенные деревенские мальчишки, которые окружили Сёмушкина и оттесняли его от дороги. Митька размахивал своей тряпичной куклой, как мечом, но мальчишек было трое, они смеялись и не пускали Митьку. Один мальчик выхватил у Митьки куклу и стал повторять движения малыша, передразнивая его.
Из придорожных кустов вылез Алька и закричал на мальчишек:
— Вы чего пристали к ребёнку? Ну-ка быстро отпустите его! Он из нашего детдома.
— Да кто к нему пристаёт. — Деревенские мальчишки, Митькины одногодки, опасливо косились на грозного мальчика. — К нему никто не пристаёт, он сам всё время в деревню к нам приходит и маму свою ищет. Дядя Клим, ну наш милиционер, уже два раза его обратно в детдом приводил. А теперь дядя Клим на фронте, а этот, — мальчуган отмахнул надоеду-комара, жужжащего над ухом, и показал на Сёмушкина, — опять пришёл, а мамка моя велела его к вам отвести.
— А чего куклу отобрали? — Не отставал Алька.
— Мы не отбирали. Просто он так идти не хочет, а за куклой бежит. Пусть забирает. — Куклу подали Митьке, тот схватил её и крепко прижал к пузу. Алька взял Митьку за руку и пошёл с ним к ограде детского дома, объясняя ему, что он неправильно убегает, что убегать надо на фронт. А пятки деревенской гвардии замелькали по направлению к деревне.
Пока девочка вспоминала этот случай, она не заметила, как солнышко давно зашло, и с востока за ней уже наблюдала луна. Сегодня она была круглая и напоминала глаз, следящий за миром. Хотелось спрятаться от его вездесущести, но глаз был везде. И было что-то жуткое в его красноте, блестящей как медь. А ещё он был похож на панцирь. Лизе показалось, что этот глаз стал набухать и увеличиваться. И тогда перепуганная девочка вскочила и понеслась от берега со всех ног в сторону спального корпуса.
***
Уже несколько дней стояла тёплая погода. Осень вступила в свои права буйством солнечных красно-желтых красок. Старшие ребята по утрам шли в деревню в школу, а после обеда собирали картошку на поле. Малыши выбирали из борозд картофелины и складывали их в вёдра, а старшие носили эти вёдра до телеги и ссыпали картошку в мешки. Эти мешки Гнедая отвозила к кухне, а там Степанида с Риммой стаскивали их с телеги и таскали в погреб.
Однажды после завтрака, когда младший отряд вывели на прогулку, на крыльцо директорской квартиры вышла нарядная Милка. Из-под клетчатого красного с белым пальто с капюшоном торчал подол пышного шелкового розового платья, а в косички были вплетены огромные белые банты. Милка была как самая настоящая кукла на картинках. Ещё Милка вынесла кукольную магазинную коляску, в которой лежала красавица кукла. Малышня рассматривала директорскую дочку с нескрываемым интересом, но Милка с ними не зналась, она ходила по двору, катая колясочку, и важничала.
В обед выяснилось, что у Милки день рождения. Всем воспитанникам досталось по кусочку праздничного пирога с черникой, который испекла Степанида. А сама именинница впервые восседала за одним столом с детдомовцами.
Взрослые отмечали день рождения директорской дочки вечером, когда воспитанники разошлись по спальням. Анна Ивановна принесла мензурку с медицинским спиртом, и нянечка сделала ягодную настойку. После тоста директор запела свою любимую песню: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд». Римма подпевала.
Потом Анна Ивановна предложила тост за коммунаров.
— Ох, девоньки, — раздобревшая директорша потянулась, зажмурившись от нахлынувших воспоминаний, — мне, ведь, в таких переделках пришлось побывать. Я, как замуж вышла, стала работать в избе-читальне. В девятнадцать лет я была на всё село единственная комсомолка. Мы с Андреем тогда в сибирском селе жили, в десяти километрах от узловой станции, где служил муж. И вот зимой в селе праздник престольный был, мужики напились. Девчонка соседская, которую я читать учила, прибегает ко мне, а дело под вечер, темно уж, и Андрей на дизеле уехал. Ну, девчонка и торопит, глазищи-то вытаращила, «Анна Ивановна», — кричит, — «папанька меня послал, бегите к нам скорей, вас селяне убивать идут!» Я пальтушку накинула и бегом на соседское подворье, а там, на заднем дворе уже лошадь запряженная стоит. Сосед меня на дно кошевы толкнул, сверху тулупом набросил, а потом они с девчонкой закидали меня сеном, и кошева тронулась с места. Ноги у меня обмерли дорогой: сосед-то на них сидит и покрикивает на лошадь, а мне пригрозил, чтоб не пикнула даже. А за нами была погоня. Так сосед хитрый был. Он как погоню-то учуял, сразу же лошадь поворотил и навстречу обидчикам поехал, не спеша, ещё и песню затянул какую-то кабачную. Все, думаю, пропадать мне, сосед, наверное, решил против своих селян не идти. Мужики его обступили, в пьяном кураже вилами в сено тычут, кричат: «Убьем комсомолку!». Я лежу, рот зажимаю, чтобы от страха не закричать или от пыли не чихнуть. И вдруг слышу, как сосед голосом таким смущенным просит их: «Брательники, не тычьте в кошеву, вы мне бутыль разобьете, специяльно на станцию ездил за вином». Где у него эта бутыль была, не знаю, а только отстали они от соседа, поехали догуливать. Но я ничего этого уже не слышала, сознание потеряла, потому нос и щёки отморозила. Сосед тогда кругаля дал, через хутора меня на станцию к утру только довёз. Зато уж Андрей больше меня в село не отправлял.
— Да, вот история! Как в книжках пишут. — Римма с нянечкой вздыхали и качали головой, переживая за директоршу.
Степанида пошла на кухню с грязной посудой: не всем же разговоры говорить, кому-то и убирать нужно. Повариха открыла дверь в кухню и вдруг слышит какое-то поскрипывание.
— Эй, кто тут? — Степанида чуток струхнула после рассказа директорши, поэтому поспешила зажечь керосинку. А в уголочке у плиты сидела Лизавета и всхлипывала.
— Ты чего, милая? Торты не хватило? Да я тебе сейчас чего-нибудь вкусненького принесу. — Добродушная Степанида припасла вкусненькое для себя, но этого заморыша было так жалко, что повариха решила с ней поделиться.
— Я не помню, когда у меня день рождения. — Лиза всхлипывала как-то тихо.
— Чего не помнишь?.. — Повариха опешила. — Как не помнишь? — Степанида подумала было про метрики детей, в которых должна быть указана точная дата, но опять растерялась, потому что архив сгорел.
Лиза продолжала тихо всхлипывать, отчего поварихе хотелось завыть самой.
— Ну, ты вспомни, как тебе день рождения отмечали? Ну, какая на улице погода была? Дождь, снег, может или листья желтые? — Степанида ожидающе глядела на девочку, размазывающую по щекам слёзы.
Но Лиза запомнила только зелёненькие клейкие листочки на деревьях, которые блестели от радостных солнечных зайчиков, в тот день, когда она последний раз видела маму. Они с мамой шли по дороге в детский садик, и девочке совсем не хотелось, чтобы мама уходила, но она очень спешила и даже не поцеловала Лизу. Больше девочка ничего про маму не помнила. Тогда из садика её никто не забрал, и она ночевала одна в детсадовской спальне. А потом пришла бабушка, у которой Елизавета с братом жили, но жили недолго, потому что бабушка в один ненастный осенний день не проснулась и тогда детей отправили в детский дом. И Лиза опять заплакала.
— Ну, как так, ничего не помнишь. Вот имя своё помнишь. Может, и фамилию свою вспомнишь? — Расстроенная Степанида не знала даже, что ей делать.
— Когда бабушка звала брата, а он не шёл, то она говорила: Андрей Первозванный, Богом первый званый. Может быть, это наша фамилия? — Лиза уже не всхлипывала, а посапывала.
— Ну-ка, посиди тут, я сейчас. — Степанида выскочила из кухни, быстро прошла несколько метров по коридору до своей комнаты. Она не стала зажигать керосиновую лампу, а на ощупь вытащила из-под кровати сундучок, достала из него какой-то свёрток и вернулась на кухню.
Девочка сидела тихо. Серое, из грубой шерсти платье, в которое она была одета, делало её незаметной и похожей на маленькую мышку.
— Иди-ка сюда. — Степанида поманила Лизу к себе, и та робко села на лавку рядом с поварихой.
Степанида одной рукой гладила бедную девчушку по остриженной головке, а другой листала потрёпанную книгу без обложки. Эту книжищу она нашла после пожарища в сугробе около обугленной стены спального корпуса. Мало кто из нынешних сотрудников детского дома знал, что раньше здесь был храм Захарии и Елизаветы и что детский дом находится на территории бывшего монастыря, который закрыли после революции. А Степаниду крестили в этом храме. Деревня, в которой она тогда жила с родными, находилась на острове в десяти километрах отсюда, и в ней имелся свой домовой храм. Но дедушка то ли из-за своего упрямого характера, то ли из-за того, что его звали Захарией, выбрал для совершения семейных треб монастырский храм, и Степанида с дедушкой, бабушкой, папой и мамой по воскресеньям ездили в этот монастырь на службу.
Когда началась революция, пятнадцатилетняя Стешка уже работала в городе у своего земляка Климента Егоровича, разбогатевшего на продаже рыбы, которой торговали тогда всей деревней в общину; поэтому купец охотно брал к себе в ресторацию заонежан. Стешка очень хотела научиться готовить заморские блюда, но после революции ресторацию закрыли. Стеша вернулась домой, только деревни уже не было, потому что её подожгли пьяные экспроприаторы. Тогда Стеша поехала в районный комбед, и её по разнарядке отправили поварихой сюда. Правда, после революции в бывшем храме поначалу располагалась богадельня, это в тридцатые её преобразовали в детский дом.
— Вот, нашла. — Степанида ткнула пальцем на раскрытую страницу и начала медленно, по слогам, читать. — Седмица пятнадцатая по Пятидесятнице. Отмечается память пророка Захарии и праведницы Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи; так-так. Убиение благоверного князя Глеба, во святом крещении Давида, мучеников Иувентина и Максима воинов. Мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними семидесяти семи мужей от церковного чина, в Никодимии пострадавших… — Степанида замолчала и настороженно посмотрела на дверь, ведущую в коридор, мало ли кто услышит и чего-нибудь подумает. — Вот этот день тебе и подойдет в день твоего Андела.
— Бабушка Стеша, а это какой день? — В Лизиных распахнутых глазах были сразу и страх, и завороженная радость, что теперь у неё есть что-то такое не очень понятное, о чём знает только бабушка Стеша.
— Дак пятое сентября, значит. Погоди, это же по старому стилю. — Степанида начала было высчитывать новостильную дату, да запуталась в цифрах. — Ладно, пусть будет, как раньше… А давай-ка на твой хоть и прошедший день Андела я на-кормлю тебя тортой. — И Степанида повеселела, потому что теперь была в своём привычном мире, где все несчастья пропадают после съеденного сладкого кусочка.
— А у моего брата Андрюши есть такой день с анделом? — Спросила девочка.
Степанида опять вздрогнула: она знала, что у некоторых детей в пожаре погибли братья и сестры, значит, и у этой крохи тоже.
— Как же нет. Есть. Андрюша сам и есть Андел. Самый что ни на есть Андел. — Торопливо произносила Степанида, а руки её сновали, собирая маленькую праздничную трапезу.
***
Полночи Степанида ворочалась в постели и кряхтела, потом поднялась, достала из-под кровати сундучок, отыскала в нём холщовую тряпицу, свёрнутую трубочкой. В тряпице оказались две церковные свечки. Со дна сундучка Степанида достала бумажную иконку Вседержителя, закрыла сундук, на крышку его притулила иконку, встала на колени, зажгла одну свечу и, держа её в левой руке, начала правой креститься, бормоча:
— Господи, прости, что я сливочно масло у этих душ безгрешных воровала. Прости, Господи! И дай мне вразумление, а деткам-сиротинушкам утешение от Царицы Небесной, Пресвятой Девы Богородицы.
***
С тех пор Лиза стала ходить в развалины, чтобы поиграть там в «как раньше». Она наряжала палочки, закутывая их в толстые тёмно-зелёные листы подорожника, в ярко-оранжевые круглые листки осины и в жёлтые берёзовые листики, и играла ими как куклами. У девочки были палочки «мама», «папа», «бабушка» и «Андрюша». Но с началом осени времени для игр выпадало нечасто. Ребята из старшего отряда ставили верши, и Степанида с девочками потом чистили рыбу для засолки. А однажды из деревни прибежал мальчишка и позвал тащить невод: шла ряпушка. Тут уж трудились всем гуртом. Таскали рыбу корзинами.
Ещё детдомовцы сами заготавливали на зиму дрова. Привезенные в зиму хлысты были уже напилены, и сложенные чурки дожидались первых морозов, но часть их нужно было расколоть уже сейчас. Старшие мальчики кололи дрова, а малыши носили поленья. Девочки пилили длинные чурки двуручной пилой. Как-то раз, когда старшие мальчишки еще не вернулись из школы, Сёмушкин вытащил колун из сарая и, размахнувшись со всех сил, стукнул им по чурке. Колун почему-то застрял в дереве. Митька тащил и пыхтел, но не собирался сдаваться.
На крыльцо вышла нянечка, глаза её распахнулись от страха:
— Римма, да что же ты за детьми не смотришь-то…
— Молчите, а то под руку скажете, — тихо, но сурово говорит Римма.
Так, пока чурку сам не расколол, Сёмушкин колуна не отдал…
Только убрали дрова, как начались дожди. В Карелии дожди затяжные. Дождливыми вечерами корабль острова уплывал без солнца на борту. А иногда дожди укутывали детский дом в плотную белую вату тумана, и он как будто парил в облаках.
Но Лиза в дождь даже чуточку веселела: её окружал заплаканный мир, а ей самой ничуть не хотелось плакать; наоборот, если бы Лиза могла обнять этого большого плаксу, то обязательно бы это сделала.
***
Вот уже целый день не было дождя, и Алька решился отнести свой недельный запас сухарей «к чертям за пазуху». Он дождался, когда мать ушла к воспитанникам старшего отряда, и выскочил за дверь, предварительно достав из запечья рукавичку с насушенными сухарями. Милка, во время дождей привыкшая, как хвостик, ходить за братом по квартире, потянулась за ним. Ей давно уже было любопытно, куда он пропадает, как только выходит из дома. На улице было пасмурно и серо, но Милу это не останавливало. Хорошо, что земля ещё влажная, на ней хорошо видны следы брата. И Милка-следопыт двинулась по тропинке. Проходя вдоль стены круглого дома, девочка решила опираться на стенку и сошла с тропинки, но тут её подстерегала опасность: деревянные завалинки, которыми были обшиты стены дома от дождей, давно сгнили, а почва от дождей просела, и Милка внезапно провалилась под землю. От неожиданности она не сразу сообразила, где находится, потом ей стало страшно, что её никогда не найдут; а если найдут, то мама очень сильно будет ругаться, и тогда Милке лучше не находиться. Милка и не заметила, как начала тихонько выть.
Лиза тоже дожидалась, пока директорша придёт к старшим следить, как они делают уроки, потому что хотела улизнуть в своё убежище и проверить куколок. Она уже подходила к зданию, как услышала всхлипы. Сначала Лиза обрадовалась, потому что вспомнила о нянюшкиной кошке, которая вот-вот должна была родить котяток. Но потом девочка увидела директорскую дочку, сидящую в подвале. Лиза остановилась и стала думать, что делать. Идти за помощью к взрослым? Но тогда будет раскрыта тайна её убежища. Доставать самой? Но Милка такая упитанная, что и Лизу может под землю утянуть. Нужно было срочно что-то придумать. А думать Лиза могла только сидя, обхватив коленки, и она так и поступила, плюхнувшись на влажный камень у тропинки.
— Ты чего расселась? Сейчас же помоги мне! — Закричала Милка. Она испугалась, что Лиза так её под землёй и оставит, отомстив ей за маму-царицу.
— Я думаю. Не мешай. — Лиза вдруг вспомнила, что в дровянике лежат длинные доски для перекладывания рядов поленницы, и встала. — Я иду в сарай за лестницей. — Сказала она для Милки, чтобы та не боялась немного посидеть одна.
Лиза притащила две доски, спустила их одну за другой к Милке, расположив их крест-накрест.
— Берись за доски там, где они скрестились, и подтягивайся, — крикнула она вниз. Милка послушно подтянулась на досках. Это оказалось несложно. А там и Лиза протянула навстречу руку и помогла ей выбраться.
Девочки уже подходили к крыльцу директорской квартиры, когда из спального корпуса вышла Анна Ивановна. Как только она увидела дочку вместе с детдомовкой, то схватилась за сердце и стала ругать дочь. Лиза тут же ретировалась и решила переждать директорский гнев в другом месте. Но этим дело не кончилось. Заведя дочку домой, Анна Ивановна вдруг разглядела, как она испачкалась и стала ругать её ещё и за это.
— Ты вгонишь меня в гроб. — Кричала Анна Ивановна. — Вечно ты извозишься, как свинья, как грязная свинья.
Милка заплакала, а Анна Ивановна кричала и кричала. И тогда Милка жалобно сказала:
— Мамочка, это Лиза толкнула меня в погреб.
— Ну, это ей так с рук не сойдёт. — Анна Ивановна рассердилась окончательно. Она тут же пошла в спальный корпус и, разыскав Лизу, схватила её за рукав и потащила на кухню, выговаривая по дороге все накопившееся к ней раздражение.
— Как ты смела прикоснуться к моей дочери! Да ты мизинца её не стоишь! — Пунцовое лицо директорши казалось вот-вот лопнет от напряжения. — Это же надо, какая наглость: столкнуть ребёнка в подвал! Будешь теперь неделю на кухне дежурить! Всю посуду мыть и всю картошку чистить! Всю, и чтоб никто не помогал! — Дежурили на кухне только из старшего отряда, но Лиза и не собиралась спорить с разъярённой директоршей.
Девочка молча слушала крик директорши, и вдруг у Лизы закружилась голова: она начала задыхаться, потому что услышала слово «толкнула» и ощутила опять на своей спине руки брата, которые толкали её в отверстие форточки. Зачем ты меня спас? Зачем? — Внутри Лизы всё громко кричало и рвалось на мелкие кусочки. А сама девочка съёжилась в комок, прячась от наваливающегося страха, который давно уже к ней не приходил.
Степанида уже сталкивалась с воинствующей директоршей, поэтому молчала, лишь покачивая недовольно головой. Но когда девочка начала задыхаться, повариха не выдержала и подошла к ней с кружкой воды; она присела рядом с девочкой и стала поить её водой, приговаривая:
— Вот так, ещё глоточек, и ещё один. Сейчас, спазмы пройдут, сделаем ещё глоточек и пройдут.
Анна Ивановна махнула рукой и пошла к себе на квартиру отмывать грязнулю-дочь.
На следующий день Лиза сидела на кухне около Степаниды и старательно чистила продолговатые картофелины. Они были неуклюжими и чем-то напоминали тряпичную куклу Сёмушкина. Лиза подняла голову и спросила у поварихи:
— Баба Стеша, а почему люди обманывают? — Спросила она.
— Кто обманывает? Я обманываю? — Опешила Степанида.
— Не ты, баба Стеша, а люди. Почему они обманывают? — Вздохнув, девочка опять опустила голову и разглядывала глазки на грязной тёмно-синего цвета картофелине неправильной формы.
— Люди? Почему они обманывают? Взяли чужое что, а отдавать не хотят. Или боятся чего-нибудь, наказания, к примеру, вот и не хотят признаваться. — Степанида тяжело вздохнула и посмотрела в окно. Дожди прошли, но снег не спешил. И земля вокруг чернела, как растерзанное гибелью сыновей материнское сердце. А Лиза в своём сером грубой шерсти платье, сидела над очередной картофелиной и, высунув от старания язык, выковыривала из картофелины глазки.
— Пальтушка-то твоя где? — Вдруг спросила Степанида.
— Нету. Она сгорела. — Тихо произнесла девочка, не поднимая головы от картофелины.
— А вот я тебе свой платок тёплый подарю. Он шерстяной, с городу привезен, только немного вытерся. — Повариха вышла из кухни и скоро вернулась с толстым платком в крупную трёхцветную клетку — сине-коричневую с белыми прожилками.
— Баба Стеша, спасибо, — поблагодарила девочка. — Ты очень добрая, совсем как моя бабушка.
— А как звали твою бабушку? — Стала расспрашивать девочку Степанида.
— Баба Мотя. — Девочке нравилось, что баба Стеша разговаривает с ней, как с большой.
— Матрёна, значит. А ты сама откуда? — Степанида почему-то очень хотела, чтобы Лиза оказалась какой-нибудь дальней роднёй или, на худой конец, роднёй кого-нибудь из земляков.
— Из города. — Лиза сникла, потому что не помнила названия города.
Дальше разговора не получалось, потому что девочка не знала даже названия улицы, потому что давно жила в детском доме. Но Степанида уже прикипела душой к этой худышке, и, пригладив на детской головке выбившиеся из косичек волосинки, пригласила:
— Ты, если тебя кто забижать будет, сразу ко мне бежи. А им скажи, что баба Стеша вам покажет; так и скажи, мол, баба Стеша вам покажет. — Степанида последнюю фразу повторила дважды. Так ей понравилось быть бабой Стешей.
***
После случая с провалом под землю Милка избегала встреч с Лизой, она очень боялась, что детдомовка ей отомстит.
Но девочкам всё же пришлось встретиться. Однажды Анна Ивановна послала Милку на кухню с хозяйственным списком для Степаниды. Поварихи не было, одна Лизавета мыла посуду после обеда.
— А где Степанида? — Спросила Милка.
Лиза повернула голову, посмотрела внимательно на Милку и продолжила мыть посуду, как будто была здесь одна.
— Ну да, я соврала, что ты меня толкнула. Но мама бы меня так наказала, что закачаешься. — Милка только хотела начать рассказывать, какая у неё строгая мама, а Лиза вышла из кухни, вылила на улицу мыльную воду из таза и вернулась обратно, как ни в чём не бывало. Лизу она не замечала.
— Ну, я же тебе честно говорю, что соврала. — Милка искренно не понимала, почему Лиза не прощает её.
***
Осеннее ненастье затянулось. Темнеть стало рано. Эвакуировать детский дом то ли забыли, то ли не успели, и здание детского дома сиротливо белело посреди затянувшегося бесснежия. Поговаривали, что немец продвигается почти без боёв. Но тут же в деревне получали очередную похоронку, бабы начинали выть и все понимали, что бои где-то идут, наша армия действует, а подробности сейчас знать нельзя, потому что это военная тайна.
Как-то раз Алька залез в «планетарий» положить в схоронку сухари, — он теперь это делал очень осторожно, пробираясь вдоль ограды между можжевельника, высаженного кустарником, — забрался наверх, запрятал очередную партию как следует, и тут услышал где-то внизу голос Лизы. Он звучал как-то по-другому, был каким-то домашним. Мальчик прислушался: Лиза играла и говорила за разных людей. «Странная она какая-то», — хмыкнул Алька и полез вниз, стараясь при этом не выдать своё присутствие. Уже в самом низу предательски заскрипела ступенька. Алька вздрогнул, оглянулся и увидел испуганные глаза девочки. Она молча сидела на корточках и выжидающе следила за Алькой.
— Ты видала чертей? — Неожиданно спросил он у девочки. Лиза испуганно замотала головой в знак отрицания. — Пошли, покажу, — позвал Алька. Ребятишки вскарабкались по лестнице наверх, и мальчик гордо ткнул пальцем в чёрные фигурки с рожками, прыгающими на стене. Вокруг маленьких корчащихся фигурок плясали красные язычки огня, и Лиза вцепилась в Алькин рукав.
— Ты чего? Испугалась? Они же нарисованные. — Алька попытался высвободить рукав, но девчонка вцепилась мёртвой хваткой. Её глаза как будто остекленели.
— Эй, ты меня слышишь? — Но Лиза вдруг позвала: «Андрюша!» — Кто такой Андрюша? — спросил Алька.
— Андрюша, братик, Андрюша. Все выпрыгивали, а он не прыгал. Он не прыгал и не прыгал. Не прыгал и не прыгал. — Лиза повторяла и повторяла, что Альке стало страшно, и он свободной рукой схватил Лизу за воротник и встряхнул её. Девочка вздрогнула и посмотрела на Альку, не понимая, откуда он тут взялся.
— Пошли, а то мамка домой вернётся и будет меня ругать, что я за Милкой не гляжу. — Времени было много, и Алька забеспокоился не зря. Когда дети спустились и Лиза, присев на корточки, стала отряхивать с себя паутину, мальчик деловито спросил:
— У тебя, что, был брат?
Лиза уставилась на Альку:
— Откуда ты знаешь?
— Ты его стала звать, когда мы были там, — и Алька показал наверх.
— У меня нет никого… Это у тебя есть сестра. — Нехотя произнесла Лиза.
— Знаешь, а ведь Милка близняшка. — Альке почему-то хотелось поговорить с этой девчонкой, которая всегда задиралась с его младшей сестрой.
— Чья близняшка? Твоя? — Лиза недоверчиво покосилась в сторону мальчика.
— Нет, своя. Их две было одинаковых девочки. Мама с папой даже их путали. Совсем-совсем одинаковые. А потом стали разные. Машка, ну вторая сестричка-двойняшка, она какая-то тихая стала. Это когда они ходить начали. Милка бегала, а Маша шагнёт и стоит, качается, потом ещё шагнёт и сядет и в коленках согнутые ноги пытается обхватить… Вот как ты… — Алька замолчал и внимательно посмотрел на Лизу.
— Тебе сколько лет? — Деловито спросил он у девочки. Она растопырила пальцы на одной руке и показала Альке. Потом подумала немного и добавила палец другой руки.
— А Милке пять исполнилось. Так что ты — старше. Знаешь, вы с ней дружите. Ты и вправду очень на нашу сестричку похожа. Слышишь, дружите. — И мальчишка выскочил из оконного проёма наружу.
На улице начинало темнеть, и Лиза тоже нехотя выбралась из убежища.
***
Утром Лиза проснулась от криков во дворе. Никто не спал, но в постелях были только Сёмушкин и она. Поэтому девочка быстро поднялась, натянула платье, накинула на плечи шерстяной платок, который ей недавно подарила бабушка Стеша, и выскочила на улицу. Кричали около квартиры директорши.
Лиза подошла к директорской квартире вслед за нянькой, которая сразу же стала расспрашивать уже находившуюся тут Степаниду. Повариха рассказала, что Анна Ивановна нашла сегодня утром Алькину записку, где он сообщает о своём непреклонном решении идти на фронт сражаться с фашистами. А его самого нигде не могут найти.
Рассудительная Римма восторгалась поступком Альки:
— Надо же, смелый какой. Кто знал, что мальчик захочет фашистам отомстить за отца, от которого за всё время не было ни одной весточки.
— Да уж, смелости-то тут много не надо… — Степанида вспомнила, что на днях деревенские говорили, будто в Олонце уже финны. В Петрозаводске тоже. — Куда он побежал-то? Кругом фашист. И что теперь будет с мальцом?
Анна Ивановна выбежала из спального корпуса; там уже никто не спал. Все высыпали на улицу, с интересом наблюдая за директоршей, которая бегала, сломя голову, без всякой видимой цели. То она отправлялась на конюшенный двор, и приказывала запрягать Гнедую, то вдруг решала, что Алик уплыл озером, и надо бежать в деревню за лодкой. Она бегала по площадке и кричала кому-то, сотрясая кулаком воздух:
— Я вам отомщу за это. За мужа отомщу и за сына отомщу!.. Это проклятая война во всём виновата, забирает у нас наших близких!
Елизавета слушала крики директорши и не понимала, кому мстить ей? Кому мстить за то, что у неё нет ни папы, ни мамы? Кому мстить за смерть брата, который погиб во время пожара? Лиза вспомнила брата и подумала, что он бы тоже убежал на войну. Не мстить, нет, догадалась вдруг девочка, а потому что считал себя взрослым, а взрослые защищают маленьких и слабых. И Алька такой же. Он стал большим и пошел защищать маму и Милку, и её, Лизу.
Растерянная Мила стояла на крыльце в тёплой розовой кофточке, наброшенной на голубую ночную сорочку, и смотрела испуганными глазами на маму, которая кричала и бегала по двору. Всё происходящее просто не вмещалось в малютку, которая старалась держаться. Но когда нянечка запричитала: «бедняжка Милочка», девочка не выдержала и разрыдалась. Она стояла и плакала, растирая грязные полосы по лицу, а слёзы всё текли и текли по щекам, и капали с подбородка. И казалось, что никогда всё это не кончится, и тут Мила почувствовала, что кто-то взял её за руку.
— Пойдем. — Решительно проговорила Лиза.
— Ага. — Милка покорно побрела за Лизой, и ей совсем-совсем не хотелось отпускать эту тоненькую, но сильную руку.
Отойдя от директорского крыльца на несколько метров, так, чтобы их не видали, Лиза остановилась, застегнула на Милке кофточку, заправила сорочку в шаровары, сняла с себя платок и повязала его крест-накрест на девчушке. А потом Лиза опять взяла Милу за руку и пошла с ней по направлению к бывшему храму. Она повела Милу в свой мир, который хотела ей подарить. Пусть Мила играет её куколками-палочками, потому что она ещё совсем маленькая. А Лиза будет её защищать и… и Сёмушкина тоже.
***
Вечером Анна Ивановна потеряла Милу. Когда она после ужина пришла в свою квартиру, дочки там не оказалось, и перепуганная директорша бросилась её искать. Сердце выскакивало из груди, и Анна Ивановна понимала, что не переживёт этого, если сейчас же не найдёт Милу. Когда она добежала до ограды в том месте, где был лаз на озеро, то услышала за своей спиной детские голоса. Анна Ивановна повернулась и застыла в изумлении: её потерянная дочка спокойно шла с Лизой и совсем не спешила домой.
— Мила! Ты почему ушла без спросу? Где ты шаталась? Опять вся извозилась. — Милина нарядная розовая кофточка и ярко-синие шаровары были все в красноватой кирпичной пыли и даже в некоторых местах запачканы землёй. Анна Ивановна забыла о всех своих страхах остаться одной. Мила рядом с этой несносной девчонкой почему-то не радовала, а раздражала её. Дочь, вместо того, чтобы хоть как-то посочувствовать матери, — всё ж таки пропал её родной брат — идёт играть с детдомовкой, к которой ей близко подходить запрещено было раз и навсегда.
— Мама, а Лиза мне своих куколок подарила! Мы их на зиму одели. Вот, выдергивали нитки из платка и укутывали их, смотри, мамочка! — Мила улыбалась, протягивая маме пыльные ладошки, на которых лежали палочки, обёрнутые разноцветными шерстяными ниточками. Она была такая счастливая, какой Анна Ивановна её давно не видела, и это ещё больше раздражало.
— Выбрось этот мусор. И не смей водиться с этой… — Анна Ивановна запнулась. — Она дрянная девчонка.
— Нет, мамочка, она хорошая, она меня простила. Я тогда в яму сама упала, а она меня вытащила, а я сама… — Мила запнулась.
— Ты ещё и врать у неё научилась! — У Анны Ивановны иссякало терпение, и голос начинал набирать обороты.
— Мамочка, ну, пожалуйста, можно мне с Лизой играть. Она мне как старшая сестра. Ну, пожалуйста. — Голос девочки задрожал и стал тоненьким-тоненьким и таким тихим, что казалось, вот-вот оборвётся.
Анна Ивановна смотрела на дочку, на свою маленькую девочку, такую беззащитную и совсем одинокую, смотрела и не замечала, как у самой по щекам потянулись мокрые борозды.
— Иди ко мне. — Анна Ивановна поманила к себе дочь. Мила неуверенно сделала шажок к маме и остановилась, споткнувшись о сучок. Анна Ивановна протянула навстречу руки. — Доченька моя, девочка моя. — Женщина бормотала, обнимая похудевшую Милку, а та, прижимаясь к маме, шептала:
— Можно, мама? Можно?
— Можно. — Она хотела бы отдать все сокровища мира за счастье этой малютки, но не могла найти даже капли любви в своем обугленном войной сердце.
***
Поздно вечером пошёл снег. Он шёл сплошной стеной и ложился ровным плотным слоем и, хотелось верить, что надолго. А на кухне повариха Стеша чистила картофель и, поглядывая в окно, ворчала добродушно, что на Покрова Богородицы всегда выпадает снег. Так Царица Небесная заботится о своём детище, земле-матушке.
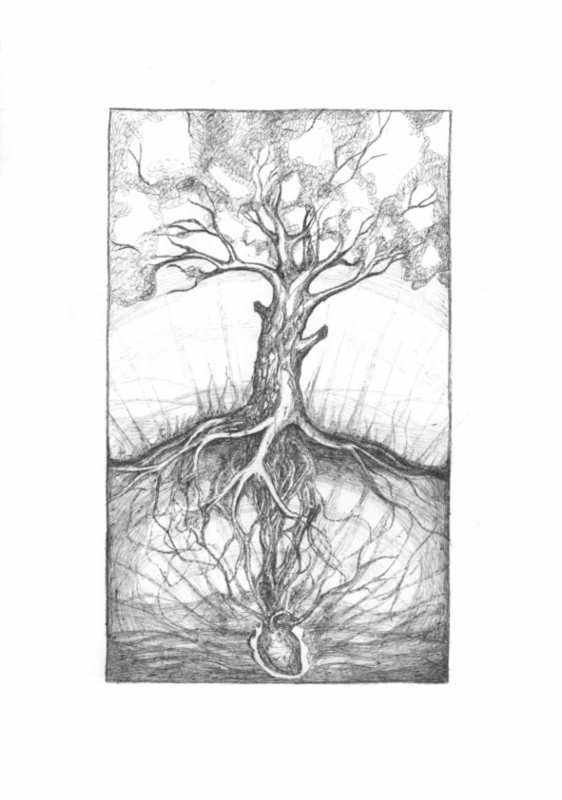
Древо при исходищах вод
Батюшка Амвросий говорил: «Как ни тяжёл крест, который несёт человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца, — и батюшка, показывая на сердце, прибавил, — древо при исходищах вод; воды (страсти) бурлят там».
1. Неделя первая по Пасхе
Заканчивался первый день светлой пасхальной седмицы. Солнце в этот тёплый майский день долго не заходило, отчего казалось, что сама природа хотела продлить самый важный христианский праздник. Но уже по-хозяйски деловито журчали ручьи, смывая с улиц карельского города накопившуюся за зиму грязь; и вдоль стен домов протянулись тени сиреневых сумерек.
Возле окошка в одном из таких домов сидела светловолосая девушка в тёмном платье с длинными рукавами, тоненькая, как былинка, и вся беленькая, даже брови и ресницы белёсые, и задумчиво разглядывала кусочек города, видимый из окна. А видно было немало: во дворе двухэтажного домика разлилась лужа, от которой несколько ручейков сбегались к отверстию канализационного люка. Прямо напротив окна торчал куст, на котором только-только набухли почки. Куст напоминал облезлую нахохлившуюся от холода наседку, хотя на улице было достаточно тепло для этого времени года. Но не куст был главным объектом внимания девушки, по имени Маша. Она наблюдала за куполами храма, которые виднелись сквозь станины стадиона, расположенного недалеко от этого домика. Храм, с наступлением вечера, словно свеча, начинал источать тёплый свет. И Маша хотела уловить тот момент, когда над куполами затеплится жёлтое марево. Неподалёку от Маши сидел Семён — высокий худощавый молодой человек лет восемнадцати. Они познакомились несколько лет назад, когда Маша пришла учиться в школу, в которой тогда учился Семён. И с тех пор они были неразлучны. Вот и сейчас они облюбовали кухню в доме Семёна, из которой так хорошо проглядывались купола храма Александра Невского. Семён чинил куклу младшей сестрёнки Ксюши, а Маша с Клавой, средней сестрой Семёна, уже приготовили ужин. И теперь все ждали прихода родителей.
Савва, младший брат Семёна и Клавы, — восьмилетний, розовощёкий, круглолицый, коренастый мальчуган, — сидел в комнате Семёна за его письменным видавшим виды столом и заполнял выданную в школе анкету.
— Клав, а ты как написала про папу? Где нужно указать его должность и место работы? Что он батюшкой в церкви работает? — Спросил мальчик у своей сестры, сидевшей перед компьютером за другим столом неподалеку от него.
— Нет, священником, иереем, и не в церкви, а в храме. — Клавдия, невысокая худенькая четырнадцатилетняя девочка-подросток с современной стрижкой под мальчишку, одетая в джинсы и клетчатую рубашку, повернулась к младшему брату: что ещё придумал этот непутёвый второклашка.
— Ага, ииреем. А родился я когда, в каком веке? В девятнадцатом? — Продолжал спрашивать Савва, старательно записывая за сестрой.
— Да не ии-, а иереем. Что ты там про год рождения сказал? Когда ты родился? — Переспросила у него Клавдия.
— Так ведь я когда родился? В одна тысяча девятьсот девяносто девятом году, а это значит, в девятнадцатом веке, — стал объяснять Савва.
Растерявшаяся поначалу Клава зашлась в хохоте.
В комнату заглянул Семён и следом за ним Маша, а между ними втиснула голову самая младшая в семье четырёхлетняя Ксюша.
— Что тут у вас? — Спросил Семён, пропуская вперёд Машу.
— Да вот, Савва в девятнадцатом веке родился, так что он у нас тут самый старший, старше бабушки, — радостно поделилась с ними своим открытием Клавдия, — а по национальности ты кто? — Спросила она у Саввы.
— Ну, карел, — мальчик насупился, чувствуя, что старшая сестра предвкушает ещё один повод для смеха.
— Да почему же карел? — Добродушно усмехнулся Семён.
— Мы в Карелии живём, поэтому. — Савва отвечал нехотя, опустив низко голову.
— Иди ко мне, родственник, — улыбаясь, проговорил старший брат, — Савва встал из-за стола и под дружный хохот прошел неуверенно несколько метров до Семёна, который подхватил его на руки, прижал к себе и с высоты своего ста восьмидесятиметрового роста громогласно объявил:
— Постановляется всех, родившихся в Карелии, считать карелами, родившихся в Англии — англичанами, родившихся в России — россиянами.
— Мы с матушкой русские, как же это вы у нас вдруг все карелами стали? — Дети не заметили, как в комнате появился отец, вернувшийся с вечерней службы, а это он внёс в разговор разумное зерно. Отец Кирилл, высокий худощавый русобородый мужчина средних лет, стоял в дверном проёме и радушно улыбался.
— Папочка, а Савва карел, он вчера родился, раньше всех, — кинулась к отцу Ксюша.
— Ладно, ладно, будет вам смеяться над братом. Давайте ужинать… — начал было говорить отец Кирилл, как Клава быстро спросила:
— Маму не будем ждать?
— У мамы сегодня занятия до… — Отец Кирилл не успел договорить закашлялся, и тут же вышел из комнаты, чтобы как можно скорее прервать кашель, пока не начался приступ астмы. Он прошёл в свою спальню, отыскал на прикроватной тумбочке флакончик с аэрозолем и прыснул в рот пару раз. Затем аккуратно снял с себя рясу и, оставшись в подряснике, вышел к столу, который накрывали Клава и Маша.
На ужин девочки приготовили макароны по-флотски. То есть кашеварила Маша, а Клава крутилась возле неё, потому что кухня была территорией её бытования. В запечье отец Кирилл почти десять лет назад соорудил просторные двухэтажные полати, на которых за весёлыми цветастыми занавесками матушка рожала и Савву и Ксюшу. Теперь здесь была женская община. Для Клавы это была ещё и собственная художественная мастерская, а во время постов к дочке на полати перебиралась матушка.
Как только в кухню вошёл отец Кирилл, Маша позвала мальчиков из комнаты Семёна, дверь которой также выходила в кухню. Трижды пропели хором, стоя перед иконами: «Христос, воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», затем чинно расселись и неспешно стали есть. За столом разговаривать не полагалось, поэтому на кухне было тихо, лишь изредка кто-нибудь шёпотом просил передать хлеб или налить чай. Чувствовалось, что в этом маленьком домике все знают, что нужно делать и у каждого здесь есть своё место.
Отец Кирилл ел и посматривал на своих домочадцев.
Вот Семён, сидящий справа, старший сын, который, несмотря на слабое здоровье (родился недоношенный и растёт больше вверх, чем вширь), каждое утро обливается холодной водой — характер воспитывает. И одевается всегда легко. Носит демисезонную куртку даже в сорокаградусные морозы. Семён закончил недавно курсы плотников при храме, и его бригада уже строила свой первый деревянный шедевр. В бригаду подобрались одни крепыши, и Семён старался не отставать от ребят: в перерывы всегда находил минутку подтянуться на перекладине. В армию Семёна не берут из-за того же здоровья, так он сам хочет проситься на альтернативную службу санитаром в местную больницу. Через месяц Семёну восемнадцать исполняется. Не об этом ли он шепчется с Машей, жившей раньше в соседнем доме.
То, что по соседству несколько лет назад находился детский дом, никто давно не вспоминал. Да и Маша уже год была прописана в университетском общежитии, в трехместной комнате с девочками из Медвежьегорского района, где её видели редко, потому что она пропадала по вечерам, праздникам и на каникулах здесь, в семье отца Кирилла, где все давно полюбили эту уравновешенную, аккуратную, молчаливую девушку.
Рядом с Машей Ксюша уплетала за обе щёки свои любимые макароны и запивала молоком. Две туго заплетенные косички (наверно, Маша перед ужином заново заплела) непослушно торчали в разные стороны, напоминая о неугомонном характере их хозяйки, которая в свои неполные пять лет умудрялась по любому поводу иметь своё мнение. Отец Кирилл улыбнулся в бороду, видя, как Сюся (так он ласково поддразнивал дочку) старательно ест, поглядывая по сторонам и явно рассчитывая на добавку. Сегодняшняя вечерняя трапеза, как и обеденная, была праздничной. Ксюша тоже старалась поститься во время Великого поста, но ей приходилось есть молочные каши. А тут любимые «матросики», как и удержаться от лишней порции. Вся по комплекции в матушку, Сюся росла кругляшом, и ей очень шли полосатые штанишки и кофточки, в которых она напоминала пушистого котёнка. Отец Кирилл, бывая в хорошем поднятии духа, расставлял в разные стороны руки и пытался поймать дочку, говоря:
— Колобок, колобок, я тебя съем!
А Ксюша, заливаясь от смеха, старалась убежать от папы, но когда он всё-таки её ловил, сквозь хохот, выговаривала:
— Не ешь меня, я тебе песенку спою! — и начинала петь песенку Колобка. Из этой песенки и взялось Ксюшино домашнее имя. Девочка не выговаривала слово «сусеки», у нее получалось: «по сюсе скебен». Отца Кирилла забавляло дочкино словцо, так оно к ней и прилипло. Правда, Ксения иногда сердилась и важно говорила, что она не Сюся, а Сюся. Но тогда начинали смеяться все, кто ничего не знал о песенке Колобка, потому что имя свое девочка выговорить тоже тогда не могла.
Слева от отца Кирилла сидел Савва. Это место он занимал первый год, с тех пор, как пошёл в школу, а раньше он сидел рядом с мамой. Савва любил, когда в гости приезжала бабушка Вера Марковна, папина мама, потому что тогда он уступал ей свое место, а сам уговаривал Клаву пересесть к бабушке, чтобы опять оказаться рядом с мамой. Сейчас слева Савва и Клава сидели вдвоём, а бабушкин стул был отставлен в угол. Напротив отца Кирилла на другом конце стола стоял самовар, возле которого обычно хозяйничала матушка. Сегодня чай разливала Клава, а Ксюше велено было не крутиться, чтобы ненароком не задеть за горячий латунный самоварный бок.
Ксюша тут же похвасталась, что сегодня на занятиях в воскресной школе одна девочка из старшей группы читала им книжку про Муху-цокотуху. В ней тоже было про самовар, и когда она, Ксюша, вырастет и станет из мухи цокотухой, то купит самовар, чтобы жениться. Все сидящие за столом засмеялись, но отец Кирилл не стал делать замечания: светлая седмица началась, пусть радуются. Даже в тропаре поётся: «Люди, веселитеся!».
Этот самовар был куплен, после того как будущий отец Кирилл повенчался со своей будущей матушкой. Отец Кирилл помнил, как они гуляли по Питеру, рассматривая витрины магазинов, и он придумывал о продававшихся там вещах разные истории, которые как будто приключились с ними. А про самовар он рассказал не в прошлом, а в будущем времени: что он будет стоять на столе, за которым сидит большая счастливая семья, и эта семья — его собственная. У той витрины отец Кирилл и предложение руки и сердца будущей матушке сделал. На Литейном проспекте это было, кажется. Тем летом он семинарию заканчивал, а Нитка на регентское отделение приехала поступать, но не поступила, и потом всё отшучивалась, что не поступать ездила, а за мужем.
Самовар, конечно же, не тот, про который была придумана семейная история, но именно из-за «самоварной» истории они с женой и купили этот. Купили странным образом. Сосед-алкоголик принес, слёзно просил на бутылку. Матушка дома одна была, не знала, что и делать, вот и дала соседу денег. Потом отец Кирилл ходил к соседке, хотел вернуть им самовар, но соседям было неудобно, от самовара они отказывались. Тогда отец Кирилл во время поездки в епархию, находившейся в столичном городе, узнал в антикварном магазине красную цену самовара и всё до копеечки выплатил соседям.
Отец Кирилл оторвался от своих воспоминаний из-за того, что за столом стало тихо: все поели и сидели, ожидая, когда встанет батюшка. Отец Кирилл поднялся из-за стола, повернулся к иконам, все хором поблагодарили Господа за трапезу и попросили не лишить их пищи духовной.
— Папа, — обратился к отцу Кириллу Семён, — можно с тобой поговорить?
Отец Кирилл внимательно посмотрел на него, потом на девочек, убирающих со стола и на Савву, уныло глядящего на входную дверь в ожидании мамы, и спросил:
— А это не может подождать до прихода мамы?
— Маша тоже так говорила, но мама так поздно приходит… — Семён замялся, и отец Кирилл, не дожидаясь от сына дальнейшего объяснения, пригласил его в свою комнату, попутно обратившись к Савве:
— Сынок, посмотри, не нужно ли почистить чью-нибудь обувь.
Савка радостно побежал в коридор: папа доверил чистить обувь ему одному, а раньше они всегда делали это вместе с ним, и самое главное, он, Савва, теперь самый первый встретит маму!
Отец Кирилл посмотрел, как сын расставил в ряд ботинки его, Семёна и свои, потом в другом углу поставил сапожки Маши, Клавы и Ксюши, но тут же вытащил из ряда Ксюшины красные сапожки и отставил их в сторону, а следом свои коричневые ботинки. Отец Кирилл улыбнулся: молодец сын, помнит, что эту обувь нужно чистить бесцветным кремом, а остальные — чёрным. И проследив, как Савка полез в тумбочку под телефоном, где хранились баночки с кремом, щётки и другие сапожные принадлежности, отец Кирилл пошёл в детскую, через которую они с матушкой проходили к себе в спальню.
***
— Пап, — Семён еле дождался отца, и как только тот зашёл следом и закрыл дверь в комнату, выдохнул: — мы с Машей хотим пожениться.
Отец Кирилл посмотрел на сына: вырос как, жениться собирается. Ну что ж, хорошие хлопоты… Он вспомнил своё венчание, Нитка была такой же молодой, как сейчас Маша. После венчания поехали в дальний приход, небольшой карельский поселок недалеко от границы с Финляндией, где только выстроили небольшой деревянный храм. До этого там не было православных приходов. Когда отец Кирилл спросил, поедет ли жена в лесную глушь, молодая матушка весело сказала: «Куда иголка, туда и нитка». С тех пор он шутливо называл жену своей ниточкой, а иногда и нитью путеводной. Там, в Лесном, родился Сёма, а когда должна была родиться Клавушка, матушка почти полгода пролежала в столичном роддоме. После рождения дочки его перевели служить в столичный храм… Отец Кирилл рассеянно заулыбался, он совсем забыл о том, что сын ждёт его ответа.
— Так надо, чтобы мы с матушкой благословляли, — добродушно проговорил он и неожиданно закашлялся сухим кашлем.
— Папа, ничего не случилось? Ты не заболел? — Семён ждал, что отец расскажет о таинстве венчания и как к нему готовиться. И ещё про первую брачную ночь… А вместо этого… вечный папин астматический кашель.
— Нет, нет, — поспешил ответить отец Кирилл, увидев расстроенное лицо сына. — Это весеннее обострение, ты же знаешь, что весной у меня всегда кашель. Сейчас, сейчас… — отец Кирилл никак не мог нащупать в кармане подрясника флакончик с лекарственным аэрозолем. Наконец нашёл, прыснул в рот и сел на стул напротив сына. — Видишь, всё уже в порядке. Сейчас поговорим. Ну вот, где вы жить собираетесь и на какие деньги? Маше ведь еще четыре года учиться. И со Стасиком что решили? — Отец Кирилл торопился говорить, чтобы сын не видел его слабости. Но если бы он посмотрел на себя глазами старшего сына, то увидел бы деда, как будто ему не сорок лет, а все шестьдесят: осунувшегося, похудевшего, плоти в нём почти не осталось, одни ходячие мощи. (Но ничего, — храбрился он, — Ниточка выучится на медсестру, и в доме будет свой медик, нужно только потерпеть до лета, когда она защитится).
— Папа, мы собираемся сначала квартиру снимать и ждать разрешения взять Стасика.
Стасик, шестилетний Машин брат, жил в детском приюте доме для малышей. Когда Маше разрешили брать Стасика на выходные, она стала приводить его сюда, и поначалу Стасик хвостиком ходил за сестрой. Отец Кирилл не раз замечал, как присутствие малыша стесняло Семёна в общении с Машей. Но потом всё изменилось, и теперь Стасик, скорее Сёмин хвостик, чем Машин. Вся семья привыкла к его присутствию, а Ксюша начинала теребить старших уже со среды, чтобы не забыли взять на выходные Стасика, иначе она завтра в садик не пойдет.
Семён продолжал:
— А потом мы хотим построить дом где-нибудь в посёлке. Но это после того, как Маша получит диплом. Пап, ты же знаешь, что в поселковых детских садах работников не хватает, а она не только воспитателем, но и музыкальным работником может быть.
— Хорошо, это всё правильно, а Маша как хочет? — спросил отец Кирилл.
— Мы с Машей вместе решали. — Семён обиделся. Неужели отец думает, что он без Маши всё решил?
— Значит, уйти от нас собираешься? Ну-ну, не ерепенься, понимаю, что свободы от родителей хочется. — Отцу Кириллу становилось тяжело дышать, но он не хотел опять при сыне доставать лекарство и поэтому сводил разговор к шутке. — Давай договоримся вот о чём: пока с мамой не обсудим, ты младшим ничего не рассказывай. А сейчас ты не мог бы проверить у Саввушки уроки? Матушка что-то задерживается, придёт усталая, ей не до того будет.
Семён явно был растерян, но ничего не сказал, просто кивнул отцу и пошёл заниматься с братом. А отец Кирилл сделал несколько глубоких вздохов, прислушался к себе и потянулся за баллончиком с лекарством.
Через несколько минут отец Кирилл уже стоял у икон, раскрывая на молитвенном столике молитвослов и псалтирь. Он подготавливался к завтрашнему служению и собирался начать с чтения вечернего правила, а затем уже приступить к вычитке канонов и последования ко святому причащению. На это уходило обычно более двух часов, но в дни Пасхи достаточно было прочитать с вечера пасхальный канон вместо канона Иисусу Сладчайшему, канон ко святому причащению и вечерние молитвы, а утром канон и молитвы ко святому причащению, поэтому отец Кирилл рассчитывал управиться к одиннадцати часам вечера. Отец Кирилл поднял голову к иконам, и его лицо осветилось тихим светом благоговения.
Матушка в этот вечер пришла почти в полночь, когда в доме спали все, кроме отца Кирилла. А отец Кирилл лежал и думал о том, как объяснить сыну, что венчание — это день рождения семьи, который будет навсегда записан в книге небесной. Можно объяснить, что значат разные предметы, например, фата — это символ непорочности невесты и прочности союза. Но как объяснить сыну, что такое любовь? Или что такое семья?
Отец Кирилл слышал, как матушка прошла по коридору в кухню, потом ненадолго стало тихо, а затем послышалось скрипение полатей.
— Решила меня не беспокоить, знает, что завтра мне рано вставать на службу, к Клаве на полати легла спать, — понял он и добродушно улыбнулся, радуясь заботливости жены.
2. Неделя вторая по Пасхе
Отец Кирилл заканчивал читать утренние молитвы, когда услышал негромкие удары первых падающих каплей. Дочитав правило, он выглянул в окно, увидел множество бегущих по стеклу дождевых бисерин, словно перед окном кто-то подвесил блестящую прозрачную водяную занавесь, и растрогался:
— Господи, как же хорошо жить в мире Твоём!
Отец Кирилл давно заметил, что когда утром просыпаешься, то все краски кажутся слишком яркими, а звуки все — резкими, грохочущими… Во время молитвы как куполом каким накрывает, тогда ничего не видишь и не слышишь, кроме молитвы. А после исполнения утреннего правила весь мир предстаёт в гармонии: цвета, формы, звуки… — всё гармонично и всё радует. И именно таким, радующим не только глаз, но и душу, увиделся отцу Кириллу мир в начале второй недели по Пасхе. В первое воскресенье после Пасхи празднуется Антипасха. Для неверующего Антипасха воспринимается как праздник атеистов, но на самом деле — это праздник некоего восполнения, это еще одна радость встречи. Радость встречи апостола Фомы и воскресшего Христа. Это праздник человека, жаждущего по-настоящему пережить встречу с Богом, восполнить Пасху радостью о Христе. Ещё это воскресенье в народе называли Красной горкой и считали счастливым днем для вступления в брак. Но Красная горка — это языческий праздник.
Об этом и собирался говорить сегодня на проповеди отец Кирилл. О том, что народ совместил апостола Фому с неверующими и получил некоего Фому неверующего. А апостол не был неверующим, он просто хотел убедиться в воскрешении Христа, потому что его, апостола Фомы, не было вместе с другими апостолами во время первого пришествия Христа.
Литургия в Антипасху очень радостная, нарядная. После причащения весь приход поёт хором трижды «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав» и выходит из храма крестным ходом с хоругвями и иконами. Красный цвет одеяний и хоругвей придает процессии некую царственность. Такая лёгкая окрыляющая радость вспыхивала в душе отца Кирилла, когда красный поток выплёскивался на крыльцо собора и растекался по площади. Матушка как-то сказала, что это похоже на демонстрации, на которые ещё во времена советской власти они ходили с красными флагами и транспарантами. Но отцу Кириллу не были знакомы эти ощущения, наверное, потому что в их маленьком посёлке, где он провёл своё детство, никаких демонстраций не проходило.
Воскресные песнопения: стихиры на Господи воззвах, стиховные стихиры вечерни, отпустительный тропарь, ипакои, канон, хвалитные и стиховные стихиры утрени, которые поются вместе с песнопениями Антипасхи; нисколько не напоминали отцу Кириллу советскую эпоху. Напротив, воскресные степенные антифоны, утренний прокимен, Всякое дыхание и оканчивающее утреню великое славословие, казалось, уводили звуками своими прямо на небеса. Даже обычные кафизмы звучали для отца Кирилла, как ангельские призывы покаяться и вознестись ко Господу.
Отцу Кириллу не приходило в голову сравнивать прикровенность служб во время поста и радостные, взлетающие ввысь гласы служб праздничных, а тем более вспоминать при этом непонятно что демонстрирующие первомайские или ноябрьские шествия. А крестный ход вокруг храма означал крепость нерушимую духовную, возводимую паствой, о чём знали все православные.
Любые церковные послушания отец Кирилл исполнял с усердием старательного школяра, только что вчера закончившего семинарию и торжественно приступающего к первому своему служению в храме.
Даже после чина исповедания, когда отец Кирилл только выслушивал кающихся прихожан и почти ничего не говорил сам, он тихо радовался тому, что столько людей очистило свои души. А во время совершения им Божественной литургии он, казалось, парил в алтаре и всю службу пел. Пел один, пел с хором певчих, подпевал чтецам. Его голос был везде. В пасхальные дни, когда пели не только на клиросе, но и всем приходом, отцу Кириллу нравилось петь больше всего. Но сегодня после того, как все вернулись в храм с крестного хода, отец Кирилл старался петь вполголоса из-за усиливающегося кашля. Он также продолжал улыбаться одними глазами и покачивать головой в знак согласия с чем-то, только ему понятным, только губы почти шептали Христос воскресе из мертвых…
Отец Кирилл в этот день почти ничего не ел, только пил тёплый отвар из еловых шишек, а вечером долго стоял на коленях перед домашним иконостасом и тихим голосом молил Бога:
— Господи, помоги мне! Дай мне выдержать все испытания, ниспосылаемые Тобой!
***
На следующий день у отца Кирилла не было службы, к вечеру он уже чувствовал себя лучше и даже взялся за проверку подготовленных Саввой уроков, ожидая возвращения матушки из училища.
— Папа, нам сегодня рассказали на уроке естествознания про то, как произошёл мир. — Подошедшая со спины Клава заговорила так неожиданно, что отец Кирилл вздрогнул. — В общем, сначала мир взорвался и тут же стал целым, а теперь он медленно распадается, и это называется энтропией.
— Это что, значит, если я сейчас всё подзорву, то, по-твоему, Клава, родится новый мир, с компьютерами, космическими системами и супер-Интернетом? — Савва, сидевший рядом с отцом Кириллом, расхохотался. — Вот уж дудки. Если я устрою большой «бум», то тут ничего не будет живого. И папа мне задаст… — Савва покосился на отца и тут же свернул разговор в другую сторону: — Не, никто мне этого не докажет, пока я сам не увижу, как из взрыва получается живой человек.
— Ты ничего не понимаешь. Энтропия, это… другими словами, мир был молодой, а теперь старый, он устал и умирает. — Чувствовалось, что Клавдия повторяла чужие слова.
Отец Кирилл вздохнул и, как само собой разумеющееся, проговорил:
— Это человек сотворен по образу и подобию Божию, а не мир по модели человеческой.
— Па, но Библия не научна. — Клава упрямо опустила голову.
— А что, кто-то уже доказал, что научное и истинное это синонимы? И что мы знаем об истине? — Отец Кирилл внимательно посмотрел на дочку, которая упорно отворачивалась от него. — Клавдия, ты что-нибудь слышала о теории разумного дизайна?
— Что это такое? — Клава услышала слово «теория», и вместо прячущихся глаз дочки отец Кирилл увидел сгорающий от любопытства взгляд.
— Концепция «разумного дизайна» основывается на предположении, что теория эволюции Дарвина не в состоянии объяснить происхождение жизни на Земле и возникновение ряда необыкновенно сложных ее форм. Ни эволюция, ни энтропия не объясняют появления таких сложнейших биологических механизмов, как, например, человеческий глаз. Другое дело, что дарвинисты не хотят признавать конкурирующую теорию, поэтому и обвиняют её в ненаучности. Что касается Библии… — отец Кирилл задумался на минуту и продолжил: — Вот подумай, Клава, и ты, Саввушка, почему современная наука родилась и развивалась в христианской цивилизации, а не в китайской или индийской? Бруно был доминиканцем, Галилей — преданным католиком, Коперник был священником. И Библия совсем не мешала им в научных изысканиях. Напротив, именно библейское откровение о разумном устроении мира делало возможным их научные исследования.
— Па, а почему тогда их сожгли, если они не против Библии были? — Спросил растерянно Савва.
— В этом-то и заключается парадокс: не они были против Библии, а церковники были против научного толкования библейской истины. — Отец Кирилл вспомнил о реферате на тему «Научное и творческое начала мира», который он писал в семинарии. — И ещё, Клавдия, хочу поинтересоваться у тебя, можешь ли ты объяснить с точки зрения науки, почему у тебя одни картины получаются, а другие нет?
Клава уставилась на отца.
— Па, причём здесь наука? Ты сравнил, это же искусство, тут действуют законы творчества.
— А Библия — это книга Творца, объясняющая как законы творчества, так и научные, да и любые другие законы, по которым сотворён мир. — Отец Кирилл был непреклонен.
— Ладно, завтра гляну в Интернете про эту теорию, как ты сказал? — Клавдии не хотелось оставаться побеждённой в споре, пусть это был собственный отец, и она поспешила ретироваться.
— Концепция «разумного дизайна» или креационизм, — ответил отец Кирилл и опять погрузился в Савкину тетрадь по математике.
3. Неделя третья по Пасхе
Наступила третья неделя по Пасхе. Воскресным днём после литургии, на которой вспоминали жен-мироносиц, отец Кирилл возвращался вместе с Ксюшей домой. Обычно дети после литургии шли домой с матушкой, но сегодня у Нитки была консультация перед экзаменом. Семён с Машей пошли отводить Савву на занятия в воскресную школу. Клавдия простудилась и на службе не была. Поэтому Ксюша послушно дожидалась папу в привратницкой, где был телевизор. Он показывал людей, которые входят в храм и выходят из него. Все эти люди проходили мимо Ксюши. До них даже можно было дотронуться рукой. Оттого так интересно было смотреть на них в соборный телевизор.
Об этом «настоящем» телевизоре, показывающем настоящих людей, и рассказывала Ксюша по дороге домой, вприпрыжку поспешая за отцом, шагающим широким шагом. Отец Кирилл рассеянно слушал дочку и отмечал изменения вокруг: под мостом в низине реки появились летние павильоны, откуда доносился слабый запах пива и табака.
Мост возле Онежского завода неожиданно оказался затоплен. Видимо, кто-то перекинул гибкий шланг от стадиона под мост к пивной палатке. Но шланг на сгибе перетёрся, и теперь из отверстия бил фонтан. С утра, когда отец Кирилл шёл по этому мосту в храм, ещё ничего не было, а теперь растеклась такая огромная лужа, что он еле через неё перебрался, приподняв под мышки дочку. Ксюша потрогала нос отца и спросила:
— Папуля, возле мостика дождик поселился?
— Он не сам, — грустно ответил отец Кирилл, — видишь зелёные палаточные домики под мостком? Там теперь этот дождик украденный живёт.
И отец Кирилл завернул на стадион, чтобы кому-нибудь сказать об аварии. Там всё было закрыто; тогда отец Кирилл с Ксюшей отправились восвояси к себе домой. Дома отец Кирилл сразу же стал звонить в водоканал, потом ещё куда-то и ещё, пока не выяснил, что никакого водоотведения от стадиона не существует. Ксюша наблюдала, как папа потёр переносицу, хмыкнул, потом сказал кому-то в трубку, что даже незаконный отвод может протекать. Когда отец Кирилл положил трубку, он огляделся с рассеянным видом и наткнулся на настороженный ожидающий взгляд Ксюши, которая сидела перед ним на стуле в коридорчике и ждала, чем кончится папин разговор.
— Папочка, мы спасли дождик? — Спросила Ксюша.
— Спасли, спасли. — Рассеянно ответил отец Кирилл, но потом улыбнулся и спросил: — А ты, доченька, почему на стол не накрываешь? — Трапезу воскресную пока никто не отменял, мироносица моя! — И ушёл переодеваться.
***
Во вторник Семён с Машей ходили на вокзал встречать деревенскую бабушку. Ещё у детей были финские бабушка и дедушка — родители матушки, они уехали жить в Финляндию, куда вышла замуж их младшая дочь. Финские бабушка с дедушкой приезжали как-то несколько лет назад, а потом у них появились финские внуки, двойняшки Марк и Фил, и финские бабушка и дедушка перестали приезжать совсем.
Бабушка Вера Марковна и дедушка Егор Федорович жили в деревне под Белгородом, поэтому ребята называли их деревенскими. У Егора Федоровича постоянно болела голова. То есть боли дедушка не ощущал, только от шума у него начинались приступы. Как объясняла бабушка, лопались сосуды.
Из-за болезни деда Егора дети ездили в деревню по одному. Этим летом подходила очередь Ксюши, которая еще ни разу не была у бабушки с дедушкой. Она любила, когда братья рассказывали о своих деревенских приключениях, и сидела в этих случаях, как завороженная. Ксюша предвкушала бабушкин приезд и просилась с братом на вокзал, но Семён с Машей её не взяли.
Ксюша еле дождалась их возвращения и крутилась у них под ногами, приставая к бабушке с расспросами. Вере Марковне самой не терпелось посидеть вместе со своей самой младшей внучкой. И после вечернего чая они расположились на лавке в кухне.
— Ну, рассказывай, бабушка, какая у тебя жизнь? — По-взрослому обратилась к бабушке Ксюша.
— Про мою жизнь рассказывать неинтересно. А вот если бы можно было начать жить заново, то я хотела быть стрелочником на глухом железнодорожном полустанке в самом отдалённом районе России. Я бы сидела в своей сторожке и писала истории о людях, проезжающих мимо на поездах, о природе, о соразмерностях в мире и о многом другом. На моем столе стояли бы часы, а на стене висело расписание поездов, чтобы встречать очередной поезд и вовремя помахать ему флажком. По утрам я бы растапливала печурку и ставила самовар, а потом пила липовый чай с пышными оладышками. — Вера Марковна посмотрела на внучку: слушает ли. Ксюша слушала бабушку во все уши, и та продолжила:
— Весной в хорошую погоду я бы работала на небольшом огородике возле сторожки. Летом ходила бы в лес за грибами и ягодами. А в дождливую осеннюю погоду и зимой сидела бы возле растопленной печки и, сочиняя истории, смотрела на огонь, который также безжалостен, как и милосерден, и думала о разных вещах, существующих на свете.
Толстая добрая Сима, проводница пригородного поезда, проходящего в семнадцать двадцать, привозила бы литровую банку парного молока от моих соседей, смотрителей Бабушкиных, живущих в двадцати семи километрах от меня. И я пила бы это молоко перед сном, как будто это соки земли, словно это матушка-земля поит меня своею любовью. — Бабушка ненадолго замолчала, словно что-то припоминала, а потом вдруг сказала:
— У меня была бы умная собака с добрыми глазами. А я была бы мужчиной и прожила бы так целую жизнь.
— Бабуля, а как бы ты была мужчиной, это что ли дяденькой? Тебя ведь Бог тётенькой сделал. Ты бы Его попросила, чтобы Он тебя переделал, да? — Спросила Ксюша.
— Мам, ну что ты опять свои небылицы затеяла. Знаешь ведь, что ребёнок всё прямо понимает, без экивоков, — проговорил заглянувший в комнату отец Кирилл, укоризненно качая головой.
Вера Марковна только молча улыбалась.
— А что такое экивоки? Это они из тётенек делают дяденек? — любопытство Ксюши разгоралось сильней, и в её глазах заблестели искорки.
— Ксюша, — с напором начал отец Кирилл, но, увидев умоляющие глаза дочки, вздохнул и проговорил уже спокойнее: — экивоки — это двунаправленные явления, как палка о двух концах, поняла? — Ксюша согласно закивала головой, — ты представь такую очень-очень длинную палку, у которой виден только один конец, а на самом деле их два.
— А где другой, у экивоки? — спросила девочка.
— Вот, видишь. — Отец Кирилл повернулся к Вере Марковне, — видишь, что ты наделала. Как расхлёбывать теперь? А ты, — отец Кирилл развернулся в сторону Ксюши, — марш спать. Сказка закончилась.
— Нет, не закончилась, расскажи, где другой конец палки? — закапризничала девочка.
— Это уже не сказка, это начались твои отговорки. Быстро в постель. — Отец Кирилл уже не шутил, и Ксюша поплелась в детскую, на ходу проговаривая:
— Бабулечка, ты поскорее приходи, я тебе тоже расскажу свою историю.
Вере Марковне постелили в детской, и Ксюша ждала бабушку, пока та наговорится со старшими внуками. Через несколько минут после бабушкиного ухода в детскую, отец Кирилл услышал, как Ксюша с жаром объявила: «Бабуля, слушай, я расскажу тебе сказку о ворованном дождике». Сквозь неплотно закрытую дверь было очень хорошо слышно, и отец Кирилл с интересом выслушал сказку, которая Ксюша взяла из жизни.
— Жил-был один маленький дождик, который помещался в кранике. — Рассказывала Ксюша. — Только он не любил там сидеть, и добрые люди, — это такие спортсмены, которые просыпаются раньше всех, — выпускали его поиграть с ними. И он брызгался и негромко хохотал вместе с этими детками, то есть спортсменами. Но однажды плохие люди, — это такие человеки, которые хотят много денег и всех обманывают, — и они украли дождик. Они сняли краник, а вместо него прикрепили к нему во-от такую длинную трубу, — Ксюша развела руками, наверное, чтобы показать размеры трубы, потом отрицательно замотала головой: — не-ет, не такую, а совсем-совсем длинную, совсем-совсем, чтобы дождик до краника бежал долго-долго. А краник был приделан на другом конце трубы в зелёной палатке, — Ксюша зашептала угрожающе: — это такой ненастоящий домик, туда приходят пить, чтобы их никто не видел. — Так вот эти плохие люди спрятали дождик от хороших людей и заставили его мыть грязные стаканы, из которых очень плохо пахло. — Ксюша передохнула и строго посмотрела на бабушку: слушает ли? И продолжила: — Дождику было очень грустно мыть грязные стаканы, а ещё дождик очень скучал без хороших людей, и тогда он решил убежать. Но дождик выключали только утром, потому что плохие люди не спали по ночам. И когда дождик опять выключили, он потыкался в стенки трубы: вдруг найдётся дырочка. И она нашлась. — Ксюша от радости подпрыгнула. — А потом мы с папой возвращались из храма и его увидели и спасли, вот! — Ксюша гордо посмотрела на бабушку, но та укоризненно закачала головой, и Ксюша быстренько сказала: — Ладно, бабуль, я сейчас по-другому расскажу. Вот так: дождик увидели хорошие люди, они догадались, что он в опасности, и спасли его!
— Значит ты, Ксюша, хорошая девочка, вовремя ложишься спать и не капризничаешь, когда утром тебя будят? — спросила её бабушка.
— Бабуля, я больше не буду хвастаться! И буду всегда вовремя ложиться! — Ксюша бросилась обнимать бабушку.
— Хорошо, хорошо. Неси молитвослов, будем готовиться ко сну.
Ксюша залезла на стул, чтобы снять с полки детский молитвослов: книжку с яркими картинками и самыми удивительно простыми и понятными словами, которые сами шептались, если вдруг подступал страх. И что удивительно, страхи съёживались от таких звонких добрых слов и исчезали. Вот.
***
Уже неделю в городе установилась не по-весеннему тёплая погода. Вера Марковна ходила в садик за Ксюшей и не переставала охать, что настают последние времена. Даже то, что Семёна с Машей включили в молодёжную группу, она приписывала этим временам, чем пугала отца Кирилла и Савву. Ксюша никаких времён не боялась, тем более что никто ей не мог объяснить, что это такое. А разве можно бояться того, чего ты не понимаешь? Ксюша, как губка, впитывала всё, что рассказывала ей бабушка, и даже ревновала её к Стасику, которому тоже было интересно слушать Веру Марковну, но так ничего и не поняла про эти последние времена, зато она сразу же поняла, что такое времена церковные.
По средам молодёжная группа проводила в приходском доме для детей и подростков православные занятия. Но в эту среду они ходили в детский дом, а после всей группой пришли в дом отца Кирилла.
Отец Кирилл пригласил ребят на кухню, и когда они расселись, поинтересовался о цели их визита. Ребята посмотрели на Семёна. Это он вычитал у Сергея Булгакова в настольной книге священнослужителя о временах церковных а, когда стал спрашивать про них у ребят, то оказалось, что в молодёжной группе никто об этих временах ничего не знал.
— Итак, церковные времена. И что, совсем никаких предположений? — Спросил отец Кирилл.
— Девочки предлагали версию, что это православный календарь, то есть, как в церкви празднуются христианские события. — Ответила Маша.
— А что это за христианские события празднуются? — Опять спросил отец Кирилл.
Ребята ответили почти хором:
— Жизнь Христа.
— Вот-вот. А это разве церковные времена? Церковь-то когда образовалась? — Отец Кирилл оглядел ребят. — Кто знает?
— Уже после того, как распяли Христа, — кто-то из ребят негромко проговорил из дальнего угла, и отец Кирилл не успел разглядеть, кто.
— Верно. И со времени образования христианской Церкви начались церковные времена, как это упоминается у Булгакова.
— Так просто? — Ребята не ожидали такой быстрой развязки их интриги.
— А что надо делать, чтобы так много знать и во всем разбираться, как вы? — Спросил щуплый темноволосый парнишка среднего роста.
— Читать надо много. Молиться, поститься, а ещё просить у Бога вразумления, иначе никакие знания не принесут вам пользы. — Отец Кирилл задумался, потом посмотрел по сторонам и увидел счастливое Ксюшино лицо. — Чего такое? Давай рассказывай, — обратился к дочери отец Кирилл, но та в смущении закачала головой, как это бывает со школьниками, которые всё поняли, но объяснить ничего не могут. А ребята из молодёжной группы, услышав, как вошедшая на кухню Вера Марковна загремела посудой, поднялись и подошли к отцу Кириллу за благословением, после чего тихо покинули дом, словно их было не десяток человек, а всего один или два.
Отец Кирилл так и сидел за кухонным столом, не замечая течения времени, пока не хлопнула входная дверь.
— Па, а ты был прав, — Клава, как всегда, прямо с порога кинулась к отцу.
— Это ты про что? — Отец Кирилл, для которого Клавдия, с одной стороны, своей неожиданностью была непредсказуема, а с другой стороны, этой же неожиданностью его подкупала, старался держаться невозмутимо.
— Про теорию, о которой ты мне совсем недавно говорил. Оказывается, в отличие от эволюции, креационизм удовлетворяет научным критериям, в частности, второму закону термодинамики, а эволюционная теория этому закону противоречит. — Клавдия выпаливала фразу за фразой с таким жаром, как будто она сама выдумала эту теорию. — И еще есть научный, а есть библейский креационизм. Папка, а знаешь, оба этих направления доказывают сотворённость материи. Представляешь, и научно и по Библии!
— Представляю, и ещё как. — Отец Кирилл улыбнулся в усы, но так, чтобы дочка не заметила.
4. Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. День памяти свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских
День рождения Семёна, а ему исполнялось восемнадцать, в этом году пришелся на день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Но за три дня до этого, в ночь с четверга на пятницу, когда православные вспоминали явление на небе креста Господня, Семёну приснился сон, в котором измождённый, закопанный по грудь в землю человек просил его помощи.
На следующую ночь Семён проснулся в поту: ему опять приснился закопанный, молящий о помощи. Но в этом сне из пустыни на несчастного нёсся в облаке пыли конский табун. От страха Семён проснулся и сел на кровати, вытирая со лба холодные бисерины выступившего пота. Перед глазами четко отпечаталась картинка несущегося табуна: лоснящиеся от пота спины, шелковистые конские гривы и хвосты, развевающиеся на ветру. Семён даже замотал головой, чтобы избавиться от такого явного наваждения. Он встал, повернулся к иконе Вседержителя, висящей в изголовье, и прошептал:
— Избави мя, Господи от помыслов всяких, и плохих, и хороших, и помилуй мя!
Потом взял молитвослов с полки под иконой, открыл его на заложенном месте и стал дочитывать покаянные каноны, оставленные было на утро.
***
Утром Семён отправился на службу в храм Александра Невского. Он знал, что исповедовать будет его крёстный отец Климент, и приготовился не только к исповеди, но и к духовному собеседованию, если позволит время. Семён надеялся, что крёстный поможет обнаружить грех, из-за которого снятся такие страхи.
Крёстный внимательно выслушал Семёна, покряхтывая время от времени от обильных его высказываний, потом сказал коротко:
— Под кровать загляни. Там он, — и, накрыв Семёна епитрахилью, прочёл над ним разрешительную молитву. Кто «он», Семён не понял, но переспрашивать не стал: в очереди на исповедь стояло ещё несколько прихожан, а до службы оставалось всего полчаса. Отец Климент сам принимал исповедь до службы. А перед выносом чаши принимать исповедь выходил один из сослуживших ему священников. Но у отца Климента было много духовных чад, которые стремились исповедаться у своего батюшки. Поэтому Семён решил сначала посмотреть, что там под кроватью, а потом уже обсудить это с крёстным.
С первых же минут службы Семён позабыл обо всём, в том числе о своём страшном сне. Он пел вместе с паствой Символ веры и Отче наш, а потом во время причащения пел Тело Христово примите, источника бессмертнаго вкусите…
По возвращении домой Семён первым делом заглянул под кровать и увидел лежащий там образок Симона Персидского, который как-то крёстный привёз ему в подарок. А после обеда позвонил отцу Клименту
— Крёстный, а как ты догадался, что под кроватью образок лежит? — спросил его Сёма.
— Так я же в твоей комнате был и видел, где у тебя иконки находятся, — пояснил отец Климент, — а образок Симона Персидского у тебя на краю полочки был поставлен. Иконка бумажная, лёгкая. Постель расправлял, видно, вот она от ветра и слетела. И святой тебе напоминал во сне, чтобы ты образок поднял, значит. А у меня по молодости образочки бумажные, бывало, за комод западали. Теперь-то на домашний иконостас я их сразу креплю.
— Спаси тебя Господи, крёстный. Ты придёшь к нам в воскресенье на обед? — Сёма не стал напоминать о дне своего Ангела: отец Климент и сам об этом знал.
— Позовёшь, так приду, — отшутился отец Климент. — А ты на день Ангела причащаться собираешься?
— Так я сегодня причащался.
— Тебя твой крёстный отец благословляет. — Голос отца Климента зазвучал еле слышно, хотя он только что звенел в трубке. И Семёну ничего не оставалось, как ответить:
— Спаси Господи, батюшка. Буду готовиться.
***
Совместная трапеза по поводу дня рождения Семёна, на которую он и приглашал крёстного, не была постной. Отец Климент ласково поглядывал на Семёна, сидевшего с ним рядом, и не мог нарадоваться на послушного крестника, старательно обходившего рифы скоромных блюд, хотя бабушка то и дело потчевала его ими. А Вера Марковна удивлялась, почему Сёма не ест своих любимых пирожков с ливером.
— Бабуля, я лучше съем с капустой. Они у тебя сегодня такие вкусные получились, что сами в рот прыгают. — Отговаривался Семён и брал очередной пирожок с капустой.
За столом кроме Сёминого крёстного собралась вся семья. Не было только матушки. Она позвонила и сказала, чтобы праздновали без неё: консультацию перенесли в клинику, из-за чего она не успевает к столу, но целует Сёмушку и желает счастья.
К телефону подходил отец Кирилл. Клавдия, которая выскочила из-за стола следом, весь разговор крутилась рядом с ним, и как только отец положил трубку, накинулась на него с упрёками:
— Ну что, какая теперь у неё отговорка?
— Не всегда получается выполнить обещанное, — начал объяснять отец. Но Клава уже рванулась на кухню, где был накрыт праздничный стол, и сердито плюхнулась на своё место. Отец Кирилл тоже вернулся к столу.
— Пап, а ты говорил, что не нужно обещать, если знаешь, что не сможешь сделать. — Савка упёрся локтями в стол и уставился на отца.
— У неё всегда не получается. — Проворчала Клава.
— Не у неё, а у мамы, Клава, поправься. — Остановил её отец, чувствуя в то же время свою неубедительность, потому что матушка в последнее время только обещала, но не делала, и даже перестала извиняться перед детьми: — Савва, убери со стола локти.
— Хорошо, у мамы, только я ей не верю. Мы должны были с ней ещё час назад быть в художке. — Клава кроме обычной школы посещала художественную, рисовала самозабвенно и как-то не по-детски дерзко. Отец Кирилл вспомнил, что сегодня открытие выставки выпускных работ Клавиного класса, и матушка как председатель родительского комитета должна была сходить с дочкой на торжественную часть. А сам он идти не мог, так как сегодня суббота, а значит, всенощная служба. И не просто служба, а его служение.
— Почему ты на открытие не пошла одна? — спросил у Клавы отец Кирилл.
— Ага, чтобы извиняться там за неё. Она пирог обещала яблочный, на собрании родительском хвасталась: испеку, мол, чаю попьем все вместе. — Клава кричала, выплевывая вместе с брызгами слюны накопившуюся злость.
— Клава, что ты говоришь! Сейчас же извинись. — Стал увещевать отец.
— Перед кем? Мамы-то нет, перед кем мне извиняться? — Клава выкрикнула с обидой и вдруг расплакалась. Отец Кирилл подумал по привычке, что нужно поговорить с матушкой при случае обо всём этом, и тут же с сожалением отметил про себя, что она так занята в последние три месяца. Мыслями вся в дипломной работе. О чём ни скажи, отмахивается, мол, после защиты разберёмся.
— Клава, что на тебя нашло? А пирог, в конце концов, могла сама испечь. Вот и бабушка помогла бы тебе. — Отец Кирилл, увидев дочкины слёзы, совсем растерялся. Да и отцу Клименту было не по себе.
— Вот ещё чего, реветь вздумала, — хмыкнула бабушка, — это в праздник-то. Лучше я вам сейчас историю одну расскажу, о том, как Сёма с зайцами повстречался, а было ему тогда целых пять лет.
— С зайцами? С настоящими зайцами? — Изумлённая Ксюша переводила взгляд с бабушки на брата и обратно: — Сём, а почему ты нам про зайчиков не рассказывал? — Расскажи, бабулечка! — Ксюша стала умолять бабушку, а та, добродушно усмехаясь, налила себе в чашку чая, отлила чуток на блюдце, взяла блюдце на ладошку и подняла его, а потом глянула на внучку. Ксюша не сводила с бабушки глаз, а бабушка поймала её взгляд, улыбнулась и утвердительно кивнула: допью, мол, сейчас и расскажу.
— Так вот, как-то гостили вы вчетвером у нас. Вчетвером, потому что Клавдя только народилась, а Саввушки и тебя, Оксанка, ещё и в проекте не было. А у нас с дедом был тогда летний хутор. Дед с Кириллом, папой вашим и Сёмой отправились за яблоками, которые всю зиму хранились в подвале дома на хуторе, — устройство такое дед придумал, чтобы и яблоки хранились, и на случай войны бомбоубежище семейное было. От автобусной остановки на хутор можно было идти двумя путями: поверху и понизу, — и так и так выходило два километра. Они решили идти поверху: там дорога суше. И если идти вдоль полей, через овраг, потом через лес; собирая подснежники (а дело было ранней весной), можно к нашему домику спуститься.
Сёма носился по дороге, забегая вперёд и радостно бросаясь навстречу отцу и деду, взбудораженный солнечным весенним утром и душистым воздухом оттаивающей природы.
Мужчины мирно шагали по дороге, рассуждая о яблоньках, чьи стволы были обмотаны на зиму от зайцев: как-то деревья зиму перезимовали. Шли они так, шли и вдруг слышат в нескольких метрах впереди от себя вопль ошалелого Сёмы. В два прыжка Кирилл оказался рядом с Сёмой, только успев подумать про него: «добегался». Оказался рядом и замер от увиденной картины. С полянки в овраг убегали три зайца, чьи задние ноги так и мелькали перед глазами, а в метре от ошарашенного Сёмы стоял столбиком не менее ошарашенный заяц, который только при виде Кирилла пришел в себя и показал им свой заячий хвостик.
Сёма, задыхаясь от восторга, повернулся к отцу:
— Ты видел? Они меня ждали!
Тот в ответ кивнул, а подоспевший следом дед понимающе усмехнулся:
— Как же, как же, ждали они. Ну-ну.
А Сёма всю оставшуюся дорогу шёл рядом с ними и, собирая подснежники для меня, представлял, как я обрадуюсь его встрече с зайцем.
«Я ведь не ожидал, что с ним встречусь. Знаешь, как я перепугался», — доверительно сказал он мне на ушко вечером перед сном, когда я пришла читать ему сказку.
— Сём, а какие они, зайцы? — Савва заворожено следил за рассказом, и когда бабушка закончила говорить, повернулся с этим вопросом к старшему брату.
— У зайцев задние лапы мощные, как у кенгуру, а передние лапки, совсем как руки. — Семён говорил смущённо: надо же, он забыл об этой встрече, а бабушка помнит, как будто это вчера случилось. — Любой перепугается от неожиданности, не часто сталкиваешься нос к носу с зайцем.
— Бабушка, а ты ещё чего-нибудь помнишь про Сёму? — Клава хитро посмотрела на старшего брата: вот тебе, будешь задаваться?
Вера Марковна улыбнулась, налила в чашку чая и ответила Клаве:
— Помню, только эта история про тебя, как ты в зоопарке протестовала и требовала, чтобы зебр тут же помыли и больше никогда не мучили лошадок.
— Ой, бабушка, тоже нашла, что вспомнить, я же не знала, что это такая порода, — Клавдия засмущалась и стала оправдываться, — с кем не бывает. Мне тогда ещё меньше было, чем Сёмке.
— Погоди, погоди, сколько же тебе было? — Бабушка прищурилась, будто вспоминала эту историю, а Клава повернулась к бабушке и закрыла ей рот ладошкой:
— Всё, не надо больше про зебр, ну, пожалуйста, — Клава умоляюще смотрела на бабушку, потому что вдруг вспомнила, как хотела написать письмо президенту в защиту бедных лошадей. Она тогда посмотрела на DVD фильм про Электроника, там была история о мальчике, покрашенном под скульптуру, который чуть не умер от ядовитых паров краски, и Клава решила, что этих лошадок тоже покрасили.
— Бабуль, а про меня ты что-нибудь помнишь, какую-нибудь историю? — Вежливо спросила Ксюша, — я что-то совсем ничего не могу про себя вспомнить, потеряла, наверное, где-нибудь.
— Что потеряла? — Спросила её Вера Марковна.
— Свои истории. Такая неинтересная жизнь без них стала, просто беда, — Ксюша для наглядности даже всплеснула руками, совсем, как мама.
Все, кроме Саввы, весело рассмеялись. Отец Кирилл заметил, что сын наоборот погрустнел, опять, видно, про маму вспомнил. Вера Марковна тоже это заметила и после того, как смех стих, обратилась к сыну:
— Кирилл, помнишь, как Савва искал клад?
Отец Кирилл улыбнулся и кивнул в знак согласия головой:
— Мы ходили втроём за грибами, бабушка ушла вперёд, а мы с Саввой задержались в лесу и догоняли её уже по тропинке, но когда мы дошли до того места, где нашу тропинку пересекала другая, то Савва увидел крест, получившийся от пересечения тропок. Он воскликнул: «Папа, смотри, крест!». «Да, и, правда, крест, — ответил я, — и что бы это значило?» А Савва тут же ответил: «Это значит, что тут кто-то клад закопал».
— Ой, Савва карел-кладоискатель! — Захихикала Клава.
— Клава, ну что ты ко всем цепляешься? — Не выдержал Семён.
— А, правда, Сёмин святой был апостолом, который с животными разговаривал? — Спросил Савва, самозабвенно любивший брата и во всем ему по-детски подражавший. Ему не нравилось, что Клава подшучивает над старшим братом.
— Это святой Серафим Саровский язык зверей знал. — Ответил ему отец Климент. — А Семёна нарекли в честь апостола Симона. Сегодня в храме будут читать главу из Евангелия о свадьбе в Кане галилейской. Так этот жених, на браке которого Иисус обратил воду в вино, и есть Симон.
— Сёма жених! Сёма жених! — Начала дразнить брата Клава. А Маша вдруг покраснела и отвернулась от Семёна.
Отец Кирилл поднялся из-за стола и вышел из кухни. Совсем не хотелось уходить от такой веселой компании, но ему пора было идти в храм, готовиться к службе.
Вечерние службы в пасхальные дни были короткими и преисполненными радости. Отец Кирилл переполнялся светлыми чувствами, когда выходил на амвон и провозглашал «Христос воскресе!», а в ответ слышал от паствы дружное радостное восклицание «Воистину воскресе!». В этих словах было столько смысла, что они сами понимались как воплощение Христа.
Отец Климент вышел вслед за отцом Кириллом в коридор, чтобы попрощаться с ним по-братски. Батюшки трижды приложились друг к другу, произнося «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!», и отец Кирилл отправился в храм, вспоминая по дороге смущённое лицо Семёна, хитрую рожицу Клавдии, серьёзную физиономию Саввы и шушукающихся за столом бойкую Ксюшу и тихоню Стасика. Отец Кирилл шёл своей привычной дорогой, вдоль одной стороны которой тянулась глухая стена Онежского тракторного завода, а с другой стороны за чашей стадиона простиралось южное крыло города с новостройками высоток замысловатой архитектуры. И вдруг отец Кирилл виновато вздрогнул: он совсем перестал вспоминать Нитку, а ей тяжело без семьи в круговерти зачётов и экзаменов. Отец Кирилл решил обязательно отслужить завтра после литургии молебен святому Фаддею Петрозаводскому, которому уже более пяти веков молятся, чтобы послал помощь и духовное укрепление учащимся.
5. Неделя пятая по Пасхе: о самарянине
Утром, только отец Кирилл успел дочитать правило, принесли телеграмму от соседей деда Егора. Его в очередной раз прихватило, соседи вызвали скорую, и деда увезли в больницу. Матушка, выбежавшая на звонок и принявшая телеграмму от почтальона, всплеснула руками, тут же передала листок с текстом подошедшей Вере Марковне, а сама побежала собираться в училище.
Вера Марковна, укоризненно качая головой, хлопотала возле Ксюши, заплетала ей косички и ворчала о безалаберном нынешнем поколении, которому собственные дети обузой становятся. Матушка ничего ей не отвечала, а, может быть, и не слышала, что говорила свекровь. Она металась из кухни в коридор или в ванную комнату, хватаясь то за расчёску, то за тарелку с кукурузными хлопьями, на ходу запивая их холодным молоком из стакана, и успевая при этом перекрикиваться с Клавдией. Клава, как всегда с утра, была не в духе и вымещала на матери своё плохое настроение.
Ксюша не обращала на бегающую маму никакого внимания. Она сидела на низенькой табуретке перед бабушкой и мурлыкала от удовольствия, потому что мягкие бабушкины руки ловко расчесывали её волосы и делили на пробор, ни разу не потянув ни за одну волосинку.
Сначала убежала матушка, хлопнув дверью. Потом Вера Марковна повела Ксюшу в детский сад, она аккуратно прикрыла дверь и замкнула её ключом. И в доме наступила благоговейная тишина. Только из комнаты Семёна слышно было бормотание: он читал утренние молитвы вместе с Саввой, который в нужном месте произносил: Господи, помилуй. Да в ванной комнате журчала вода из-под крана: там умывалась Клавдия.
Отец Кирилл вышел в кухню, поправил фитиль в лампадке перед иконой Божией Матери, именуемой «Спорительница хлебов», и затеплил в ней огонёчек.
Тут из ванны подошла Клавдия и стала накрывать на стол. Трапезничали овсяной кашей-пятиминуткой, запивая горячим душистым чаем. А мальчики съели ещё и по бутерброду с маслом.
Когда вернулась Вера Марковна, с порога начавшая рассказывать о нововведении в садике: мол, в их время такого не было, чтобы с родителей деньги на подарки ко дню рождения воспитательницам собирать, Клава с Саввой уже ушли в школу, а по пути с ними отправился и Семён. Их плотницкая бригада работала как раз неподалёку от школы.
— Ну что, сыночек, уезжаю я сегодня. Вышло моё время тут у вас пребывать, пора к деду отправляться. Тяжело тебе тут приходится. Хозяйство на глазах разваливается, — продолжала причитать Вера Марковна, по дороге на кухню прибирая на свои места то расчёску, то полотенце, оставленные невесткой. На кухне отец Кирилл собирался мыть после завтрака посуду.
— Отойди, не дело при жене и дочках мужику посудой греметь. — Увидев сына в фартуке, зашумела Вера Марковна. — Сама помою. Без меня тут хоть на голове стойте. А сейчас слушайся мать.
Отец Кирилл отошёл от раковины, но только и успел дойти до середины кухни, как Вера Марковна строго произнесла:
— Что, совсем нет времени с матерью поговорить?
— Мама, что ты, — отец Кирилл присел на лавку и положил руки на колени.
— Клавка-то у вас дерганная какая стала. На мать кричит, на старших кидается. Ты хоть знаешь, что с ней творится?
— Мам, это переходный возраст, ей скоро четырнадцать, вот она… — Отец Кирилл собрался было рассказать матери о своих наблюдениях за Клавой и о сделанных из этого выводах, но Вера Марковна перебила его:
— Да не вот она, не вот. Если б всё так просто было. Ты бы в школу сам, что ли сходил, если матери некогда. Совсем задразнили там девку. Она все переменки просиживает в библиотеке, где её приютила библиотекарша, Галиной зовут, а по батюшке не упомнила. У Клавди там даже чашка своя заведена.
— Мама, а ты откуда всё это знаешь? Классный руководитель из школы приходила? — Отец Кирилл от неожиданности оторопел.
— Как же, дождёшься, чтобы эти молоденькие учительницы по домам ходили. Им и в школе-то до детей дела нет. Я уж Клавде говорила: ты, дева, сказала бы классной, что они тебя обзывают.
— Кто обзывает? — Отец Кирилл терялся в потоках материнских словопрений.
— Да одноклассники родимые, одноклассники. То поповской дочкой, то бабой Клавой дразнят. Вот она такая шальная и стала. А кто мне сказал? Да Клавдя и сказала. С дитём говорить надо, а у родителей времени нет. Заведут мал-мала, а глаза за детьми нет. — Вера Марковна не говорила, а словно выстреливала словами в сына, который даже дар речи потерял. А Веру Марковну было уже не остановить: — Девка от рук отбивается, а матери и дела до неё нет, всё с конспектами обнимается. Где это видано, чтобы матушки учеными были. Как бы беды какой не вышло.
— Мама, — попытался было вставить слово отец Кирилл.
— А ты всё своё, да не обижу я никого твоих. Чай, они и мои тоже… Ох, упустите девку. Локти потом кусать будете. Смотри, Сёма перед рождением и перед Ангелом своим ходил причащаться. А Клава? У неё-то ведь перед Сёминым Ангел был, 18 мая. Ведь говорила я вам, чего таким именем дите называть. Вот она у вас и хромает, всё норовит в какую ни сторону свернуть. Никак ровно ходить не может.
— Мама, да у Клавы ещё будет день Ангела. Ты путаешь. По-твоему, и мой день Ангела на восемнадцатое число января приходится — а это по старому стилю. И 18 мая по старому стилю. А по новому у неё день Ангела ещё только будет. — Отец Кирилл стал считать, когда же будет день Клавиного святого, но почему-то вспомнились Четьи на этот день: о Феодоте и семь девах — в том числе Клавдии. Девы были взяты за отказ омыть идолов и преданы страшным мучениям, после которых их бросили в озеро с камнями на шее. В 303 году это было… У всех святых кончина мученическая: за Христа умирали ведь. — Отец Кирилл не заметил, что последние слова он произносил вслух.
— Вот, не на радость, а на мучение детей нарожали. — Вера Марковна домыла посуду и уже готовилась было налить себе из самовара чаю, но вдруг зашмыгала носом, полезла в карман фартука за носовым платком и засморкалась.
— Мамочка, что же ты себя заводишь, — отец Кирилл подошел к матери и обнял ее за плечи. — У нас всё будет в порядке. Не беспокойся. Я схожу в школу, обязательно схожу и библиотекаря поблагодарю за то, что Клавушку приютила. Вот прямо сейчас и пойду. — И он вышел в коридор.
А Вера Марковна налила себе чаю, хлебнула пару раз и отставила в сторону, проворчав, что некогда рассиживаться, когда в доме беспорядок. Поезд вечером ждать не будет. Она встала и начала убирать на полатях Клавину постель.
— Потом стирать, пылесосить и гладить… — Слышал отец Кирилл материнское ворчание, когда выходил из дома. На улице вовсю старалось майское солнце. На деревьях блестели клейкие ярко-зелёные листья, разросшиеся так буйно и весело, что даже не верилось, что они ещё неделю назад только робко выпрастывались из почек. И отец Кирилл, сам пару часов назад расстраивавшийся из-за болезни отца, почувствовал в груди такой распирающий его восторг, что в порыве нахлынувшего чувства любви подмигнул то ли солнцу, то ли всему этому безбрежному, радостно расплескавшемуся миру.
***
Провожали Веру Марковну все вместе. Ксюша и Савва вертелись возле бабушки, а Семён с Машей пошли в здание вокзала, там, на втором этаж, в зале ожидания висело электронное табло, на котором можно было узнать платформу прибывающего поезда.
Вечерний вокзал казался брошенным, одинокого пассажира здесь преследовало ощущение тоски и потерянности. Здание фундаментальной сталинской архитектуры было продолговатым прямоугольником, сложенным из большого бледно-жёлтого камня, в центре которого возвышался высокий цилиндр, заканчивающийся шпилем. Внутри зала над входом висели квадратные часы. Такие были модны лет сорок назад. Да и сама обстановка претендовала скорее на музейное помещение, чем на вокзал начала XXI века. Семён взялся за ничем не привлекательные поручни и тут же одёрнул руку: они, покрытые серебрянкой, — специальной краской, которой обычно в деревнях покрывают печи, — с виду были холодные, а при прикосновении оказались удивительно живыми, тёплыми. Тогда Семён внимательно присмотрелся к балюстрадам с чёрными чугунными решётками. А интерьер вокзала был украшен станинами: такие рёшетки в виде стилизованных, тоже покрытых серебрянкой ёлок, заканчивающихся сверху шишками. И вся эта красота оправлена деревянными плашками тёмно-коричневого цвета. Балясины, украшающие станины по бокам, — это орнамент, составленный из еловых венков и шишек — такой же есть и на гербе Карелии. И балясины и шары на перилах выкрашены серебрянкой, оттого они при первом прикосновении кажутся тёплыми, совсем не чугунными.
— Прибытие поезда №225 сообщением «Мурманск — Адлер» ожидается на вторую платформу; нумерация с конца поезда… — Прозвучало из динамика.
— Надо идти через тоннель. Спускаемся. — Это был уже голос Маши.
— Маша, потрогай, — Семён показал на шар в конце перил.
— Ой, какой теплый! А выглядит, как бронзовый или как там такой белый металл называется. Сём, хорошо-то как! Они такие тёплые, как живые. — Маша спускалась по лестнице и старалась прикоснуться к каждому шару.
— Теперь я знаю, как будет выглядеть наш будущий дом, в нём будут перила с такими вот тёплыми балясинами и шариками… — Задумчиво произнёс Сема.
— Как на вокзале? — И Маша расхохоталась так весело, что вслед за ней рассмеялся и Сёма.
***
Дня матушкиной защиты ждали давно, и все в доме обрадовались, когда, наконец, этот долгожданный день настал. Отец Кирилл пытался помочь девочкам накрывать на стол, или хотя бы картошку чистить, только Маша с Клавой вежливо, но настойчиво отказывались от его помощи. И Савва, насильно назначенный Семёном на сегодня поваренком, счищал с варёных овощей склизкую кожицу, жалостливо поглядывая на дверь, потому что, кроме как от папы, помощи ждать больше было не от кого.
И вот они сидели впятером за празднично накрытым столом и ждали маминого возвращения. Через час решили поужинать без мамы, а когда она придёт, пить всем вместе чай с «Шарлоткой», который испекли девочки. Когда же мама не пришла и в десять вечера, отец Кирилл уложил детей спать, а сам пошёл в училище, чтобы узнать, что там могло случиться.
По дороге в училище, находящемся на улице Советской, отец Кирилл поглядывал по сторонам на случай, если вдруг матушка идёт ему навстречу. В училище всё было закрыто, а сторож сказал, что уже в два часа дня никого в корпусе не было.
На обратном пути отец Кирилл шёл, как пьяный. Холодный воздух сдавливал грудь, а из горла вместо кашля вылетали обрывки звуков, чем-то напоминающих тявканье собаки. Но, несмотря на начинающийся приступ астмы, отцу Кириллу впервые совсем не хотелось возвращаться домой. Он не представлял, что сказать детям и где вообще могла быть Нитка. Отец Кирилл запоздало подумал, что не знает телефонов матушкиных однокурсниц, да и самих однокурсниц тоже, потому что они редко приходили в их дом. Матушка всегда звонила сама и теперь, наверное, что-то случилось, раз она не позвонила.
Ветер усиливался и мешал идти, а тополя на аллее скрипели и склоняли над отцом Кириллом свои ветви, как будто прогоняли его прочь. Отец Кирилл не помнил, как попал на проспект Невского, но, узнав здание епархиального управления, не свернул к храму Александра Невского, а пошёл почему-то прямо по проспекту, пока не уткнулся в ворота Крестовоздвиженского собора. Собор выглядел неказистым и приземистым… Отец Кирилл не ожидал, что он окажется таким убогим, и стал вспоминать, каким же собор предстал перед ними, когда они с матушкой переехали в этот город. И собор на глазах начал приосаниваться, как будто с него сползала шелуха прошедших лет.
— Вот так бы сбросить сегодняшний кошмар, или не дожить до этого дня, — подумал с горечью отец Кирилл, и ему показалось, что это он, а не собор, стоит здесь согбенный, с непосильным грузом сотен лет на плечах. — Выше сил Бог не даёт, — напомнил себе отец Кирилл и побрёл по проспекту обратно, на этот раз сворачивая в нужном месте к храму Александра Невского. Два жёлтых фонаря в начале и в конце аллеи дрожали под ветром и бросали на листву отсветы своих искусственных глаз, расстреливая мертвенным светом запоздалых прохожих.
Когда отец Кирилл вернулся домой и тихонечко вошёл в прихожую, из спальни родителей выглянул дожидавшийся их Семён, внимательно посмотрел на отца и встревожено спросил:
— Папа?..
В вопросе было столько горечи, боли, страха и нежелания согласиться с любым доводом отсутствия мамы, что у отца Кирилла защемило в груди, и он не смог, как ни в чём не бывало, посмотреть сыну в глаза, будто это он обманул и Семёна и всех остальных.
— Спать, спать, всё, сейчас спать, — устало бормотал отец Кирилл. Семён молча ушёл в свою комнату. А отец Кирилл сел, не раздеваясь, на стул в коридоре возле тумбочки с телефоном и смотрел на аппарат, будто тот знал, куда нужно звонить в таких случаях: в больницу, морг или ещё неведомо куда…
Только в полночь матушка позвонила и сказала, что встретила очень хорошего человека, с которым они решили никогда не расставаться. Матушка что-то долго говорила о том, что давно хотела всё рассказать, да не могла собраться с духом, потом она что-то упомянула о доброте и милосердии, которое есть у священников. Но отец Кирилл ничего не понимал, а просто держал трубку возле уха и смотрел на стену ничего невидящими глазами.
Семён никак не мог заснуть и несколько раз за ночь заглядывал в родительскую спальню: отец всё стоял на коленях и молился о спасении всех заблудших душ.
6. Неделя шестая по Пасхе: о слепом
Когда отец Кирилл в воскресенье пришёл на службу, к нему подошёл настоятель и сообщил, что из епархиального управления приходил помощник Владыки, чтобы пригласить отца Кирилла для конфиденциального разговора. Клирики зашушукались было, но отец Кирилл вёл себя, как обычно, и все успокоились.
После литургии отец Кирилл отправился в епархиальное управление. Он пошёл пешком, чтобы после закрытого помещения его астма получила немного свежего воздуха. Отец Кирилл не хотел думать о том, что за разговор предстоит с Владыкой, он понимал, что рано или поздно он должен был произойти, и теперь не было разницы в том, кто этот разговор начнёт.
На улице было намного холоднее, чем вчера, как будто колесо времени повернулось вспять, и весна сменилась зимою, — такой ледяной задул ветер. Отец Кирилл поправил шарф, вздохнул и осторожно выпустил воздух из лёгких, чтобы они не взорвались от кашля. На минуту ему представилось, а если бы и впрямь случилось так, что сейчас была бы зима.
Иисус ответил Фоме неверующему «Блажен невидящий и верящий… ты поверил, потому что увидел Меня». Отец Кирилл подумал: «А если не видел, потому что не хотел видеть, то тоже блажен?» Подумал и тут же невесело усмехнулся: «Да, вот так началась неделя о слепом. Он, слепец, прозрел, но хочет оставаться в тёмной пещере, чтобы и дальше не видеть истины».
Отец Кирилл шёл вдоль ограды собора Александра Невского, до епархиального управления оставалось совсем немного; и вдруг отец Кирилл остолбенел: прямо перед ним стояло заснеженное дерево. Он наложил крест, закрыл глаза и опять открыл: заснеженное дерево не исчезло.
— Не может быть. Неужели я так сильно хотел зимы, что у меня начались видения? — Отец Кирилл уставился на дерево, будто его взгляд мог растопить иней на ветвях, и в какой-то миг всё изменилось. Отец Кирилл с облегчением выдохнул и заулыбался смущённо: это же черёмуха зацвела… вот и холодно так поэтому. И то, что естественный круг природы не нарушен, обрадовало его. Он шёл и думал о том, что самое большое чудо — это жизнь. Из всего живого на земле только Иисусу удалось воскреснуть, а деревья каждый год умирают и воскресают, умирают и воскресают…
***
Вернувшись из епархиального управления домой, отец Кирилл застал в коридоре Семёна, который собирался идти к Маше.
— Сынок, — обратился к нему отец Кирилл, — задержись ненадолго.
Семён посмотрел внимательно на отца и, сняв ботинки, послушно прошёл в кухню, куда следом за ним вошёл отец Кирилл.
— Семён, ты уже взрослый. Сам скоро женишься, поэтому пойми меня правильно. Так вот, — отец Кирилл перевёл дух и продолжил: — Сегодня Владыка подписал нам с матушкой церковный развод. — Отец Кирилл опять замолчал, а потом вдруг добавил: — Мне тоже нужно будет уйти.
— Куда? — Спросил Семён и тут же догадался, — в монастырь?
Отец Кирилл молча кивнул.
— А как с ребятнёй? Их тоже куда-то определят. — Семён представил лица сестёр и брата.
— Кто определит? — Отец внимательно посмотрел на Семёна.
— Ну, вы с мамой. — У Семёна было растерянное лицо, чувствовалось, что это не укладывается у него в голове. Отец молчал, и это ещё больше сбивало его с толку. Привычный мир рушился на глазах Семёна, язык его заплетался. — Или… когда у Маши мама умерла, то их с братом тётка в детдом сдала… но у тётки своих детей маленьких было трое…
— Когда мы с мамой венчались, я думал, что брак нужен для продолжения рода, и мы с мамой молились, чтобы Господь послал нам вас… — Голос отца дрогнул, он замолчал, но уже через минуту твёрдым голосом произнёс: — В семье главное любовь и доверие. Семейная жизнь не может сводиться только к воспитанию детей. — Отцу Кириллу было трудно говорить, но он понимал, что должен это сделать, чтобы как-то уберечь сына от той ошибки, которая разрушила брак его родителей.
— Пап, — разволновался Семён, — ты против того, чтобы мы с Машей поженились? Это из-за мамы?
— Нет, Семён, что ты, родной, как я могу быть против того, чего хочет Бог. — На юношу смотрели глаза, в которых было столько любви и столько света, что этот взгляд показался нестерпимым, Семён даже зажмурился.
— Пап, а может, попросить Владыку, чтобы тебя оставили служить в храме? — спросил Семён, — Может быть, он разрешит?
Отец Кирилл промолчал, да и как он мог объяснить сыну, что Владыка для того и вызывал его, чтобы оставить в храме, дать послабление. Но для отца Кирилла это было нарушением церковного устава, а, значит, преступлением. Он стал искать какое-то объяснение, и вдруг вспомнил, как обманулся сегодня.
— … Знаешь, Семён, я недавно видел заснеженное дерево, а потом это оказалась цветущая черёмуха. И тогда я подумал, что мы обманываем сами себя: видим то, что хотим видеть, а не то, что есть на самом деле. Думаем, что так, как мы хотим, будет лучше, а на самом деле, так только всем хуже. И ещё я почувствовал, что деревья тоже умирают. Мы их рубим, строгаем, делаем мебель, кромсаем на дрова, а они всё терпят… а потом… воскресают.
— Пап, — возразил Семён, — дерево всегда живое, даже срубленное. Я это чувствую.
— Да, Семён, да… Но ты шёл к Маше, извини. — Вспомнил вдруг отец Кирилл.
— Папа, ты что, — Семёну стало неловко, — всё в порядке. То есть… ты не расстраивайся… — Семён и сам понимал, что все слова, которые он сейчас произносил, совершенно никуда не годились, и от этого терялся ещё больше.
— Ты иди, иди, Маша ждёт. — Отец Кирилл говорил откуда-то издалека, но не кашлял. И Семён, кивнув отцу головой, выскочил в прихожую.
***
В этот вечер Семён с Машей долго бродили по городу.
— А ты не думаешь, что это может быть заразно? — спросила Маша.
— Как это? — Семён явно не понимал, о чем она говорит.
— Вот наша со Стасиком мама, — Маша торопилась объяснить, — это ведь её подружка, то есть папа к маминой подруге ушёл… А я, то есть вы… меня взяли, — Маша повела плечами, словно ей неожиданно стало зябко, — приняли из детского дома, а теперь твои брат и сестры… — она не договорила и испуганно глянула на Семёна.
— Что ещё за цыганские страсти? Ты что, всерьёз в это веришь? — Семён хмыкнул. — Это же от человека зависит. Вот ведь что надумала, заразное несчастье. По-твоему, получается, что можно несчастьем заразить счастье и его не будет?.. Это уже химический процесс, а не Божий промысел… — Семён покачал укоризненно головой, то ли не соглашаясь с Машиной оценкой, то ли отказываясь от представления мира таким упрощённым. — А, по-моему, ты путаешь искушение и грех. Искушением может быть всё, что угодно, окружающее человека. А грех всегда внутри. Он не в объекте искушения, а в душе искусившегося.
— Честно говоря, Сёма, всё это просто у меня в голове не укладывается. Почему матушка так поступила? Почему твой папа не поговорил с ней, не остановил её? Знаешь, когда мой отец бросил нас, я думала, что мама сама была виновата. Слишком она мягкая была, всё прощала… и ещё — Маша посмотрела на Семёна, наверное, пытаясь понять, как тот отнесётся к её словам. — Ещё… Разве в семье священника так бывает? Ведь это не просто семья, а… — Маша замолчала, — это же не обычная семья, а самая… настоящая. И если и она… Получается, что настоящих семей не бывает… — и тут Маша заплакала.
— Ну-ну, Маш, — Семён подсел ближе, обнял её за плечи, а она уткнулась ему в грудь. — Ну, успокойся. Мои родители — самые обыкновенные люди, и мы: я, Клава, Савва, Ксюша — самые обыкновенные, — Семён неловко похлопал Машу по спине. Так обычно делал отец, чтобы подбодрить Семена. Маша вздохнула и села ровно, стараясь не смотреть на Семёна.
— Манюша, папа всегда доверял маме. — Семён помолчал и повторил недавно сказанные ему отцом слова: — любви без доверия не бывает, отец любит маму и верит, что… — Семён запнулся, вспомнил о мамином уходе, помолчал и неожиданно сказал: — После драки кулаками не машут. Мышка, это ведь моя мама. Я не хочу и не буду думать, почему так получилось.
— Так же ведь нельзя. У меня внутри будто всё умерло. — Маша тёрла глаза кончиками пальцев.
— Конечно же, я понимаю, что ты имеешь право не любить кого-либо, но не требуй этого же от меня. Здесь мы на разных берегах. — Чувствовалось, что Семёну было тяжело говорить. — Знаешь, что сказал мне крёстный, давно ещё, когда я его спросил: «Почему нужно любить людей? Папу, маму и родных, это понятно. С ними живёшь, а без любви никак не прожить. Но посторонние… Особенно, когда с первой же встречи чувствуешь, что человек тебя недолюбливает»? И крёстный мне ответил, что это самое трудное, потому что иначе получается по отношению к родителям и родным — это не любовь, а долг. А любовь… Тогда я не понял крёстного, только внутри меня что-то ёкнуло, как будто это самое главное, что я должен понять… — Семён опять помолчал, а потом проговорил, вздохнув: — Я молюсь, чтобы Господь помог нам всем.
— А знаешь, Сём, вот мы с тобой сейчас так хорошо, откровенно говорим. А мне страшно, что так ведь не будет всегда…
— Маша, конечно, ничего не остается неизменным. Но ты помнишь слова апостола Павла о том, что любовь не перестаёт, помнишь: говорить об этом и предсказывать это перестанут, знание упразднится, а любовь никогда не перестанет… И знаешь, если бы не ты, Маша, если бы я тебя не встретил, то я бы на Афон в тот же миг уехал, как узнал… — Семён запнулся, потянулся к Маше и приобнял её, а она уткнулась ему в плечо.
И так они долго сидели на скамейке недалеко от Драматического театра, а перед ними расстилалась панорама поймы реки Лососинки с её извилистыми рукавами притоков и арочными ажурными мостиками, перекинутыми через них. Солнце светило менее ярко, чем днём, но ему помогала луна. В Карелии наступало время, когда между днём и ночью был коротенький промежуток в полчаса. Эти белые ночи стремились запечатлеть художники и фотографы. А Семён с Машей смотрели вперёд, в своё будущее, и, как ни странно, увидеть его им помогала прозрачная кисея воздушной карельской стихии.
***
Из всех детей отец Кирилл больше всего беспокоился о Клавдии. У неё трудно складывались взаимоотношения со сверстниками. Сначала в школе её дразнили Клушей, так как Клава, — девочка домашняя и послушная, — также вела себя и в младших классах. А потом, узнав о том, из какой она семьи, старшеклассники, а вслед за ними и сверстники, обзывали ее поповской дочкой. Второе прозвище появилось одновременно с пополнением в их школе из семей чеченских беженцев. Тогда казалось, что воздух в школе был заражён какой-то ничем не оправданной злобой. Разговоры учителей в классах с детьми и с родителями на собраниях, угрозы и увещевания ни к чему не приводили, — всё было тщетным.
Травля Клавы в школе закончилась так же неожиданно, как и началась. Сёмин крёстный собрался со своей женой-иконописицей в паломничество по Италии, и матушка уговорила отца Климента взять с собой восьмилетнюю Клаву, которая тогда училась у неё рисунку. Поездка совпала с зимними каникулами. За итальянскую неделю Клава вытянулась, стала спокойнее, а по возвращении подолгу сидела за мольбертом. Рисовала она то покосившийся деревянный забор, стоящий почему-то в голом заснеженном поле, над которым в призрачной дымке парил Капитолий; то полуразвалившийся сарай, внутри которого через приоткрытую дверь виднелся удивительной красоты мир, а сквозь щели в стенах и в крыше из этого сарая струился неземной свет.
Клава стала носить коротенькую белую плиссированную юбку, как у теннисисток, а на блузке прикрепила значок с изображением теннисной ракетки. Её подразнили было Клаудио Шиффер, но, скорее, по привычке приставать. А потом из Италии на школу пришло письмо с благодарностью от самого Папы римского Иоанна Павла II. Так получилось, что Папа римский не смог принять русскую делегацию по причине своей болезни, но ему передали Клавин этюд, который тронул его настолько, что Папа поручил секретарям написать в далекую Россию незнакомой девочке Клаве. Директору школы прислали из Москвы уже переведенный на русский язык экземпляр письма. Иоанн Павел II писал, что почувствовал себя тем самым ребёнком, стоящим на большом шаре, которого нарисовала Клава: одновременно беспомощным и любимым Богом.
По карельскому телевидению тогда показали сюжет, а в школе Клаву стали звать звездой. И дразнить её никому уже не приходило в голову.
Да, с тех пор прошло три года. Отец Кирилл чувствовал, что с дочкой в последние месяцы что-то происходит. Он как-то даже пробовал поговорить об этом с женой, но матушка тогда опаздывала на занятия, и больше разговора как-то не получалось. А сам отец Кирилл боялся поранить девичью душу своей неловкостью.
Теперь же после матушкиного ухода и выговора Веры Марковны отец Кирилл не мог больше откладывать разговор с дочкой, которую к тому же хотел поддержать на самостоятельном пути взросления.
По вторникам, четвергам и субботам у Клавы были занятия в художественной школе, а по средам Сёма водил на ипподром Савву, где Савка занимался иподинамией. Обычно Маша проводила эти вечера с мальчиками, а Клава забирала из садика Ксюшу. Но сегодня Клавдия собралась идти вечером на день рождения к знакомому мальчику и попросила Машу заняться Ксюшей.
На дни рождения семейным советом решили ходить только по выходным, но Клавдия в последнее время всё чаще нарушала установленные в доме порядки. И когда отец Кирилл вернулся из храма, то застал дома одну Клаву, ничего не подозревая о её походе в гости.
— А где Ксюша? Ты за ней ещё не ходила? — Удивился отец Кирилл.
— Нет, за ней Маша пошла. — Клава ответила резко и тут же ушла из коридора. Отец Кирилл расшнуровал полуботинки, переоделся в тапочки и прошёл на кухню вслед за Клавой, но не найдя там дочки, заглянул в комнату Семёна. Клава сидела за компьютером, как будто она была одна в квартире.
— Как у тебя дела в школе? — спросил отец Кирилл.
Клава, не оборачиваясь, односложно ответила:
— Хорошо.
— А в художественной школе что интересного? — Отец Кирилл не знал, как преодолеть стену равнодушия, за которой спряталась дочь.
— Я бросила художку. — Спокойно сказала Клава.
— Что бросила? Художку бросила? — Дочкин творческий мир всегда казался отцу Кириллу настолько нерушимым, что с Клавой должно было случиться что-то очень страшное, если самое дорогое она бросила. Он никак не мог собраться с мыслями, найти нужные слова, а Клава всё так же продолжала сидеть за компьютером, гоняя по экрану спортивные машинки.
— А какой последний рисунок ты нарисовала? — Отец Кирилл подумал, может быть, это подскажет, как ему говорить с Клавой.
Клавдия нехотя сходила на кухню, достала из-за печи брезентовый чехол, вытащила из него натянутый на картон холст, вернулась в комнату и поставила перед отцом свою последнюю картину, на которой красные и чёрные цвета в виде извивающихся змей отвоёвывали друг у друга искривленное пространство.
— О чём эта картина, дочка? — Совсем растерялся отец Кирилл.
— Ой, пап, давай, не будем. Все эти разговоры ничего теперь не изменят. — Клава выцеживала слова, опять плюхаясь перед компьютером.
Отец Кирилл пошёл в свою спальню, снял со стены один из самых ранних дочкиных этюдов, на котором в раме распахнутого окна был изображён живописный берег Онего, запечатлённый ранним утром, когда разноцветье луговых трав тонет в дымке тумана, а весь мир кажется накрытым вуалью сна. Отец Кирилл посмотрел на картину, как будто увидел что-то давно забытое, и вернулся обратно в комнату к дочери. Он поставил Клавин этюд рядом с её последней картиной и сказал, показывая на раннюю дочкину работу:
— О чём вот этот этюд, я знаю; знаю, но каждое утро, взглянув на него, нахожу для себя что-то новое.
— Па, ты ничего не понимаешь в современном искусстве, а эта картинкаЮ — Клава небрежно махнула рукой в сторону этюда: — прошлое, никому не нужное и всеми забытое прошлое. А тут, — она так же небрежно ткнула пальцем в чёрно-красных «змей», — совсем другая техника.
— Тут другая душа. — Закачал головой отец Кирилл.
— Да пошёл ты со своей душой! — Клавдия осеклась, разозлилась от этого ещё сильнее и, скривившись в ухмылке, процедила: — Ну и что ты мне теперь сделаешь? Выпорешь, да? Или будешь читать морали о добре и зле?
Отец Кирилл встретился с жёстким злым взглядом Клавы, посмотрел на неё внимательно и строго и молча вышел из комнаты.
Клавдия всё так же продолжала сидеть за компьютером, механически дёргая рукой вслед за бегущими машинками, но потом она встала из-за стола, подошла к своим работам, стоящим на столе, где Савва делал уроки, посмотрела на них и вздохнула. Постояв так недолго, Клава ушла в свой закуток, достала из рюкзачка зеркальце, проверила, не потекла ли тушь с ресниц, но глаза были колючие, выдавали только чуть припухлые складки в уголках.
— Зачем я это сделала? — Спросила у своего изображения Клава, но тут же вздёрнула нос кверху: — Пусть, а то я всех слушаю, за всех переживаю. А он ушёл, не захотел меня слушать. А у меня проблем во, — Клава провела ладонью, — по горло. И никому нет до них дела. Нет, я заставлю меня выслушать, — бормотала она, — заставлю.
Когда Клавдия вошла в родительскую спальню, отец стоял к ней спиной, опершись над столиком около иконостаса. Его плечи были высоко вздёрнуты, словно это был не человек, а ангел со сложенными крыльями. От этого внезапно пришедшего в голову сравнения Клава разозлилась ещё сильнее.
— Ну, ну, молись. Ни фига Он тебе не поможет, — Клавдия, решив, что отец, как всегда, прибегнул к молитвам, издевалась над ним, чтобы вывести его из себя, но когда отец медленно повернулся к ней, она увидела удушливое синюшное какое-то незнакомое лицо, и ей стало страшно.
— Пап, тебе плохо? Сейчас я скорую вызову. Я сейчас. Господи, помилуй! Помоги, Господи! Папочка, прости меня. Я просто хотела… — Клавдия замолчала, потому что она не знала, чего хотела. Она опустила голову, потом повернулась и побежала звонить.
***
Маша с Ксюшей возвращались из садика и уже подходили к дому, когда на повороте их обогнала машина скорой помощи с включенной сиреной. Потом из подъезда их дома вынесли носилки.
— Папа, — крикнула Ксюша, узнав в лежащем на носилках человеке своего отца, и хотела побежать к нему, но Маша удержала её за руку. Девушка видела, что глаза у отца Кирилла закрыты, а лицо было мертвенно синего цвета.
— Пусть папу полечат, Ксюшенька, а мы к нему в больницу пойдём и навестим. А сейчас папа устал.
***
Эту ночь Маша впервые ночевала в доме отца Кирилла. Она весь вечер просидела с плачущей Ксюшей. Клавдия ходила по дому, как неприкаянная, и что-то бормотала себе под нос. Когда Маша спросила у неё, почему та не пошла на день рождения, Клава сильно удивилась, о чём это Маша говорит?
Семён с Саввой по возвращении с ипподрома застали дома одинокую девичью команду, находящуюся в какой-то прострации. Но как только Семён спросил, где папа, Ксюша начала реветь, размазывая слёзы по щекам, и басить, что папочка уехал на белой машине. Маша рассказала, что могла, а Клавдия отмолчалась. Пробубнила только, что папе стало плохо, и она вызвала «Скорую». Больше из неё ничего нельзя было вытянуть. В девять вечера сразу же после вечернего чая Клавдия сказала, что очень устала, хочет спать, потом забралась на свои полати и задёрнула занавеску. Семён пошёл проверять Савины уроки, а Маша укладывала Ксюшу, пела ей колыбельную, да так с ней рядом и заснула. Когда Семён заглянул в детскую, чтобы позвать Машу повечерять, то увидел, что девочки крепко спят, прижавшись друг к другу. Он улыбнулся и накрыл Машу одеялом, чтобы не замерзла.
Семён долго сидел в этот вечер на кухне. Всё, что он представлял себе о своем браке раньше, внезапно куда-то исчезло. И вот он уже самый старший в доме. Ненадолго, пока папа в больнице. Ну что ж, нужно попробовать, сможет ли он взять ответственность на себя. С Ксюшей, положим, забот меньше всего и со Стасиком тоже. А вот с Саввой и Клавой… Савва ни одного решения без мамы не принимает, во всём её слушается. Клавдия же, наоборот, пока с мамой, как следует, не повздорит, не заставит маму согласиться с ней, не успокоится.
Семён прошёл в свою комнату и, взяв свой молитвослов, встал на вечернюю молитву. О многом нужно было сегодня помолиться. И о папином выздоровлении телесном, и о духовном мамином здравии, о здоровье домочадцев и о вразумлении Господом его, Семёна, на несение семейного подвига.
***
Утром за завтраком оказалось, что Клавдии нет дома. Никто не слышал, когда она ушла. Но Семён осмотрел Клавины вещи и успокоился: сумку с учебниками взяла, значит, в школу пойдёт.
А Клава полночи прокрутилась, виня себя в случившемся с отцом. То ей казалось, что чем она хуже других девчонок, которые одеваются, как хотят, и заигрывают с парнями, то становилось стыдно за такие мысли. И чуть свет она пошла к отцу Клименту, с которым привыкла советоваться в сомнительных случаях.
Отец Климент, несмотря на раннее время, оказался в храме и радушно встретил свою любимицу.
— Отец Климент, мне бы исповедаться надо, — взмолилась Клавдия.
— Ну, раз надо, почему же не исповедать? — Отец Климент пригласил Клаву к аналою.
— Почему если у женщины муж или отец священник… — Клава запнулась, — почему ей нельзя жить, как другим женщинам, чем она хуже?
— Не хуже она, матушка, она должна быть примером подражания для прихожан. И не запрет создаёт соблазн. Это враг действует: один раз человек обманется, пойдёт на поводу собственных желаний, а дальше легче пойдёт.
— Пойдёт что? — Не поняла Клава.
— Человек пойдёт, пойдёт на поводу врага, потому что если не по воле Божией, то по чьей? — Отец Климент посмотрел на свою любимицу: вот ведь как выросла, такие вопросы её интересуют.
— Ну, как по чьей воле, ты же сам сказал, батюшка, что по собственному желанию человек делает, то есть по воле человеческой. — Клаве казалось странным, что отец Климент этого не знает, но тут она вспомнила свой ночной кошмар.
— Отец Климент, я вчера с папой поругалась. Я смеялась над ним, а он… Его в больницу увезли. — Клава опустила вниз голову и замолчала.
— Грехи наши тяжкие, — Вздохнул отец Климент.
— Каюсь, — опомнилась Клава и вдруг спросила: — Это из-за меня папа в больницу попал?
— Вот, вот, кайся, дочка. — Отец Климент опять тяжело вздохнул. — А я было подумал, что ты к дню Ангела готовишься.
— К какому дню? Ах, ко дню Ангела? — Видно было по смущённому Клавиному лицу, что она совсем об этом забыла.
— Поздравляю… Причащаться-то готовилась? — Проговорил отец Климент, накрывая Клавдию епитрахилью.
Клавдия помотала отрицательно головой. Она благословилась у отца Климента и побежала в школу, чтобы не опоздать и чтобы папе после выхода из больницы не пришлось выслушивать ещё и от классной руководительницы про нерадивую дочку. Уже у самой школы Клава приостановилась и пошла медленным шагом.
— Клав, — окликнула её со спины одноклассница, — ты откуда такая быстрая, как электростанция, неслась. Я видела.
Клава, услышав про электростанцию, вспомнила, как отец Климент говорил ей сегодня: «Любовь… она как свет внутренний, всегда видно, есть она у человека или нет её».
— Да уж, пора включать лампочку для всего человечества, — отшутилась Клава, а сама отошла в сторонку, чтобы позвонить Маше.
— Алло, Маш, да всё в порядке. Я в храме была. Ага, спасибо за поздравление. Ты мне поможешь сегодня днём пирог испечь? Я к папе хочу сходить. Поможешь?.. Спасибо! Ну, давай, договорились.
***
В больничной палате, где лежал отец Кирилл, кроме него, находилось ещё трое человек. Они все были ходячие и по причине тёплой погоды целыми днями пропадали в скверике. Отцу Кириллу в наследство от предыдущего больного достался сборник стихов «Время жить», лежавший на тумбочке. Стихи отец Кирилл читал редко, больше нравилось слушать романсы или песни. Но от нечего делать отец Кирилл полистал неприметную чёрно-белую книжицу, и ему кое-что показалось не просто интересно, а будто про него самого написано.
*****
Вчерашний день прошёл незаметно, как и другие,
хотя ничто не предвещало его конца,
и та же самая зеленеет трава, и имя
то же самое произносится у крыльца.
Но день — другой, и уже нет силы прежней,
с которой вчера — от калитки и, прямо — в небо,
и стали седыми белые крылья надежды,
и мякиш спекается чёрствою коркою хлеба.
Сегодняшний день очень скуп на белёсое солнце,
прячет его в бездонных карманах небесных
между стираных платков облаков куцых…
Душе моей пасмурно, а бедному сердцу тесно.
Точно также пасмурно душе и тесно сердцу было для отца Кирилла. Он вчитался в последние строки, потом пробежал глазами строфу выше: точно про него: стали седыми белые крылья… Что же такое знает этот парень? Интересно, какой он, видно, молодой ещё совсем? Отец Кирилл посмотрел на обложку, с которой на него смотрело серьёзное лицо, но имя ни о чем не говорило. Поэт чем-то похож на Сёму. Отец Кирилл хмыкнул и продолжил листать книжицу:
*****
Вчерашний день, — как видишь, не судьба, —
Растаял, словно не было его.
Площадкою для выгула собак
Прошел, как снег, как прошлое снегов.
Нет памяти о нем в моей руке.
Вчерашний день, — пропажа ноября.
И мне не плыть опять в его реке,
И не неметь под тенью фонаря.
Вчерашний день, — как видишь, нет как нет, —
А завтра и сегодняшний — «вчера».
И я уйду… быть может, только свет
Чуть потускнеет в этот день с утра…
Да, как точно сказал. Сравнил человека с днём. Человек ушёл, как вчерашний день. Отец Кирилл вдруг почувствовал, как отступает боль, словно что-то тяжёлое сняли с груди. Не стихи, а прямо-таки терапия. А вот замечательные строки:
Вновь лик безвременья мерцает,
и циферблат давно усат,
а я вчерашний день считаю
уснувшим век тому назад.
Отец Кирилл представил усатый циферблат и улыбнулся. Он решил, что непременно расскажет про этого необычного усача Ксюше и Савве. И в голове сама собой стала складываться сказка о злом волшебнике, укравшем время и заточившем его в свою башню, а вместо часов этот волшебник везде развесил свои усатые портреты. Осталось только сочинить счастливый конец. Но это Ксюша сама придумает. И отец Кирилл заснул. Впервые он спал днём, и ему снился усатый циферблат, говоривший дребезжащим трусливым голосом.
А потом пришли дети, и Савва спросил, когда придёт мама. И отец Кирилл ответил, что она обязательно придёт. Потом, когда-нибудь. Но обязательно придёт…
***
Когда Семён с братом и сёстрами вернулись домой из больницы, куда они всем семейством ходили проведывать отца, под дверью их квартиры сидел рыжий котёнок с всколоченной шерсткой и жалобно мяукал. Ксюша тут же схватила его в охапку и сказала, что это домашнее солнышко, и она теперь будет с ним спать. После такого ультиматума пришлось впустить в дом орущее рыжее чудовище. Ксюша сразу же налила в блюдце молока и поставила на пол перед котёнком:
— Пей, мой сладенький, пей, мой Шуры-мурычка. Вот, какой хороший, пей, я тебе каждый день своё молоко отдавать буду. Оно такое противное.
Савва приглядывался к котёнку и слушал Ксюшино приговариванье, и когда он услышал, как сестра называет котёнка, хмыкнул и повторил:
— Шуры-мурычка.
— Кто это шуры-мурычка? — поинтересовался входящий в кухню Семён.
— Да это Ксюша так котёнка назвала, — ответил Савва.
— Уж лучше тогда Шурой звать, а то какое-то длинное имя для кота. Кстати, а кто он, кот или кошка? — Семён приподнял котёнка, осмотрел его и вынес вердикт: — кот. Тогда Шуриком звать будем этого найдёныша.
И тут Савва как-то особенно посмотрел на Семёна и попросил:
— Сёма, а давай другую маму найдём. И папа на ней женится. Вон соседская тётя Катя Ксюше конфетки даёт и по головке гладит.
— У тёти Кати муж есть и дети, куда она их-то денет? Да и что с тех конфеток. По головке погладить каждый может, это ещё не значит, что любит. — Семён замолчал в раздумье.
— Сема, что, мама нас теперь не любит? Но ведь она всегда нам говорила, что любит. — Семён видел, что Савва начинает нюнить, и спросил у него:
— А ты-то сам маму любишь?
— Но она сама первая нас не любит. — Савва обиженно поджал губы.
— Откуда ты знаешь?
— Раз она с нами не хочет жить…
— Кто тебе это сказал? — Семён спокойно наблюдал за тем, как Савва подбирает слова.
— Тогда почему мама не живет с нами? — Спросил у брата Савва.
— Так надо.
— Кому надо? Ей? Нам? Мне не надо! — Савва почти кричал.
— Откуда ты знаешь, что тебе надо? — настойчиво продолжал спрашивать брата Семён. — Тебе кажется, что нужно именно это, а на самом деле совсем иное нужно, как было уже не раз. Помнишь, как в прошлом году ты просил у папы с мамой, чтобы они купили тебе футбольный мяч? Ты ныл несколько недель, обещал вести себя хорошо и принести за четверть табель без троек. И тебе этот мяч купили. Сколько дней ты с ним играл? Один или два? Где этот мяч теперь?
— Вспомнил мяч. Я не про мяч, я про маму. — Чувствовалось, что Савва сдаётся, голос его становился тише: — Мама — это совсем другое. Мамы своих детей любят, а почему наша мама нас больше не любит?
— Почему же не любит? Любит. Но не может сейчас быть с нами. — Семён говорил уверенно, словно повторяя хорошо усвоенный урок.
— Нет, она нас не любит, если бы любила, то была бы с нами. — Савва еле сдерживался, чтобы не расплакаться: губы его уже сжались в тонкие ниточки.
— Согласно твоей логике, ты тоже маму не любишь. — Семён укоризненно смотрел на брата.
— Почему не люблю? Я люблю. — Оторопел Савва.
— Тогда почему не с ней рядом? — Загонял его в угол Семён.
— Я не могу.
— Вот и она не может. Но это не значит, что не любит. — Семён потрепал Савву по макушке.
Савва собирался было возразить брату, но промолчал, только слабая улыбка промелькнула по его губам, и он, опустив низко голову, стал разглядывать рисунок клеенки на кухонном столе. А Семён, убедившись, что брат не собирается реветь, отправился к себе в комнату. Там Семёна ждал ещё один собеседник. За компьютером сидела Клава. При появлении в комнате старшего брата она тут же повернулась к нему и спросила:
— А мама возьмёт компьютер?
— Да, он нужен маме для работы… А тебе жалко? — Семён хмыкнул.
— А вот мне для мамочки ничего не жалко, пусть берет всё, что пожелает. — В комнату вслед за братом вошёл Савва.
— Не надо ей ничего отдавать. — Клава, не найдя поддержки, сердито отвернулась от братьев и стала играть в морской бой.
— Клава, не ей, а маме. — Семён вспомнил о своей ответственности за сестёр и брата.
— Она мне теперь не мама. — Клавдия была непреклонна и резка.
— Мама всегда есть мама. — Примирительно произнёс Семён и посмотрел на Савву, который закивал согласно и прижался к старшему брату.
— Матери детей не бросают, они умирают, а не бросают своих детей. А мы ей как приёмные. Ксюшка и то добрее её: чужого котёнка блохастого подобрала. — Клава выскочила из-за компьютера и убежала в свой укромный уголок.
Семён пошёл в детскую, потому что вспомнил про Ксюшу, которая молчала всю дорогу и сейчас что-то не попадалась на глаза. В детской Ксюши не было. Она отыскалась в родительской спальне. Ксюша лежала на кровати, свернувшись калачиком и прижав к животу маленькую рыжеватую подушечку с мордочкой кошки, которую папа подарил маме на день рождения. Мама в шутку называла подушку своим приданым, которое она подарит Ксюше, когда та выйдет замуж. А рядом возле Ксюши мурлыкал живой тёплый рыжий клубочек-найдёныш.
***
Отец Кирилл, позвонил домой из больницы, когда все, кроме Семёна, уже спали. После телефонного разговора со старшим сыном отец Кирилл задумался о том, как дети по-разному отнеслись к маминому отсутствию. Семён больше за младших переживает, Клавушка обозлилась на маму. Ксюша, казалось бы, как самая маленькая должна бы скучать по маме, а она даже не заметила: переключилась на Машу, затем на приехавшую бабушку, а теперь на котёнка, — практичная растёт малышка. Вот только Савве очень не хватает мамы. Он об этом не говорит, но, когда вспоминают маму, замыкается, а по ночам плачет. Это заметил Семён, потому что Савва теперь спит в комнате брата, а в детской с Ксюшей спит Маша.
«Завтра соберётся детский консилиум. Что-то они решат?» — Отец Кирилл старался не вспоминать о Нитке, которую не видел уже неделю. Каждый раз, вспоминая её, он вздрагивал, и губы сами начинали шептать молитву покаянного канона: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти мя от беззакония моего…
7. Неделя седьмая по Пасхе: Исаакия, игумена обители Далматской
Вечером дети с нетерпением ждали прихода Сёмы с работы. После ужина предстоял семейный совет, на котором дети собирались обсуждать возникшее положение. Поэтому после еды все уставились на Семёна: что-то он скажет? Ведь, он сегодня разговаривал с папиным лечащим врачом.
— Папа после больницы поедет в санаторий… — Семён не стал пока говорить о том, что отец уходит в монастырь. Для остальных достаточно того, что отец болен. — Мама тоже… — Семён замолчал, собираясь с мыслями, чтобы объяснить без лишних слов и без осуждения мамино отсутствие. — Мамы тоже с нами теперь не будет. У мамы теперь будет новый муж.
— А он красивый? У него много денег? — Поинтересовался Савка.
— Какая разница теперь. — Вздохнул Семён.
— Ну, как какая. Вот папа тебя про Машу спрашивал, помнишь? Из какой она семьи, кем родители были. И я хочу знать, хорошо маме с ним будет жить. — Савва искренно не понимал почему, то есть разница, а то её нет.
— Плохо, конечно. Чего тут хорошего, в таком браке душу погубишь, а не спасёшь. — Вспомнила Клава слова крёстного.
— А у меня теперь Маша мама. Она меня из садика забирает. Мы с ней в парк ходим гулять. Она добрая… — Ксюша скривила губы.
— А давайте попросим маму, и пусть она обратно к нам вернется. — Обратился к брату и сестрам Савва. Но они молчали.
— Что, мама к нам совсем не будет приходить? — Савва испугался. — Я так не хочу, пусть мы будем жить все вместе, с мамой и папой. Почему они не хотят с нами жить? Почему они так делают? Я не хочу, я так не буду! Мама! Я к маме хочу! — Савва ревел и размазывал по щекам слёзы и откуда-то взявшиеся сопли. Семён повернулся к столику около плиты, оторвал от рулона несколько бумажных полотенец и подошёл к брату.
— Сейчас Сушка поймёт, чего ты тут разнюнился, и тоже заревёт, ну-ка держи себя в руках. — Семён сам готов был разразиться тирадами, метать молнии угроз в защиту справедливости, но присутствие девочек заставляло держать себя в руках. Да и разве поможешь криками? И поэтому он деловито вытирал мокрое лицо брата и говорил спокойно. — Давай-ка, брат, будем мужчинами.
— Сёма, почему они нас не спросили? Говорили же, что всё вместе будем решать на семейном совете, а сами… Как же, они не могут жить друг с другом. Они, большие, не могут, а мы можем?.. — Савва не хотел смириться с маминым уходом.
— Да, Савва, вот к чему может привести только один необдуманный поступок. — Семён увидел, что брат прислушивается к его словам, и перешёл к следующему пункту собрания: — Но мы не должны судить родителей, надо думать, как нам жить дальше? — Семён посмотрел на сестёр, которые сидели тихо, пока плакал Савка.
— М-да, была семья и нету ее. — Подвела черту Клава.
— А мы разве не семья? — Ксюша не понимала, почему они пятеро не были семьей.
— Понимаешь, Сушка, семья, это когда есть родители и дети, а когда одни только дети… — Семён вдруг замолчал и посмотрел на Машу. Она тоже смотрела на Семёна, не замечала своих повлажневших щёк, а только кивала, заранее соглашаясь с Семёном. — А когда не только дети… По-моему, я знаю, что делать… Сушка, Клава, Савушка! Мы — семья! Мы с Машей собирались осенью пожениться. Собирались сказать вам на семейном совете после защиты… да вот теперь… — Семён запнулся один раз, потом другой, остановился было, но собрался с духом и быстро проговорил: — То есть теперь мы поженимся через месяц, а жить будем все вместе… — Он оглядел детей и дополнил: — Только если вы согласны и будете слушаться нас с Машей как старших в доме.
— Сёма, можно я не буду молоко пить? — Ксюша вопросительно посмотрела на старшего брата, потом вдруг испуганно ойкнула и выпучив глаза, проговорила, задыхаясь от волнения: — А я к бабушке поеду? — Она так ждала этой поездки в деревню, что это стало какой-то заветной мечтой.
— Поедешь. Мы с Машей тебя отвезём. — Успокоил Ксюшу Семён. Так подсказал ему отец: чтобы Маша узнала дорогу к бабушке, потому что потом ему некогда будет разъезжать, кому-то семью кормить надо, а Маша обратно Ксюшу привезёт.
— Я вот слушался, слушался папу и маму. — Вдруг заговорил Савва. — Теперь вот вас слушаться… — Савва замолчал, а потом спросил: — Маша, а ты нас потом не бросишь?
Тут все посмотрели на Машу и увидели, что у неё по щекам текут слёзы. А Ксюша подошла к ней, залезла на колени и, достав из карманчика свой носовой платочек, стала тереть Машины щёки и приговаривать:
— Ну, вот ещё, чего мою новую маму обижаете? Маша, а ты будешь мне косички по утрам заплетать? Ты только потуже заплетай, а то Клава слабо заплетает, и резиночки после тихого часа из волос выпадают.
— Да, заплетёшь тебе их потуже, стоит только потянуть, как ты в крик. — Клава не выдержала и вступила в перепалку с младшей сестрой.
— Это потому, что я утром ещё неразбуженная бываю. — Ксюша, как всегда, была невозмутима. Но тут Семён разом оборвал начинающийся спор:
— Чтобы завтра все были утром в разбуженном состоянии, сейчас быстренько всем чистить зубы и становиться на молитву. Сегодня Клавина очередь читать вслух, так? — Он посмотрел на сестру, которая кивнула ему в ответ и пошла за своим молитвословом в кухню.
***
После того, как из дома внезапно исчезли все взрослые, Клава несколько растерялась: не с кем спорить и отстаивать свою точку зрения. Но раз некому противостоять, то упираться стало неинтересно. И в последнюю неделю, пока отец лежал в больнице, Клава несколько раз мысленно возвращалась к последнему разговору с ним. Папка точно подметил взаимосвязь её внутреннего состояния и красок, которыми она рисует. У неё и вправду сложились две контрастные палитры. И однажды, когда дома никого не было, Клавдия вытащила свои этюды и наброски, развесила их по периметру кухни и стала ходить и рассматривать их. Было интересно вспоминать, когда работа была выполнена и в какой возрастной период. Клава ходила и рассматривала и вдруг остановилась, как вкопанная.
— Точно, надо выбрать какую-нибудь из работ маме на память. — Теперь критерии отбора изменились. Клава видела, что ни одна из уже написанных картин не подходит. — Что ж, а я возьму и напишу! Вот только что? — Клава продолжала блуждать взглядом по кухне, но тут её привлек вид из окна. — Папа как-то пошутил, что во дворе у нас растёт барометр, — Клава не заметила, как стала проборматывать свои мысли вслух. — Да, да, барометр, так он назвал этот куст калины. Помнится, ей ещё в третьем классе задали по ботанике описать приметы весны, и папка указал ей на ветви калины, которые светлеют, когда по ним начинают ходить соки. Тогда-то она узнала и про барометр.
Клава взяла кусок картона и восковыми мелками стала набрасывать контуры будущей картины, расположив на ней куст калины чуть левее композиционного центра. На заднем фоне стал вырисовываться край дровяного сарая и торец соседнего дома с резным балкончиком на втором этаже. Клава использовала, в основном, зелёно-коричневые оттенки, но глубокое весеннее синее небо, разлитое на одну треть по полотну, не контрастировало ни с домом, ни с сараем, а, наоборот, придавало цветовой гамме законченность…
— Как похоже! Клава, ты умница! — Клавдия не заметила, как пришли Маша с Ксюшей, и застыли у неё за спиной. Первой, конечно же, не выдержала Ксюша. Это она всплёскивала руками, расхваливая картину и сестру. — Ой, как ты здорово придумала! Нарисовать для папы такую картинку. Он в санатории будет смотреть на неё и представлять, будто тоже с нами вместе сидит и смотрит на улицу из окошка. А ещё Шурика нашего рыжего нарисуй под кустиком, ну, Клава, ну нарисуй!
Клава не стала говорить, что собиралась подарить эту работу маме, потому что… Потому что Ксюша очень здорово придумала. Это папа будет скучать, а мама… — Клава услышала, как Ксюша ноет и просит нарисовать кота, и замотала отрицательно головой, отгоняя одновременно дурные мысли:
— Шуряку-муряку я тебе отдельно нарисую. И на твой день рождения подарю.
— Честно? А ты не обманешь? — Подозревающая с недавних пор всех взрослых в заговоре, Ксюша зачастила задавать этот вопрос.
— Честно. А знаешь, я всю нашу семью нарисую. Все портреты! — воодушевленная сестрой Клава уже разговаривала не с Ксюшей, а сама с собой, накладывая мазок за мазком.
— Пойдём, Ксюша, ужин готовить, не будем мешать Клаве. — Маша позвала с собой малышку, — а то мальчики придут, а у нас и конь не валялся.
— А почему конь? — Ксюша пошла за Машей, с неподдельным интересом слушая её объяснение, о том, что конь здесь не при чём, это просто поговорка такая… — Ой, Маша, как интересно! Вот каждое слово понятное, а вместе они непонятные. Сколько же ещё таких интересных непонятностей есть! Я когда вырасту, обязательно пойду в словари.
— В словари? Это как? — не поняла Маша.
— Я буду из понятных слов разные говорки складывать. — Гордо сказала Ксюша.
— Поговорки? — переспросила Маша.
— Да, поговорки. — Ксюша была очень довольна новым словом. — Я поговорю, поговорю, научусь, как следует, и стану словарем работать
— Ксюша, словарь — это книга такая, — стала объяснять Маша.
— А тогда как человек, который слова складывает, называется? — Задумалась Ксюша.
— Не знаю, есть разные профессии: литератор, писатель, филолог, а ещё есть поэт.
— Про поэта я знаю. Это когда мы говорим поэтому. — Ксюша не отставала от Маши.
— Ксюша, ты мне голову сейчас заморочишь, а у нас еще ужин не готов. Давай, приготовим, а потом поговорим? — Маша упрашивала Ксюшу заняться работой по дому.
— А ты, Маша, мне рассказывай и вари, рассказывай и вари. Тогда мы с тобой всё успеем. — Убеждала её Ксюша.
Клавдия слушала разговоры девочек за своей спиной и улыбалась, и куст калины на картине уже не выглядел чахлым и бледным.
8. Неделя первая по Пятидесятнице
— Ребята, завтра утром папу выписывают из больницы, а на следующий день Ксюша отправится в первое свое путешествие в деревню к бабушке. — Обратился после ужина Семён к своим домочадцам. — Поэтому сейчас все приводят в порядок свои личные вещи, чтобы папа не пришёл в ужас от нашего бардака, а через полчаса собираемся на вечернюю молитву…
Вечером Семён читал вслух 53 главу из Исайи. Обычно Евангелие читал отец, поэтому Семён старался говорить торжественно, чтобы было похоже на то, как Евангелие читали в храме: «…Он был презрен и умален пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни, и мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом…»
— Это про нашего папу? — Спросил Савка, который после Сёминого сообщения только про отца и думал.
— Это про нашего Отца небесного. — Проговорил Семён уже своим обычным голосом… и неожиданно расхохотался: — Савка, ты выдумщик, замечательный выдумщик. Как же здорово, что ты у нас такой есть! — И подхватил брата на руки.
— А я? А я, хорошо, что есть? — Ксюша надула губы, собираясь обидеться на Семёна, но тот уже повернулся к сестрёнке и, пересадив Савку на левую руку, подхватил её правой рукой. Брат с сестрой тут же прижались к Семёну, только носы торчали из-под обруча Сёминых рук, да поблёскивали карие бусины глаз.
— Савва, Ксюша, слезайте. А если Семён не удержит вас двоих? Вы ведь тяжёлые. — Маша попыталась перехватить Ксюшу.
— Он удержит. Семён сильный. Ой, я боюсь щекотки — Ксюша отбивалась от Маши. Клавдия бросилась на помощь сестре. А Семён донёс свой живой груз до родительской кровати, сзади на Семёна навалились Маша с Клавой, и образовалась куча мала. Ксюша выбралась первой, выскочила на середину спальни и закружилась, радостно вопя:
— А я к бабушке поеду! А я к дедушке поеду!!
Ксюша сейчас была очень похожа на румяный свежеиспеченный колобок, в своём широком коричневом сарафанчике с оборками в красную клеточку; и, хотя косички её расплелись и растрёпанные волосы торчали в разные стороны, малышка была такой очаровательной, что все остальные, словно по команде, рассмеялись.
Рассказы
Ванечка
(почти святочная история, произошедшая в действительности)
Николай подошёл к выкрашенной в белый цвет двери больничной палаты и негромко постучался: он пришел навестить жену с дочкой перед завтрашней выпиской.
Ася сидела на кровати и кормила.
— Дай-ка я гляну, как она ест, — Николаю не терпелось проверить приметы, о которых им с матерью все уши прожужжала тётка. А она то и дело твердила, что если жадно хватает, значит, практичная в жизни будет, хваткая. Ну, а если нехотя сосёт грудь, то жди фифу. Николай работал на оборонном заводе. «Авангард» чудом не закрыли, но руководству пришлось перейти на автономность, чтобы сохранить места. И Николай гордился своей рабочей династией, потому что на этом заводе работал его отец с дядькой, а теперь они с братом. Поэтому фифу в трудовой семье иметь было не с руки.
Ребенок сосал жадно, с нетерпением, и довольный Николай стал предвкушать разговор с тёткой.
— Тихо ты, а то дочку разбудишь. Только-только её усыпила, — Ася кивнула в сторону кроватки в форме кювеза, и Николай с изумлением обнаружил там ещё одного младенца.
— Ась, это как? Это кто? — Растерянный и удивлённый Николай выглядел так смешно, что Ася прыснула, но тут же строго взглянула на него.
— Как это кто? Твоя дочь, копия твоей мамочки, также поджимает губки, если чем недовольна, или складывает их бантиком, когда ей приятно.
Николай не помнил, чтобы его мать так делала. Он взглянул в кювез. Девочка спала и тихонько посапывала. Ничего в её чертах не напоминало матери, скорее, она была похожа на него самого и чем-то на Асю, но Николай предусмотрительно промолчал об этом. Он спросил жену:
— А тогда кого ты кормишь?
— Это Ванечка, правда, он хорошенький? — Асино лицо осветилось улыбкой, — мы его тут подкармливаем.
— Как подкармливаете? А мать его где? — Николай не понимал, почему на руках у жены был этот чужой мальчик, и не просто был, а как у себя… Николай недовольно глянул в сторону младенца: ведёт себя, как ни в чём не бывало. — И жена тоже, — подумал Николай про Асю, — в природе, к примеру, самка ни за что не будет кормить чужого детёныша. А тут своя дочь, — Николай покосился на кювез, — одиноко лежит в кроватке, а она, — Николай перебросил взгляд на жену, — невесть кого к своей груди подпускает.
— Нет у него матери, то есть есть, но она выкинула ребенка в мусоропровод. Коль, представляешь, он родился точь-в-точь в ночь на Крещение, когда и наша дочунька родилась, — Ася радостно щебетала, тетёхая мальчугана, который почмокивал довольно, продолжая сосать грудь, — его нашли через несколько часов наутро.
— Как выбросила? — У Николая похолодело в груди, — ты чего выдумываешь? Как это можно: ребенка выбросить в… — Николай запнулся, потому что не мог выговорить даже, куда был выброшен этот малыш.
— А вот так, студентка одна родила в общежитии по-тихому, ну, это университетское, на Герцена которое, и выкинула. Мы, ну, разные мамашки, у кого молоко есть, третий день его подкармливаем, — Ася счастливо смотрела на малыша на своих руках, и у Николая что-то ёкнуло в груди.
— И что с ним будет? — зачем-то спросил он у жены, понимая, что ждёт этого трехдневного мальчугана, который является, по сути, круглым сиротой.
— Коль, а Коль, мы вот тут с мамашками поговорили, лучше бы, чтоб его усыновили прямо сейчас. Ты же сына хотел… — Ася с мольбой смотрела на мужа. Николай знал этот умоляющий взгляд жены: когда она так смотрела, он просто ну ни в чём не мог ей отказать. Но тут… это тебе не мягкая мебель, на которую по Асиным уговорам потратили все её отпускные, это живой человек.
— Ась, ты это брось, — Николай опасливо глянул на жену, — второго точно мальчугана сделаем.
Ася опустила голову к малышу, словно его собирались отнимать у неё силой. Плечи её задрожали.
— Ася, ну, не надо, ну, не плачь, его кто-нибудь точно усыновит, — стал уговаривать жену Николай, но та прижималась к младенцу, словно к какому сокровищу, которое отними у неё, и она умрёт.
— Ты… — Ася всхлипнула, — ты не понимаешь… ты не знаешь… — и Ася опять уткнулась в малыша.
— Ну да, вот такой я, черствый, — бормотал растерянный Николай, потому что жена применяла к нему сегодня уже второй неотразимый приём.
— Ты не знаешь… Врач сказал, — Ася замолчала и вся напряглась. Остальные слова она произносила в младенца, не поднимая головы, — мой лечащий врач, он сказал, что у меня больше не будет детей. — Ася проговорила всё это каким-то стёртым голосом и заревела.
— Ты не плачь, успокойся, Асенька, ну, ну, не плачь, родная моя, — Николай совсем растерялся, не зная, как успокоить жену. Детей больше не будет… Что теперь делать? Пропадать?… И вспомнил вдруг теткино предупреждение не расстраивать жену, а то молока не будет: — не реви, а то молоко пропадёт.
Ася тут же замолчала.
— Да положи ты его куда-нибудь, — не выдержал Николай, показывая на младенца, за которым пряталась от него жена.
— Одна уже положила, — резко ответила Ася, и Николай испугался: агрессивная Ася была страшнее волчицы, и лучше её до такого состояния не доводить. Ася гневно глянула на мужа: — У всех есть право иметь свою семью и у этого малыша есть такое право.
— А вдруг он болеть будет и потом, неизвестно, какое у него генетическое наследство, — Николаю хотелось найти какой-нибудь аргумент, чтобы объяснить своей Асеньке всю нелепость её предложения.
— Коля, но он выжил, несмотря на мороз, такой сильный, почти тридцать градусов в ту ночь было, ты же помнишь. Он несколько часов голенький в мусоропроводе пробыл, значит, Бог хочет, чтобы малыш жил, и не оставит его, — Колю передёрнуло от картины: мусорная труба и голый беспомощный малыш в ней.
— М-да, ну и история, — Николай не знал, что делать. Столько новостей свалилось на него за этот час, что голова шла кругом: детей больше у них не будет. Кто их знает, этих врачей, но раз так сказали, значит, что теперь делать? Николай вздохнул и посмотрел в кювет… и подкидыш вот, — начал было думать он, но Ася продолжала что-то говорить, и Николай уставился на жену.
— Коленька, это же промысел Божий, что он попал именно в наш роддом; — начала опять Ася.
— Ась, успокойся, надо всё хорошенечко обдумать, мы девять месяцев дочку ждали… — Ася перебила мужа:
— Не дочку ты ждал, ты сам что говорил? Забыл! Ты всем хвастался, что сынулю заделал, пока тебе тётка нос не навернула на пузо. — Николай вспомнил, как тётка раньше УЗИ определила по форме живота пол будущего младенца, чем несколько огорчила будущего папашу.
— Ладно тебе, — пошёл он на попятный, — я ещё к одному ребёнку не привык, а ты мне сразу второго предлагаешь, — Николай обрадовался найденному аргументу.
— Будешь привыкать сразу к двум, — логика жены была, как всегда невообразима и потому неотразима, — родился он в тот же день, что и наша девочка — двойнятами можно записать.
— Ась, ну, и как мы объясним родным? — не сдавался Николай.
— А им-то чего? Двойная радость будет. Сразу и внучка, и внук. Всем угодим дедкам-бабкам, и твоим и моим, — Ася вздёрнула носик, и Николай ободрился. Он любил, когда Ася так делала, потому что это означало её уверенность. — Его все Ванечкой тут зовут. И мы его так назовём, ладно?
— Почему? — спросил Николай, чувствуя себя по-идиотски.
— Почему так назвали? Иван, не помнящий родства, знаешь кто это? Ну, так вот этот малыш без корней оказался. Не по своей вине, конечно, — Ася спешила говорить, потому что видела, как Николай напряжен. — А мы как дочку назвать хотели?
— Анечкой, — расплылся в улыбке счастливый отец, — как маму мою, то есть, бабушку.
— Вот, Аня и Ваня — от имени одного святого производные.
— Как это, от одного? — смысл Асиных слов доходил до Николая какими-то кусками: его мозг сегодня превратился в бытовой ПК, оперативной памяти которого не хватало для полноценной работы.
— Иван — это русское имя, а произошло от византийского имени Иоанн, — Ася была в области имен докой, она запоминала все значения. — Анна и Иоанн, Коль, ну как Евгения и Евгений, ты понимаешь, да? Понимаешь, что неспроста это. Это же благодать в квадрате.
— В каком квадрате? — опешил Николай.
— В переводе с еврейского Анна и Иоанн — это благодать Божия, — объяснила Ася.
— Благодать… — пробормотал растерянно Николай.
— Коля, да он же на тебя похож! У него твой разрез глаз, и они такие же небесно-голубые, как у тебя, когда ты счастлив! — Ася влюблённо смотрела на малыша.
— Кроватка уже куплена, — Николай запоздало стал говорить о том, что ждёт Асю дома, и тут же замолчал, потому что… Николай автоматически глянул на младенца, а тот, словно понимая, о чем говорят, распахнул свои глаза навстречу. Николай на минуту даже замер под этим внезапным взглядом.
— Ваня и Аня… Ну, я тогда пошёл, — Николай потоптался возле кровати жены, посмотрел на кювет, в котором посапывала спящая дочка.
— Куда ты? Тебе же сегодня не надо на работу, — Ася встревожилась: она хорошо выучила график мужа и знала, что у Николая по понедельникам профилактический день.
— Как куда? Документы же нужно еще оформлять на него, — он кивнул в сторону младенца, — так просто ведь его нам не отдадут. Кроватку вот тоже нужно.
— Коля! Коленька! — Ася вскочила, положила аккуратно сверток с малышом на свою кровать и бросилась к мужу, — ты знаешь кто? — Николай знал, что будет дальше, и счастливая блаженная улыбка, как приклеенная, застыла на его лице, — ты самый-самый-самый! Самый-самый-самый мой, самый-самый-самый лучший муж и папка!
— Ну, ладно тебе, ладно, я пошёл, — Николай засмущался, — ты это брось, а то вдруг кто зайдет, медсестра какая-нибудь там, — но Асю было не остановить: она расцеловывала своего Колю, своего доброго Колю, своего ненаглядного Колю, на которого похожи два их малыша, а значит, они тоже вырастут добрыми.
Урок любви
С благодарностью Марине Андреевой.
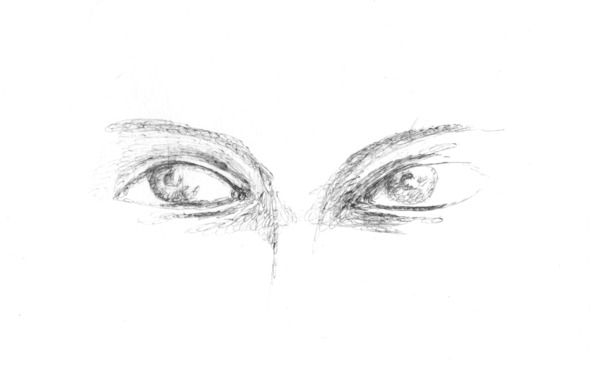
Я заканчивала медицинский колледж, и за время учёбы изучала разные дисциплины. Но мне не терпелось проверить себя на практике: смогу ли я делать уколы, выдержу ли неприятные запахи, которые являются непременным атрибутом любой больницы и многое другое, о чем я не подозревала.
И вот настал тот долгожданный день, когда наш курс отправили на практику. Я попала в республиканскую больницу и предвкушала, что буду помогать на операциях, но оказалось, что моя работа заключается в мытье полов по палатам и подаче судна лежачим больным.
— Что ж, — рассудила я, — и это нужно делать, — и приступила к работе.
В отделении было семь палат. Были и лежачие больные, за которыми ухаживали близкие. В последнее время ухаживающим стало возможно получить за плату койку в палате, где лежит родственник.
Про молодую женщину, которая заботилась о больной Калининой из пятой, я так и подумала сначала, что она купила место в палате, пока не вышла в ночную смену.
«Таня», — услышала я, когда вошла в палату мыть полы перед сном.
Это говорила Калинина. Обыкновенная пожилая женщина, не привлекающая к себе внимания: тихая, спокойная. Я поняла, что она обращалась к своей родственнице. Так и было. Женщина, сидевшая на стуле в ногах койки Калининой, тут же поднялась и подошла к ней.
— Что, мама? — спросила Таня.
— Помоги сестричке, — тихо произнесла Калинина.
— Конечно, — согласилась Таня.
— Что вы, — опешила я, — не положено это. Я сама.
Но Таня приняла активное участие в уборке. Она поднимала стулья, вытаскивала судна из-под коек. Высокая, стройная, она ловко перехватывала стулья и аккуратно ставила их, ни разу не задев койки и не стукнув об пол.
В пятой палате из шести коек одна была свободна, почему я, видно, и подумала, что на ней спит Таня. Но, заходя ночью в палату, я видела, что Таня сидит на том же стуле в ногах матери. Не знаю, спала ли она, потому что голова ее была опущена на руки, которыми она облокотилась на железную спинку койки.
Эту же самую картину я наблюдала и следующей ночью. Таня читала матери перед сном, когда я зашла с ведром и шваброй. Мне даже показалось, что я перепутала и зашла не в палату, а в чью-то комнату, потому что от этих двух женщин веяло домашним уютом. Остальные больные в палате кто слушал Танино чтение, кто спал. Я растерялась: было нелепо шурудить шваброй под койками, но Таня, кивнув матери, закрыла книгу и легко поднялась со стула. И опять она ловко переставляла стулья и судна, а мне казалось, что рядом со мной незримо присутствует ангел.
Всю неделю моего ночного дежурства Таня помогала мне. Она не позволяла ухаживать за матерью, упреждая меня в попытках подать или вынести судно. Я не видела её раздражённой. А когда Таня обращалась к матери, её лицо освещалось изнутри каким-то неуловимым светом. Впрочем, Калинина также смотрела на Таню. Каждый раз, когда я видела их двоих, меня не оставляло ощущение, что между ними существует какая-то тайна.
Однажды я пришла на смену пораньше и услышала, как в сестринской говорят о Калининых.
— Я бы так не смогла, — вздохнула молоденькая медсестра, — знать, что мать умирает, и ждать смерти.
— Дура ты, она наследства, небось, ждет, — ответила ей другая медсестра, поопытнее, из процедурной, — третий месяц сидит возле койки, не работает, значит, есть денежки-то у них.
— Откуда у них деньги? — возразила третья, — были бы, так дочь койку купила б.
— А, может, она экономит? — возразила ей процедурная, — зато потом прокутит сразу всё после смерти-то материной.
— Ты бы язык свой придержала, — пристыдила её третья, — будто у тебя матери нет.
— Ну, есть, и что с того? Сиделку бы наняла, — отпарировала процедурная, — что теперь, обеим умирать?
— Ей ведь всего пятьдесят, — вздохнула третья.
— Кому? — спросила молоденькая.
— Да Калининой, — ответила та, — а дочке ее двадцать пять.
— Дочка эта чёкнутая. Ей говорят, что у матери последняя стадия рака, а она врачу в ответ: «Я верю, что мама выздоровеет».
Дальше я не слышала, о чем они говорили. Мне захотелось пойти в пятую палату, чтобы взглянуть на Калининых, судьба которых так взволновала меня. Я подошла к двери, но не осмелилась открыть её, потому что сквозь стеклянную верхнюю половины двери увидела: Калинины были в палате одни. Мать лежала, а Таня сидела возле нее. Они молчали, просто и хорошо молчали. Таня сидела к двери спиной, и я видела только лицо ее матери. Что-то изменилось в ней, но что? И вдруг я поняла, что Калинина — не старая женщина и что на щеках её появился здоровый румянец. Я постояла в оцепенении некоторое время, а потом тихо отошла от двери.
Со времени моей практики прошло несколько лет, но я до сих пор помню пятую палату, в которой получила самый важный урок, урок любви и узнала о чудодейственной излечивающей силе.
ТРИ ОКНА
— Папа, — спросила у своего отца-священника пятилетняя Варя, когда они возвращались из храма, — а почему в одних домиках два окна, а в других три?
Батюшка посмотрел на ряд домов вдоль дороги: деревня их старинная, русские селились рядом с карелами, вот и избы смотрели на улицу то в два, а то в три окна.
— Я тебе расскажу историю про одну Варвару, — батюшка улыбнулся в бороду. — Жила она в Сирии, в пору гонения на христиан. Отец её был богатым и знатным человеком. Он очень любил свою дочь-красавицу и баловал её, потому что мама её умерла очень рано. И вот он решил построить для своей дочери дворец. Но ему пришлось уехать по делам, и он поручил дочери следить за работой. А Варвара подружилась с христианкой, узнала о Христе и переменила план дворца. Чтобы не по два окна было — в честь солнца и луны, а по три — в честь Пресвятой Троицы.
— Теперь понятно, — сказала довольная Варя, — где три окошка, там верующие, так?
Батюшка посмотрел на дочку и кивнул в согласии головой.
— А что дальше было? — спросила девочка. — Её папа тоже обрадовался трём окошкам?
— Нет, он рассердился и потребовал, чтобы дочь отказалась от Христа. Но Варвара не предала веры. И отец стал мучить её. Но раны Варвары к утру заживали. И тогда отец казнил её мечом. Тут засверкали молнии, как мечи Божии, и испепелили злого отца-язычника. А по молитвам святой Варвары стали исцеляться люди. И когда византийская царевна Варвара вышла замуж за русского царя, она привезла с собою в Киев мощи святой Варвары. С тех пор на Руси и строят избы в три окна на улицу, по примеры Варвары великомученицы прославляя Отца небесного, Сына и святого Духа.
— И я, когда вырасту, тоже такой домик построю, — твёрдо сказала Варя.
— Аминь, — улыбнулся батюшка.
Сверчок
Если вы когда-нибудь бывали в краю голубых озёр, то вам знаком двухэтажный деревянный домик в центре карельской столицы. Оштукатуренный в розовый цвет, он стоит напротив Балашовского дома недалеко от оврага, в глубине которого бежит весёлая речка Лососинка. Зимой, в сильные морозы, стены домика покрываются инеем, и он становится похож на сказочную избушку из леденцов.
Семья Маликовых занимала в домике угловую двухкомнатную квартиру. Нюша здесь родилась. Потом у неё появился младший брат Кеша, но к тому времени Нюша была большая и уже выступала в детском саду в роли снежинки. Каждую осень семейство запасалось дровами, и так уютно было зимними вечерами смотреть на весёлые языки пламени, норовящие выскочить из печки. Папка рассказывал смешные истории о щенке, который был у него в детстве. Щенка звали Кашка, и он везде совал свой нос. Нюше больше всего нравилась история о Кашке-привидении, когда щенок порвал пакет с мукой и весь так вывалялся, что его не узнали, и в доме был переполох. У Нюши щенка не было. В их квартире жила только полосатая кошка Муся, которая была очень воспитанной и любила чистоту и порядок.
А ещё Нюша с папой на Новый год наряжали в детской ёлку. Папа позволял дочке развешивать картонных птичек и разбрасывать пластмассовые снежинки, а в прошлом году Нюше доверили повесить шары, внутри которых мерцали загадочные огоньки. Нюша любила разглядывать ёлочные шары: ей казалось, что огонёчки — это светлячки, которые забирались вглубь шариков на зимовку.
Кешка в украшении ёлки не участвовал, потому что этот непоседа вечно что-нибудь разбивал. Если в доме раздавался грохот, то мама с папой хором кричали: «Кеша!».
День рожденья Нюши, который приходился на канун Рождества, всегда отмечали на следующий день. Зато Кешин день рождения приходился как раз на Крещение. И все святки в доме стояла пушистая красавица, и было шумно и весело.
Но в этом году всё было по-другому. В начале лета умер папа. Он сначала долго кашлял, а потом стал таким худым, как осина-древесина, растущая в палисаднике у домика. После его увезли в больницу, и больше Нюша папу не видела. В доме тогда пахло свежими стружками, ходили незнакомые люди, и мама стала совсем другой. А в конце лета заболел Кеша. Он тоже кашлял, и его отправили в туберкулезный санаторий к Черному морю. Нюша никогда не видела моря, но мама её не взяла, потому что деньги на железнодорожные билеты давала в долг тётя Неля, папина сестра, и у них самих, как говорила тётя Неля, денег всегда было мало.
Нюшу тогда увезли в маленькую деревушку на берегу холодного Онежского озера, где жила её бабушка. Ожидая возвращения мамы, она долго просиживала у воды, училась «печь блины» из плоских камешков и со стыдом вспоминала свой последний разговор с братом. Потому что Нюша позавидовала ему, мол, ты счастливый, скоро будешь купаться в тёплом море и есть фрукты, а шестилетний Кешка сказал:
— Нюш, пусть ты вместо меня поедешь, а я с мамой останусь.
И когда они, оба довольные таким обменом, побежали рассказать всё маме, то она сначала рассердилась, замахала на них полотенцем, а потом почему-то села на табуретку и заплакала.
Летом ждать было не скучно. Нюшу и раньше отправляли к бабушке в деревню, где всегда было тепло и сытно. У бабушки были две козочки: Белянка и Зайка. Белянка была вся беленькая, а у Зайки были смешные чёрные чулочки на ногах. Но молоко обе козочки давали белое и очень вкусное. И мама тогда быстро вернулась…
И вот сейчас, перед самым Новым годом, Нюша второй раз осталась без мамы. Сначала мама отвезла Нюшу и закутанную в кошелке кошку Муську к тёте Вере, маминой подруге, и ее мужу дяде Вове на Кукковку. Ехали они на троллейбусе через весь город, и Нюша дышала на заиндевевшее оконное стекло, чтобы увидеть хоть что-нибудь интересное. Но интересного ничего не было ни на замерзших тёмных улицах, ни дома у тёти Веры и дяди Вовы. Мама очень быстро уехала. А Нюше пришлось спать с Ирэной, дочкой тёти Веры. Ирэна задавалась и не хотела играть с Нюшей, потому что была старше на целый год и ходила уже в пятый класс, а Нюша — только в третий. Но в свой третий «А» она не будет ходить, пока мама с Кешкой не приедут.
Нюша сидела на кухне и чистила картошку для ужина. Где-то в глубине квартиры дядя Вова храпел под звуки телевизора. Тётя Вера была на заводе во вторую смену, а Ирэнки не было. Нюша вздыхала и мечтала о том, как приедут мама с Кешкой, как они все вместе поедут домой. И вдруг ей стало страшно: а что если мама не вёрнется? Или Кешка… Нет, нет, лучше просто ждать, ждать изо всех сил, сидя в канун Нового года на чужой кухне.
Хлопнула входная дверь. Нюша вздрогнула от пьяного крика дяди Вовы.
— Кто ещё там? Верка, ты?
— Это я, папа. — В кухню заглянула Ирэнка, взяла из вазочки, стоящей на холодильнике, сушку и, с усмешкой поглядывая на Нюшу, протянула: — А кошечка твоя погулять пошла.
Нюша выбежала в коридор, пихнула ноги в валенки, набросила на плечи старенькую коричневую шубку и, завязывая на ходу шапку, выскочила в подъезд:
— Муся! Муся!
Муси нигде не было. Нюша вышла во двор, продолжая звать свою кошку. Вокруг стояли высоченные дома, и двор напоминал деревенский колодец, только в него нужно было заглядывать, задирая голову, и где-то в глубине можно было днём увидеть звёзды. Но Нюше сейчас очень хотелось разглядеть в декабрьских сумерках не звёздочку, а обыкновенную серенькую, родную Мусю. Девочка заглядывала во все открытые двери подъездов и звала кошку. Кончики пальцев уже начал покалывать мороз, и Нюша решила вернуться к тёте Вере и дяде Вове. Но сколько она ни звонила в дверь, никто не открывал, хотя Нюша знала, что дядя Вова и Ирэнка были в квартире. Нюша села на бетонные ступеньки возле входной двери и стала ждать тётю Веру. В подъезде было тихо и тепло, и девочка начала подрёмывать. Вдруг ей показалось, что внизу мяукнула кошка. Нюша вскочила и побежала по лестнице, но Муси не было нигде, ни на первом этаже, ни на улице. Сверху, плавно кружась, падал легкий снег. Нюша подумала, что теперь все следы заметёт и кошка потеряется. И тут Нюша вспомнила, как папка смеялся, когда она боялась, что Муся перепутает двери, возвращаясь с прогулки. Папка тогда сказал, что кошки — домашние животные, всегда возвращаются домой. Ну да, конечно, домой! Надо идти домой, не к тёте Вере и дяде Вове, туда Муся не вернётся, это не Мусин и не Нюшин дом. Надо идти домой, в свой деревянный розовый дом. И Нюша пошла в сторону троллейбусной остановки, поглядывая по сторонам, вдруг увидит Мусю. На остановке девочка вспомнила, что у неё нет денег, чтобы купить билет, но уверенно пошагала вдоль троллейбусных проводов.
Когда девочка добралась до своего района, было уже совсем темно. Родной домик весело поглядывал жёлтыми окошками на стройку неподалёку. Окна Нюшиной квартиры были тёмными, и девочка испугалась этой темноты, потому что первый раз в жизни её никто не ждал дома. В подъезде тоже было темно, но в кармане шубки лежал ключ от квартиры, а около двери мурчала Муся. Нюша радостно обхватила полосатую беглянку и прижала к себе.
Квартира была похожа на спящее царство. Когда Нюша повернула выключатель, иней заблестел не только на стеклах,, но и на стенах в ванной комнате, туалете и кухне.
— Нужно затопить печку, — устало подумала Нюша, — ой, а дрова заперты в сарае на улице. Значит, печкой займусь завтра. — Ей совсем не хотелось выходить сейчас к тёмному сараю, возле которого по вечерам сгущались подозрительные тени, а сам сарай поскрипывал от каждого дуновения ветра.
Муся бродила по кухне и сердито мяукала, не находя своей миски с едой.
— Сейчас, Мусенька, поищем что-нибудь для тебя, — девочка открыла шкаф, в котором мама хранила продукты. На верхней полке стояла жестяная банка с гречневой крупой, а на нижней — стеклянная банка с хлебными корками и сахарница. Осталось только разыскать коробку с сухим молоком и можно было начинать пиршество. Да вот же она, спряталась за банкой с гречкой. Нюша встала на цыпочки, но не смогла дотянуться до коробки, тогда девочка взяла табуретку, залезла на неё и одну за другой осторожно выставила банки на стол.
Чистая Мусина миска нашлась возле сушилки с посудой. Нюша положила в неё несколько ложек молочного порошка и помешивая стала тонкой струйкой вливать туда из чайника воду. Потом девочка взяла чистую кастрюльку, насыпала стакан крупы и налила стакан воды из чайника. Второй стакан наполнился лишь наполовину. Нюша открыла водопроводный кран, но вода не полилась. В ванной комнате воды тоже не было. «Замёрзла», — поняла девочка и пошла в большую комнату, где за шкафом хранилась трехлитровая металлическая канистра с водой на крайний случай. Раньше у них была прочная пластмассовая бутылка, но её прогрызли крысы и тогда мама принесла эту канистру.
Когда каша сварилась и девочка с кошкой наелись, они отправились устраиваться на ночлег. Нюша зашла в детскую, посмотрела на свою и Кешину кроватки и решила спать в маминой спальне, потому что там была широкая кровать, на которую можно сложить все домашние одеяла и подушки. Нюша одела тёплый свитер и гетры, повязалась тёплым маминым платком, перетаскала в кровать все тёплые вещи, которые нашла в доме, и зарылась с головой под одеялами. Муся замурлыкала в ногах, и девочка вспомнила, что не помолилась на ночь. Обычно мама зажигала перед молитвой лампадку, но Нюша побоялась пролить масло и решила прочитать молитвы так.
— Боженька, спаси мою мамочку, Кешу и меня. Упокой душу моего усопшего папочки. И пусть ангел-хранитель оградит наш дом от бед.
Ночью Нюша проснулась от какого-то шуршания за печкой. Она прислушалась к тихому поскрёбыванию, а потом стала представлять себе, что она в каморке папы Карло и из-за печки сейчас вылезет старый сверчок и станет ворчать, что дети должны ходить в школу. От своей придумки девочке стало немножечко веселей, и она снова заснула.
Утром Нюшу разбудил стук в дверь. Девочка подошла к двери и спросила:
— Кто там? — Мама не разрешала открывать двери незнакомым.
— Девочка, а есть кто-нибудь из взрослых? — Послышался из-за двери патоковый мужской голос.
— А зачем вам? — Нюша внимательно смотрела на чугунный крючок, который был прочно укреплён в такой же чугунной петле, вбитой в притолоку.
— Аня, — Девочка услышала голос тёти Оли, соседки из квартиры напротив, — это из жилищной комиссии пришли. Условия проверяют.
Нюша сняла крючок с петли и впустила в коридор соседку с двумя дяденьками и тётенькой.
— Чего это здесь так холодно? — Недовольная тётенька запахнула полы легкой, светлой мутоновой шубки.
— У меня кошка убежала, — начала рассказывать девочка, но чиновники прошли на кухню, оглядывая не столько состояние стен и полов, сколько нехитрый скарб жильцов.
— Совсем за жильём не следят, тоже мне собственники. — Тетенька продолжала возмущаться увиденной бедностью.
— Калерия Валерьевна, эта квартира не приватизирована, собственно, поэтому мы и осматриваем её, чтобы оценить и дать равноценную. — Толстый дяденька с портфелем последнее слово произнёс с таким нажимом, что девочке стало интересно, что же это такое «равноценное», но спрашивать об этом неприветливых людей не хотелось.
Когда недовольная комиссия вышла из квартиры, Нюша закрыла дверь и стала заметать веником подтаивающие снежные следы. Мурка сидела на табурете и внимательно следила за движениями девочки. Было слышно, как в коридоре члены комиссии разговаривали с соседкой.
— У неё родители есть, у этого ребенка? — Раздался голос толстого дяденьки.
— Мать только, — торопливо проговорил голос соседки.
— Вот она, безотцовщина, — брезгливо фыркнул голос мутоновой тётеньки.
— Отец у них умер недавно. — Голос соседки стал приглушеннее.
— Пил, наверно? — утвердительно спросил мужской голос.
— Да нет, совсем и не пил, и не курил. Он в школе работал, учителем. — Голос соседки звучал грустно, как будто она жалела то ли Нюшиного папу, то ли этих непонятливых людей, которые всё обо всех знают заранее.
— Дети брошены, а родители чужих воспитывают, а потом локти кусают. Вот такие в колонию и попадают. — Продолжал брюзжать голос мутоновой тётеньки.
— Да вы что, Маликовых тут все знают, они дружные… — Голос соседки оборвался. Послышался скрип двери подъезда и громкий хлопок.
Нюша села на табуретку в коридоре и изо всех сил старалась не заплакать, потому что ей вдруг стало очень неуютно без мамы и Кеши.
В дверь опять постучали, но Нюша не сдвинулась с места пока не услышала голос соседки. Тётя Оля принесла дров и помогла девочке затопить печку, потом принесла кастрюльку со щами. А когда в квартире немного потеплело и Мурка запела свою довольную песню, Нюша совсем успокоилась.
Прибрав в квартире, девочка стала разглядывать настенный календарь, на котором мама отметила дни отъезда и возвращения. Вот он, заветный красный кружочек, уже завтра мама с Кешкой должны быть дома. Нюша очень ясно представила своего худенького белобрысого брата. Какой он теперь? Надо же, этим летом она чувствовала себя самой несчастной девочкой на всём белом свете. А, оказывается, несчастья к ней никакого отношения и не имеют, вот к Кешке, да имеют и ещё как имеют. И Нюше вдруг сильно захотелось как-то защитить брата, оградить от болезни.
— Я ему варежки свяжу, — решила Нюша, вспомнив о своих варежках, забытых у тёти Веры и дяди Вовы.
Вечер подкрался тихо, почти как туман, выползающий осенью из оврага и заглядывающий в окна маленького домика. Нюша старательно вывязывала петлю за петлёй, когда в дверной скважине начал поворачиваться ключ.
— Мама! — Вскрикнула девочка и побежала к входной двери, но, выбежав в коридор, замерла в ожидании.
— Открывай же, — нетерпеливо прикрикнула мама, и Нюша, вспомнив о накинутом на ночь крючке, кинулась отпирать.
Вместе с мамой и Кешей пришли тётя Вера и Ирэна. Пока мама раздевала мальчика, тётя Вера тискала Нюшу, оправдываясь, что сама была на работе до полуночи, поругивая Ирэну, пьяного мужа, кошку Муську и радуясь, что Нюша никуда не пропала.
— Как же ты не боялась по темени такой так далеко идти? — Спросила мама.
— Боялась немного, боялась, что Мусю не найду. — начала говорить девочка и вдруг почувствовала на себе тяжёлый взгляд Ирэнки. Та быстро опустила голову, но Нюша знала, что для Ирэнки она теперь заклятый враг.
— Тётя Вера, Ирэнка-то с дядей Вовой не при чём. Я ведь Мусю искать пошла, а она домой побежала, вот так всё и получилось. — Примиряющее произнесла Нюша.
— А я тебе что говорила, мама? — Ирэнка вскинула с вызовом голову и насмешливо посмотрела на Нюшу: вот дурочка-то какая, не поняла даже, что я специально её дохлую кошку за дверь выбросила.
А Нюша была счастлива, потому что завтра настанет Новый год, который они с мамой и Кешей теперь встретят все вместе в своём доме.
Тётя Вера с Ирэнкой скоро ушли: до боя курантов им нужно было добраться на самый конец города в новостройки. Кеша заснул прямо за столом, не допив чая. Мама с Нюшей мыли на кухне посуду, и девочка вспомнила, что утром приходили люди из комиссии.
— Мама, мы собственники? — спросила она.
— Нет, Нюша, мы не собственники. Всё, что у нас есть, дано нам взаймы… — Начала объяснять мама, но Нюша не дослушав перебила:
— Как деньги в долг, которые даёт тётя Неля?
Мама внимательно посмотрела на Нюшу:
— Да, так. Наша жизнь дана нам, чтобы мы сделали что-нибудь хорошее. Но она нам не принадлежит. И ты не моя, и Кеша тоже не мой; конечно же, вы мои замечательные детки, но вы принадлежите не мне. Мы все Божии. Даже душа — не наша, а Божия.
— А вещи? — Нюша внимательно смотрела на маму. — Конечно, я знаю, что многие вещи не наши, помнишь эту кофту, — девочка показала мокрым пальцем себе на грудь, — ты принесла от тёти Наташи, и это, и это. Нюша показывала то на шторы в кухне, то на половики. — Но ты сама рассказывала, как вы с папой купили эту мебель, — для убедительности девочка обвела пальцем вокруг, — как вы везли её на лошади и как вам было весело. Это наше?
Мама молчала, потому что дочка напомнила ей счастливое время, когда они с мужем только поженились и у них больше ничего не было, кроме этого тогда совсем нового жёлтого кухонного гарнитура.
— Нюша, у нас с папой было счастье, и оно осталось с нами до сих пор. Нам же хорошо вместе? И хорошо не потому, что у нас есть мебель, а потому, что мы вместе. — Мама не знала, как объяснить дочке, почему собственность не имеет отношения к счастью. — Вот если бы у тебя был дворец, в котором много разных красивых вещей, но не было ни меня, ни брата, ни Муси, тебе было бы хорошо?
— Конечно, нет. Мне бы вас очень не хватало, — девочка вздрогнула, вспомнив, как ей не хватало сначала Кеши, потом мамы. А потом и Муси. — А собственникам хватает?
— Что хватает? — Не поняла сначала мама, — ах да, им тоже не хватает, но им не хватает вещей, чтобы быть счастливыми. Ну что, собственники мы или нет? — Мама хитро смотрела на Нюшу.
— Нет, не собственники. Эти люди из комиссии так и сказали, что мы не собственники. Мам, а что такое разно-ценное, нет, какое-то другое ценное? — Нюша вспоминала непонятное слово.
— Откуда ты это взяла? — Поинтересовалась мама, вытирая тарелки.
— Так сказал один дяденька; он сказал, что это возьмут, а какое-то ценное дадут. А тётенька в белой шубе сказала, что кому надо, тем давно дали.
— Сказал, сказала… Что за глупости? Сколько раз тебе объяснять, что нехорошо слушать чужие разговоры, — недовольная мама остановила Нюшу.
— А они отберут у нас дом? — Не отставала девочка.
— Никто у нас ничего не отберёт, кому эта избушка на курьих ножках нужна. — Маме не нравилось, что дочку беспокоят проблемы взрослых людей.
Девочка замолчала. В кухне стало тихо, только часы стрекотали на стене и поблёскивали позолоченными стрелками. И тут Нюша вспомнила, что у них нет ёлки. Папы нет, вот никто о ней и не вспомнил. Нюша посмотрела на маму, но мама сама уже догадалась.
— А давай нарядим бабушкин фикус? — Предложила Нюша.
— Давай. — Важно сказала мама, и они рассмеялись, потому что фикус это вам не ёлка, и такого Нового года у них ещё не было.
Новогоднее дерево удалось украсить на славу. Жаль только, что Нюша не успела довязать варежки для Кеши, но ничего, еще есть время до Рождества.
***
С приездом Кеши почти ничего не изменилось, в доме по-прежнему было тихо и пусто. Кеша напоминал скорее тряпичную куклу, чем того егозу, каким он был раньше. Одежда на нём висела, как на вешалке, и как будто даже стала ему больше. Кеша теперь почти всегда сидел в уголке около письменного стола Нюши, где сбоку была приколочена полочка для его машинок и других игрушек. Но мальчик только трогал их и ставил назад. Вот и вечером в канун Рождества он сидел тихонько, повернувшись к окну, когда в комнату вошла Нюша. Девочка позвала брата:
— Кеша, иди сюда.
Мальчик безропотно подошёл к сестре.
— Если я тебя обидела, ты прости, пожалуйста. — Решительно проговорила девочка. — Я Богу обещала, что буду тебя теперь всегда-всегда защищать. Вот так, возьму и никому не отдам. — Нюша крепко обхватила исхудавшее тельце братика. Но Кеша даже не прижался к сестре. Он, как тень, опять отошел к письменному столу, сел за него и стал водить карандашом по листку бумаги. Девочка испугалась: таким она Кешу никогда не видела. А брат вдруг тихо произнес:
— У нас в санатории была одна нянечка. Когда она дежурила, то приходила к нам в палату и ворчала, что мы все не жильцы на этом свете. Ещё она говорила, что такие, как мы, только до восемнадцати лет доживают, или меньше.
— А откуда она это знает? — Спросила недоверчиво Нюша.
— Она знает, она в санатории всю жизнь работает, — безразлично сказал Кеша, не отрываясь от рисунка.
— Знаешь, а ведь там папа. — Нюша всхлипнула.
— Где там? — Кеша чуть повернул голову в сторону сестры.
— Ну там, на том свете, куда люди уходят. Мне бабушка рассказывала. И тогда ты с папой встретишься. Мне его так не хватает. Вот бы с тобой поменяться. — Тут Нюша замолчала, потому что вспомнила, как они раньше пробовали меняться и как была недовольна мама.
Кеша на минуту задумался, потом уставился на сестру: может быть, она шутит? Но Нюша смотрела в другую сторону, на папин портрет, который висел над её письменным столом. Кеша тоже посмотрел в папкины глаза. И правда, где он сейчас? Папа был очень добрый и никогда не ругал Кешу и Нюшу, даже наоборот, защищал от строгой мамы. Конечно же, папа не мог быть в плохом месте.
В комнату к детям зашла мама.
— Хотите, сказку вам почитаю, — спросила она.
— Мама, лучше давай поговорим, — Нюша подбежала к маме и посмотрела на брата, который согласно кивнул.
В семье Маликовых было заведено, что по выходным дням родители садились перед сном у кроватей детей и разговаривали обо всём, что интересовало ребятишек. Этих разговоров по душам Нюша и Кеша ждали больше сладких праздничных столов и походов в храм. Но разговора на ночь, с тех пор, как Кеша вернулся, ещё ни одного не было.
Дети быстро стали готовиться ко сну: надо умыться и почистить зубы. А для этого следует сначала одеть калоши. В доме тянуло холодом из-под пола и из всех щелей. Маликовы не успевали затыкать одни, как крысы прогрызали новые дыры. Поэтому в квартире ходили в обрезанных валенках, и только в ванную комнату приходилось отправляться в резиновых калошах: чтобы вода не замерзала, зимой делали утечку, и полы там были всегда влажноватые.
Но вот проделаны все необходимые приготовления ко сну и дети уже лежат в своих кроватках.
— Кто начнёт разговор? Кеша? — Мама сидела на табурете между кроватками и смотрела то на сына, то на дочку.
— Пусть Кеша. — Обрадовалась Нюша.
Кеша молчал. Мама и Нюша смотрели на мальчика и терпеливо ждали, когда он начнёт говорить.
— У тёти Нели есть машина, у её детей мобильные телефоны, а у нас и обычного телефона нет, и крысы везде бегают. — Кеша говорил медленно, как взрослый, — Почему у одних всё есть, а у других ничего?
— Почему это у нас ничего? — Возмутилась было Нюша, но, увидев, что мама качнула головой, замолчала.
— Ты знаешь, сыночка, зачем тёте Неле машина? — Мама гладила Кешку по голове.
— Она в другие города ездит. — Пробормотал Кеша.
— Да, она работает мастером холодильных установок, поэтому ей необходимо бывать в разных местах. И телефоны мобильные Саше и Лёше нужны, чтобы мама в командировке за них не волновалась. А у нас и моя работа, и твой садик, и Нюшина школа, — все в одном районе. Зачем нам машина и мобильные телефоны? И крысы тоже зачем?.. — Спокойный мамин голос почти усыпил Кешу.
— Ой, мама, мама, — всплеснула руками Нюша, — когда я дома одна ночевала, ко мне приходил сверчок! Правда! Он прошептал мне что-то из-за печки, и я заснула и увидела во сне сказку про Буратино.
Маме понравилась Нюшина версия, и она не стала переубеждать дочку. Пусть будет сверчок, а не вечные крысы. Она вспомнила стихотворение о сверчке, которое прочла то ли в каком-то журнале, то ли на страничке отрывного календаря, и Нюша стала просить, чтобы мама его рассказала.
— Ладно, ладно, сейчас вспомню, но только потом сразу спать, — пригрозила мама и стала неторопливо проговаривать следующие строчки:
Три дня нетопленная печка, —
замёрзший маленький сверчок
сидит над тоненькою свечкой
и греет розовый бочок.
Больная сказка расчихалась,
тревожит язычок свечи,
и теплится тихонько жалость
на сердце выстывшей печи.
Мамин голос звучал всё тише и загадочнее и вдруг загудел:
В трубе гудит колючий ветер
свой колыбельный упокой.
И спит сверчок, сбежав от смерти
за печку, — маленький такой.
И для убедительности мама показала на пальцах, какой он маленький.
— Значит у нас, и вправду, за печкой живёт сверчок? — пробормотал Кеша, укутываясь в одеяло и поворачиваясь к стенке. — Вот здорово!
— Живёт, живёт. Два сверчка живут. — Мама поправила одеяла, поцеловала детей и вышла из детской.
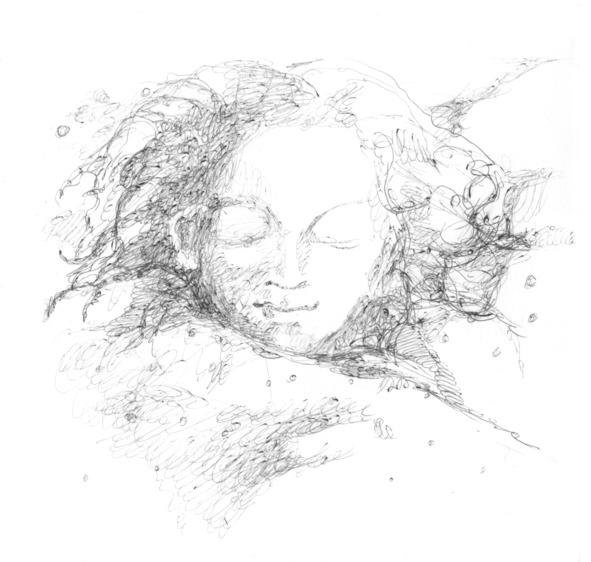
А ночью в окошко к Маликовым заглянула луна и увидела, как Кеша впервые за долгое время улыбался. Ему снилось, что он, взявшись за руки с мамой и папой, идёт по дороге в бабушкину деревню, вокруг всё жёлтое от одуванчиков, а впереди на велосипеде едет Нюша в большой шляпе с полями, какие бывают только у взрослых тётенек.
И Нюша тоже улыбалась во сне, одна рука её лежала под головой, как будто что-то придерживала, наверное, шляпку, которую папка обещал ей купить, когда она вырастет.
Дождь на Троицу
Мы с семилетним внуком обычно бываем на Троицу в монастыре, где все знакомы и грехов, как шила в мешке, не утаишь. Но в этом году из-за семейных обстоятельств мы отправились в городской храм на раннюю семичасовую праздничную службу. С нами вместе собралась моя подруга Анна, которой я постоянно рассказывала о том, что православные — это одна большая семья. В сорок пять лет оставшись совершенно одна, она долго находилась на перепутье и не могла примириться с насылаемыми на неё скорбями и болезнями. Сейчас она волновалась из-за предстоящей исповеди, и слегка моросящий дождь чуть ли не смутил её и не заградил дорогу к храму. Но дождь прекратился, как только она вышла на улицу. Впрочем, Анна плыла посуху под куполом голубого зонта, пока не увидела нас и не поняла по нашему сложенному зонтику, что дождика уже нет.
Мы с внуком пришли на перекрёсток, где назначена встреча, раньше Анны. И я стала рассказывать ему про Троицу, про то, почему люди приходят в храм с берёзовыми веточками. А также о том, что мы — листики в руке Божией, что, как мы растираем в руке пахучие листки и делаем им боль, чтобы они источали запах, так и Господь через скорби наши разливает благоухание духовное вокруг нас.
До храма мы добрались быстро: на улицах не было ни души, чистый пустой город, утопающий в блестящей летней листве, радовал взгляд.
В храме было по-домашнему уютно: то ли из-за немногочисленности паствы, то ли из-за того, что служба шла в боковом приделе, огни люстр и свечей светились только там, а остальная часть храма была освещена естественным светом.
Исповедовал молодой иерей. Мой внук получил отпущение грехов очень быстро, мне это оказалось сложнее, а подруга застряла у исповедального аналоя надолго, а потом стояла службу с мокрыми глазами. Я не спрашивала её ни о чём, зная по себе, что в такие моменты ни до кого. Причащаться она не пошла, хотя мой внук несколько раз подбегал к ней и звал с собой.
Во время проповеди я почувствовала, как за спиной кто-то хлюпает носом. «Подруга», — подумала я и оглянулась. Но это оказался четырёхлетний малыш: он изо всех сил сдерживался, чтобы не разреветься, и так яростно кусал губы и тёр нос, что у меня самой на глаза навернулись слёзы. Я беспомощно посмотрела по сторонам и вдруг увидела, что один из листиков на сорванных нами берёзовых веточках, закручен в трубочку.
— Кирюша, — обратилась я к малышу: — ты не поможешь мне развернуть листик, а то я боюсь: вдруг там кто-то есть.
Кирилл всхлипнул ещё разок и принялся деловито раскручивать нежный тоненький листочек, склеенный липкой паутинкой, и за этим важным занятием горести его забылись.
— Ой, — не сдержалась я, увидев внутри листика зелёную гусеничку. Тут у Кирилла появилась улыбка. А я разъединила три веточки и отдала ему ту, на которой обнаружилась такая чудесная находка.
***
— Он раздавил! — С этими словами Кирюша подбежал ко мне в конце службы, показывая на мальчика лет тринадцати, — он раздавил гусеничку!
— Ну, он больше не будет, — стала успокаивать его я, — прости его, сегодня праздник, Божья Матерь смотрит на нас всех и любит всех. — Кирилл, набычившись, посмотрел на паренька, но тут же улыбнулся и махнул рукой, мол, ладно. А я почему-то расстроилась из-за гусенички.
Возвращаясь после службы домой, мы с подругой почти не разговаривали. Несмотря на праздник, было пасмурно в природе, а на сердце хоть и светло, но грустно. Оказалось, что подруга соблюла все формальности: не ела скоромного, не вкушала пищи и воды после полуночи, молилась по мере сил, но священник не допустил её до Причастия из-за того, что она не всегда посещает храм по воскресеньям и не читает утренних и вечерних молитв. Мы расстались с подругой на перекрёстке: она уходила вся в слезах, не желая больше ходить в храм.
А я шла и думала: где проходит грань между праведностью и милосердием? Достойна ли была я сама и многие другие прихожане, причастившиеся в тот день? Да и как определить эту меру, не судя и не сравнивая? И что мы и впрямь листики в руке Божией, в которые иногда заворачивается гусеничка.
Когда мы пришли домой, разразился сильный дождь, и внук спросил:
— Это Бог плачет вместе с тётей Аней?
Сергий
Посвящается Сергею Стуловскому
В темноте конюшни что-то ворочалось и дышало, но для тридцатитрехлетнего Сергея, коренастого, невысокого, темноволосого с ранней проседью крестьянина эти звуки были привычны. Да и конюшня была своя, досталась от отца. Все уголки здесь с детства знакомые, где, бывало, прятались во время игр. Сергей взял стоящие в углу вилы и стал выбрасывать из стайки навоз. Почему-то вспомнился отец, которого вот уже семь лет как сослали в Сибирь. Туда ли на самом деле его увезли или в другое место, теперь не знает никто. Ни одной весточки от него так и не было. Отец, когда его забирали, уже на выходе из дома, повернулся на пороге и сказал Сергею, глядя пронзительными полными неба глазами:
— Помни, в честь кого мы с матушкой тебя крестили, — сказал и пошел по дороге за телегой, на которой сидел конвойный, в сторону райцентра.
Сергей тогда устраивался на работу в машинный двор, но после отсылки отца его туда не взяли, и Сергей стал хозяйствовать потихоньку, отрабатывая добросовестно трудодни в колхозе. Жена Сергея Мария после родов сына (вторым ребенком), наотрез отказалась рожать дальше. Она была недовольна тем, что муж не добытчик. Выходила замуж в крепкий дом. Отец Сергея, приходской священник, был человеком хозяйственным. В ту пору в доме все было: скотина упитанная и утварь всякая, из городу привезенная. И дом пятистенок стоял ладный, смотрел гордо на улицу в четыре окна. А теперь Сергей в поселке последнего сорта человек. Сергей привычно терпел ворчание Марии. В семье у него была своя тайная радость: десятилетняя дочь, которая с рождения ходила за ним по пятам, упрямая и смелая, не хуже поселковых мальчишек. Нюта, дочка-то, глазищи вся в деда, как уставится на отца, так Сергей и вспоминает его…
Вот и сейчас, занимаясь обычной уборкой в конюшне, Сергей вспомнил о дочке, скоро ей рождение отмечать, а следом за нею всплыл облик отца. Сергей замер на минуту. Ему показалось, что в конюшне появился какой-то чужой звук. Нет, это было другое и не в конюшне, а внутри Сергея, который, казалось, даже услышал слова отца, его интонацию, с которой тот напоминал, чтобы он помнил свое имя. Сергей зябко повел плечами и еле сдержал дрожь от пробежавшего по телу холодка. Как же он забыл, завтра день его тезоименитства.
— Так вот почему вспомнился отец, — успокоился Сергей и, вычистив вилы, поставил их на место, а сам неторопливо пошел в дом вдоль палисада.
Конец сентября в родном краю, а в других он и не бывал, для Сергея был черно-красным. Черным, потому что лист с деревьев к этому времени опадал, а снега еще не было. И в огороде торчали только головы капустных кочанов. Красным, потому что рябиновые грозди наливались огнем и вспыхивали яркими кумачами во всех палисадниках. Нюта собирала ягоды на суровую нитку и носила свежие бусы, подражая матери, которая норовила каждую копейку приберечь на наряды. Сергей добродушно усмехнулся, небось, сейчас Нюте платье мастерят к рождению-то.
Сергей только и успел пройти через сени и зайти в коридор, как следом за ним застучали кованые каблуки кирзачей.
— Начальство, — мелькнуло у Сергия, но это был участковый Семка Косачев с двумя незнакомыми милиционерами.
— Чего добрым людям в наших краях понадобилось? — Заворковала Мария, тут же выскочившая из-за занавески, отделявшей чистую горницу от кухни, только заслышав стук Семкиных каблуков.
— Дак книги запретные, сказывают, в доме храните. Не знаете, что ль, закону, — Семка отводил глаза от Сергея, — обыскивать или сами сдадите?
— Семен Кузьмич, откуда у нас книги? — закатила глаза Мария, — сроду мы никаких книг не читывали. Чай, у нас тут не изба-читальня.
Сергею почему-то был неприятен их разговор: бегающие глаза участкового, лебезящая перед Косачевым жена. Милиционеры молча подпирали дверной косяк, но стоило Сергею посмотреть в их сторону, как они ворохнулись настороженно, и один из них предупреждающе перегородил дверь винтовкой.
Когда Семка пошел к выходу, Мария потянулась было за ним, но ее из дома не выпустили. За Семкой вышел один милиционер, а другой остался в доме. Сергей смотрел на носки его начищенных сапог, на форменное галифе, гордо торчащих из сапог, на сытое брюхо, нависающее над ремнем так, что не видно пряжки.
— Из района прибыли, у нас таких добрых людей нет, тут у нас одни худые, — почему-то подумалось ему про этого сидящего перед ним милиционера.
А тот, усевшись на лавке возле входной двери, не сводил бесстыжих глаз с тугого тела Марии. Она не могла усидеть на месте и кидалась из стороны в сторону. Из-за занавески выглянула Нюта, но мать прогнала ее и наказала Вовку, — это их младший, — сюда не пускать.
Не прошло и получаса, как Семка со вторым милиционером вернулись в дом. По стуку над головой было понятно, что все это время ходили они по чердаку. Семка сердито отряхивался от чердачной пыли, в руках он держал толстую книгу в темном переплете с защелкой сбоку, как у сундука. Сергей узнал отцовскую Библию, которая пропала в день его ареста.
Он не раз потом вспоминал в тюремной камере этот вечер. Сергей почему-то запомнил все детали происходящего до мельчайшей подробности, как будто это не его забрали тогда. Как будто не за ним рвалась из-за спины матери ревущая во весь голос Нюта. Как будто не его методично избивали в районной камере предварительного заключения. Как будто в тот вечер он, Сергей, перестал жить, а на его месте оказался кто-то другой, кто уже не вспоминал домашних трехдневных щей, не чувствовал горечи разлуки с родными, не ощущал физической боли…

Разом был отрезан и дом и что-то еще, что, как пуповина, соединяло его с миром живых людей.
***
Спустя десять лет по Белозерскому тракту от парома шел человек. Согбенная его спина и сухие, шелестящие на ветру, как тростинки, волосы выдавали преклонный возраст путника. За спиной его болтался полупустой вещмешок, а человек шел уверенной походкой, словно знал дорогу. Стояло то осеннее время, когда листва уже охвачена огневеющим осенним пожаром, но еще не опала. И лес радовал глаз своим пестрым нарядом.
Навстречу путнику проехал свадебный поезд в несколько подвод. Он отошел к обочине, прислоняясь к дереву и пропуская свадьбу.
— После войны прошло три года, и в деревнях стало легче жить, вот и свадьба попалась, какая хорошая примета для начала нового периода моей семейной жизни, — подумал Сергей, — а это был он, состарившийся раньше срока. Он возвращался домой после долгого отсутствия, добираясь из далекой Сибири. Откуда и брались силы идти через пол России. Но Сергей помнил свою дочь, ее глубокие небесные глаза. За эти годы он так соскучился по ней, Марии и сыну, что теперь считал каждый километр, приближающий его к ним.
И вот, наконец, к вечеру он добрался до заветного отцовского, а теперь его родного дома. Сергей остановился перед ним, оглядывая его и не узнавая. Вместо штакетника дом окружал высокий тесовый забор, рябин в палисаднике не было. Там расположились грядки с овощами. Сергей поднялся на крыльцо и взялся за щеколду, но дверь сама отворилась с другой стороны, и ему навстречу вывалился холеный пьяный мужик. Сергей еле удержался на ногах от такого груза, который свалился ему прямо в руки. Он усадил мужика на скамью возле двери, поправил на нем сваливавшийся картуз и опять поднялся на крыльцо. Из глубины дома послышался женский крик:
— Сказала же, иди на сеновал, неча дом угаром застить!
Сергей узнал голос Марии, он вошел в холодные сени, затем прошел в коридор. Оттуда с ведром воды наперевес ему уже неслась Мария. Все произошло мигом. Ведро опростано на Сергея и вот он стоит перед женой мало что худущий, да еще и насквозь промокший. А Мария орет:
— Семен, где тя черти носют? Тут шаромыжники по дому шастают, а ты вечно все проспишь.
— Мария, — негромко произнес Сергей, — Мария, здравствуй.
У Марии округлились глаза, она явно не узнавала мужа, но что-то в голосе его показалось ей знакомым.
— Мария, это я, Сергей, — опять повторил Сергей, но уже дрожащим голосом: его начинал пробирать озноб то ли от встречи, то ли от вылитой на него воды.
— Ты откуда взялся? С того света? Иди отсюда подобру-поздорову, уголовник проклятый! — Заорала вдруг Мария, — Семен, не слышь что ль! Выгони этого, и чтоб духу его здесь не было. — Она развернулась и ушла в горницу.
Сергей потоптался у порога, потом повернулся и пошел прочь из дома. Мужик на скамье, по-видимому, тот самый Семен, которого звала Мария, похрапывал во сне. Но Сергей прошел мимо, даже не глянув. Он уже догадался, что это Семка-участковый, и даже начал оправдывать свою Марию, которой куда было деваться, оставшись с двумя детьми на руках.
До парома он добрел уже под утро.
— Скоро рассветет, — думал он, глядя на тонкую полоску света над кромкой леса. Там, на той стороне Шексны, жил его младший брат, и Сергей решил добрести до него, а там видно будет. А пока он сидел на берегу реки, ожидая паром. Волглая одежда, начавшая было подсыхать во время ходьбы, неожиданно стала тяжелой и холодила тело, которое совсем не слушалось. Но Сергей и не хотел шевелиться. На душе у него было спокойно. Он привалился к косогору и стал смотреть на плавное течение реки, полноводной в этом месте, а потому и величавой. Темная ночная вода понемногу светлела, иногда даже в ней проскакивали искорки света, и Сергей улыбался им, словно один только их вид согревал его. Сергей не заметил, как начал дремать. Он вдруг увидел, что к нему приближается какой-то человек с книгой в руке. Сергей столько раз видел эту картину: как Семка-участковый возвращается с чердака и несет отцовскую Библию, поэтому нисколько не удивился этому видению. Но этот человек совсем не был похож на Семку, — ни на того прежнего Семку, ни на этого нынешнего, спящего под его домом. И чем ближе он подходил к Сергею, тем ему становилось теплее и спокойнее на душе.
— Сергий, возьми, — человек протягивал Сергею книгу, в которой он узнал отцовскую Библию.
— Откуда она у вас? — удивился он, — ее же конфисковали десять лет назад.
Человек молча улыбался и радостно протягивал Сергею книгу, и тому ничего не оставалось, как взять ее. Но как только Сергей коснулся темного переплета, вся его усталость, накопленная за годы скитаний, исчезла куда-то. И книга тоже исчезла, а человек своей узкой рукой, похожей на крыло, взял Сергея за руку и повел его к реке. И Сергей не замечал, что ноги их не касаются земли, и идут они не вниз, а поднимаются ввысь.
***
Восьмичасовой паром, выплывший из утреннего тумана, причалил к берегу и привез обратно свадебный поезд. Разгоряченные гульбой люди не чувствовали утреннего холода. На палубе играла гармошка, во всю ивановскую девахи голосили частушки.
— Смотрите, паря, — послышался удивленный голос с берега. Это вышедшие на берег люди обнаружили спящего на берегу странника. — Он же нам попадался, когда мы в район ехали! Точно, это же тот старичок! Ну-ка, Мить, ткни его, скажи, что паром ждать не будет.
Какой-то мужик, стоявший неподалеку от Сергея, очевидно, Митя, подошел к нему и потряс за плечо:
— Эй, давай вставай!
Но Сергей спал вечным сном. Ему снилось, что его доченька Нюта выходит замуж, и он дарит молодым отцовскую Библию — толстую книгу в темном переплете с защелкой, как у сундука. А Нюта, обнимая отца своими тонкими руками, радостно целует Сергия в нос, — так она всегда благодарила его.
— Смотрите, паря, он улыбается! — Голос говорящего задрожал и оборвался, и кто-то стал испуганно осенять себя крестным знамением.
— Чего боитеся? Это Ангел пролетел, сегодня же Радонежского память, а он завсегда с Ангелом своим приходит, — разъяснил испугавшимся землякам паромный дед. — Вишь в полнеба облако перьевое размахнулось, то крыло Его, задело, видать, покойничка, вот он и того. Чего боитеся? — еще раз повторил дед, — это странник, Божий человек, от его смерти худа не бывает. Езжайте себе с Богом, езжайте, а я тут с им побуду пока. Подводу только пришлите, а я тут с им побуду. — И под успокаивающее бормотание деда свадьба отъехала от реки.
Тёзка
Василий шёл рядом с женой по поселковой дороге, и, поглядывая хозяйским глазом по сторонам, привычно думал, кто приедет на праздник. Сегодня было не простое воскресенье, а День святой Троицы. Василиса, его жена, сделала два букета из берёзовых веток, усыпанных нежными клейкими ярко-зелёными листиками. Она добавила ярких нарциссов, отчего казалось, что в ветках запутались солнечные зайчики.
— Какие зайчики? — вздрогнул Василий и отмахнулся от смутных, словно в тумане прячущихся, знакомых с детства ощущений праздника, когда мама (Боже, как же это было давно!) спасала его от любых бед.
Василий мельком глянул на жену: не увидела ли она его секундной слабости? Василиса увлечённо поправляла ветви букета, и Василий расслабленно выдохнул. Мысли его потекли в обычном русле монастырских забот. На службу должны были приехать благодетели из Питера, отчего Василий (а он руководил Попечительским советом монастыря) несколько беспокоился: всё ли пройдёт гладко? Он за сотню метров уже начал вглядываться в легковые автомобили, стоящие на площадке возле монастырской стены, высматривая знакомые силуэты, но никого из благодетелей пока не было.
Возле входа в монастырь Василиса старательно стала бить поклоны, а Василий, положив крест и грузно поклонившись, поймал чей-то взгляд. Он огляделся и обнаружил безногого калеку, сидящего на каталке возле самого входа. Василий знал всех местных попрошаек, но этого видел впервые.
— Нищим не подаю, — буркнул он, заходя в ворота.
— От тебя и не возьму, а вот дать есть что, — услышал в ответ Василий и опешил.
— Ты чего поганый свой рот раззявил? — мгновенно, несмотря на свой представительный вес, развернулся к калеке Василий, — Кто ты такой, чтоб так со мной говорить?
— Я-то кто, известно. Меня мать Васей звала, а вот кто ты такой, ещё нужно поглядеть, — калека осклабился в усмешке.
Изумлённый Василий почувствовал непреодолимое желание сделать что-нибудь с этим оборванцем, и он уже было двинулся в сторону новоявленному тёзки, но тут из-за поворота блеснула серебряной пулей «Тойота» питерского попечителя, директора одного из самых крупных стройбанков России, и, погрозив зачем-то калеке, Василий вышел из ворот и пошёл навстречу важному гостю. А следом подъехали два больших автобуса и несколько маршруток из Петрозаводска. Народу было столько, что открыли дверь с бокового входа в храм, чтобы люди, стоя на улице, могли видеть алтарь и сопричаствовать службе.
Потом в трапезной был обед… И гости разъехались к вечеру.
Василий весь праздник был на ногах, устал и забыл о встрече с тёзкой. А на следующее утро из монастыря прислали послушника с сообщением о том, что пропал ящик с церковной кассой. Вечером, как обычно, монах Тихон, который отвечал за лавочку, закрыл его и оставил под прилавком. В храме домывал полы послушник, потому что на следующий день, тоже предстоял праздник, так как после Троицы всегда следует День Святого Духа.
Участкового уже вызвали, и Василий побрел к месту происшествия, едва сполоснув лицо и сделав пару глотков ароматного кофе, который так вкусно готовит Василиса.
В притворе храма, где располагалась лавочка, шёл осмотр. Коткозерский милиционер Гриша (в прошлом году окончивший поселковую одиннадцатилетку), перегнувшись через столешню, заглядывал под прилавок, потом обошёл его, присел на корточки и ещё раз убедился, что на месте, где вчера был оставлен ящик, пусто. Отец Тихон немногословно описал вечерний свой уход. И все трое стали ожидать возвращения дежурного по храму, посланного за послушником, который последним вышел вчера отсюда. Послушника в келье не оказалось, как выяснилось потом, он и не ночевал.
Гриша, возбуждённо потирая руки, озвучил версию, согласно которой послушник совершил кражу кассы и побег. Расследование завершилось, но все подождали игумена, чтобы окончить это щекотливое дело. Василий лениво перелистывал книжку, подвернувшуюся под руку, и думал о горячей, в самый раз пропаренной овсянке, которая с каждой минутой остывает всё больше и больше на столе его кухни. И тут входная дверь распахнулась: это был один из местных рыбаков. Он сначала растерянно пялился, привыкая к полумраку, но, рассмотрев Гришу, выпалил:
— Утопленник в сети попался, теперь новую покупать.
— Кого покупать? — К пропаже денег Гриша отнёсся хладнокровно: кражи на его участке были самой многочисленной и не раскрываемой позицией в ежеквартальном отчёте. Но вот утопленники и их покупка — это что-то небывалое из его короткой милицейской практики.
— Сеть, — ответил ему рыбак, поворачиваясь к Василию, — ихнего колхозу был, — он мотнул головой в сторону отца Тихона.
Гриша вышел из притвора и отправился на берег, находившийся метрах в ста от храма, за ним потянулась и группа расследования. Василий выходил последним: он запачкал руки лампадным маслом, неуклюже задев лампадку, висевшую под списком икон Божьей Матери. При отце Тихоне было неудобно брать чистые листы бумаги под записочки, поэтому Василий и замешкал. Масло не стиралось, и бумаги на огромную ладонь потрачено было несколько листков. Василий скатал их в комок, бросил в застенок к печи, где хранятся дрова, и шагнул в дверной проём, но что-то заставило его вернуться. Точно! Значит, ему не показалось: в застенке за поленицей лежал ящик с деньгами, он-то и блеснул, будто подмигнул Василию своим жёлтым латунным боком.
Василий зачем-то заложил ящик подальше за дрова и отправился на берег. Утопленником был тот самый послушник, который и украл кассу. То есть, так думали про него другие. И только Василий знал правду, раздумывая, что ему теперь с нею делать.
— А кругленькая, должно быть, там лежит сумма? — внезапно подумал Василий, тут же испугавшись. — Нет, нет, сейчас ящик обнаружат и… — Что «и», Василий не знал, но о деньгах он уже думал, как о своих. — На часах было восемь, через два часа начнется Литургия и… Гриша повез утопленника в Коткозеро, игумен, скорее всего, отправится с ним, отец Тихон пошел в корпус, так, остается дежурный… — Василий просчитывал в уме всех участников данного происшествия и, когда дежурный вошел в храм, Василий отправил его отнести записку игумену. В записке Василий просил отца настоятеля зайти к нему домой. Дежурный выбежал, торопясь застать игумена, а Василий достал ящик, положил его в коробку из-под книг, вынес на улицу и поставил за углом храма… Через несколько минут он спокойно шёл по посёлку с коробкой подмышкой.
Дома, сославшись на недомогание, он отослал Василису к соседке за прибором для измерения давления. Он вскрыл ящик с деньгами, пересчитал купюры, откладывая в сторону десятки и пятидесятки, и удовлетворенный суммой (а денег было больше 150 тысяч рублей), убрал ящик в домашний сейф, где хранилось ружье.
Вернувшаяся с прибором Василиса уговорила его пойти в монастырь на службу, чтобы помолиться о здравии и подать записочки. Василий не хотел идти: игумена нет, попечителей нет, и слушать молитвенный бубнёж второй день подряд энтузиазма у него не было тоже. Но он поддался на уговоры жены, скорее, по той причине, по которой преступника тянет к месту преступления.
Подходя к храму, Василий бросил быстрый взгляд туда, где ещё недавно стояла коробка со спрятанным церковным ящиком. Там что-то было.
— Я же унёс коробку, — подумал Василий и на всякий случай завернул за угол. У стены храма, похожая на коробок, стояла тележка калеки. Тот обернулся и, увидев Василия, насмешливо покачал головой:
— Ну что, пришёл за подачкой?
У Василия похолодело в груди: «нет, он не видел, его тут не было, да никого не было, я всё просчитал…»
С колокольни донеслись звуки, означающие начало службы, Василия окликнула жена, но он наклонился к калеке:
— Я с тобой после службы поговорю, — Василий попытался вложить в свои слова угрозу, но получилось какое-то жалкое не то обещание, не то приглашение.
— Приглашаешь? — Насмешка калеки звенела громче монастырского колокола и Василий, стараясь поскорее избавиться от разговора, кинул:
— Если найдешь мой дом.
***
То ли расстроенные нервы, то ли странные мысли то о калеке (знающем или нет?), то о надежно упрятанных деньгах, но Василий не заметил, как прошла служба.
— Ты и впрямь сегодня сам не свой. Как чувствуешь себя? — стала спрашивать после службы Василиса. Но Василий отмалчивался. Ему было страшно встретиться с калекой, но и страстно хотелось встретиться с ним поскорей.
Каталка застучала под окнами после обеда, вернее после послеобеденного отдыха, который в этот день обернулся для Василия пыткой ожидания то ли кары, то ли награды.
Обычно в воскресенье Василий вздрёмывал на сытый желудок перед телевизором. Но сегодня кресло казалось недостаточно уютным, звук передачи был то слишком резким, то тихим и не заглушал роящихся мыслей, начинавшихся с «а что если…», а сама юмористическая передача совсем не смешила. Когда же Василий всё-таки задремал, ему приснилась мама, улыбающаяся сквозь брызги солнечных конопушек на лице. «Вась, Васюша, Василёк», — шептала она. У Василия мурашки побежали, как в детстве, когда мама приглаживала его непослушные вихры. А мама шептала и шептала так, что Василию становилось стыдно, что он не такой хороший. И заворочавшаяся душа разбудила Василия.
Василиса спала наверху, в спальне. «Вот, правильно, пойду, лягу к ней под бок и засну», — подумал Василий и потопал по лестнице наверх. Но и там сон убегал от него в самые потаённые уголки души, где разморенного Василия поджидала совесть.
***
И, наконец, под окнами застучала тележка…
Василий вышел на крыльцо и спустился к гостю. Он не собирался приглашать его в дом, да и оба крыльца, как парадное, так и заднее, не были предназначены для инвалидов.
— Василиса, — позвал он жену, — принеси нам чай с бутербродами в сад.
— Ты не суетись, брат, я не голоден, — услышал он от тёзки.
Василия раздражало, что этот ничего из себя не значащий, да ещё и убогий нищий, говорит ему «ты», но он изо всех сил сдерживался, потому что должен был узнать, что тому известно.
— Так что же такое ты можешь мне дать? — спросил Василий.
— Да есть кое-что, только вот возьмёшь ли. Сможешь ли хотя бы выслушать? — загадочно проговорил гость. Василиса принесла поднос с чайными приборами, но они не притронулись к чаю.
— Говори! — Василий не мог больше переносить муку неведения.
— Та-а-к, — протянул калека, словно растягивал горлом меха невидимого инструмента, — мамка мне приснилась, на неё больно было смотреть, потому что за спиной у неё будто лампочка горела не менее двухсот киловатт, так глаза резало светом, — приезжий Василий рассказывал, будто местный и впрямь был его братом. — Но я раз только глянул и узнал. А она мне ла-а-а-сково так говорит: «Василёк…»
— Не-ет! — резко слетело с губ Василия.
— Нет что? — переспросил другой.
— Когда ты сон этот видел?
— Видел-видел, когда надо было, тогда и видел, — калека крутанул колёса каталки и, сделав пируэт возле стола, на долю секунды задержал каталку в воздухе, отчего Василию показалось, что калека встал.
— Значит, мама мне ла-а-а-сково говорит: «Васёк…, для того ли тебе даны самые ловкие руки, чтобы ты попрошайничал?»
— И ты, значит, сразу её послушался? — съехидничал Василий, которому стало неуютно в собственном саду.
— Что ты всё перебиваешь. Я ведь… да что ты знаешь… Это сейчас я цеховой. А до этого… — он помолчал, — до этого Афган прошёл. Там вся моя рота осталась… и ноги мои тоже. Или думаешь, я таким и родился? Не-ет, я офицером был. — Василию страшно было даже глянуть в сторону говорящего, который будто читал в его душе. — Мне и квартиру отдельную в Питере дали как участнику боевых действий, и протезы сделали. Но я дома без них передвигался: поручни по всей квартире у меня. Ловчее, чем ты ногами, руками управляться стал. Всё бы ничего, да рыбак рыбака… — приезжий Василий опять замолчал. — Калека он и есть калека. А в Питере все калеки, если не дурики, повязаны одной верёвочкой, концы которой в руках сам знаешь кого. Так я до верхов и дошёл, пока случай один не вышел. А случай был денежный. Нашли мои ребята одного на станции. Спал он вроде, а потом-то поняли, что не живой он… нет, не убитый, так, сам отчего-то умер. А в кармане пакет с большими деньгами и письмо, из которого выходило, что он чьи-то деньги вёз, да вот не довёз. Ну, что с деньгами делают, знаешь. Тут мне мамка и приснилась первый раз. Потом ещё. Думал, что уже ничего не испугает меня после Афгана-то. А мамка меня и спрашивает: «Зачем Бога гневишь? Ах, ноги отняты? Так ты хочешь, чтобы и руки отняты были за такие-то дела?» Ну а третий-то сон меня сюда и привёл. — Приезжий Василий глянул на местного и подмигнул: — Дело у меня одно есть.
— А от меня чего ты хочешь? Думаешь, я тебе деньги отдам? — сказал местный Василий, а сам замер: вот оно, сейчас и станет ясно, знает или нет.
— Я же сказал тебе, что денег у меня побольше твоего будет, да и власти тоже. Не в них проблема… И не в руках-ногах, — приезжий Василий поймал взгляд тёзки, недоверчиво брошенный в его сторону, — а в голове. Там заводится мысль, неважно, какая. Сначала она будоражит, волнует, а потом полностью захватывает сознание. Эта оккупация чем-то напоминает паралич. Немногим удаётся выскочить из такого состояния.
— Кролик и удав, — пробормотал Василий.
— Похоже.
— Но тебе не удастся сделать из меня кролика.
— Кролик — это твой мозг, а удав — мысль, что тебе нужны деньги.
— Вася, тебе звонят, — из дома послышался голос Василисы. И Василий поспешил к телефону. Когда он вернулся, калеки нигде не было. Василий выругался, потому что происходящее всё больше походило на паранойю.
***
Под вечер пришёл игумен. Василий почти не слышал, что он говорил. Пришёл в себя, только когда почувствовал на себе взгляд игумена.
— Так что делать-то будем? Долговых выплат на сто пятьдесят тысяч, а денег в ближайший месяц больше не предвидится.
— Сто пятьдесят тысяч, — Василий опешил: откуда игумен может знать про сумму? — Не знаю, нет, и почему я должен знать?
Игумен внимательно посмотрел на Василия. Василиса тут же поспешила на помощь мужу:
— Батюшка, давление у него с утра подскочило. Сам не свой.
— К Матушке-заступнице обращались?
— К чьей матери? — Василий явно испугался.
— К нашей общей, — ответил мягко игумен. — Да что с тобой, Василий?
Василия начало трясти мелкой дрожью.
— Батюшка, что это с ним? — Василиса заплакала.
— Пора, видимо, молебен отслужить о здравии его душевном. Пойдёмте наверх. — И игумен пошёл к лестнице.
— А как же Вася? — Василиса смотрела, как игумен поднимается по ступеням. Она оглянулась на мужа. По его посеревшему лицу стекал пот, но Василий уже сам встал с дивана.
Наверху Василию стало совсем худо, когда он услышал слова игумена:
— Мира Заступница, Мати Всепетая! Со страхом, верою и любовью припадаем пред честною иконою Твоею, усердно молим Тебя: не отврати лица Твоего… умоли Сына Твоего… да сохранит Он
— Всё в тайне, — вырвалось у Василия. Игумен и Василиса молча повернулись к нему. Василий смотрел на сейф. И тут раздался звонок. Кто-то пришёл. Василиса отправилась открывать дверь.
— Ты ничего не хочешь сказать? — Спокойствие игумена оказалось последней каплей. Василию стало страшно остаться один на один со своими помыслами о деньгах, о своих деньгах, которые на самом деле были чужими. А из-за них, этих денег, его близкие становятся чужими.
— Они здесь, эти деньги. Я не понимаю даже, как всё вышло. — Василий смотрел на сейф, не отрываясь, словно может что-то пропустить.
— Отнеси их завтра утром туда, где нашёл.
— Разочаровал, да? И как мне теперь?
— Там люди пришли, — игумен повернулся к выходу.
— Батюшка! — Василий испугался, что вот сейчас он потеряет всё.
— Пойдём, грешник, — игумен улыбнулся, и у Василия отлегло от души.
***
Утром Василий встал в четыре часа. Он и раньше иногда ходил на утренние правила, начинающиеся в полпятого, и Василису не удивило подвижничество мужа.
Возле храма никого не было. Василий вошёл внутрь и прислушался. Из алтаря доносился приглушённый голос игумена, читающего начинательные молитвы. Василий вышел в притвор, открыл коробку, достал денежный ящик и положил его за печку, а коробку сложил и засунул туда же. Он вышел на улицу и вздохнул. Утренняя дымка висела над озером, отчего казалось, что мир ещё не проснулся и не зажёг яркие краски зелени леса и желтизны солнечного круга. Василий смотрел вокруг и не узнавал, не узнавал очертаний скита на другом берегу, не узнавал самого себя. Он не удивился, когда услышал голос игумена, говорившего «Доброе утро».
— Никто не узнает, но уже знают трое. — Василий говорил о тёзке.
— Да, Бог знает и мы с тобой.
— Я о калеке, Василии.
— О ком? — переспросил игумен.
— Ну, он уже пару дней живет в монастыре, безногий Василий на каталке.
— У нас никаких безногих нет.
— Как же нет? — удивился Василий. — Вот и Василиса его видела, он к нам домой приходил.
— Как его зовут? Василием, говоришь? Тёзка, значит. Ну-ну, — игумен вздохнул. — Ну, ну… Помогла Матерь Божия…
СХЕМА
— Ну, так вот оно всё и было распределено: квартира и машина записаны на жену, у меня прописка на даче, поэтому он ничего бы по суду не получил. — Сидящий за рулём шестиместного кроссовера Василий, седовласый пятидесятипятилетний с солидным животиком бизнесмен, повернул голову, подмигнул находящемуся на соседнем сиденье молоденькому Ромке и опять стал смотреть на дорогу, оживлённую сегодня по причине предстоящих выходных. До монастыря, то есть до Интерпосёлка, где у Василия была дача, ехать надо было питерской трассой, да и пасмурная погода заставляла напрягать зрение.
— А что, могли всё конфисковать? — Жалостливые нотки в голосе Ромки неприятно задели Василия: он председатель Попечительского совета монастыря, к тому же еще и управляющий лесозаготовительным предприятием «Благовест», учрежденным монастырем, а Ромка всего-навсего зятёк будущий.
— Что конфисковать? — Василий начал балагурить: — Как юридическое лицо предприятие мое было банкрот, что с него взять-то?
— То есть ты обанкротился? — Ромка с улыбочкой откинулся на спинку автомобильного кресла.
— Накося, выкуси, обанкротился. — Василия уже начал доставать допрос зятька. — Я заблаговременно все средства перевёл в фирму-однодневку и обналичил. Сейчас вот увидишь, куда я их вложил. — Одно только упоминание о доме, в котором его поджидала Лиска (так ласково называл он жену Василису), сразу же повысило градус настроения Василия.
— А тот, ну, который партнёром был? Он-то как?
— Так он сам кинуть меня хотел, я его опередил, так что пенять ему было не на что. — Василий самодовольно потянулся. — Он свой в мире бизнеса, схему кидалова знает, так что сначала он виду не подал. Только так недолго было. Я уже сюда переезжал. И меня вызвали в милицию, в Петрозаводске уже. Я сначала не понял, с чего это милиции мною интересоваться: вроде чист, как говорится, не состоял, не привлекался, не участвовал. А в милиции следователь мне фотографию показывает: «Узнаёте?» Я глядел-глядел, — ну, вот не знаю и всё тут. Только и разглядел, что мёртвый, который на фотке.
— Ка-а-к? — ухнул Ромка.
— А вот так, синюшное лицо и глаза закрытые. И фамилия его ничего мне не говорит. А следователь всё талдычит: «Вспоминайте, вспоминайте». Потом только сказал, что при нём, ну, при покойнике этом, моя фотка оказалась.
— Ну да! — Ромкины глаза выкатились от удивления.
— А на обороте мои все данные, начиная от имени-фамилии, заканчивая адресом. Так они меня и нашли.
— Кто, милиция?
— Они самые, да только искали то другие. — Василию нравилось, что зятёк весь испереживался, заинтригованный историей. — Партнёр мой бывший, оказывается, килера нанял, да тот до меня не доехал, на трассе остался. В аварии погиб.
— На какой трассе? — не понял Ромка.
— На мурманской. — Василий перекрестился. Он хоть и любил вспоминать историю десятилетней давности, но каждый раз его слегка потряхивало от осознания, что сложись тогда по-другому и кто знает, где бы он был сейчас. — Меня чудом, видно, спасло. Слыхал, что возле монастырей охранная зона есть.
— Зона? Где зэки живут? — Ромка не отрывал завороженного взгляда от тестя.
— Да какие зэки, Ну, это как бы такая сила духовная вокруг — святое место потому что. Понимай, жить возле монастыря как. — Василий задумался, вспоминая, как попал в эти места: приятель один, художник, запойный, попросил свозить в монастырь. Уж и не припомнить, чего приятелю там было надо. А вот Василию этот посёлок в самый раз подошёл отдалённостью от больших городов и малочисленностью: любой чужак тут сразу же как на ладони был виден. Думал Василий отсидеться, пока забудется липовое банкротство, а вышло, что первым человеком здесь стал. «Благовест» набирал финансовую мощь. Управлять такой фирмой одно удовольствие. Особенно в этом году. Правда, Василий при этом предпочитал не помнить об Аркадии, чья фирма-партнер весь год опекала его. Аркадий даже квартиру свою заложил, чтобы в обороте ходили большие деньги, потому что обещал игумену на Попечительском совете (а Аркадий тоже входил в него) за год выйти на прибыль.
Впереди показался указатель монастыря, и Василий свернул на отворотку. Теперь двенадцать километров можно ехать на автомате, предвкушая густой пахучий борщ, сваренный женой.
Когда кроссовер остановился, Рома, который еще не бывал на даче тестя, ошалел от красоты: двухэтажный осанистый дом Василия Александровича утопал в пышном цветнике, разведенном Василисой Андреевной на гектаре земли.
***
Шла неделя за неделей, Надька с Ромкой загорали на даче, не подозревая, что под пеной балагурящего добродушия Василия, который приезжал по выходным, кипит напряженная работа. А думал он о том, где взять деньги на свадьбу дочери. Надюху замуж выдать он хотел только с размахом и не иначе: Ромка был из семьи интеллигентной, столичной. Василий зарабатывать в поте лица не умел и считал это привилегией рабов. Выделяемые на нужды Попечительского совета неконтролируемые пять тысяч в месяц были каплей в море. Пенсия жены — ещё одной каплей. А Василию нужно было много и сразу, поэтому, когда в один из казалось бы обычных дней августа Аркадий позвонил и попросил съездить в Кондопогу для оформления трансферта, он не поверил своему счастью.
— Три миллиона, целых три миллиона, — только и вертелось в голове Василия весь этот день и весь следующий, и так до тех пор, пока эти три миллиона не оказались на счету «Благовеста».
Аркадий позвонил через неделю.
— Василий Александрович, Кондопога говорит, что деньги они перевели, а на нашем счету пусто. У нас срываются поставки леса: нечем оплачивать отправку вагонов.
— А я здесь при чём? — Отговорился Василий.
Ещё через неделю Аркадий позвонил и потребовал перевести деньги со счета «Благовеста» на счет его фирмы. Но Василий бросил трубку и больше Аркадию не отвечал.
— Не отдам, ни за что не отдам, мне эти деньги нужны, — твердил, как клятву, Василий, — Аркадий вор, потому что такую прибыль за год получить без махинаций невозможно.
Василий уже забыл, что два с половиной миллиона рублей были залоговыми от квартиры Аркадия.
*****
Когда Рома случайно услышал разговор будущего тестя по телефону с каким-то то ли инвестором, то ли партнёром, он сначала не поверил своим ушам. Они с Надей занимались во дворе шашлыками, и вдруг Надя стала капризничать и требовать любимую розовую шляпу с большими полями, купленную в Париже. Рома с Надей жили в комнате наверху, а ступеньки туда вели достаточно крутые, поэтому Надя отправляла за вещами Ромку. А не мог поверить Рома потому, что добродушный Василий Саныч говорил грубо, резко, на языке уголовников.
Рома сначала застыл в начале лестницы, не решаясь подняться. Минут через пять он всё-таки осмелился осуществить подъём, но только после того, как Василий Саныч оборвал разговор и ушёл в свою комнату. Рома на цыпочках поднялся по скрипучей лестнице, схватил с вешалки Надину шляпу и также мгновенно и незаметно выскользнул из дома. Если бы это самое произошло с услышанными словами. Если бы и они не оставили следов в праздном мозге Ромы. Надя, как всегда, что-то говорила, но Роман обдумывал слова тестя.
— Что бы это значило: были твои, стали мои. И что за квартиры были украдены? А самое интересное, с кем разговаривал тесть?..
Вечером за ужином Василий стал рассказывать жене о своём партнёре Аркадии, у которого раньше была риэлторская контора, но что-то там не срослось и он прогорел на квартирных махинациях. А по окончании ужина обратился к дочери.
— Ну-ка, куропаточка, поищи мне Аркашу в сети.
Надя сидела за компьютером недолго: в Интернете почти сразу отыскалось с десяток сайтов, на которых прошлый Аркашин бизнес был разобран подетально и откомментирован так, что любой читающий это тут же перестал бы быть желающим иметь его в качестве партнёра.
— Вот видишь, вот видишь, с какими людьми приходится работать, — притворно вздыхал Василий, радостно потирая руки и подмигивая дочке, — за всеми глаз да глаз. Прогорел-то он на квартирах прилично, да, видно, не одну удалось прикарманить, потому что откуда у него сейчас такие деньги?
— Пап, он же тебя, наверное, уже не раз подставил? — Забеспокоилась Надя.
— Будет и на моей улице праздник, — ухмыльнулся Василий, считая теперь окончательно эти три миллиона своими кровными. — Ты, дочура, не беспокойся об этом, давай, лучше подумаем, как свадьбу будем праздновать.
Весь вечер они вчетвером строили планы. Со свадьбой решили не спешить, но и не задерживаться. Расписываться лучше было в Петербурге, а венчаться в местном монастыре в конце сентября в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
*****
Василию снился сон: он стоял на перепутье, держа в руках какую-то странную карту. Да и место, где он находился, было странным. То ли из-за тумана, то ли ещё по какой неведомой Василию причине, местность была совершенно пустой: серая нитка дороги, вдоль которой ничего не росло, и две тропы, ответвляющиеся от неё в разные стороны через небольшой отрезок. Василий глянул на карту в руках: на ней странным образом было отражена именно эта пустынная местность. Разница была в том, что на карте возле тропы, ведущей направо, было написано гладкими с завитушками буквами — Рай, а возле тропы, ведущей налево, такой же каллиграфией выведено — Ад. Василий повертел карту в руках и на дороге разглядел надпись Чистилище, составленную из напоминавших булыжники квадратных букв.
— Вот он, значит, какой, тот свет, — подумал Василий, — оказывается, тут ничего и нет. Всё просто, всё объяснено: там ад, а вот там рай. А рассказывают такие ужасы. — Василию даже не пришло в голову, как бы он сам разобрался, если бы не карта. Он ни на миг не задумался, куда идти, и уже сворачивал направо. Через несколько метров тропа уткнулась в массивные запертые ворота, по обе стороны от которых бесконечно длилась высокая стена. Василий уверенно постучал. В воротах тут же открылось маленькое окошко, в котором появилось улыбающееся лицо седовласого старца.
— Здрасьте, — Василий хотел казаться вежливым, — Вы Бог? — Улыбка старца засияла ещё сильней. — А я вот тут к Вам… — и Василий замолчал, потому что не знал, что говорить дальше.
— Зачем прибыли? — Добродушно поинтересовался старец.
— А зачем, это, в рай прибывают? — Василий запнулся, выговаривая последнее слово, так, что у него получилось «при» и «бывают».
— Кто зачем, — по-деловому ответил старец. — А ты не при.
— Что? — Василий растерялся.
— Вот-вот. Что, а не кто, — пояснил старец, — что предъявишь-то из добродетелей? Или ты думаешь, что кем-то стал, раз до власти и денег дорвался там, — он мотнул головой куда-то вниз, за спину Василия, отчего Василию захотелось тут же обернуться.
Позади ничего не было, словно дорога шла вдоль обрыва. И у Василия почему-то всё внутри оборвалось: Если ещё миг назад он не сомневался, что как председатель попечительского совета монастыря будет принят в раю с распростёртыми объятиями, то сейчас ему стало страшно смертным страхом, потому что здесь не было ни связей, ни заслуг и прочего, что значимо в том мире. Василий всего-то на миг повернул голову назад, но словно не миг это был, а вечность, и будто не голову повернул, а мир перевернулся.
— Господи! — Выдохнул Василий.
Старец в окошке отвернулся, и Василий услышал, как тот произнёс: «Тебя». Василий как-то разом догадался, что он до этого ошибался, и не только, когда принял апостола Петра за Бога, но и когда думал, что жил.
— Господи, — опять выдохнул Василий.
— Чего тебе? — послышался Голос.
— Это я так, — растерялся Василий, но тут же спохватившись, добавил: — извините, что побеспокоил.
Голос задрожал и рассыпался в воздухе прозрачными дробинками. А ворота и всё, что было за ними, растворились, словно здесь ничего и не было. Василий сам не понял, как оказался на тропе, ведущей налево. Окружающая местность из безвидной преобразовалась в зловещую, а тропа внезапно оборвалась. Василию открылся безграничный и бездонный котлован, наполненный тонкими белёсыми струйками дыма, которые, казалось сшивали низ с верхом, а может, землю с небом.
— Точно, — в голове Василия образовалась откуда ни возьмись, картина мира, чем-то схожая со схемой, которая недавно была у него в руках: — там, внизу, земля. Вот, оказывается, что такое ад. — Эта мысль, да ещё и проиллюстрированная, как ни странно, успокоила Василия: — Раз меня не пускают в рай, значит, мне нужно возвращаться. Так-так, — Василий оглядел край котлована в поисках спуска. Стены котлована были отвесными и гладкими, словно ледовые горки. Правда, вниз вела лестница. Но она своей хлипкостью несколько смущала дородного крупнотелого Василия. — Домой я и на этажерке бы полетел, — решился Василий и ступил на тонкую перекладину.
Чем ниже он спускался, тем глубже оказывался котлован, стена которого отливала цветом воронёной стали, а воздух вокруг Василия становился всё краснее и краснее, словно кто-то впрыскивал в него новую и новую кровь. Через какое-то время Василий подустал от бесконечного нащупывания ногой очередной перекладины. Он посмотрел наверх и ничего не увидел, кроме той перекладины, за которую держался руками.
— Так-так, а если я опущусь ещё на один пролёт? — Василий опустил ногу и, почувствовав под ней опору, перехватил руки: верхняя перекладина тут же исчезла. — Ну-ну, а теперь вверх, — усмехнулся Василий и поднял руку, но сколько ни водил ею в воздухе, перекладины так и не нашлось. — Это как это? — Ошарашенный Василий не хотел соглашаться с тем, что у него нет иного пути, кроме как вниз по лестнице. И потом он совершенно не привык к такому, чтобы решали за него. — Господи! — Взмолился Василий.
— Ге-ге-ге, — раздался в ушах громкий Хохот, — это ты не по адресу. Всевышний выше.
— А Вы кто? — зачем-то спросил Василий.
— Ой, умора, ты чего, неграмотный? Не знаешь что ли, кто в аду главный? — Невыносимый Хохот громыхал каменюгами прямо по ушным перепонкам Василия.
— Это Вы? — Спросил Василий и сам почувствовал глупость вопроса.
— Нет, не я, — расхохотался Невыносимый Хохот, ударяя в перепонки, как в барабан.
— А как отсюда выбраться? — Спросил очередную глупость Василий, тут же это понимая.
— Никак, — ещё невыносимее загромыхал Хохот.
— А долго ещё спускаться? — Василий продолжал спрашивать, понимая бестолковость своих вопросов, но не хотелось оставаться одному.
— Бесконечно. — Хохот бросал свои каменья уже не в стенки ушных перепонок, а внутрь, прямо в утробу, отчего Василия неудержимо потянуло вниз.
— Я хочу остановиться… Я устал… — Василий вдруг почувствовал, что больше не в силах держаться за перекладины ускользающей лестницы.
— Разве устал? Хочешь остановиться? — Надсмехался Хохот: — Когда это ты хотел остановиться? Тебе же всегда было мало. Разве ты хотел останавливаться, когда шел по пути лёгкой наживы? Разве ты хоть раз задумался о бережливости? Разве ты уставал брать чужое и никогда не отдавать? Ха-ха-ха! Ты сам соорудил эту бесконечную исчезающую лестницу, перекладины которой и есть твои прегрешения, и это они заводят тебя всё глубже и глубже, и эти перекладины исчезают так же, как деньги, которые доставались тебе даром и которые ты тут же растрачивал попусту. Разве тебя интересовало что-то, кроме твоей утробы и плотских удовольствий? Вот так ты создал пустоту вокруг себя. Ты даже монастырский совет использовал для своей выгоды.
— Но я же пожертвовал в монастырь, — начал оправдываться Василий, — Аркаша целый год обещал только, — Василий не сдержался и похвастался: — а я дал и компьютер епархии подарил.
— Га-га-га, — Хохот сотрясал всё тело Василия, так, что он еле удерживался на лестнице, — своим пожертвованием ты называешь девяносто тысяч из взятых у Аркашки трех миллионов? Экспроприация у экспроприатора? Или же это его добровольная лепта в твою фирму, с помощью которой ты облапошивал и мир и монастырь?
— Э… Я… — Василию нечем было крыть, потому что Хохот, пронзающий его тело, проник и в мозг и хозяйничал там, словно это в платяном шкафу наводит порядок рачительная хозяйка.
— Скажешь, такая схема. Да, конечно, схема, — Хохот проблеял последнее слово так сочно, что у Василия случилась отрыжка. — Схе-хе-хе-ма… Схе-хе-хе-ма… Схе-хе-хе-ма… Ну, да, ты же ею прикрываешься, как грешный Адам фиговым листом. Аркашка тоже ею вначале крыл.
— Аркаша? — Удивился Василий, — он что, тоже тут был?
— Гга-гга, — забулькал Хохот, — его квартирные делишки довели прямиком сюда.
Василий вспомнил, что у Аркаши пару лет назад был инфаркт. И тут ему поплохело:
— А я-то сам как здесь оказался? — Встревожился Василий и проснулся.
Он лежал на кровати в незнакомой комнате, а рядом сидела его жена.
— Васенька, ты очнулся, как же ты нас всех напугал! — От радости Василиса не знала, за что хвататься. — Ты сутки был без сознания. Когда поднялась высокая температура, мы подумали, что это грипп. Но потом у тебя начала краснеть и вспухать нога. Я никого не могла найти, чтобы отвезти тебя в город, в больницу. Хорошо, что Аркадий с сыном приехал к игумену, он-то тебя сюда и привёз. Вась, у тебя рожистое воспаление.
В окна палаты стыдливо заглядывали гроздья засентябрившейся рябины, а Василий смотрел на левую ногу, лежащую красным бревном в специальном платсмассовом лотке, но перед глазами стояло марево картины того света.
***
Через пару недель Василия выписали из больницы. Он вперевалку передвигался по дому, прихрамывая на левую ногу. Ни в посёлок, ни в монастырь не выходил, но Василиса особо не беспокоилась, списывая всё на недомогание мужа.
В Петербург поехали впритык по времени: Василий должен был до отъезда показаться лечащему врачу. Да и Mazd’е нужно было побывать перед поездкой в надежных руках знакомого автомеханика, которому Василий доверял.
Сваты жили в десяти минутах ходьбы от Воскресенского Новодевичьего монастыря, куда оба семейства прогулялись в первый же вечер. Рома с Надей замешкались возле одного монаха, возраст которого был трудноопределим. Сухонький и махонький, он что-то радостно говорил молодым, сватам стало неудобно стоять на аллее, будто подстерегая кого, и они пошли по кладбищу, прогуливаться вдоль могил высокочтимых лиц и их близких.
— Ну и о чём вам пел этот инок? — Поинтересовался Василий у дочери вечером после ужина, когда сваты ушли в свою спальню, а Надя осталась с родителями, потому что на балконе курить было сподручнее, чем в подъезде, а балкон был только в гостевой комнате, где расположили Надиных родителей.
— Ой, пап, ну, ты же знаешь, о чём они все говорят: об аде и рае, — отмахнулась Надя, которой хотелось насладиться ароматом английских дамских сигарет.
— И что там с этими адом и раем? — Насторожился Василий.
— Пап, ну, он говорил, что ад — это брак без любви и наоборот, — Надя выпускала бледные колечки, и на миг Василию почудилось, что с ним на балконе не его собственная дочка в длинном темно-зелёном шёлковом халате, а какое-то инопланетное чешуйчатое животное, блестящее расслаивающимися на составные элементами тела. — Короче, если вы, детки, будете любить и тяготы друг друга носить, — передразнивая детский голос инока, запела сиреной сквозь дымку табачную Надя, — окажетесь в раю ещё при жизни. А будете хотеть, чтобы вас любили, а сами взамен ничего не дадите, то окажетесь в аду страстей.
Надя раскачивалась на балконе в кресле-качалке, а Василий смотрел на купола Новодевичьего монастыря, торчащие из-за района пятиэтажек, и просчитывал, во сколько ему завтра нужно встать, если утром он захочет попасть на утреннюю службу, чтобы поговорить с этим самым монахом, ведающим об аде и рае.
***
— Это плохо, что ты видел только ад, — сокрушенно охал сухонький исповедник Новодевичьего монастыря, слушая сбивчивый, взволнованный рассказ Василия о явлении ему во сне Бога и Его антипода. — Ой, как плохо-то.
— Почему же? — Насторожился Василий.
— Так ведь ад сотворён из наших грехов, а рай — из наших благих поступков, они и есть те самые праведники, из-за которых Господь не уничтожает город нашего «Я».
Василий вспомнил, что рая он и впрямь не видел, впрочем, и ад предстал в виде бесконечной лестницы.
— Лучше б сковородка раскалённая, — подумал Василий и вздрогнул от внезапно увиденной перекладины, которая представилась ему в этот самый миг тугой трубкой долларовых купюр. — И я за это держался там? — ужаснулся Василий, — Понятно теперь, почему у меня не было ощущения надёжности.
— Там ещё про одного человека говорили, ну, когда я на лестнице висел, а я потом узнал, что это он помог жене меня в больницу отвезти. То есть я тогда заболел и был без сознания, а думал, что сплю… Только он вор, он не должен был… — Василий замолчал, — то есть не он был должен… Только это… Вы ничего такого не подумайте: это в бизнесе обычное дело, — стал оправдываться он перед монахом, — в бизнесе никому верить нельзя.
Исповедник сочувственно вздыхал, слушая рассказ Василия.
— У Вас, значит, бизнес? Так? — Василий кивнул, — А этот человек, который в аду Вам встретился, вор?
— Да нет, я с ним там не встречался, но он там тоже был, только раньше, — Василий не знал, можно ли при монахе упоминать хозяина ада.
— Это он Вам рассказывал? — допытывался монах.
— Нет, этот, ну, который главный в аду, он мне сказал, что Аркадий, партнёр мой, что он тоже в аду был. — На лбу Василия выступила испарина от напряжения.
— Мда, значит, партнер вор, а Вы бизнесмен? — опять спросил монах.
— Ну да, так.
— А он думает, что это он бизнесмен, а Вы… — исповедник посмотрел на Василия. — Вы бы с ним определились.
— Он эти деньги украл, — упёрся Василий.
— А Вы? Вы у него не украли?
— Но это краденые деньги. Я ему их просто не отдал.
— А что Вы с ними сделали? Вернули тем, кто пострадал? Или присвоили себе?
— Ну… — Василий не знал, что ответить этому невзрачному монаху, словно вещавшему из его собственного нутра.
— Вы ведь понимаете, кто Вы теперь?
— А я их в монастырь пожертвовал, — Василий вспомнил о 90 тысячах рублей, которые отдал игумену.
— Все? — Вопрос инока припёр Василия к стенке.
— Ну, не все, — нехотя пробормотал он.
— А остальные где?
— Потратил, — пролепетал Василий, чувствуя себя нашалившим школьником.
— Сколько?
— Что осталось, — Василию хотелось превратиться в мышонка и шмыгнуть в первую попавшуюся щель, только чтобы не отвечать на вопросы монаха.
— Потратил сколько? — Не отступал старец.
— Три.
— Что три?
— Миллиона.
— А пожертвовал сколько?
— Девяносто.
— Чего девяносто-то?
— Тысяч, — выдавил Василий.
— Мда… — вздохнул монах. — Отдавать-то будешь?
— Вот ещё, — вскинулся Василий, — а он думал кому отдавать, когда присваивал?
— Иди, — инок взял с аналоя крест и Евангелие и направился в сторону алтаря.
— Куда идти-то, отче? — Василий оторопел: монах не накрыл его епитрахилью и не отпустил грехи.
— А куда хочешь, туда и иди, твоя воля. — Монах говорил, так и не обернувшись.
— И что теперь? — Что делать дальше, Василий просто не знал, потому что такого с ним раньше не было.
— Что теперь? — Монах остановился, — а что было у тебя, то и есть: непризнание вины и нераскаяние в содеянном. Вот что и тогда и теперь.
— Я, это, раскаиваюсь я, отпускайте грехи, — Василий недоумевал: почему монах уходит, не сделав положенного отпущения грехов.
— Так я и отпустил тебя: каково раскаяние — таково и отпущение. — Вздохнул тяжело монах и закрыл за собой дверь в алтарь.
***
Свадьбу играли в питерском кафе «Санам». Деловые люди, малая кучка интеллигенции и такая же небольшая группка молодёжи через пару часов разошлись по разным столикам. Испортило настроение Василию внезапно включенное интимное освещение. Когда красноватый матовый приглушённый свет полился откуда-то сверху по струившимся бледным занавесям, Василий вздрогнул и вцепился в столешню так сильно, что кончики пальцев его побелели.
— Кто это сделал? — Закричал на весь зал Василий.
— Папа! Что с тобой? — Надя бросилась к отцу, но её свадебное белое платье от красной подсветки стало алым, и это окончательно сразило Василия, упавшего в конвульсиях на пол.
— Ему нельзя красного, это обостряет болезнь, — Василиса побежала к администратору зала. Ромкин отец вызвал скорую, а Ромкина мать — лимузин для молодых.
На этом долгожданная свадьба Ромы и Нади скоропостижно закончилась.
***
— Что вы с Аркадием не поделили? — поинтересовался игумен монастыря, когда Василий пришёл в храм, напомнить о венчании дочери.
— Батюшка, да всё в порядке, это бизнес, — Василий спрятался за маску беспечности, — это так всегда, кажется, что другому досталось больше, чем тебе самому.
— Вы с ним разберитесь, — посоветовал игумен.
— А пусть он в суд подаёт, если недоволен, там всё по справедливости и решат, — отмахнулся Василий: — некогда мне, я дочь замуж выдаю.
***
После серии уколов питерских врачей Василий спал хорошо, без снов и распаления членов. Но на время венчания Василий предусмотрительно утвердился на лавке у выхода из храма, чтобы если что с ним опять происходить будет, то можно бы было выйти на свежий воздух. Лавка была широкая и удобная: отсюда всё было замечательно видно. Перед глазами Василия проплывали облака Надиного свадебного наряда и игуменского белоснежного облачения, горящие свечи мерцали, как золотоглазые звёздочки, на клиросе райскими голосами пели городские певчие, нанятые Василием специально для сегодняшнего торжественного дня, и Василий не заметил, как задремал.
Врата алтаря раскрылись, игумен вынес крест, сияющий, как солнце, и благословил им молодожёнов. И опять закрылись врата, а к ним тут же прильнули полуобнаженные гурии, страстно целующие двери и вожделенно ласкающие их.
— Господи, а этих-то кто пригласил? — удивился Василий.
— Эти, — усмехнулся голос за спиной Василия, — да это же твоя постоянная свита.
— А ну, вон, — закричал Василий, — ну-ка, вон из храма!
Гурии не обращали на Василия никакого внимания и продолжали льнуть к алтарным вратам, извиваясь в бесстыдных позах. Василий встал и пошёл к алтарю. Он обхватил двух гурий и вынес за дверь храма, затем вернулся и вынес ещё пару, и так, пока не очистил врата. В какой-то момент одна из гурий попыталась проникнуть в алтарь через боковую дверцу, но Василий был начеку: он ухватился за фалды длинного платья и выволок гурию из храма, а сам довольный уселся на лавку и слушал голоса певчих.
***
На следующий день после венчания Василиса долго дожидалась игумена возле храма. Шёл проливной дождь, озеро заплыло туманом и скрывалось за серебряным гулом дождя, сшивающего землю и небо. Но Василисе после вчерашнего было стыдно заходить в храм.
— Батюшка, простите, — кинулась по склизкой тропинке навстречу игумену Василиса, когда служба закончилась и игумен наконец-таки вышел под дождь, — муж давно уже был нездоров.
— Что же Вы больного-то его одного оставили? — игумен остановился и внимательно посмотрел на Василису, — он ведь сан священнический оскорбил, обряд венчания сорвал, гостей из храма выгнал. Двоих вот с переломами в больницу отвезли.
— Батюшка, простите его, отпустите грех, — Василиса умоляла игумена, а по лицу её вперемешку со слезами текли струи дождя, отливая мокрою сединою в тёмных волосах.
— Его грехи теперь только Бог отпустить волен, — игумен стал неторопливо подниматься вверх, старательно обходя пузырящиеся дождливые лужи.
— Как же так? Как же так? Ба
