автордың кітабын онлайн тегін оқу В ожидании кайроса
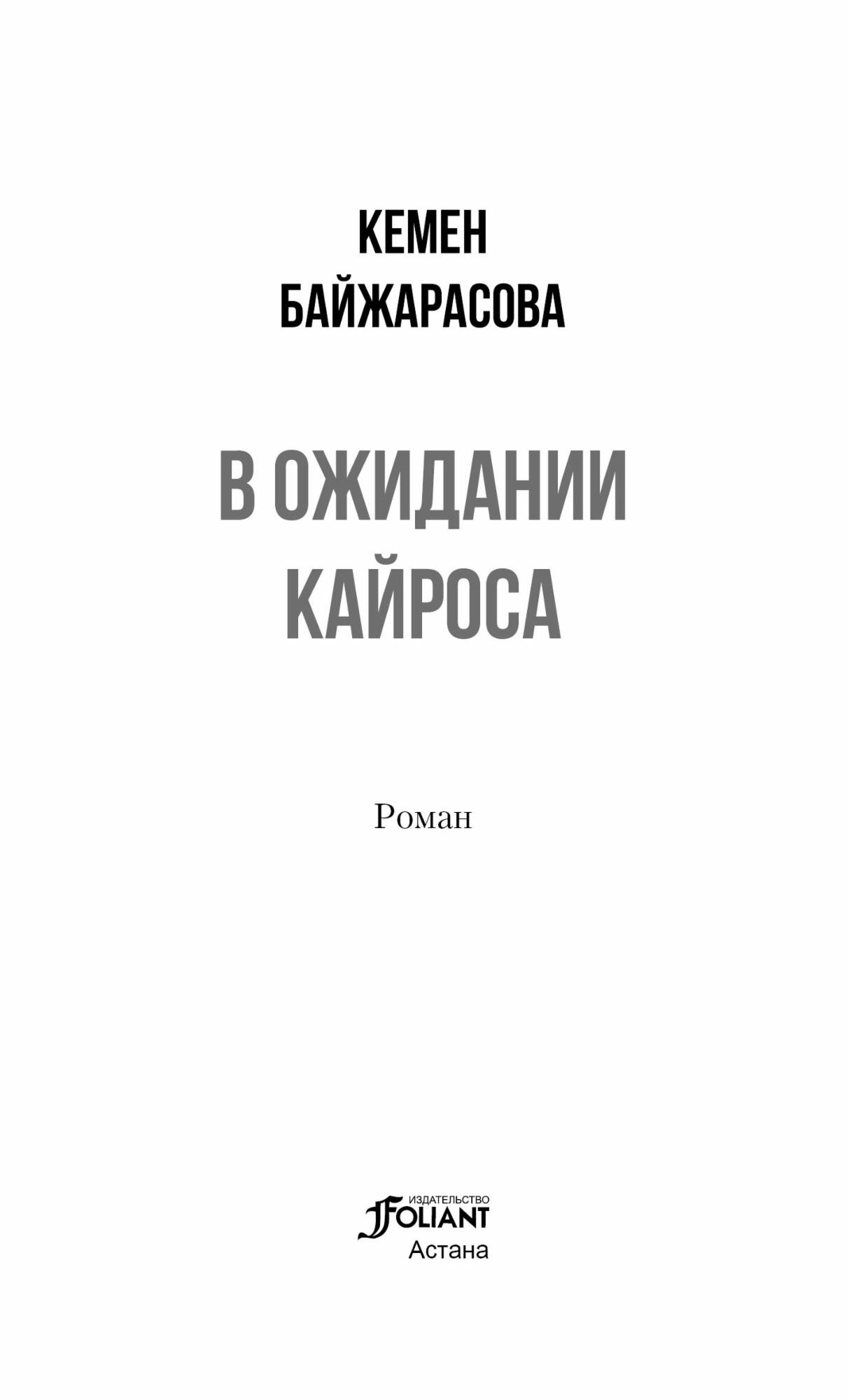
Нет реальности, кроме той, которую
мы носим в себе [1].
Герман Г е с с е.
Демиан
[1] Перевод Соломона Апта.
[1] Перевод Соломона Апта.
Авторское предисловие
Дорогой читатель, я прежде всего психиатр и лишь затем писатель. Поэтому появление такой книги было лишь вопросом времени. В процессе работы она носила название «Психдиспансер всех святых», связанное с тем, что первые психиатрические лечебницы открывались при храмах и носили имена святых. Именно это вдохновило меня написать историю об обители, где каждый свят по-своему, ибо несет предназначенный крест, не теряя веры.
Однако «В ожидании кайроса» — не автобиография и не производственный роман. Здесь нет бесконечных пятиминуток, мучительного выбора методов лечения или побед хороших психиатров над плохими, — хотя некоторые диагнозы, симптомы и синдромы в книге описаны. Так что и мой психиатрический опыт пригодился. И поскольку он вполне реальный, все события в книге правдивы, даже если кажутся мистичными и абсурдными (а ближе всего к своему прототипу, пожалуй, персонаж главного врача). Но совпадения, разумеется, случайны.
Глава 1
@Asya_Tesey
Я — Ася, но это еще не точно. Мне неизвестно, кто я, откуда, где была до того, как оказалась в этой жизни. По ощущениям, я появилась здесь, как кролик из шляпы. Когда я очнулась, первым порывом было резко протереть глаза. Но резко не получилось. Похоже, перед «телепортацией» меня чем-то накачали. И тут же зрение выхватило мензурки на столе. Значит, я в больнице. Пока силилась понять, хорошо это или плохо, выкрикнули чью-то фамилию. Молодая девушка, стоявшая рядом со мной, посеменила к столу и покорно подставила женщине в белом халате открытый рот. Та высыпала туда содержимое мензурки и подала стакан с водой. Девушка по-птичьи, в несколько приемов сглотнула и еще раз, закинув голову, открыла рот. Женщина с мензурками заглянула, удостоверилась, что рот пуст, отпустила девушку и выкрикнула следующую фамилию. Процедура повторилась. И так несколько раз.
После объявления очередной фамилии люди вытолкали меня. Я пошла к столу. Воды, чтобы запить таблетки, было мало. Что-то шершавое и горькое застряло в горле. Ощущение показалось знакомым, но, не всколыхнув ни одного воспоминания, провалилось в пустоту. И тут я с ужасом поняла, что не только не соображаю, где я и как тут оказалась, но даже не помню собственного имени. Испугавшись, попыталась припомнить хоть что-то о себе. Но там, где шарило мое сознание, не было ничего. Ни единого бита какой-нибудь захудалой информации. Ни одной детали, мелочи, зацепки. Как я любила потом говорить, ни явок, ни паролей, ни адресов. Одна мучительная пустота. Даже в опорожненных склянках и стаканах на столе было больше памяти о недавнем содержимом, чем во мне. В мензурках кое-где остались крошки небрежно разломленных таблеток, в стаканах — капли воды, а моя память была пуста, как вакуум.
Первое время я надеялась, что в какой-то момент обязательно случится проблеск и какое-нибудь крохотное воспоминание вспыхнет в памяти. За ним другое. И еще одно. И еще, пока полностью не прояснится, кто я, как оказалась в этой точке координат. Но прошлое так и не вспомнилось. И не отпустило. Оно мучает неизвестностью и ноет тягучей фантомной болью до сих пор.
Под Асиным постом больше сотни комментариев.Читатели любят такие вещи. Они толпой подбадривают, сочувствуют, жалеют. Тут Аська молодец, конечно. Я нигде еще даже не регистрировалась. Почитать вхожу с аккаунтов мамы — она у меня тоже завсегдатай соцсетей. Постов не пишет, но комментарии строчит регулярно.
Сама я захожу редко. А Ася уже как рыба в воде. Одних хештегов к посту придумала штук десять. Вроде #Ася_неАся, #я_не_я_и_лошадь_не_моя, #изгнание_из_рая. Последнее цепляет. Сразу вспоминается фраза «Воспоминание — единственный рай, откуда нас не могут изгнать» или что-то в этом роде.
Даже мне ее немного жаль. А я, в отличие от читателей поста, знаю, что после описываемых действий прошло достаточно времени и у Аси уже появилось хоть и короткое, но вполне себе счастливое прошлое.
* * *
Для меня эта история началась гораздо раньше, еще до того, как Ася обнаружила себя неизвестно где. В тот год мы с моей подружкой и сокурсницей Диной вернулись в родной город с первыми достижениями — дипломами врачей. Выдержать шесть лет обучения, которое начинается с изучения мертвого языка, препарирования лягушек, перебирания трупного материала, а объем знаний, который ты должен впихнуть в себя, растет в геометрической прогрессии — это не просто достижение, это великое достижение. Так нам казалось. Но вручение дипломов сразу вернуло нас на землю.
На что-то сверхпраздничное — мантии, шляпы и оркестр — мы особо и не надеялись, но на торжественную толкучку в конференц-зале рассчитывали. А все прошло почти тайно. Сухо объявили сбор перед зданием, где находились деканаты. Дресс-код не обозначили, народ пришел кто в чем. В белых рубашках с темным низом. В коктейльных платьях всех фасонов и расцветок, в которых можно было сразу после мероприятия ехать обмывать дипломы в соответствующих заведениях. В так называемом спортивном шике, который транслировал миру больше доверия, чем шика, но для безотлагательного празднования тоже годился. Три сокурсницы явились в вечерних платьях в пол. Кто-то пришел в совсем повседневном — в основном парни. Но их у нас было так мало, что джинсы и футболки торжественности момента не испортили. В целом толпа выглядела нарядно.
Настроение у всех было приподнятое, особенно у ребят. В осанках, жестах, взглядах, даже в их нетерпеливости читалась нескрываемая гордость, и все они казались интереснее, чем обычно. Даже один тип с семнадцатой группы, которого мы с Диной звали между собой гномом, выглядел вполне сносным молодым человеком.
У девочек блестели глаза. Всем хотелось аплодисментов, благословений, напутствий. А нас стали пропускать чуть ли не по одному. Там тыкали в журнал, чтобы расписаться напротив фамилии. После чего торопливо совали диплом, словно он был фальшивый, — и до свидания.
— Что? — недовольно спросила работница деканата, когда я задержалась у стола, хотя я ни о чем у нее не спрашивала.
— Ничего, — ответила я и побрела к выходу по длинному коридору, стены которого были увешаны двумя рядами портретов.
В нижнем ряду, среди похожих друг на друга усато-бородатых, отчасти пенсненосных врачей и ученых, выделялись наш Асфендияров, гладковыбритый Селье, похожий на французских комиков, и Шарко, напоминающий какого-то актера, имя которого я все никак не могла вспомнить.
Чести висеть в верхнем ряду удостоились Гиппократ, Асклепиад, Авиценна и Парацельс под настоящимпомпезным именем Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. Над портретами мистифицированных, практически обожествленных целителей, от одного звучания имен которых хочется заговорить греческим гекзаметром, значилось: «Здоровье нации — главный стратегический ресурс экономики страны». Я вышла наружу, растерянно раздумывая, зачем эту сентенцию повесили именно там. Не то чтобы она совсем не подходила. Глобально, разумеется, и деятельность всех этих лиц, изображенных на портретах, и лозунг — из одной темы. И все же вместо этой патетики времен диктатуры пролетариата, под которую грех не зашагатьк мировому господству, здесь просилось что-то человеческое.
Сокурсники выходили такие же потерянные. Они беспомощно щурились, ослепленные солнцем, и примыкали к своим. Больше всего мне было жаль старосту курса. У нее было самое нарядное пурпурное платье на бретельках, и она вынесла из деканата не абы какой документ в голубом переплете, а красный диплом. А ей похлопала горстка приближенных, и все. Гештальт остался незавершенным и после того, как мы обмыли дипломы всем курсом в ресторане, и после недельного загула более узким кругом.
* * *
На праздничном обеде, который родители Дины устроили в честь нашего возвращения с дипломами, вначале обсуждали только это злосчастное вручение.
— Понятно, что мы окончили не Оксфорд, Кембридж или Гарвард и даже не среднюю чикагскую школу, что у нас своя культура. Придумайте тогда свои традиции, нашейте мантий с нашими узорами, налепите на спину солнце с орлом [1], поднимите национальный флаг, гимн исполните, наконец, чтобы люди почувствовали торжественность момента! — жаловалась Дина.
— Ну так эти университеты чуть ли не по тысяче лет стоят, наверное, и у них не все сразу было, — успокаивала ее мама.
— Нам что теперь, тысячу лет ждать? — продолжала возмущаться моя подруга.
— Мир накануне нового экономического кризиса, други мои, — возвестил в ответ на это ее отец.
— Ну вот, не понос, так золотуха. А кто-нибудь помнит, что здоровье нации — главный стратегический ресурс экономики страны? — спросила Дина.
— Неужели этот лозунг до сих пор висит в деканате? — удивился ее брат, Диас, который окончил медицинский на шесть лет раньше нас.
— Висит, — вздохнула Дина, — но почему-то национальный университет какого-то там уровня аккредитации выдал нам дипломы чуть ли не тайком, как будто мы масоны какие-нибудь.
— До пластиковых карточек нам на работе зарплату выдавали из маленького окошка, туда и рука-то толком не пролазила. А кассирша не трудилась просунуть купюры поближе к получателю. Свои собственные деньги надо было еще выковырять из этого окошка, — задумчиво произнес папа Дины.
Его замечание, интонация и внезапная смена темы удивительно напомнили некоторые Динкины отступления. Я в очередной раз подумала, как они похожи.
— Да, слава богу, хоть выковыривать не пришлось, — буркнула Дина.
Мы с Диасом засмеялись.
— Как выдали, так выдали, зато вы дипломированные специалисты, вам ли быть в печали, девчонки? — вмешалась мама Дины.
— Тут я согласен. К черту кризис! — улыбнулся отец и неожиданно запел:
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
что в люди вывела меня.
Мама Дины махнула на мужа рукой и велела Диасу открывать «Асти мартини». Диас взял со стола бутылку.
— А ты что, с серьезным видом хотела произнести: «Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели…»? — спросил он у Дины, снимая фольгу. Слова клятвы он произнес так загробно напыщенно, что я засмеялась.
Дина улыбнулась.
— А что, это именно так звучит? — спросила она.
— Слово в слово! — уверил нас Диас. — Если хочешь, давай клятву сейчас.
Мы постарались повторить. Запутались, начали сначала. Отец Дины решил доказать нам, что воспроизведет клятву быстрее и лучше, но после слов «клянусь всеми богами» добавил «особенно богинями», за что жена в шутку замахнулась на него салфеткой.
Увлеченная клятвой, я пропустила момент открывания шампанского, которого ждешь и боишься одновременно, словно пробка непременно прилетит тебе в глаз. Не отказывая себе в удовольствии попугать нас, Диас всегда как следует взбалтывал бутылку. И хоть пробка после этого каким-то образом практически беззвучно оставалась в его руках, мы каждый раз вжимались в стулья.
В этот раз Диас организовал легкий праздничный хлопок, вслед за которым из бутылки вырвалась голубоватая дымка. И все бросились подставлять бокалы в форме пологих пиалушек. Вино вспенилось в них, обдало лицо освежающе-щекочущими брызгами и разлилось внутри блаженством и счастьем. И я наконец ощутила в полной мере, что шесть лет зубрежки, анатомка, коллоквиумы, зачеты, халат и шапочка, которые постоянно приходилось крахмалить, сменка в рюкзаке, мотание по городу с кафедры на кафедру — позади. Впереди новый этап, который мы начинали полные сил, надежд и куража. От этого безудержно хотелось дурачиться и танцевать. Это настроение не покидало нас с Динкой весь вечер.
Мать Дины уже гремела посудой на кухне. Отец ушел помогать ей. Диас листал какой-то журнал. А мы с Диной все никак не могли успокоиться. По телевизору фоном шел концерт, призывно зазвучало танго. Дина сделала звук погромче. Драматизм композиции настойчиво требовал, чтобы под него устроили шоу. Дина была в брюках, ей автоматически досталась партия кавалера, тщедушного, но ревнивого. А я в роли своенравной дамы крутила юбкой, дурачась, покусывала губы и посылала Диасу знойные взгляды. Дина пылко разворачивала меня к себе. Я, не повинуясь, демонстративно пялилась на Диаса.
То наше дурашливое танго часто проносится у меня в памяти, наполняя душу щемящей тоской и сожалением о том, что люди могут сполна понять, как были счастливы, только постфактум.
«Какая фактура пропала, этому мачо в актеры бы, а не во врачи!» — частенько досадовала моя мама. Раньше меня ее заявление удивляло. Нет, чисто внешне Диас рослый, крепко сбитый. У него мощная шея, скуластое лицо, густые, низко посаженные брови. В нем чувствуется внутренняя сила и спокойствие, присущее этой силе. Но для настоящего мачизма ему не хватало жесткости. Диас — добряк, которого в детстве за полные, выразительно очерченные губы дразнили Пельменем. Что-что, а эти губы я хорошо представляла в кадре.
Пока мы с Диной танцевали, если это можно так назвать, Диас смотрел на нас, как на милых дурех. Наверное, с таким же выражением лица он терпеливо и снисходительно отвечал на одни и те же назойливые вопросы пациентов.
Но когда я в очередной раз, выделываясь, откинула голову назад и бросила на него «страстный» взгляд, его снисходительность словно выключило. Диас посмотрел на меня серьезно, долго и заинтересованно. Как будто обнаружил во мне что-то новое для себя и задумался об этом. Я его никогда таким не видела и смутилась.
После посиделок Диас вызвался отвезти меня домой — как и всегда, когда был не на дежурстве. По дороге он обычно рассказывал про смешные случаи из практики травматолога, а я гоготала как конь. Но в тот раз нам обоим было неловко. Диас как никогда внимательно разглядывал дорогу, знаки, светофоры. Я уставилась в свое окно. Молчание затянулось.
— Вы не передумали идти в психиатры? — наконец осторожно спросил Диас.
— Нет, — коротко бросила я.
Раньше после такого ответа Диас принимался отговаривать или подтрунивать. Что-что, а подшучивать над нами он был мастер. Но в тот раз только сказал со вздохом: «Понятно!» — и снова сосредоточился на дороге. А я вдруг обратила внимание на то, как он держит руль. Уверенно и в то же время расслабленно. Я бы даже сказала, нежно, едва касаясь одной рукой.
Дальше мы ехали молча. И оба прекрасно понимали, что молчим об одном и том же. Заговорить об этом было невозможно. Не мог же Диас сказать: «Знаешь, меня тут осенило, ты же не только подруга моей сестренки, а еще как бы девушка. И вот я, кажется, чувствую к тебе интерес». Так все и было на самом деле. Но озвучить это было бы странно, а заговорить о чем-то другом не получалось.
Молчать тоже было нелегко. Машина — слишком тесное пространство для звенящего, наполненного очевидным смыслом молчания. От Дининого дома до моего всего ничего: десять минут езды. Но те десять минут тянулись невыносимо долго.
У дома мне захотелось рвануть к подъезду что было сил, но я, неизвестно почему, понесла себя неспешно, самым медленным шагом из всех возможных. С показательно прямой спиной.
Как только дверь подъезда захлопнулась, я понеслась по лестнице, словно за мной кто-то гнался. Между третьим и четвертым этажом опасно соскользнула со ступеньки и чудом не грохнулась назад. Успев уцепиться за перила, я слегка подвернула ногу, но уцелела и дальше поднималась, прихрамывая.
Дверь неожиданно открыла не мама, с которой мы жили вдвоем, а младший брат моего отца Мурат.
— Вот она, наша красавица! — громко возвестил он, разводя руки. Затем сжал меня в объятиях крепко-накрепко, как это делают в избытке чувств дети, и поцеловал в лоб.
Из кухни со словами «ну-ка, ну-ка» появилась его жена Айжан. За ней сестра отца Гаухар. И мама.
Тетки бросились ко мне, принялись обнимать, целовать, разглядывать, словно мы не виделись лет десять.
— Повезло же местным женихам: все нормальные девки отсюда, а она сюда! — воскликнула Айжан.
Мама с тихой радостью на лице смотрела на нас со стороны. Отца не стало, когда мне было семь. С тех пор сохранять связь между нами и семьей отца — самая важная миссия мамы. И она с ней достойно справилась. С родственниками отца мы всегда общались если не чаще, то точно не реже, чем с родней со стороны матери. Подозреваю, что Мурат, Айжан и Гаухар были ей даже чуточку ближе, чем собственные братья и сестры. Во всяком случае, внешне она преподносила это так. Но все родственники с обеих сторон уже давно перебрались в столицу. В нашем городке из всей родни только мы и остались. И мама очень радовалась таким вот встречам.
Вырвавшись из плотного кольца любвеобильных родственников, я чмокнула маму.
— Ну, показывай! — велел Мурат.
— Щас, — ответила я, сообразив, о чем речь, и рванула было в свою комнату за дипломом, но, наступив на подвернутую ногу, снова ойкнула.
— Что с ногой, Индира? — забеспокоилась мама.
— От кавалеров убегала, — пошутила я.
— Ты с этим кончай давай, мы свадьбу хотим… — начала было Айжан и осеклась.
Я представила, какое мама сделала лицо, намекая, что эту тему вот так с ходу лучше не развивать, как Мурат шикнул на жену и как тетка, оправдываясь, шепчет: «Ну а что? Диплом в кармане, можно и замуж», — и улыбнулась.
Когда я вернулась, Айжан выхватила диплом первой и долго не отдавала его другим желающим. Как следует все разглядев, она вытащила из сумочки кошелек, оттуда пять тысяч тенге и отдала их мне.
— И все, что ли? — поддел ее Мурат. — Смотрела, блин, так, словно сто баксов выложит.
— Я дам сто долларов, — сказала Гаухар, вкладывая в диплом стодолларовую купюру.
Сам Мурат вытащил десять тысяч. Он торжественно вручил их маме со словами, что это и ее труд.
— Конечно, — согласилась я и отдала маме остальные деньги.
— Коримдык [2] — мой самый любимый казахский обычай, — улыбнулась мама.
После этого мы долго пили чай на кухне и вспоминали отца. Как он мечтал о дочери. Как, когда мама носила меня, увидел сон, в котором нашел бусинку, и сразу понял, что будет девочка. Как, не жалея стен, навбивал гвоздей, натянул зигзагом по всей квартире метров сто бельевой резинки и навешивал на нее все, что можно было зацепить. Погремушки, бокалы, чайники, открытки, сувенирчики. Затем таскал меня, новорожденную по комнатам, останавливаясь у каждого «экспоната», раскачивая его и рассказывая о нем. Я завороженно слушала, разглядывая все это. И мне долго казалось, что все на свете — люстры, даже те, что висели в чужих квартирах, листья, птиц на деревьях, звезды, луну, фонари и сосульки — развешивает мой отец. Исключительно для того, чтобы мне было на что посмотреть. И если мне встречалось на улице что-то новенькое, к примеру, куча зонтиков, подвешенных над тротуаром перед магазином, то я оборачивалась к отцу. Взгляд мой вопрошал: «Твоих рук дело?», а отец, улыбаясь, кивал.
— Ты же помнишь отца? — спросила Гаухар.
Они часто задают мне этот вопрос. Им важно, чтобы я помнила.
— Конечно, — кивнула я как можно увереннее.
Я многого не помню, разумеется. Но мама, Мурат и Гаухар неустанно пересказывают, как со мной носился отец, и это представляется мне так живо, словно я видела все сама. Может быть, из-за этого я никогда не чувствовала себя обделенной и беззащитной. Подозреваю, в свою уникальность и значимость я уверовала тоже благодаря отцу — хотя, по словам мамы, эту самоуверенность можно было бы и поубавить.
Но обожание отца сослужило мне и плохую службу. С ним до сих пор трудно конкурировать другим мужчинам. А еще у моей мамы есть трогательная привычка. Все актеры, которых она считает достаточно привлекательными, ей кажутся похожими на моего отца. И ее совершенно не смущает несхожесть этих актеров между собой. В разное время это были Микеле Плачидо, Куман Тастанбеков, Тихонов, Лановой, Асанали Ашимов и даже Радж Капур. Получалось, что обожать меня могли только лучшие из лучших.
Ночевать гости не остались. Они направлялись на свадьбу каких-то родственников Айжан и заехали к нам, потому что не могли не навестить.
Когда мы, оставшись одни, мыли посуду, я объявила маме, что пойду в психиатрию. Знала, что ей не понравится, но оттягивать было уже некуда. Наше с Диной трудоустройство было запланировано на завтра.
Мать расстроилась. Можно даже сказать, оскорбилась.
— Не понимаю, зачем нужно было учиться шесть лет, чтобы работать в дурдоме? — возмутилась она.
В другом настроении и в других обстоятельствах я бы стала спорить, но в тот вечер засмеялась.
— Что смешного? — нахмурилась мама.
— Спорим, ты хочешь, чтобы я стала кардиологом, невропатологом или окулистом? — улыбнулась я.
— И что?
— Это список врачей, у которых ты состоишь на учете.
У мамы расширились глаза. До этого она, видимо, не улавливала связь. И ей самой стало смешно.
— Ладно, иди в свою психиатрию, что с тобой поделаешь? — махнула рукой она.
Список мамы на самом деле был не так уж плох. Еще было бы логично остаться в онкологии, где мы с Диной три последних курса университета работали медсестрами и уже кое в чем разбирались. Я и сейчас могу наизусть рассказать о стандартах и правилах проведения химиотерапии, о белковом питании онкобольных и еще много о чем.
Когда пациента забирали на лапароскопическую субтотальную резекцию желудка, мы с Диной, не спрашивая врача, могли сообщить родственникам, что раньше, чем через пять часов он из операционной не вернется. А если у больного на операции находили канцероматоз, мы понимали, что конец уже близко.
Но в онкологии столько физической боли, что порой после дежурства у нас самих что-то долго ныло внутри. Особенно у впечатлительной Дины. И это вполне объяснимо. Палаты в нашем отделении были небольшие. Больных всегда много. Все тяжелые. Из-под каждого одеяла торчали трубочки с пакетиками, куда из организма стекала какая-нибудь жидкость. Ставишь капельницу одному пациенту, второй стонет в спину. Теснота такая — не разойтись. Ни людям, ни боли. Часть этого, определенно, уносишь с собой. Чистая психосоматика, но Дина иногда жаловалась. И даже когда не жаловалась, я порой замечала, как она прикладывает руку к правому боку, как будто у нее что-то там ноет.
В общем, онкологию как место постоянной работы мы даже не рассматривали. И психиатрию, полагаю, выбрали не только из-за тонких и таинственных материй, с которыми, как нам казалось, она работает. А в том числе и по принципу отсутствия физических болей. О том, как мучительны бывают сенестопатии [3], мы тогда не знали. Страдания чисто психического характера нас пугали почему-то меньше. Более того, мне кажется, мы даже жаждали их. В медицине много одних и тех же манипуляций, одних и тех же жалоб, одних и тех же записей. Наверное, нам казалось, что загадки психики перекроют всю эту рутину. Так или иначе, мы выбрали именно психиатрию.
* * *
Областной психдиспансер ошеломил нас непривычным пропускным пунктом. Обычно от такого помещения ждешь узкого прохода, окошка размером с лицо взрослого человека и несговорчивого турникета. Хотя кто знает, какие интерьерные решения спрятаны за окошком.
Здесь же мы сразу попали в комнату и увидели столько занавесок, ковриков, покрывал и сувениров, что просто караул! С большей части текстиля свисала затрепетавшая от сквозняка бахрома. Гирлянды из вымпелов и флажков, прикрепленные ближе к потолку, образовывали бахромчатость более высокого порядка. У золотых рыбок, сплетенных из трубок от капельниц, болтались, взблескивая, бесконечные волнистые плавники. Ничего не свисало только с менее кустарных сувениров всех оттенков золота, серебра и бронзы. Зато часть этой сувенирной продукции оказалась суетливо-подвижной. И на кирпично-ржавых стенах сторожки то густо мерцали блики, то мельтешили причудливо-изогнутые тени.
— Вот тебе и родная проходная, — прошептала я Дине.
— Этот театр может позволить себе любую вешалку, — философски заметила она, пожав плечами.
— В том числе и тюнингованную, в стиле буддистских храмов, — продолжила я.
— С элементами автомобильной моды прошлого столетия, — добавила Дина.
Казалось, что мы переговариваемся в совершенно пустом помещении. Оптический шок не сразу позволил глазу выхватить охранника, слившегося с интерьером. Я обнаружила его только тогда, когда он, зашевелившись, отделился от дивана. Охранник встал и молча вышел из сторожки, кивком велев, чтобы мы шли за ним. Толкнув калитку, он продемонстрировал нам, что она была не заперта.
— Где у вас администрация? — спросила я.
— А? — охранник приставил руку к уху.
— Где у вас администрация? — повторила я погромче.
— Главврач! — выкрикнула Дина.
Охранник, посветлев лицом, показал на здание, которое оказалось главным корпусом.
До того, как в психдиспансер пришли мы, молодые специалисты не появлялись в его стенах лет десять-пятнадцать. Костяк старых психиатров при этом неуклонно убывал. Выпадали из рядов глубокие старики, и редко кто из них удалялся на пенсионный покой. Разве что будучи совсем уже невменяемым. Старожилов диспансера чаще провожали не на заслуженный отдых, а сразу в последний путь.
Несколько врачей предпенсионного возраста, на которых все держалось, после развала Союза умотали на исторические родины. А новые, но отнюдь не молодые психиатры, прибивавшиеся порой к берегам диспансера, неизбежно оказывались алкоголиками и прочими маргиналами. После двух-трех запоев и других заскоков, на которые бедному главврачу приходилось закрывать глаза, все они в еще более потрепанном состоянии сами сгинули в неизвестном направлении.
Последним до нашего прихода оказался некий доктор Семенов, о котором главврач так громко говорил по телефону в своем кабинете, что было слышно в приемной, когда мы вошли туда.
— Психиатр Семенов? Конечно, знаю. Тридцать четыре эпикриза не сдал. Открыли истории, а они пустые. Мой тебе совет — не бери. Даже если самому придется писать истории, — советовал главврач кому-то в телефонную трубку.
— Работать некому, — прокомментировала разговор секретарша, заметив нашу заинтересованную реакцию.
— Мы как раз устраиваться пришли, — пояснила я.
— Обе, что ли? — удивилась секретарша.
— Обе, — кивнула я.
— А что же вы молчите! А ну, пойдемте! — Она сгребла нас в охапку и буквально затолкала в кабинет главврача.
— Вот вам врачи! Сами пришли! — объявила секретарша.
— В смысле? — удивился главврач, убрав телефон от уха.
— Устраиваться на работу хотят! — возвестила секретарша.
— Я перезвоню, — буркнул главврач в трубку и, бросив ее, спросил: — Замужние?
— Нет, — хором ответили мы.
— Детей нет, — добавила я.
— Плохо, — огорчился главврач.
Мы опешили. Казалось бы, наоборот, работодателей должны устраивать незамужние и бездетные. Они сами себе голова. Сами расставляют приоритеты, ни на кого не оглядываются. «Без пяти шесть: на старт, внимание, марш», — это не про них.
— Не волнуйтесь, я лично прослежу, чтобы кадры вышли за местных ребят, — пообещала ему секретарша.
Только тут мы поняли логику. Нас еще не взяли на работу, но уже боялись потерять, опасаясь, что мы можем выскочить замуж за иногородних и последовать за мужьями, как декабристки. Все это было по-семейному провинциально и ничуть не оскорбительно.
С главврачом, которого все звали просто Главным, нам повезло. Из всех когда-либо встреченных мной людей в возрасте он был единственным, кто не добивал фразой «я же говорил» и не любил читать нотации. В общении был прост до странности. Дружил и братался со всеми, с кем более-менее надолго сводила судьба. С главврачами, следователями, санитарками, сантехниками, соседями, пациентами-хрониками.
Как и многие представители своей эпохи, он верил честному слову. Когда этим пользовались, по-детски обижался, надувался и становился похож на нахохлившуюся на морозе птичку. Прощал потом легко. Сложных отношений, недосказанности, козней, мести, даже самой мелочной в виде противных, но беспомощных колкостей он терпеть не мог. И так категорически не допускал, словно, будучи глубоким интуитом, прочувствовал и крепко усвоил, что быть плохим человеком — не только неправильно с моральной точки зрения, но и вредно для здоровья. Такую роскошь могут позволить себе только люди в отменной физической форме. А Главному с рождения досталось сердце, не способное выработать достаточное количество импульсов даже для добропорядочной жизни.
С тридцати лет он был вынужден носить в груди кардиостимулятор. В семидесятые их устанавливали не так часто. Но когда случилась критическая декомпенсация, Главный отдыхал в Сочи и удачно побратался там с главврачом клиники, где делали такие операции. И его прямо с моря доставили в нужное место.
С женой, которая всячески поддерживала Главного, ограждая от бытовых вопросов и лишних эмоциональных потрясений, ему тоже несказанно повезло. Они поженились еще в медучилище. После его окончания Главный пошел учиться на врача, а жена — работать, потому что кто-то должен был содержать семью. Потом она рожала, занималась детьми. Когда дети более-менее подросли, пришла в диспансер зарабатывать пенсионный стаж медсестрой физиотерапевтического блока.
Физиопроцедуры у нас назначают редко — слишком много противопоказаний. Да и водить пациентов в другое здание, когда они либо не прочь убежать, либо заторможены, довольно сложно. А если человек бредово настроен к электрическому току, ультразвуку и всякого рода излучениям, то его на какую-нибудь безобидную гальванизацию или электрофорез и без заторможенности не затащишь.
Физиотерапию чаще назначают детям — горло там прогреть или носик. Взрослых пациентов практически не бывает. Так что отделение физиотерапии — самое подходящее место для того, чтобы комфортно, практически ничего не делая, доработать до пенсии.
Однако супруга Главного, женщина тихая, но деятельная, нашла куда применить силы. Она принялась остервенело озеленять вверенное ей помещение. И без всяких там систем полива, особого обогрева и парников за несколько лет превратила физиотерапевтический блок в самую настоящую оранжерею. Там до сих пор видимо-невидимо лимонных деревьев, фикусов, розовых кустов, диковинных кактусов, чего-то вьющегося до самого потолка. Не говоря уже о милой мелкой растительности вроде фиалок.
Рассаду и саженцы из физиотерапии охотно разбирали по отделениям, а часть использовалась для озеленения территории. Первой леди диспансера давали в подмогу пару санитарок да пару пациентов из выздоравливающих, и она вместе с ними таскала воду из ближайшего отделения и день-деньской копошилась в саду.
Потом супруга Главного ушла на пенсию, а традиции остались. Наши отделения до сих пор соревнуются, у кого круче цветы внутри и вокруг. А на территории не то что засохшего дерева, ветки сухой не найти.
Кто был в гостях у Главного — а у него загородный дом с огромным участком, — рассказывают, что там сущий эдемский сад и висячие сады Семирамиды. В общем, повезло человеку с тылом.
Главным, как сам заявляет, он тоже стал чисто по везению. Оказался единственным подходящим претендентом в нужный момент. А вот как удерживался в кресле столько лет, не совсем понятно. Трудно представить человека, по духу и складу менее подходящего для начальствования. Хотя легенды и мифы диспансера почему-то гласили, что гнев Главного ужасен. Этот мифический гнев, который никогда ни на кого не обрушивался, и поддерживал порядок. Как ядерная угроза, которая вряд ли кого-нибудь серьезно пугает, но в принципе существует и держит всех в тонусе [4].
Заявления мы с Диной писали прямо в приемной, куда срочно вызвали начальника отдела кадров. Видимо, чтобы лишить нас шанса передумать по дорогетуда. Пока шло наше трудоустройство, секретарша отказалась от всех других дел и полностью игнорировала телефонные звонки.
— Гуля, вы почему трубку не берете? — резонно спросила у нее врач, прибежавшая через некоторое время в приемную.
— Докторов принимаем на работу, Вера Павловна, — гордо объявила Гуля.
— Да вы что? — искренне удивилась Вера Павловна и поздоровалась с нами.
— А что случилось? — спросила Гуля.
— Простите, что некстати, просто нам хотят срочно презентовать мягкую мебель. А я не знаю, можно взять, нельзя. Может, как-то по бухгалтерии ее надо проводить.
— Гуманитарная помощь, что ли? От кого? — громко спросил из своего кабинета Главный.
— Не знаю, считается ли это гуманитарной помощью, скорее, спонсорская, от частного лица, — ответила Вера Павловна.
— Берите, не сомневайтесь, никуда вносить не надо, — сказал Главный.
В это мгновение в приемную ворвалась Дарительница. Высокая, изящная, в умопомрачительном белом комбинезоне. С распущенными волосами нескольких оттенков натурального пепельного цвета, к которому стремятся все парикмахеры мира. Правда, роскошную шевелюру явно не баловали вниманием. Было не похоже, что ее за последние сутки хотя бы расчесывали. Но даже при этом Дарительница была чертовски хороша. Мы невольно уставились на нее.
Она же, приподняв бровь, посмотрела на нас, как на одно сплошное недоразумение, а потом низким грудным голосом сказала Вере Павловне:
— Я вас умоляю, не самолет же дарю, можно уже определиться, берете — не берете!
Главный предупредительно выскочил в приемную и предложил посетительнице пройти в кабинет.
