автордың кітабын онлайн тегін оқу Кладовая солнца
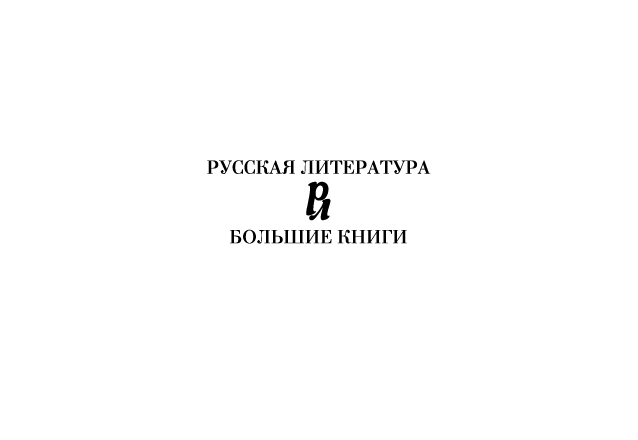
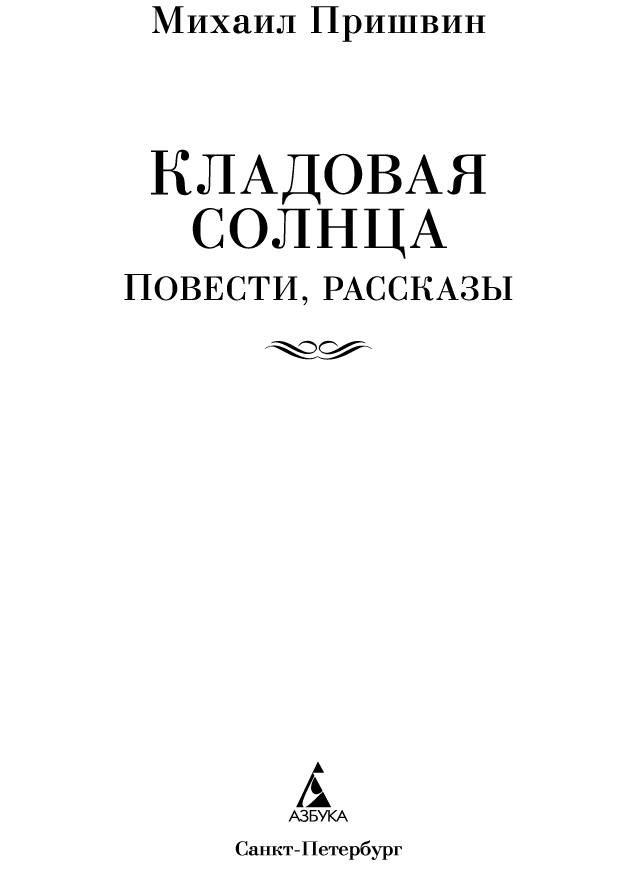
Составление и статья Ольги Астафьевой
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Пришвин М.
Кладовая солнца : повести, рассказы / Михаил Пришвин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — (Русская литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-22974-7
12+
Михаил Михайлович Пришвин вошел в историю русской литературы как «певец природы». Его произведения знакомы нам с самого детства, но их удивительная чистота и мудрость привлекают читателей всех возрастов. Пришвин сумел не только обогатить русскую литературу проникновенными описаниями русской природы, которую любил всем сердцем, но и помочь своим читателям увидеть в знакомом и привычном великую тайну Вселенной, почувствовать единство всего живого на земле. В основе его произведений лежит глубокая, подлинно христианская идея «согласования творчества человеческого сознания с творчеством бытия».
В настоящее издание вошли такие известные произведения М. М. Пришвина, как «Лесная капель», «Кладовая солнца», «Глаза земли», а также повести и рассказы.
© М. М. Пришвин (наследник), 2023
© О. В. Астафьева, статья, 2023
© Оформление, состав.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
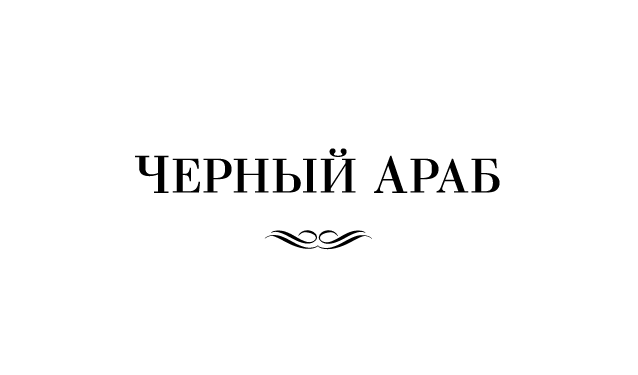
ДЛИННОЕ УХО
Сама родится новость в степи или прибежит из других стран — все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.
Случается, джигит задремлет, и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость.
Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится.
— Хабар бар? (Есть новости?)
— Бар! (Есть!)
Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды.
И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ.
Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда — неизвестно. «Так, — говорили, — скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать — нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному Уху:
«На пегатом коньке с лысинкой едет Черный Араб из Мекки и молчит».
Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд.
Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом — и прощай!
— Хабар бар? — спросят дикие.
— Бар! — ответит подкованный.
И по-своему расскажет о Черном Арабе и пегатом коньке. Конь — по-своему. Я — по-своему.
Содержатель соленого озера — есть и такая должность — пустил слух из своего домика:
«Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка».
Скоро под окном кто-то постучал и сказал:
— Араб здесь?
— Здесь араб! — ответил я и выглянул в окно.
Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна — киргиз в широком халате и с нагайкой в руке.
— Что нужно? Откуда узнал обо мне? — спросил я его.
— От Длинного Уха, душа моя, — ответил этот киргиз и засмеялся.
Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках.
Мы долго чему-то смеялись.
У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошемки, и все веревочки — все в лучшем виде.
— Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и саврасая. Чистые слова, — говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ.
— Чистые, чистые, — повторял я за ним.
— Ты, душа моя, верь мне, — просил он, — другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!» — а я такой привычки не имею.
Мы скоро поладили.
Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам.
— Что, как убьют? — спросил я.
— За что убьют? — ответил Исак. — Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело!
И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком — в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное Ухо насторожилось.
— Хабар бар? — спрашивают одни.
— Бар! — отвечают другие. — Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади.
__________
Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись, и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов.
Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро — одно из тех обманчивых озер пустыни — блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями.
И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда — все будто рукой сняло.
Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками.
— Ка! — кличет ее по-своему Исак.
Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного, раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы?
— Ка! — зову я собаку.
Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи.
Она садится на сухую землю и воет.
— Ка! Ка! — кричим мы в последний раз и трогаем лошадей.
Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна и ничего с ней не случилось: не все ли равно, какому служить хозяину; впереди, как назади. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьями.
Свет и тишина... Собака бежит покорная. Но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное Ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина.
Пусто!
Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце?
Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит солнце в пустыне, — они тоже по-своему жили и выли, и недешево досталась пустыне ее светлая тишина с миражами.
К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: нельзя ли самим достать воду, а может, видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу.
— Алла, алла! — шепчет Исак, падая на халат, и опять поднимаясь, и опять падая.
Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони.
Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой.
В синеве заколыхалась большая белая чалма.
— Алла, алла! — быстрее замолился Исак.
— Мулла едет? — спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку.
— Узбек на верблюде, — отвечает Исак.
И опять все сдунуло: не мулла, не узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне.
Она потеряла мальчика.
— Не видали ли мы ее мальчика? — спрашивает женщина.
— Мы никого не видали, — ответил Исак, — только вот пристала собака. Не ее ли эта собака?
— Нет! — ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей.
— Она спрашивает, — перевел Исак, — не видали ли мы араба на пегатом коне, — не он ли унес ее мальчика?
Исак на это ответил:
— Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца.
Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила:
— Куда едет араб, зачем?
Исак объяснил ей:
— Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего Албасты, желтоволосая бесплодная женщина.
Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась.
Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина.
И вот я — степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые, полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой — повода. И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду — киргиз, по слуху — араб, еду и сею миражи.
Опять на горизонте показываются всадники Длинного Уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает человеку.
— Берге (сюда), джигит! — кричат назади.
Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади: у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак.
— Хабар бар? — спрашивают они, когда мы съезжаемся.
— Бар! — отвечает Исак.
И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются.
— Ио-о! — восклицает один.
— Э! — отвечает другой.
Только и слышно, что «о» да «э».
Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу?
Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели.
Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь, через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называемое Сломанное Колесо, то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу у Пегатого была лысинка.
Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи.
До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка Закопанный Колодец нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком.
— О чем говорили? — спросил я.
— Все о той же верблюдице, — ответил Исак.
Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени.
— Про что теперь говорили? — пытал я Исака.
— Да все про ту же верблюдицу, — ответил он.
Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка.
Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся — признак близости озера. А когда наконец Исаку непременно нужно было омываться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру.
Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда Каабе.
— Алла, алла! — падает он на халат.
Два последние всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками, то сольются с землей.
— Алла, алла!
Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные.
Пока Исак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, водятся гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры — намного южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко.
Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда.
Слепая тропинка.
Какая-то незнакомая птичка насвистывает.
«Что это за птичка такая? — думаю я. — Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку». Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички.
Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей.
Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца — черный купол степной могилы, высокий, как храм. Возле могилы движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик-пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая:
— Чу!
— Берге! — кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак.
Старик и бык услыхали.
— Чу! — крикнул старый на баранов.
Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом — бык и старик.
— Руки, ноги здоровы? — приветствую я по-киргизски старика.
— Аманба, — отвечает он.
— Скот здоров?
— Аман. А как твои руки и ноги и твой скот? — спрашивает меня старик по-своему.
— Аманба. Аман, — отвечаю я.
Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак.
Глажу доброго быка между рогами и приговариваю:
— Джаксы, джаксы!
Старик смотрит в камыши с быка; увидал Исака, обрадовался, понял.
Глажу доброго старика и приговариваю:
— Джаксы, джаксы, аксакал, хороший, хороший старик.
И он, добрый, слезает.
А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку.
Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе.
Я свищу на баранов.
— Чу! — кричу на быка. — Берге, — зову старика.
Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади — и так мы шествуем навстречу Исаку.
Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет — кизяк — для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей.
— Что он рассказывал? — спросил я потом Исака.
— Все про того же араба, — ответил Исак, — про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу.
Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась — нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов.
Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка — волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал:
— Йо-о, Худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Аулие-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай!
Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая:
— Ох уж эти бесплодные женщины!
ПЕГАТЫЙ
Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, а мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке; одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя.
В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун-мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити — такая она была большая и низкая.
— Чолпан! — сказал Исак. — Пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда.
Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться — есть и третья, и четвертая.
Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия.
Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо, с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени.
Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось.
Чай настоялся. Мы сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай вприкуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту.
Что я могу сказать об этой звезде? — указал Исак кусочком сахара на небо.
— О какой? — спрашиваю я, — об этой? — И тоже своим кусочком сахара указываю на Полярную звезду.
Исак мычит в знак согласия и кивает головой.
Что я могу сказать Исаку о Полярной звезде? Да, она неподвижная.
— И по-нашему она неподвижная.
— И у нас и у вас одинаково! — удивляюсь я.
— Все это видно на небе с древних времен, — отвечает Исак, — и у нас и у вас, везде одинаково. У нас она называется Железный Кол. А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного Кола? — спрашивает опять Исак.
— Это две звезды в хвосте Малой Медведицы; я о них ничего не знаю.
— Это два коня, Белый и Серый, — объясняет мне Исак, — оба привязаны за Железный Кол и ходят вокруг него, как Карат и Кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, — указывает Исак на Большую Медведицу, — семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят себе и ходят вокруг Железного Кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат.
— А эта кучка звезд? — указываю я на Плеяды.
— Эта кучка звезд — овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются?
— Неужели и волк есть на небе?
— Да вон же волк, душа моя!
И показывает мне кусочком сахара волка на небе.
— На небе как на земле! — говорю я, удивленный.
— Как в степи, — отвечает Исак, — вон и мать тоже ищет ребенка.
— Может быть, есть и араб?
— Э-э!
— И Длинное Ухо?
— Э-э!
Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость.
Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи:
— Хабар бар?
— Бар! Араб чай пьет под звездами.
Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует.
Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи.
Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами, укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту.
Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк!
Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле.
— Где лошади?
— Тут.
Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды — испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды.
Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах — саптомы, сбоку — ружье, сверху — вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей — Пегатый. Чуть что — нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка.
Вот я теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд.
Карат подошел и чешется о тележку.
— Чу, Карат! — кричит на него Исак.
Лошадь переходит на мою сторону, к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи один за другим медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного Кола.
«Отчего тут звезды такие большие и низкие?» — думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне — оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться?
— Чу, Кулат!
Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами.
Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит.
Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней — и прощай Пегатый!
Хочу встать — не могу.
А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул крутую шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки.
«Спит ли? — спит!»
Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней.
От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече.
— Хабар бар? — спрашивают старые.
— Бар! — отвечают молодые. — У края степи, возле самой пустыни спит Черный Араб, а пегатый конек с лысинкой здесь.
— Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, — поправляют старые мудрые кони, — а здесь его имя пусть будет отныне и до века — гнедо-пегий конь с белой звездочкой.
СТЕПНОЙ ОБОРОТЕНЬ
Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной; ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело.
— Это хребет земли, страна Аркá, — сказал Исак. — Счастливая страна! Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино, — лучшая в мире страна для пастухов.
Семь юрт у подножья горы, будто семь белых птиц, уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец.
— Примет ли нас Джанас? — спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской.
— Примет...
Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых жеребят. Старик прикладывает руку к сердцу.
Руки здоровы. Ноги здоровы. Овцы здоровы, верблюды, кони — все здорово и у них, и у нас. Слава богу, аман!
Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты. Отец, кланяясь, просит войти; девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец.
В юрте пастухов — будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть.
Наверху круг еще синего неба; внизу на земле три черных, обожженных камня с рогулькой — очаг. За очагом, против входной двери, обращенной к Каабе, устлано ковром место для гостя, а тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешано.
Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами; у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается: Каин был земледелец, Авель — пастух.
В степи еще солнце: когда войлочная дверца открывается и кто-нибудь входит — слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово-светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги, у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...
Но приглядеться — они не все одинаковы: у одного, очень толстого, такая маленькая тюленья голова; у другого, тоже толстого, с губ висят черные крысиные хвостики; у третьего, толстого, хвостики обкусаны; четвертый — поменьше всех и лицо медно-красное.
Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют.
Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный Араб. Длинное Ухо от края до края разнесло о нем весть. Едет из Мекки, но куда — неизвестно. И вот наконец попался.
— Куда едет араб?
Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что, устав, валится на подушку и храпит. Другой подвинулся...
Довольно миражей...
— Я не араб!
— Йо-о! — воскликнул толстый с тюленьей головой.
— Йо! Алла! Он не араб! — заговорили другие.
И все разинули рты.
— Кто же он? Что ему нужно?
— Ему ничего не нужно, — объясняет Исак, — это ученый, он не берет от степи ничего: ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.
— Йо, Худай, не дух ли это предков, аурах?
— Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест, как киргизы, руками, богу не молится.
— Шайтан! — шепчет толстый с крысиными хвостиками.
— И не шайтан, — уверяет Исак, — шайтаны злые, это ученый из Петербурга, добрый...
— У него не мягкий ли палец на правой руке? — спрашивает толстый с обкусанными крысиными хвостиками.
У кого в большом пальце правой руки нет костей, тот Хыдыр, святой.
Смотрят на руку, трогают палец — палец у меня твердый. Гость — не араб, не аурах, не шайтан, не святой.
Исак им объясняет и час и два; лица краснеют, глаза горят, но тайна Черного Араба по-прежнему не разгадана.
Все щелкнули языками:
— Джок! Нет, непонятно.
Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают, и все щелкают языками и говорят:
— Джок! Нет, непонятно.
Чуть колышется войлок юрты: кто-то снаружи прокапывает в нем дырочку, и вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально — скроется, отвернуться — опять глядит. Нагляделся досыта, исчез; дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз, наверно, уже встретился со многими такими же узкими черными глазами. Там собрались все женщины, шепчутся — и араб, как степной оборотень, превращается из мельчайшего, в булавочную головку, джинна — в ужасную Албасты. И кто знает? Быть может, тайна Черного Араба сейчас тут же, в кустах чиевника, готова остановить поцелуи влюбленных; быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли?
Но все кончилось просто.
Кто-то спросил:
— Есть ли отец у гостя?
Все обрадовались простому вопросу и подвинулись.
— Есть отец.
— А мать?
— И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка, все равно как и у вас в степи.
— Все ли живы?
— Все живы, и все живут в Петербурге.
— Йо! — радуется старик, похожий на Авраама.
— Сколько же там в Петербурге домов?
— Тысячи!
— О! — вырвался из открытых ртов общий радостный крик.
— А есть ли в Петербурге бараны? — спросил Авраам.
— Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так.
— Как так?
— Без курдюков, с козлиными хвостиками.
Как искра, перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми, острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатами, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки — так хохочут в степи!
Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось.
Ему отвечают:
— В Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками.
Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный. Падают назад, на спины, хватаясь за животы: и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой толстый, и тот, что с тюленьей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исак. Приподнимутся, посмотрят на гостя, и опять лягут, и колышут своими животами халаты. Кто может, подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежнего таинственного и страшного, Черного Араба.
И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся влюбленные в кустах чиевника. Не смущаются мыслями бесплодные женщины в святых горах. Он не страшный, этот Черный Араб, и будто жил он тут всегда, тысячи и тысячи лет.
ОРЕЛ
Верхами на маленьких лошадках, похожих на куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана архара. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы падающий камнем за добычей орел мог свободно залетать в ее отверстие и остаться в сети, бессильно распустив крылья. Внутри этого сетяного шатра мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере.
До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, — кажется, это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла.
Да, он упал...
Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь. Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей.
Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте.
И вот мы приручаем орла и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка.
В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посредине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на бечеве, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака — друг человека.
Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость Мамырхан. Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку.
Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя, непременно дернет за бечеву, и орел на пол юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, — тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут — только покажут! — кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого вываренного бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла.
Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан, довольный, улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям — орел, хватать бы его, а ведет себя как собака — друг человека.
— Ка! — кричит киргиз. — Ка!
Орел плетется себе. И над царем птиц все покатываются.
Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса:
— Ка!
Орел садится к нему на перчатку.
Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, — к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат:
— Куян!
Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается, — вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле.
Вот клевать бы, клевать и, что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты...
Мгновенье еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновение Мамырхан крикнул:
— Ка!
И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса.
И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца.
Так приучают орлов.
ВОЛКИ И ОВЦЫ
Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову.
— Желает гость козла или барана? — спрашивает хозяин.
— Барана желает гость, — отвечает Исак.
— Молодого или старого?
— Молодого желает гость.
Старик просит прощения: летом было мало дождя, — молодые бараны сухи, но он попробует выбрать.
И уходит.
Ставят на три камня очага огромный черный железный казан, наливают в него ведрами воду, подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовятся к пиру.
Черноногий молодой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о госте, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали и как осталась долина с одним сухим тополем.
Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить.
Исак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые, умные глаза, шепчет — и баран благословлен.
Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домбры.
Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу, между камнями, огонь горит ярче, вверху видно вечернее предзакатное небо.
Барана связали. Голову свесили в медный таз: кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылилась кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Мальчик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды.
Толстый, с тюленьей головой человек вырезал из груди барана четырехугольник, прямо с шерстью, и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он приготовлял рогульку, мясо, оттого что в нем сокращались мускулы, зашевелилось.
Исак указал на это соседу, тот — своему соседу, и всю юрту обежало: «Мясо шевелится». Стали спорить, можно ли есть такое мясо? Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно.
Толстый растянул мясо на рогульке и, обжигая, сказал:
— Теперь оно больше не будет прыгать.
Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе, и ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела.
Медно-красный разделил тушу и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью.
Просунулись женские руки — отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое.
Наконец, красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды.
Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол и все к нему подвинулись. Достали голову и, отрезав ухо — лучшую часть, — предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, накрошили туда лука, подлили из котла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно ели, тут же смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана.
Целая гора мяса лежала на блюде; двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей.
Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали. Кости белели и белели. Гора таяла. Собаки опять просунули головы в юрту.
А там, за юртой, из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блестки мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные спины. Но добрые пастухи охраняют своих овец, и девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню.
Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки — все, что второпях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачки руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает: даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина дососать и догрызть. Доев все дочиста, расходятся по своим юртам.
Мы, гости, приготовляясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пировали. Исак дернул за веревку. Отверстие вверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятали за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза. Крались к самым кустам чиевника возле самых юрт, подбирались и прыгали.
Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом — так крикнули в ауле. Но и сквозь лай, и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка — и все дальше и дальше, тише и тише.
Не сон — этот затихающий крик. Вот и Исак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопок серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах. Медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отомстить волкам.
— Сколько утащили волки? — спрашиваю я Исака.
— Трех, — отвечает он, засыпая, — трех молодых, и у старых оторвали шесть курдюков.
Девушку долго и зло бранили женщины. Когда все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы на скалу, горный ручей, а стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут. Но кто знает? Быть может, приедет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овцу и при красном свете костра растерзают. И она будет жертвой богам, охраняющим стадо.
Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны девятого месяца лунного года, прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо.
Так от века было в долине Пестрой Змеи.
Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отомстил волкам: шесть убил и одного живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил, и он побежал.
— Ободранный? — изумился я.
— Ободранный, — ответил спокойно медно-красный, — ободранные волки немного могут бежать.
И рассказал всю свою ночную охоту.
При месяце в горах он увидел семь свежих следов. Сошел с лошади и стал идти по следам. Возле горы, где ловят беркутов, он увидал волка: то покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие шесть, сытые, спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк, как мертвый. Выстрелил — волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул — остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл, другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места, выл и стрелял. Последний волк, слегка раненный, упал в горную щель. Тут-то и поймал его охотник, ободрал и пустил, и он, черный, при месяце бежал версты три.
Так отомстил медно-красный волкам в долине Пестрой Змеи.
— Йо-йо! — удивлялись другие.
— Джаксы, мергень! — одобряли все.
И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк.
Исак дернул за веревку. Верхнее отверстие открылось, солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту.
Мы стали собираться к отъезду, а хозяева — разбирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше, на летнее пастбище, они назад — к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные, обожженные камни и белые черепа.
ЧЕРНЫЙ АРАБ
Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед, на летнее пастбище, к баю Кульдже, прозванному степным царем.
Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей — степных воров — для устрашения недобрых людей. «Мудрейший» судья пастухов — бай Кульджи — мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны.
Длинное Ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец восьми тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунцах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними — молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой.
Все они проводили нас к аулу Кульджи — ко многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старейший в ауле аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя.
Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами.
Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик «отца пастухов». Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса, — так отлила степь своего царя.
За спиной Кульджи, неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена: байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика — дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя — швейная машина Зингера.
Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили:
— Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи?
— Э! — кивнул Кульджа в знак согласия.
— По Длинному Уху? — спросили мы.
— Слово бежит в степи всегда по Длинному Уху, — ответил степной царь. — Великое дело — слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте; мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями — и овца приносит двух ягнят. Но Длинное Ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк.
— Э! — согласились поэт, певец, музыкант и учитель.
— Что привело гостей в нашу землю? — спросил Кульджа.
— Привлекает посмотреть страну, — ответили мы, — где люди живут так, как жили все люди в глубине веков.
— Углубления и ямы страны, — ответил царь пастухов, — существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Аркá — значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть.
Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Аркá.
Вечерело. Стада собирались, — лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны — позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается.
— Это мои табуны, — указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую.
Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи, и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась.
Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках.
— Эта юрта моей матери, — указал хозяин на большую белую юрту, — эта — старшей жены, эта — младшей, эта — жены, доставшейся мне от покойного брата.
Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными.
Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят дойных матерей вязали на длинную веревку — овцевязь — голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор.
Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц, и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку.
В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (судья) — огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаке и другой дядя Кульджи и с ним три провожатых на вороных аргамаках. Приехал Джанас из долины Пестрой Змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по двое, по трое, по четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких мастей аргамаках съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные и высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс.
Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поля.
Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал:
— Время рот раскрывать!
Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель.
Оба муллы заняли место против двери, обращенной к Каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла — все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади.
Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью.
Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло.
Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком?
Не удалось: сухой шарик рассыпался.
Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал:
— Грызите!
Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье.
— Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? — спросил судья.
— Недавно мы видели, — ответили мы, — такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает.
— Как же там постятся мусульмане? — сказал строго мулла. — Гость ошибается: нет такой страны.
И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы.
Хозяин вступился за гостя и сказал:
— Есть такая страна!
Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятое нами слово было: «шерегат».
Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане.
Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорил: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», — пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав!»
Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман».
Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю.
И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке.
Все услыхали топот и подумали: волк гонит испуганный табун.
Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного Уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи.
— Аманба, аманба! — повторял заблудившийся, грея у костра руки.
— Аман! — отвечали ему и спрашивали: — Есть ли новости, хабар бар?
— Бар! — отвечал заблудившийся. — В долине Потерянный Топор украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей.
— Кто украл невесту?
— Не знаю, — ответил гость, — степь велика!
— Степь велика, — повторил степной царь и спросил: — Нет ли еще чего нового?
— Видел белую галку, — ответил гость.
— Белую? Мулла, есть ли белые галки?
— Есть, — ответил мулла.
— Йо! — удивились все.
Еще видел вестник Длинного Уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты.
— Это бывает! — сказали пьющие кумыс.
— Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое.
— И это бывает! — сказали люди в халатах.
— Еще видел при наступлении ночи черного зайца.
— Черного! Мулла, есть ли черные зайцы?
— Йо-о! — удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав.
— Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы.
— Йо-о!
— Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма.
— Мулла, есть ли такая страна?
— Есть, — ответил мулла.
— Что же еще есть нового в степи? — допрашивали люди, пьющие кумыс.
— Еще что? — повторил гость. — Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный Араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого.
— Он здесь! — сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот.
«Нет, — подумали мы, — здесь уже нет Черного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он — как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот».
На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется.
Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берет свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею.
Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла.
Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет:
— Это ты, мой медный кувшинчик?
— Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, — отвечает кувшинчик. — Это я — здоров ли язык?
— Язык здоров, на сердце боль.
— Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара.
Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного.
— Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне.
— И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы.
— И твои, дорогой!
— Твои очи темней обожженного пня.
— И твои.
— Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди — как свежее масло. Твои очи — как серп новолунья.
— Клянись, — просит она, — обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца.
Он повертывается к луне.
...А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке.
Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разобрали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь.
Караван двинулся тоже в ту сторону.
Скачет ощипанный филин. Катится черное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнею в старый след на кочевой дороге.
Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой. Спрашивают, где обетованная страна?
Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить.
И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег.
Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы.
Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская.
А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный Араб.
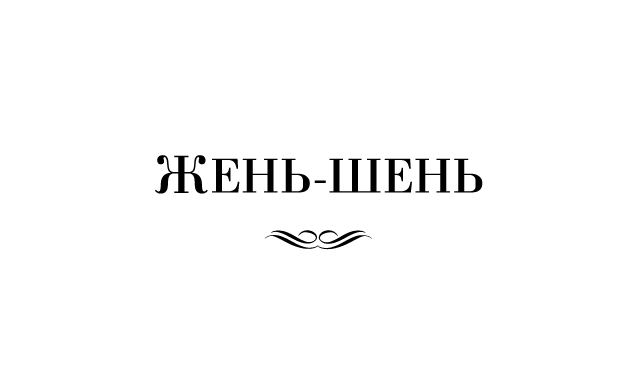
I
Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу! Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ — пятнистый олень, и растения удивительные: древовидный папоротник, аралия и знаменитый корень жизни Жень-шень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей, но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге. Вот и я тоже, как звери, не выдержал. Как гудел роковой снаряд, подлетая к нашему окопу, я слышал и отчетливо помню и посейчас, а после — ничего. Так вот люди иногда умирают: ничего! За неизвестный мне срок все переменилось вокруг: живых не было, ни своих, ни врагов, вокруг на поле сражения лежали мертвые люди и лошади, валялись стаканы от снарядов, обоймы, пустые пачки от махорки, и земля была, как оспинами, покрыта точно такими же ямами, как возле меня. Подумав немного, я, химик-сапер, вооруженный одним револьвером, выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и не стал догонять свою часть. Я был самый усердный студент-химик, меня сделали прапорщиком, я долго терпел и, когда воевать стало бессмысленно, взял и ушел, сам не зная куда. Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот я будто попал в какой-то по моему вкусу построенный рай. Нигде у себя на родине я не видал такого простора, как было в Маньчжурии: лесистые горы, долины с такой травой, что всадник в ней совершенно скрывается, красные большие цветы — как костры, бабочки — как птицы, реки в цветах. Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке! Отсюда недалеко была русская граница с точно такой же природой. Я пошел в ту сторону и скоро увидел идущие в гору на песке по ручью бесчисленные следы коз: это валила к нам в Россию на север через границу маньчжурская ходовая [1] коза и кабарга. Долго я не мог их догнать, но однажды, за перевалом, где берет начало речка Майхэ в горной теснине высоко над собой, на щеке увидел я одного козла, — он стоял на камне и, как я это понял, почуял меня и стал по-своему ругаться. В то время я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками, которые потом, созревая, пыхают под ногами: эти грибки, оказалось, были сносною пищей и возбуждали, почти как вино. Козел мне теперь на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан, и козел на него ругался, а не на меня. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве, всполыхнулась не видимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль Майхэ к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны — та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро перешел русскую границу, перевалил какой-то хребет и увидел перед собой голубой океан. Да, вот за одно только за это, чтобы увидеть с высоты перед собой голубой океан, можно бы отдать много трудных ночей, когда приходилось спать на слуху, по-звериному, и есть, что только придется достать себе пулей. Долго я любовался с высоты, считая себя по всей правде счастливейшим в мире человеком, и, закусив, начал с гольцов спускаться в кедровник, а из кедровника мало-помалу вступил в широколиственный лес маньчжурской приморской природы. Мне сразу же особенно понравилось бархатное дерево своей простотой, почти как наша рябина и в то же время не рябина, а бархат: пробковое дерево. На серой коре одного из этих деревьев были черные от времени русские слова: «Твоя ходи нельзя, чики-чики будет!» Что было делать? Прочитав еще раз, я подумал немного и, соблюдая таежный декрет, круто повернул назад, чтобы найти другую тропу. Между тем меня наблюдал человек за деревом, и, когда я повернул, прочитав запрещение, он понял, что я неопасный человек, вышел из-за дерева и замотал головой в стороны, чтобы я его не боялся.
— Ходи, ходи! — сказал он мне.
И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей, а это написали для страху, чтобы другие не ходили тут и не пугали зверей.
— Ходи-ходи, гуляй-гуляй! — с улыбкой сказал мне китаец. — Ничего не будет.
Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески свежим и детски доверчивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.
— Мал-мало кушать хочу, — сказал он и повел меня в свою маленькую фанзу у ручья, в распадке, под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями.
Фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой; вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага; огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания Жень-шеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует «тот свет» и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы... Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как перестал замечать после концерты кузнечиков, сверчков и цикад: у этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать, — напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них; но я никогда не мог забыть разговор под землей оттого, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые.
Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал:
— Арсея?
Я понял сразу его и ответил:
— Да, я из России.
— А где твоя Арсея? — спросил он.
— Моя Арсея, — сказал я, — Москва. А где твоя?
Он ответил:
— Моя Арсея — Шанхай.
Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» совершенно случайно, что и у него, китайца, и у меня, русского, была как будто общая родина Арсея, но потом, через много лет я эту Арсею стал понимать здесь, у ручья, с его разговорами и считать просто случайностью, что когда-то Арсея Лувена была в Шанхае, а моя Арсея в Москве...
Всего только шагах в двадцати от фанзы начиналась непролазная крепь, дубняк и бархатное дерево, мелколиственный клен, граб и тисс, крепко-накрепко перевитые лианами лимонника и винограда, колючками с высокой, саженной полынью и той самой сиренью, которая встречается у нас только в садах. Лувен, спускаясь часто за водой, пробил здесь тропу, и эта едва заметная тропка, обходя крепкое место, вскоре приводит к обрыву, и тут весь разговор, слышимый возле фанзы, как бы на том свете, вырывается наружу: поток, являясь на белый свет из-под скалы, сразу же разбивается о встречный утес и летит вниз радужной пылью. Но и вся широкая отвесная скала немного сочится, всегда мокрая, всегда блестит, и эти ее бесчисленные струйки сливаются внизу в открытый и веселый поток. Никогда не забуду я этого счастья! Какая награда мне была за весь мой нелегкий переход искупаться в этом потоке! Там, назади, за хребтом гнус мне жить не давал, а тут, у самого моря, уже не было ни комаров, ни слепней, ни мошек. Пониже того места, где я купался, был водоворот в камнях; тут я оставил в стирку свое белье, сам же сел в купальню, а на голову мне сверху летели брызги, как душ. Вот этот шум падающей воды и скрадывал от животных всякий звук от ужасного для них человека, они доверчиво подходили к потоку напиться, и даже в самый первый раз я кое-что заметил в этой приморской тайге. Под сенью широколиственных деревьев на тенелюбивых травах всюду были разбросаны зайчики богатого солнца сорок второй параллели. Летом — время туманов, только в редчайшие дни это солнце показывается в приморье во всей своей возможной славе и силе, и так счастливо оно встретило меня в этот день. Среди солнечных зайчиков невозможно бы мне было заметить совершенно такие же пятна на красной шерсти животных, если бы они не двигались: пятнистые олени, полежав, наверно, где-нибудь тут вблизи, встали и пошли, перемещая свои пятна среди солнечных зайчиков, на водопой. Кто не слышал, приближаясь к востоку, об этом редчайшем звере приморской тайги, сохраняющем будто бы в своих рогах, когда они молоды и насыщены кровью, целебную силу, возвращающую людям молодость и радость? Сколько легенд я слышал об этих пантах, столь драгоценных у китайцев, что даже всем сказкам и небылицам придаешь какое-то значение. И вот эти самые знаменитые панты высунулись между двумя огромными листьями маньчжурского орехового дерева у самой воды, они были бархатистые, красно-персикового цвета, на живой голове с большими прекрасными серыми глазами. И только Серый Глаз наклонился к воде, рядом показалась безрогая голова с еще более прекрасными глазами, но только не серыми, а черно-блестящими. Около этой ланки-самки оказался молодой олень с тонкими шильцами вместо пантов и еще совсем маленький олененок, крошечная штучка, но тоже с такими же пятнами, как у больших; этот маленький залез прямо в ручей со всеми своими четырьмя копытцами. Мало-помалу олененок, подвигаясь вперед от камушка к камушку, стал как раз между мной и матерью, и когда она захотела проверить его и посмотрела, то взгляд ее как раз попал на меня, сидящего истуканом в брызгах воды. Она замерла, окаменела, изучая меня, угадывая, камень я или могу шевельнуться. Рот ее был черный и для животного чрезвычайно маленький, зато уши необыкновенно большие, такие строгие, такие чуткие, и в одном была дырочка: светилась насквозь. Никаких других подробностей я не мог заметить, так захватили все мое внимание прекрасные черные блестящие глаза — не глаза, а совсем как цветок, — и я сразу понял, почему китайцы этого драгоценного оленя зовут Хуа-лу, значит — олень-цветок. Так трудно было представить себе того человека, кто, увидев такой цветок, прицелился в него из ружья и пустил свою страшную пулю: дырочка от пули так и светилась. Трудно сказать, сколько времени мы смотрели друг другу в глаза, — кажется, очень долго! Я едва переводил дух, мне становилось все трудней и трудней, и, вероятно, от этого волнения блики на глазах моих двигались. Хуа-лу это заметила, медленно стала поднимать переднюю ногу, очень тонкую, с маленьким острым копытцем, согнула ее и, вдруг с силой выпрямив, топнула. Тогда Серый Глаз поднял свою голову и тоже стал смотреть на меня с таким выражением, будто он с большой высоты хочет разглядеть какую-то неприятную мелочь и, не будучи в силах по природе своей замечать гадкие подробности жизни, смотрел, сохраняя достоинство властителя оленей, и только не говорил, как говорят иногда высокопоставленные маленьким просителям: «Я все готов сделать вам, только поскорее выясните, в чем тут дело, не самому ж мне выяснять!» В то время как топнула Хуа-лу и Серый Глаз поднял в недоумении свою величественную голову с короткими бархатистыми пантами, там, чуть-чуть пониже, много чего-то шевелилось и среди других голов одна большая подалась вперед, и показался весь олень с черной, отчетливой, как ремень, полосой на спине. Даже издали можно было понять, что Черноспинник не по-доброму смотрел, и в глазах его, черных и сумрачных, была какая-то недобрая затея. Не только все эти олени возле Черноспинника по сигналу Хуа-лу стали неподвижно созерцать меня, но и олененок из ручья, подражая взрослым, точно так же старался окаменеть. Мало-помалу он стал утомляться, а кроме того, конечно, его, как и всех оленей, ели клещи, он не выдержал скуки, поднял ногу и почесался. Тогда я тоже не выдержал, улыбнулся, и тут Хуа-лу уже поняла и решительно и так сильно топнула ногой, что камень отвалился и булькнул в воду с брызгами. После того она вдруг шевельнула своими черными губами и совершенно по-человечески свистнула, а когда повернулась и бросилась бежать, то раздула свою особенную широкую белую салфетку, чтобы следующему за ней оленю можно было следить, куда она будет мчаться в кустах. За матерью бросились саёк-олененок [2], Серый Глаз, Черноспинник и другие олени. Когда же все умчались, прямо на середину ручья выскочила хорошенькая ланка, остановилась и как будто спрашивала своей хорошенькой мордочкой: «Что случилось, куда они убежали?» Вдруг она бросилась через ручей в совершенно противоположную сторону, скоро очутилась на половине щеки распадка, посмотрела на меня оттуда сверху, опять бросилась, опять посмотрела со всей высоты и скрылась за чертой черной скалы и синего неба.
II
Лувен в глубоком распадке спрятал свою фанзочку от страшных тайфунов приморского края, но если подняться на щеку распадка вверх метров на сто, оттуда видно море, Тихий океан. Наш распадок Чики-чики очень недалеко от того места, где я встретился с оленями, входил в большую падь Зусухэ, вода здесь становилась много спокойней, падь постепенно переходила в долину, и река спокойно и торжественно, закончив свой мучительный бег по горным распадкам и падям, вливалась в океан.
На другой же день, как я прибыл сюда, в бухту Зусухэ пришел пароход с переселенцами и, пока они устраивались, стоял тут две недели, и вот за эти две недели и совершилось то самое большое событие моей жизни, о котором я и буду рассказывать. Та долина, где бежит Зусухэ, вся сплошь покрыта цветами, и тут я научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка о себе: каждый цветок в Зусухэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с землею. Если бы я мог о себе рассказать, как эти простые цветы в Зусухэ! Были ирисы — от бледно-голубых и почти что до черных, орхидеи всевозможных оттенков, лилии красные, оранжевые, желтые, и среди них везде звездочками ярко-красными была рассыпана гвоздика. По этим долинам, простым и прекрасным цветам всюду летали бабочки, похожие на летающие цветы, желтые с черными и красными пятнами аполлоны, кирпично-красные, с радужными переливами крапивницы и огромные удивительные темно-синие махаоны. Некоторые из них — я тут только это впервые и видел — могли садиться на воду и плыть, а потом опять поднимались и летали над морем цветов. Пчелы реяли на цветах, осы; с шумом носились по воздуху мохнатые шмели с черным, оранжевым и белым брюшком. Случалось, когда я заглядывал в чашечку цветка, там оказывалось такое, чего я никогда не видал и назвать до сих пор не могу: ни шмель, ни пчела, ни оса. А по земле между цветами всюду юлили проворные жужелицы, ползали черные могильщики, таились огромные реликтовые жуки, собираясь при случае вдруг подняться на воздух и прямо лететь, никуда не сворачивая. Среди всех этих цветов и кипучей жизни долины только я один, так мне казалось, не мог прямо смотреть на солнце и рассказывать просто, как они. Я могу рассказать о солнце, избегая встречаться с ним глазами. Я человек, я слепну от солнца и могу рассказывать, лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы и все лучи их собирая в единство.
С высокой скалы над нашей фанзой я заметил пароход, и мне захотелось посмотреть на людей. Пока я спустился к тому месту, где наш ручей Чики-чики вливается в Зусухэ, стало очень жарко, я устал и захотел отдохнуть. Тут, на месте слияния ручья и реки Зусухэ, на берегу лианы винограда до того опутали молодые маньчжурские ореховые деревья, что некоторые из них превратились в сплошные темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей шатры. Мне очень захотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра, и если там окажется хорошо и прохладно, посидеть и отдохнуть. Не так было легко проникнуть туда через целую сеть спущенных к земле виноградных, довольно толстых лиан. Раздвинув лианы, однако, я увидал вокруг ствола заплетенного и совершенно невидного снаружи дерева довольно просторную сухую площадку, и тут в большой прохладе сел я на камень, спиной прислонясь к серому стволу дерева. Конечно, внутри шатра не было так непроницаемо для солнечных лучей, как казалось снаружи, зелень здесь светилась как бы сама от себя, и всюду были солнечные зайчики. Была полная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение среди солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то опять открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными зайчиками ланку. К счастью, ветер был на меня, и на таком расстоянии даже я мог чуять оленя. Но что было бы, если бы ветер дунул от меня на нее! Мне даже страшно стало, что она по какому-нибудь моему нечаянному шороху догадается. Я почти не дышал, а она приближалась, как все очень осторожные звери, — один шаг ступит и остановится и свои необыкновенно длинные и сторожкие уши настраивает в ту сторону, где что-нибудь причуивает по воздуху. Раз я уже подумал было, что все кончилось: она поставила уши прямо против меня, и тут я заметил на левом ухе дырочку от пули и с большой радостью, как будто друга встретил, узнал в ней ту самую ланку, которая топала на меня возле горного ручья. В недоумении или раздумье она теперь, как и тогда, подняла переднюю ногу и так осталась, и если бы я задел своим дыханием хоть один только виноградный листик, она бы топнула и скрылась. Но я замер, и она медленно опустила ногу, сделала один и еще один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза, дивился их красоте, то представляя себе такие глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухэ. Тут я еще раз понял необходимость имени олень-цветок, и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому не известный желтолицый поэт, увидев эти глаза, понял их как цветок, и я теперь, белолицый, их понимаю тоже как цветок; радостно было и оттого, что я не один и что на свете есть бесспорные вещи. Мне стало понятно и особенное предпочтение китайцами пантов именно этого оленя, а не грубого изюбра или марала: правда, мало ли на свете полезных и даже целебных веществ, но так редко бывает на свете, что полезное в то же время и совершенно по красоте. Между тем Хуа-лу, сделав еще несколько шагов к моему шатру, вдруг поднялась на задние ноги, передние положила высоко надо мной, и через виноградные сплетения просунулись ко мне маленькие изящные копытца. Мне было слышно, как она отрывала сочные виноградные листы, любимое кушанье пятнистых оленей, довольно приятное и на наш человеческий вкус. По ее большому вымени, из которого сочилось молоко, я вспомнил о ее олененке, но, конечно, не посмел наклониться и посмотреть из дырочки по сторонам: тут где-то он должен быть непременно. Как охотника, значит тоже зверя, меня очень соблазняло — тихонечко приподняться и вдруг схватить за копытца оленя. Да, я сильный человек и чувствую, что, возьмись я крепко-накрепко обеими руками повыше копытцев, я оборол бы ее и сумел бы связать поясным ремешком. Всякий охотник поймет мое почти неудержимое желание схватить зверя и сделать своим. Но во мне еще был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение, напротив, ему хочется то мгновенье сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда. Конечно, все мы люди, и понемногу у нас у всех это есть: ведь и самый страстный охотник с трудом скрепит в себе слабое сердце, когда простреленный зверь умирает, и самый нежный поэт хотел бы присвоить и цветок, и оленя, и птицу. Я как охотник был себе самому хорошо известен, но никогда я не думал, не знал, что есть во мне какой-то другой человек, что красота, или что там еще, может меня, охотника, связать самого, как оленя, по рукам и ногам. Во мне боролись два человека. Один говорил: «Упустишь мгновенье, никогда оно тебе не возвратится, и ты вечно будешь о нем тосковать. Скорей же хватай, держи, и у тебя будет самка Хуа-лу, самого красивого в мире животного». Другой голос говорил: «Сиди смирно! Прекрасное мгновенье можно сохранить, только не прикасаясь к нему руками». Это было точно как в сказке, когда охотник прицелился в лебедя — и вдруг слышит мольбу не стрелять ее, подождать. И потом оказывается, что в лебеди была царевна, охотник удержался, и вместо мертвого лебедя потом перед ним явилась живая прекрасная царевна. Так я боролся с собой и не дышал. Но какой ценой мне то давалось, чего мне стоила эта борьба! Удерживаясь, я стал мелко дрожать, как собака на стойке, и, возможно, это дрожание мое звериное перешло в нее, как тревога. Хуа-лу тихонечко вынула из виноградных сплетений копытца, стала на все свои тонкие ноги, поглядела с особенным вниманием в темноту кущи мне прямо в глаза, повернулась, пошла, вдруг остановилась, оглянулась; откуда-то взялся и подошел к ней олененок, вместе с ним она довольно долго смотрела мне прямо в глаза и потом скрылась в кустах таволожки.
III
Река из горной тайги каждую весну и в каждое наводнение летом и осенью тащит на морской берег множество подмытых и сваленных тайфунами лесных великанов — тополей, кедров, грабов, ильмов — и засыпает их песком, и так много песку, и так много лет проходит, что самое море отступает и образуется бухта.
Сколько же сот лет прошло, пока работой моря и реки Зусухэ завернулась полукругом линия моря и суши? Сколько морских зверей перебывало на маленьком каменном острове посредине бухты, пока наконец гудок парохода не нарушил тишину морской пустыни и все нерпы от страха не попрыгали с острова в воду?
У самого моря из песка, будто спина окаменелого чудовища, виднелось полузанесенное песком огромное дерево; от вершины его остались два громадных сука, и они торчали черные, узловатые, рассекая до горизонта голубое небо. На малых ветвях этого дерева висели белые круглые хорошенькие коробочки, — это были выброшенные тайфунами скелеты морских ежей. Какая-то женщина сидела спиной ко мне и собирала себе в баульчик эти подарки моря. Вероятно, я был еще под сильным влиянием грациозного животного возле дерева, опутанного виноградом, что-то в этой незнакомой мне женщине напомнило мне Хуа-лу, и я был уверен, что вот сейчас, как только она обернется, я увижу те прекрасные глаза на лице человека. Я и сейчас не могу понять, из чего это выходило и складывалось, ведь если мерить, рисовать, то будет совсем не похоже, но мне было так, что вот, как только она обернется, непременно явится передо мной олень-цветок Хуа-лу, воплощенная в женщине. И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне-лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа-лу, что все остальное оленье — шерсть, черные губы, сторожкие уши — переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды и красоты. Она глядела на меня настороженная, удивленная, казалось — вот-вот топнет на меня, как олень, и убежит. Сколько разных чувств проходит во мне, сколько мыслей туманом проносится, и в них как будто каких-то решений в мире неясного и непонятного, но слов, совершенно правдивых и верных, я и сейчас не найду и не знаю, придет ли в этом когда-нибудь час моего освобождения. Да, я так бы и сказал, что скорей всего слово свобода будет самое близкое название тому особенному состоянию, когда, поняв красоту необыкновенного зверя, я вдруг получил возможность продолжать это бесконечно далеко в человеке. Было — как будто я из тесного распадка вышел на долину Зусухэ, покрытую цветами, с бесконечным продолжением ее в голубой океан.
И вот еще самое главное: было два человека. Когда Хуа-лу просунула мне копытца через виноградные сплетения, один был охотник, назначенный схватить ее сильными руками повыше копыт, и другой — неизвестный еще мне человек, сохраняющий мгновение в замирающем сердце на веки веков. Так вот я без колебания теперь скажу, что именно так, именно тем неизвестным мне самому человеком, робко-восторженным и бесконечно сильным в своем замирании, подошел я к ней, и она сразу меня поняла. Она и не могла не понять меня и не ответить. Если бы это не раз в жизни пришло, а всегда жило в себе, то можно бы всем нам всегда и всюду каждый цветок, каждую лебедь, каждую ланку превращать в царевну и жить, как мы жили с этой моей превращенной царевной в долине цветов Зусухэ, в горах, на берегах рек и ручьев. Мы были с ней и на Туманной горе, бывшей когда-то вулканом: там теперь родятся драгоценные пятнистые олени. Мы слушали в фанзочке подземный разговор наших предков, и тут же искатель корня жизни Лувен рассказывал нам о чудесных свойствах этого корня, способного наделять человека вечной молодостью и красотой. Он показывал нам даже порошок, составленный из корня жизни, пантов и еще каких-то целебных грибов, но когда мы, смеясь, стали просить у него порошок вечной молодости и красоты, он вдруг рассердился и перестал с нами разговаривать. Скорей всего ему стало досадно, что мы не доверяем ему и смеемся, а может быть, он, уверенный, что для успеха в искании корня жизни надо иметь чистую совесть, хотел и нам намекнуть на это: что и мы, как и он, искатель, должны тоже подумать о чистоте своей совести. И то возможно, что старый Лувен мог видеть в нашем счастье там и тут рассекающие его молнии. Во мне жило два человека, те самые, как в отношении прекрасной Хуа-лу: один — охотник и другой — еще неизвестный мне человек. И когда мы шли в мой виноградный шатер постеречь Хуа-лу, я сделал ошибку, — вернее, не весь я, а я как охотник. Она, возмущенная, вдруг переменилась ко мне: казалось, внезапная молния разорвала наш союз; но я снова собрался в себе и занял обыкновенную свою, покоряющую все высоту. Мы сидели в это время в виноградном шатре — и вдруг через окошко увидели во всей красе Хуа-лу, как она с олененком перешла полянку, совсем недалеко от нас ела листики винограда и потом дальше куда-то ушла в кусты таволожки и туи. Оставаясь на той занятой мною высоте, я стал ей рассказывать о встрече с Хуа-лу, когда она поднялась на задние ноги, просунула копытца в виноградные сплетения, и как я дрожал мелкой дрожью, удерживаясь от искушения схватить ее за копытца, и вот неведомый мне самому какой-то другой человек помог мне удержать в себе прекрасное мгновенье, и как бы в награду за это олень-цветок превратился в царевну...
Мне хотелось этим рассказом показать ей, что я могу занять всю высоту, что ошибка моя перед этим просто случайность и больше она у меня не повторится. Я говорил, не глядя на нее, в какое-то окружающее нас зеленое пространство. Мне хотелось высказать ей это мое самое тайное, не глядя ей в глаза, и когда мне подумалось, что вот я достиг, вот теперь-то уж я могу посмотреть ей прямо в глаза, вот теперь-то я увижу там... Я думал — встречу там все голубое, и вдруг все вышло обратное и непонятное: не голубое там было, — я там встретил огонь. В пламенном румянце, с полузакрытыми глазами, она склонилась на траву. В это мгновенье раздался гудок парохода, она не могла не слышать его, но она его не слыхала. А я точно так же, как было с ланкой оленя, я замер, потом я, как и она, был в пламени, потом металл мой побелел, а я продолжал сидеть неподвижно. Тогда раздался второй гудок парохода, она встала, оправила прическу и, не глядя на меня, вышла...
IV
Чем успокаивает шум моря, когда стоишь на берегу? Мерный звук прибоя говорит о больших сроках жизни планеты Земли, прибой — это как часы самой планеты, и когда эти большие сроки встречаются с минутами твоей быстренькой жизни среди выброшенных на берег ракушек, звезд и ежей, то начинается большое раздумье о всей жизни, и твоя маленькая личная скорбь замирает, и чувствуешь ее глухо и где-то далеко...
У самого моря был камень, как черное сердце. Величайший тайфун, вероятно, когда-то отбил его от скалы и, должно быть, неровно поставил под водой на другую скалу; камень этот, похожий своей формой на сердце, если прилечь на него плотно грудью и замереть, как будто от прибоя чуть-чуть покачивался. Но я верно не знаю, и возможно ли это. Быть может, это не море и камень, а сам я покачивался от ударов своего собственного сердца, и так мне трудно было одному и так хотелось мне быть с человеком, что этот камень я за человека принял и был с ним как с человеком.
Камень-сердце сверху был черный, а половина его ближе к воде была очень зеленая: это было оттого, что когда прилив приходил и камень весь доверху погружался в воду, то зеленые водоросли успевали немного пожить и, когда вода уходила, беспомощно висели в ожидании новой воды. На этот камень я забрался и смотрел с него до тех пор, пока пароход не скрылся из глаз. После того я лег на камень и долго слушал; этот камень-сердце по-своему бился, и мало-помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все было мне как мое, как живое. Мало-помалу выученное в книгах о жизни природы, что все отдельно, люди — это люди, животные — только животные, и растения, и мертвые камни, — все это, взятое из книг, не свое, как бы расплавилось, и все мне стало как свое, и все на свете стало как люди: камни, водоросли, прибои и бакланы, просушивающие свои крылья на камнях совершенно так же, как после лова рыбаки сети просушивают. Прибой примирил меня, убаюкал, и я очнулся, разделенный водою от берега; камень же наполовину был потоплен, водоросли вокруг него шевелились, как живые, а бакланов на косе теперь доставала вода прибоя: сидят, сушат крылья — и вдруг их окатит водой и даже сбросит, но они опять садятся и опять сушат крылья, раскинув их так, как это у орлов на монетах. Тогда я принимаю в себя вопрос, как будто очень важный и необходимый для разрешения: почему бакланы держатся именно этой косы и не хотят для просушки своих крыльев перелететь немного повыше?
А то было на другой день, я опять пришел сюда слушать прибой, долго смотрел в ту сторону, куда ушел пароход, и потом очнулся в тумане. Чуть виднелось, на берегу копошились новоселы. Любого спросить, думалось мне, каждый признает во мне бродягу, бездомное существо и поспешит спрятать от меня топор и лопату. Как они ошибаются! Был я бродяга, но теперь я прострелен насквозь, и от этого через боль свою я везде чувствую одно и то же: мне везде теперь родина, в чем-то этом моем все существа на земле одинаковы, и нечего больше теперь мне искать, никакая перемена внешняя туда, внутрь меня, не принесет ничего нового. Не там родина, думалось мне, где ты просто родился, а вот родина, где ты это понял, что нашел свое счастье, пошел навстречу ему, доверился, отдался, а оттуда в тебя, в ту самую точку, где находится счастье, начали стрелять.
Морское летнее тепло поднималось наверх, охлаждалось у хребта и садилось обратно туманом и бусом. Но мне было — будто огромные белые стрелки в белой широкой одежде, колыхаясь, наступают и расстреливают меня не сразу пулями, а мелкой дробью, чтобы я, расстрелянный, уничтоженный, сам в себе жил, мучился и через эту необходимую муку все понял. Нет! Теперь больше я не бродяга и очень хорошо понимаю бакланов, почему им плохо крылья сушить на этой косе, а они все-таки не хотят перелететь повыше, на другую скалу: им тут пришлось рыбу ловить, и тут они застряли. «А перелетишь, — думают они, — повыше, где лучше сушиться, то еще, пожалуй, и рыбку упустишь. Нет, мы останемся жить на этой косе». Да так вот и живут, перебиваются, обживают морскую косу. И так еще мне было, что вот этот камень-сердце лежит и чуть-чуть при ударе волн качается, и так он должен, может быть, сто лет и больше, тысячу лет лежать и покачиваться, а я никаких особенных преимуществ перед ним не имею, так почему ж буду я переменять место и утешаться? Нет утешения!
И вот как только я сказал себе со всей силой, со всей решимостью, что нет утешения и не быть повторению и соблазну ожидания лучшего в переменах на стороне, то на какой-то срок мою боль отпустило, и даже на минутку представилось, что жизнь для меня продолжается и после расстрела. Тогда я вспомнил про своего Лувена и пошел в его фанзочку, как в свое родное гнездо.
В глубине распадка жаркая сырость в эту ночь подняла всех летающих насекомых, и многие миллионы из них в брачном полете зажгли свои ночные фонарики, как будто заняв для них свет у невидимой луны. Я сидел под навесом фанзы и старался проследить начало и конец пути какого-нибудь светляка. Срок света каждому из них назначен был очень короткий, секунда, может быть, две, и все кончалось во тьме, но тут же начиналось другое. То же ли насекомое, отдохнув, продолжало свой светящийся путь, или же путь одного кончался и продолжался другим, как у нас в человеческом мире?
— Лувен, — спросил я, — как это все твоя понимает?
Неожиданно Лувен отвечал:
— Моя сейчас понимай, как твоя.
Что это значило?
В это время под землей, где все так и продолжался постоянный неровный разговор, вдруг что-то случилось, грохнуло. Лувен прислушался, стал очень серьезным.
— Наверно, — сказал я, — там камень упал?
Он не понял меня. И я руками воздух обвел, сделал пещеру, представил, как упал камень в воду и нарушил течение ручья. Лувен во всем со мной согласился и опять повторил:
— Моя сейчас понимай, как твоя.
Так он второй раз это сказал, и я все еще не догадывался, о чем он говорит. Вдруг Лайба поджала хвост и бросилась в глубину фанзы, — по всей вероятности, где-нибудь очень близко тигр проходил, а может быть, и прямо залег в камнях, рассчитывая Лайбу схватить. Нам пришлось развести костер для защиты, и тогда сразу же на огонь собрались к нам бесчисленные ночные бабочки, и так много их было в эту сырую и жаркую ночь, что явственно слышался шелест крыльев. Этого я никогда не слыхал: так много бабочек, что слышится в ночном воздухе шелест. Будь я простым и здоровым, как было еще так недавно, я не придал бы этому шелесту такого особенного значения, как это было сейчас: шелест жизни! Но теперь почему-то все это глубоко касалось меня. Я настороженно слушал и, с большими глазами, удивленный до крайности, спросил об этом Лувена, как это он понимает, и в третий раз Лувен значительно сказал:
— Моя сейчас понимай, как твоя.
Тогда я всмотрелся в Лувена и вдруг наконец-то понял его: не жизнь летающих светляков, не обвал под землей, не шелест жизни бесчисленных бабочек занимали Лувена, а я сам. Он-то все это живое давным-давно принял к сердцу и жил в этом и, конечно, по-своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого. И конечно, он тоже хорошо знал, кого от меня увез пароход. Вот он берет теперь барсучью шкурку, свою неизменную спутницу в поисках корня жизни, и тут же возле меня, под навесом, свертывается на ней, как собачка. Он так спит всегда, что с ним говорить можно всю ночь и он будет отвечать во сне разумному вопросу, все равно как и неясному бормотанию спящего.
Теперь, когда много лет прошло и я все испытал, я думаю, что не горе дает нам понимание жизни всей во всем родстве, как я ее в ту ночь понимал, а все-таки радость; что горе, как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. Но есть много наивных людей, кто понимание наше жизни других людей в родстве с нами прямо приписывают страданию. И мне тоже было тогда, как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места.
— Лувен, — спросил я, — была ли у тебя когда-нибудь женщина?
— Моя не понимай, — отвечает Лувен.
— Одно солнце, — говорю я.
И делаю отрицательный жест. Это значит — одни сутки я отбрасываю, и получается вчера. А два пальца значит — вчера нас было двое. Вот один палец: я показываю на себя.
— Я сегодня один.
И — показывая в ту сторону, куда ушел пароход:
— Там женщина!
— Мадама! — радостно воскликнул Лувен.
Он понял: моя женщина у него значит «мадама». И показал: голова лежит с закрытыми глазами.
— Спи-спи, мадама!
Значит, его мадама давно умерла.
— Это была твоя жена?
Опять не понимает, и опять я ему показываю, как двое спят большие и рождаются маленькие.
Лувен понял и просиял: это бабушка, значит жена, а мадама — значит, невеста. Он показывает человека в полроста — один, другого еще поменьше, третьего еще на ступеньку, еще, еще, и совсем маленький привязан сзади, и в животе есть еще...
— Многа, многа, а руками работай!
И это бабушка, жена его брата, а сам брат «спи-спи», и его собственная мадама «спи-спи», и его бабушка «спи-спи», и его дети «спи-спи», а сам Лувен работает для бабушки брата и им посылает в Шанхай.
Наша ночь продолжается. Я бормочу во сне:
— Спи-спи, мадама!
А Лувен отвечает:
— Живи-живи, мадама!
Может быть, мне и приятно слышать, и я невольно опять вызываю и получаю желанный ответ:
— Живи-живи, мадама!
Вероятней всего, что тигр у нас не задержался и дальше прошел. Лайба скоро выбралась из фанзы и свернулась возле Лувена. Костер, конечно, погас. Замолк шелест крыльев, но до утра чертили ночную тьму фонарики лунного света в брачном полете, и растения, собирая своими широкими листьями из насыщенного влагой воздуха воду, как в блюдца, вдруг проливали ее...
С рассветом опять вышли с моря белые стрелки в широкой одежде и опять стали расстреливать меня дробью.
Вот скала. Из ее бесчисленных трещин, как из слезниц, влага вытекает, собирается крупными каплями, и кажется — скала эта вечно плачет. Не человек это, камень; я знаю хорошо, камень не может чувствовать, но я такой человек, так душа моя переполнена, что я и камню не могу не сочувствовать, если только вижу своими глазами, что он плачет, как человек. На эту скалу опять я прилег, и это мое сердце билось, а мне казалось, что у самой скалы билось сердце. Не говорите, не говорите, знаю сам, — просто скала! Но вот как же мне нужно было человека, что я эту скалу, как друга, понял, и она одна только знает на свете, сколько раз я, сливаясь с ней сердцем, воскликнул: «Охотник, охотник, зачем ты упустил ее и не схватил за копытца!»
V
До чего же я в то время был наивен и прост! Я был уверен тогда, что, схвати я свою невесту, как оленя, — и все: и вопрос о корне жизни решен. Дети мои, любезные юноши и милые девушки, в то время я тоже, как и вы, по молодости слишком много придавал значения тому, о чем вы теперь говорите вполне естественно и будто бы может происходить и что-нибудь значить почти без покрова, или, как вы говорите, любовь без роз и черемухи. Да, конечно, корень жизни нашей находится в земле, и любовь наша с этой стороны, как у животных, но нельзя же из-за этого зарывать стебель и цвет свой в землю, а таинственный корень обнажать и лишать начало человеческой жизни покрова. К сожалению, все это становится ясным, когда опасность проходит, а новые дети меньше всего верят опыту старших и в этом отношении больше всего хотят быть беспризорными. Мне, однако, счастливо пришлось, что был возле меня Лувен, самый нежный, внимательный и — я осмелюсь сказать — самый культурный отец, какие только бывают на свете. Да, я так уверился навсегда в своей пустыне, что в душистом мыле и щеточках заключается только ничтожная часть культуры, а суть ее в творчестве понимания и связи между людьми. Мало-помалу мне стало ясным, что главное жизненное дело Лувена было врачевание, — какое оно уж там было с медицинской точки зрения — не мне судить, но я видел своими глазами, что все люди уходили от него с веселыми лицами и многие приходили потом, только чтобы поблагодарить. Из разных концов тайги приходили к нему манзы, китайские охотники, звероловы, искатели корня Жень-шень, хунхузы, разные туземцы, тазы, гольды, орочи, гиляки с женщинами и детьми, покрытыми струпьями, бродяги, каторжники, переселенцы. У него было множество знакомств в тайге, и, кажется, после корня жизни и пантов самым сильным лекарством он считал деньги. Никогда он не имел нужды и в этом лекарстве: стоило только ему было дать знать кому-нибудь из своих — и лекарство являлось. Раз было, среди лета Зусухэ так разлилась, что смыла все поля, и новоселы остались ни с чем. Тогда Лувен дал знать своим друзьям — и русские люди были спасены от голодной смерти только этой китайской помощью. Так вот тут-то я и научился понимать, на всю жизнь, не по книгам, а на примере, что культура не в манжетах и запонках, а в родственной связи между всеми людьми, превращающей даже деньги в лекарство. Сначала было немного смешно слышать это от Лувена, что деньги — это лекарство, но условия нашей пустынной жизни сами собой привели к тому, что и я стал их понимать как лекарство. Кроме Жень-шеня, пантов, денег, у него лекарством была еще кровь горала, струя кабарги, хвосты изюбра, мозг филина, всевозможные грибы, наземные и древесные, разные травы и корни, среди которых много было и наших: ромашка, мята, валерьян. Раз я смотрел в лицо старика, заботливо разбирающего травы, и решился спросить его:
— Лувен, твоя понимай всего много. Скажи мне, болен я или здоров?
— Всякий люди, — ответил Лувен, — есть здоровый люди и больной люди за один раз.
— Что мне нужно? — спросил я. — Панты?
Он долго смеялся: панты он дает для возбуждения страсти при утрате жизненных сил.
— А может быть, — спросил я, — мне поможет Жень-шень?
Лувен перестал смеяться, долго смотрел на меня и в этот раз ничего не сказал, но на другой день так загадал:
— Твоя Жень-шень расти-расти, моя скоро тебя покажи будет.
Лувен зря ничего не говорил, и я стал ждать случая своими глазами наконец-то увидеть не порошок только этого лекарства, а самый корень, растущий в тайге. И вот раз глубокой ночью Лайба с лаем бросилась в глубину распадка. Лувен вышел за ней из фанзы, и вслед за ним я вышел с винтовкой.
Возвращаясь из тьмы вместе с Лайбой, Лувен сказал:
— Не нада ружье, наша люди.
Скоро пришли к нам шесть хорошо вооруженных китайцев, красивые горбоносые маньчжуры с винтовками и большими ножами.
— Наша люди! — сказал мне еще раз Лувен и по-китайски тоже, показав на меня, наверно, то же и им про меня: «Наша люди».
Маньчжуры приветливо мне поклонились, и очень высокие люди, наклоняясь, один за другим вошли в наше маленькое жилище. Там они все сели в кружок, положили что-то на пол, что-то немного поделали и все сразу замерли в созерцании.
— Лувен, — сказал я потихоньку, — можно и мне посмотреть?
Лувен опять сказал по-китайски наши люди, маньчжуры все обернулись ко мне с величайшим почтением, раздвигаясь и приглашая меня тоже сесть и на что-то смотреть, как они.
Вот тут-то я и увидел впервые Жень-шень, корень жизни, и столь драгоценный и редкий, что для переноса его назначено было шесть сильных и хорошо вооруженных молодцов. Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание, и я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы: отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела, — мало ли в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необыкновенных фигур! Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни. Эти живые семь человек были последними из миллионов за тысячи лет, ушедших в землю, и все эти миллионы миллионов так же, как эти последние живые семь человек, верили в корень жизни, многие, может быть, созерцали его с таким же благоговением, многие пили его. Я не мог устоять против этого внушения веры, и как все равно на берегу морском отдавался на волю какого-то большого планетного времени, так точно теперь отдельные жизни человеческие были мне как волны, и все они ко мне, живому, катились, как к берегу, и как будто просили понимать силу корня не по себе самому, которого скоро тоже размоет, а в сроках планетного и, может быть, еще и дальнейшего времени. Впоследствии я узнал из ученых книг, что Жень-шень — это реликт из аралиевых, что общество окружавших его растений и животных в третичный период земли теперь неузнаваемо переменилось, и вот это знание не вытеснило во мне, как это часто бывает, волнения, внушенного верой людей: меня и теперь, при всем моем знании, по-прежнему волнует судьба этой травки, за десятки тысяч лет переменившей в обстановке раскаленный песок на снег, дождавшейся хвойных деревьев и среди них медведя...
После долгого созерцания маньчжуры вдруг все разом заговорили, заспорили, как я понял, о разных мельчайших подробностях в строении этого корня. Может быть, они спорили о том, что вот такая-то мочка лучше идет к корню мужскому и украшает его, а к корню женскому, напротив, она не идет, и не лучше ли осторожно совсем ее удалить. Таких вопросов могло быть великое множество, многие внезапно возникали и перебивали сложившееся суждение, возникал резкий спор. Но всякое такое столкновение мнений Лувен в конце концов с улыбкой разрешал, и с ним непременно все соглашались. Лувен теперь больше не вспыхивал, а ровно жил, царствовал, как царствует всякий, в совершенстве овладевший знанием своего предмета. Решению Лувена все беспрекословно подчинялись. Когда страсти совсем улеглись и началось спокойное обсуждение, я решился наконец спросить Лувена, о чем у них теперь идет разговор.
— Многа-многа лекарства, — ответил Лувен.
Значит, разговор теперь шел о деньгах, сколько могло стоить такое редчайшее сокровище. Лувен рассказал, что один бедный искатель корня Жень-шень нашел этот корень и был убит, а сокровищем завладел машинка, значит — мошенник, и один купеза, значит — купец, приехал на место прямо из Китая, дал много лекарства и нанял этих людей перенести корень. Но, конечно, купеза дал очень немного, а сколько корень стоит — этому нет и конца: каждый купеза будет перекупать и давать больше и тоже брать все больше и больше, потому что каждый купеза есть машинка.
— Чем же это кончится? — спросил я.
— Не кончится, — ответил Лувен. — Такой корень гуляй-гуляй. В таком корне многа-многа лекарства. Маленький люди, кто нашел его, спи-спи, а большой люди гуляй-гуляй.
Отдав драгоценный Гуляй-корень под охрану Лувена, маньчжуры улеглись на холодном камне и, вероятно, еще до рассвета ушли.
VI
Странный какой-то гул разбудил меня, очень похоже было на телеграфный столб, как гудит он в непогоду. Но какой же тут, в приморской тайге, может быть телеграфный столб? Я открыл глаза и увидел Лувена. Он тоже к чему-то прислушивался.
— Ходи, ходи! — сказал он. — Твоя Жень-шень расти будет, моя тебе покажи.
Он был одет, как искатели Жень-шеня из китайцев, во все синее, спереди был привешен для защиты от росы промасленный фартук, назади — барсучья шкурка, чтобы присесть и отдохнуть в сырой день, на голове коническая берестяная шапочка, в руке длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, у пояса нож, костяная палочка для выкапывания корня, мешочек с кремнем и огнивом. Синий цвет дабы, из которой сшиты рубашка и штаны, напомнил мне страшных людей, кто охоту на таких синих китайских искателей называет охотой за фазанами, а на корейцев в белом — охотой на белых лебедей.
— Что это, Лувен? — спросил я, указывая в ту сторону, откуда слышался гул, подобный гудению телеграфного столба в непогоду.
— Война! — без колебания ответил Лувен.
Мы высекли огонь. Я поднялся наверх и там в куче хлама нашел причину войны: там запуталась большая бабочка бражник и гудела при частых взмахах крыльев, как телеграфный столб. Это я показал китайцу, но он найденной причине не придал никакого значения и повторил:
— Такая гу-гу бывает к войне, война ходи будет.
Суеверие, неподвижный остаток каких-то отдаленных, быть может, когда-то живых верований, в моем понимании унижало человека не более, чем унижает иных непобедимая привычка к разным вещам мещанской цивилизации: внутри суеверий и привычек к определенного сорта помаде или формату писчей бумаги можно оставаться живым культурным человеком. Но в этот раз суеверие Лувена больно задело. «Разве газеты, — думал я, — а в наших условиях даже слухи от новоселов не в тысячи раз вернее говорят о войне, чем наши догадки по каким-то знамениям природы? И разве шелест жизни от крыльев бабочек у ночного костра сам по себе не меньше говорит о необъятности производящей силы земли, чем суеверное представление?» Раздумывая глубже о причинах особенной неприязни к суеверию в этот раз, я пришел к догадке о том, что легенда многомиллионного народа, существующая уже несколько тысяч лет о корне жизни, до того пленила меня, что я немного боялся проверки ее в личном опыте, безбоязненно применяемом мной ко всяким легендам.
Эта боязнь теперь переходила в раздражение от малейшего соприкосновения с суеверием.
Мы вышли из фанзы еще в полной темноте, направляясь распадком в сторону моря. Если бы даже и рассвело, мы ничего бы не видели от густого тумана, почти постоянного здесь в летнее время. Единственным светом, но только возле самого носа, был свет фонариков летающих светляков. И вот — сила наследственного суеверия: глядя на летающих светляков, я вспомнил о множестве умерших на поле сражения. Я вспомнил о них, как, умирая в муках, они отходили куда-то. «Не они ли это?» — спрашивал я себя, как дикарь. И, вспоминая иных из них, находил в себе ту самую сохраненную мной боль, которую принял от них по сочувствию, и так получилось, что они отошли и летают себе светлячками, а я с их болью остался и, может быть, бессознательно теперь в иных случаях поступаю именно под влиянием этой боли, сохраненной мною при потере друзей на войне. Но доброта Лувена такая, как будто он не случайно при виде летающих насекомых стал о чем-то догадываться, а раз навсегда догадался, всю эту боль принял и, связывая веру свою в лучшую жизнь с силой жизни корня Жень-шень, определил себя на помощь больным.
Так, глядя на летающих насекомых, я по-своему старался отделить и очистить легенду о корне жизни от мертвых и часто в современной жизни вредных суеверий, сохранившихся в нас от далекого прошлого. Летающие насекомые вдруг как-то исчезли, но казалось — это они после себя оставили ровный свет, и от этого света стали нам показываться разные предметы снизу, а не как бывает при рассвете в ясное утро: сначала видишь небо, и только долго спустя — им освещенные сверху предметы на земле. Мы были в горах, у самого моря, и нам скалы показывались из тумана черными фигурами. Я в них читал и прямо видел, как олень-цветок превращается в женщину, а Лувен тоже, наверно, догадывался о чем-то заветном своем. Это нам друг другу совсем не нужно было раскрывать, и оттого мы шли с ним молча, совсем ничем не стесняя друг друга. Во время рассвета холодок резким ознобом прошелся по телу, и через свое тело, слитое с миром в одном ощущении предрассветного холода, мне стало казаться, будто вся природа сейчас, скинув одежду, умывается. Мне показалось, что и Лувен об этом хотел сказать, когда вдруг остановил меня, сделал ладонями, будто он умывается, после чего развел руками в значении «везде, везде!» и сказал:
— Хоросё, хоросё, шибко хоросё!
Вскоре оказалось, это он так предсказывал о погоде: очень часто бывает в тихоокеанском приморье, что даже и очень густой туман внезапно переходит в невидимое состояние и воздух, хотя и насыщенный парами воды, становится совершенно прозрачным. Мы встретили восход солнца на высоком берегу, на тропе, в каких-то густых кустарниках, из которых иногда вылетали красивые монгольские, с белым колечком на шее, фазаны и зачем-то при взлете, случалось, оглядывались на нас и по-своему говорили: ко-ко-ко... Скоро я понял эти заросли, отчего они были такие низенькие и страшно плотные. Это море с тайфунами сотни лет било скалу и добилось все-таки жизни: в трещинах скал выросли разные цветы, а потом и дубки. Так море добилось жизни, но что это за жизнь была на первых порах! Те дубки, что поближе к морю, думать не смели хоть чуть-чуть поднять голову вверх, — они росли лежа, ползли тонкими стволами прочь от моря и очень были похожи на волосы, гладко причесанные. Но чем дальше мы отходили от моря, тем выше и выше поднимались дубки, хотя тоже до известного предела: начиная от высоты человеческого роста, все засыхали сверху, образуя сплетением нижних ветвей непроходимую чащу, очень пригодную для жизни фазанов в ту пору, когда молодых надо было охранять очень заботливо от покушений разных хищников.
Отступая от моря в глубину тайги, мы не сразу с ним расстались: мы то спускались, то опять поднимались, теряли и опять встречались с солнцем, как бы переживая новый восход; и так еще было, что берег моря, изрезанный бухтами, загроможденный камнями, проливчиками, давал для солнца все новые и новые ширмы, отчего каждый раз при новом восходе являлись нам все новые и новые фигуры. На последней скале, откуда открывался вид далеко в океан, росли необыкновенно фигурные погребальные сосны, похожие на японские зонтики и на пинии Средиземного моря. Они были такие ажурные, что, кажется, сколько бы их ни скопилось в одном месте, море через них все равно бы виднелось. Там мы с последней скалы через пинии даже простым глазом различали в море головы множества морских зверей.
В самой темной тайге можно бы разглядеть муравья, с добычей своей пересекающего тропинку, когда мы совсем расстались с морем и спустились в глубокую падь. Мы шли по тропе, лишенной всякой растительности, пробитой ногами изюбров, оленей, горалов и коз, а после приспособленной для себя человеком. С той тропы мы свернули в глубокий распадок с безыменным ключиком, постоянно исчезающим в завалах камней и дающим знать о себе оттуда только своей подземной болтовней. Тут, на камнях, едва видимая тропа пересекала ручей то в ту, то в другую сторону, но мы бросили эту неверную тропу и шли от бочага к бочагу, часто прыгая с камня на камень. Лувен часто указывал мне и просил запомнить то отметину на коре бархатного дерева, то залом на колючей аралии, то кусочек моха, вложенный в дупло тополя, все эти знаки были не для каких-нибудь случайных путников, звероловов, охотников и каких бы то ни было таежных добытчиков, — все это было сигналом для других искателей корня жизни: путь этот обыскан, и незачем им тут трудиться. Но этот же путь вел к моему собственному корню жизни, и Лувен показывал мне приметы, чтобы я, неопытный еще в корневании, сам бы мог потом найти без его помощи.
— Что делать, — спросил я, — если тайфун вырвет этот мох из дупла или весенний поток унесет замеченное бархатное дерево, или вот эта щека распадется и завалит весь путь наш камнями?
— Нада иметь чистая совесть в голове, — ответил Лувен.
Я понял, что он говорит о смекалке, и показал ему на щеки распадка, на деревья и травы; все завалит, и никакая смекалка уже не поможет.
— Пропал-пропал голова! — сказал я.
— Голова не нада, — ответил Лувен, — пропал голова, вот где голова.
Он показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где все уже измято и растоптано. А если чистая совесть есть, то никакой завал не испортит пути.
Мало-помалу высокие щеки распадка стали снижаться, и мы подошли к небольшой впадине с болотцем, из которого и выходил ручеек, создавший этот глубокий распадок в скалах. Отсюда, с перевала в широкой долине, начинались величественные кедры, настолько редкие и с таким низким подлеском, что можно было между их стволами проглядывать очень далеко вниз и догадываться по солнечным зайчикам, по мелькающим силуэтам и теням крыльев о какой-то особенно богатой жизни этой Певчей долины: множество разных мелких певчих птиц распевало среди разных деревьев; тут были тополя не менее как по триста лет, иногда подслеповатые, сгорбленные, узловатые, с дуплами, в которые постоянно зимой ложились медведи; были гигантские липы, высокоствольные ильмы и пробковое дерево.
Певчая долина с гигантскими деревьями, достаточно редкими, чтобы обеспечить светом богатую жизнь подлеска, была так прекрасна, что мысль о чистой совести, необходимой для верного поиска корня жизни, являлась сама собой. Направляясь вперед, мы скоро пересекли Певчую долину в северо-западном направлении, и вдруг перед нами открылась древняя речная терраса, нисходящая в другую долину, покрытую другой растительностью: среди коренастых стволов осокоря тут были черная береза, ель, пихта, граб, мелколиственный клен, и дальше, когда мы прошли этот густой лес, перевитый лианами лимонника и винограда, в третий раз переменилась растительность на берегу какого-то неизвестного ручья: тут вперемежку с широколиственными ореховыми деревьями были только изредка кедры: редкие крупные деревья утопали в густейших зарослях крушинника, бузины, черемухи, дикой яблони, под сенью которых, среди буйных тенелюбивых трав, где-то и надо было искать корень жизни Жень-шень.
Мы тут отдыхали с Лувеном и долго молчали. Что было в тишине при нашем долгом молчании? Бесчисленное множество, неслыханное, невообразимое число кузнечиков, сверчков, цикад и других музыкантов устраивали, все время играя, эту тишину: их совсем не слышишь, если найдешь в себе равновесие для свободной и спокойной мысли. А может быть, все эти бесчисленные музыканты именно своей музыкой так делают, что сам по-своему принимаешь в ней участие, перестаешь их замечать, и оттого начинается какая-то настоящая, необыкновенная, живая, творческая тишина. И еще тут где-то ручей бежит, тоже, кажется, молча; но если ход спокойной мысли от какого-нибудь нечаянного воспоминания оборвется и невозможное желание кому-то близкому что-то сказать вырвется даже сильно сдержанным стоном, то вдруг из этого ручья, бегущего, вероятно, по камням, быстро вырвется: «Говорите, говорите, говорите». И тогда все неслышимые музыканты, многомиллионные, бесчисленные, все вдруг с ручьем заодно играют: «Говорите, говорите, говорите!»
И мы заговорили с Лувеном о какой-то птице, стерегущей корень жизни Жень-шень. Я догадываюсь, что говорил Лувен об одном из трех видов кукушек, населяющих этот край: будто бы эта небольшая, черного цвета кукушица стережет корень жизни и видеть ее может только тот, кто увидел своими глазами корень жизни и успел в это мгновение воткнуть возле него свою палку. Так очень часто бывает, постоянно будто бы случается с искателями корня, что вот только увидел сокровище — и уже нет его: Женьшень в один миг превращается в какое-нибудь другое растение или животное. Но если ты, завидев его, успел воткнуть палку, он больше от тебя никуда не уйдет. Нам, однако, теперь нечего и беспокоиться: этот корень был найден тому назад уже двадцать лет, тогда он был очень молод и оставлен расти еще на десять лет. Но случилось, изюбр, проходя этим местом, наступил на головку Женьшеня, и он от этого замер. Недавно он снова начал расти и лет через пятнадцать будет готов.
— Ты сейчас бегай-бегай, — сказал Лувен, — а тогда понимай.
Мы помолчали. Я в этом молчании силился представить себе, что будет со мной через пятнадцать лет, и мне представилась встреча. Прошло ведь пятнадцать лет раздельной жизни, мы едва-едва и со страхом узнали друг друга, стоим, смотрим растерянно и ничего не можем друг другу сказать.
Ох! и больно же стало! Но как только вырвался «ох!» — вдруг из ручья:
— Говорите, говорите, говорите!
А вслед за тем все музыканты и все существа Певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина вдруг раскрылась и позвала:
— Говорите, говорите, говорите!
— Через пятнадцать лет, — сказал Лувен, — ты молодой человек и твой мадама молодой.
После того мы встали, по стволу дикой яблони, склоненному над ручьем, перешли на тот берег, и там скоро среди разнотравья Лувен стал на колени и, сложив руки ладонями, долго стоял. Я был так взволнован, что невольно опустился с ним рядом, представляя себе, будто стою где-то у самого источника творческих сил. Мысль моя, согласованная с ударами сердца, была совершенно ясна, и сердце билось согласно всей музыке тишины. Но скоро сам собой наступил срок: Лувен раскрыл травы — и я увидал... Было несколько листиков, похожих на человеческие ладони с пятью вытянутыми пальцами, на невысоком и тонком стебельке. Для такого нежного растения был опасен не только изюбр со своим грубым копытом, но даже и муравей, если бы ему зачем-нибудь понадобилось, мог бы в короткое время еще на множество лет остановить эту жизнь. Сколько же случайностей за пятнадцать лет грозили этому растению и жизни моей!
На прощанье Лувен указал мне зарубку на стволе кедра; от этого кедра до корня был ровно локоть, и с другой стороны, от ствола бархатного дерева, был локоть, с третьей стороны зарублен был дуб, и с четвертой — акация.
VII
Раз я вышел в тайгу попытать свое счастье в пантовке: так называется охота на самцов пятнистых оленей, или изюбров, когда их рога — панты — налитые кровью, уже достаточно отросли, но еще не окостенели. Эта охота чрезвычайно добычлива, есть панты ценою более тысячи золотых иен. В то время как охотники начинают добывать панты, самки уже выводят своих маленьких на пóкати гор, но самцы редко показываются и держатся на северных склонах — в сиверах, прячутся в кустарниках, стоят часто очень долгое время неподвижно, вероятно, из опасения потревожить чувствительные ко всякому прикосновению панты. Туманная гора, куда я шел в тот раз, почти вся была открыта, и только самая вершина ее черная расплывалась в тумане. Гора эта с трех сторон окружена морем, очень похожа на погасший вулкан и, вероятно, была им не очень давно: не раз на берегу бухты находил я пемзу. Гора была, конечно, сильно размыта и со всех сторон на боках прорезана глубокими падями и распадками. В этих падях, конечно, и укрывалось и зверье, и особенная реликтовая растительность, и все эти драгоценные для охотника пади сходились наверху почти в одну точку, и вся гора была узлом этих богатых и зверьем и растительностью падей. Теперь я шел берегом моря на юго-запад, куда выходили три красивейшие пади Туманной горы — Голубая, Запретная и Барсова. В глубине каждой из них бежит ручей, создатель самой пади от верху и до низу; по ручью внизу, под укрытием от всех ветров, кроме южного с моря, сохраняются драгоценные реликты отдаленных эпох; а наверху, на ребрах падей, задорно играя с тайфунами, красуются погребальные сосны. С берега моря левой стороной Голубой пади я поднялся на самый верх Туманной горы и тихо шел по кряжу, как тигры ходят и барсы [3], чтобы сверху им все видеть по сторонам. Там и тут, и в Голубой пади и в Запретной, я видел оленей, но все это были ланки с маленькими, по две, по три; иногда среди них был саёк, годовалый самец с тоненькими рожками-шпильками. Вдруг в глубине пади, которую после я стал называть Барсовой, мне послышались крик, стон и храп. С хребта я бежал туда по россыпи очень быстро, стараясь не шевелить и не ронять камней, перескочил в кусты, начал скрадывать и скоро увидел против себя, на той стороне пади, через кусты, какого-то желтого зверя. Он почуял меня и нехотя, ленивой рысцой побежал наверх, то показываясь, то исчезая в дубовых кустарниках. Я ожидал, пока он откроется весь в россыпях, но там он залег, как это умеют делать хищники из породы кошек: из-за камней виднелись только глаза. На таком расстоянии эта цель закрывалась мушкой, и невозможно было убить. Я поспешил тогда перебраться на ту сторону пади, посмотреть, какая же это жертва попалась желтому зверю. Чтобы не сбиться, я наметил себе вехой особенной формы пинию. Под самым этим деревом на весу лежал громадный камень, кажется, — тронуть — и полетит вниз, сшибая по пути все, что ни попадется. Думалось, вот за этим именно камнем и была кровавая расправа. Мне пришлось туда добираться на вытянутых руках, хватаясь за молодые пинии. Я не ошибся: за камнем я увидел распростертого пантача с роскошными и, к счастью, совсем не поврежденными пантами. Я не раз слышал от Лувена, что ценность пантов зависит не так от массы их, как от формы, и самое главное в форме — это полная согласованность правой и левой стороны. Кажется, это не суеверие и не прихоть моды: при малейшем повреждении какой-нибудь стороны животного соответственно с этим по-разному развиваются отростки на той и на другой стороне, и, значит, если лекарственная сила пантов зависит от здоровья животного, то об этом отчасти можно судить по форме пантов.
Я наломал как можно больше лапнику с горных пиний, укрыл оленя от проникающих сюда лучей солнца, а сам пошел выслеживать леопарда. Камень, под которым спрятался зверь, был похож на громадного орла. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень и стал осторожно скрадывать, каждое мгновенье готовый схватить зверя на мушку. Но барса под камнем больше уж не было. Тогда я по кряжу обошел все плато, бывшее когда-то, может быть, кратером вулкана, — нигде барса не было. Я сел отдохнуть возле одной необыкновенно ровной, как будто отполированной плиты горного сланца, и когда смотрел на нее против солнца, то заметил на пыли, покрывавшей плиту, намек на отпечаток мягкой лапы красивого зверя. Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких: леопард проходил по этой плите. Конечно, мне было известно, что тигры и леопарды ходят по хребтам, и наблюдение следа на плите мне еще ничего не давало теперь: прошел куда-нибудь и скрылся в камнях, найти без следов невозможно. Тогда я перевел глаза на красивый мыс у подножья Туманной горы и стал разглядывать его скалы, украшенные точно такими же красивыми и задорными соснами, как и все ребра южных падей. Я мог отсюда разглядеть, что на этом узком мысу, покрытом низкой, но любимой оленями травой, паслась ланка, и возле нее в тени куста лежал желтый кружок, можно было догадаться о нем: олененок. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь дохватить и попасть в недоступные темно-зеленые пинии, поднялся орел, взвился высоко над мысом, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока, наконец, острое копытце не попало в него. Смятый орел с трудом справился в воздухе и полетел обратно в пинии, где у него, вероятно, и было гнездо. Было время около полудня, становилось жарко; в этот час олени с открытых пастбищ переходят до вечера в места постоянного своего пребывания, прячутся в распадках среди тенистых деревьев. Вот и эта ланка, единственная на мысу, подняла своего олененка и повела его с мыса Орлиное Гнездо прямо к тому самому распадку, где укрывалась наша фанза. Я почти не сомневался, что это была Хуа-лу, и вот какие разные чувства вдруг разом вспыхнули во мне, сменяясь, как свет и тени на бегущих внизу волнах океана! Но вдруг эти чувства мои были перебиты мыслью, определившей потом всю мою деятельность в этом краю. «Мыс Орлиное Гнездо, — думал я, — не имеет никакого выхода для оленя, кроме узенького, в какие-нибудь сто метров, перешейка, и если этот перешеек заградить частоколом, то оленю останется единственный выход — броситься с отвесной высоты в море и вплавь достигнуть берега. Но и это был бы тоже не выход: внизу то показываются
