автордың кітабын онлайн тегін оқу Джарылгач (сборник)
Борис Степанович Житков
Джарылгач
Рассказы и повести
Пудя
Теперь я большой, а тогда мы с сестрой были еще маленькие.
Вот раз приходит к отцу какой-то важный гражданин.
Страшно важный. Особенно шуба. Мы подглядывали в щелку, пока он в прихожей раздевался. Как распахнул шубу, а там желтый пушистый мех и по меху все хвостики, хвостики… Черноватенькие хвостики. Как будто из меха растут. Отец раскрыл в столовую двери:
— Пожалуйста, прошу.
Важный — весь в черном, и сапоги начищены. Прошел, и двери заперли.
Мы выкрались из своей комнаты, подошли на цыпочках к вешалке и гладим шубу. Щупаем хвостики. В это время приходит Яшка, соседний мальчишка, рыжий. Как был: в валенках вперся и в башлыке.
— Вы что делаете?
Таня держит хвостик и спрашивает тихо:
— А как по-твоему: растет так из меху хвостик или потом приделано?
А Рыжий орет как во дворе:
— А чего? Возьми да попробуй.
Таня говорит:
— Тише, дурак: там один важный пришел.
Рыжий не унимается:
— А что такое? Говорить нельзя? Я не ругаюсь.
С валенок снег не сбил и следит мокрым.
— Возьми да потяни, и будет видать. Дура какая! Видать бабу… Вот он так сейчас, — и Рыжий кивнул мне и мигнул лихо.
Я сказал:
— Ну да, баба, — и дернул за хвостик. Не очень сильно потянул: только начал. А хвостик — пак! и оторвался.
Танька ахнула и руки сложила. А Рыжий стал кричать:
— Оторвал! Оторвал!
Я стал совать скорей этот хвостик назад в мех: думал, как-нибудь да пристанет. Он упал и лег на пол. Такой пушистенький лежит. Я схватил его, и мы все побежали к нам в комнату. Танька говорит:
— Я пойду к маме, реветь буду, — ничего, может, и не будет.
Я говорю:
— Дура, не смей! Не говори. Никому не смей!
Рыжий смеется, проклятый. Я сую хвостик ему в руку:
— Возьми, возьми, ты же говорил…
Он руку отдернул:
— Что ж, что говорил! А рвал-то не я! Мне какое дело!
Потер варежкой нос — и к двери.
Я Таньке говорю:
— Не смей реветь, не смей! А то сейчас спрашивать начнут, и все пропало.
Она говорит и вот-вот заревет:
— Пойдем посмотрим, может быть, незаметно? Вдруг незаметно?
Я держал хвостик в кулаке. Мы пошли к вешалке. И вот все ровно-ровно идут хвостики, довольно густовато, а тут пропуск, пусто. Видно, сразу видно, что не хватает.
Я вдруг говорю:
— Я знаю: приклеим.
А клей у папы на письменном столе, и если будешь брать, то непременно спросят: зачем? А потом, там в кабинете сидит этот важный, и входить нельзя.
Танька говорит:
— Запрячем, лучше запрячем, только скорей! Подальше, в игрушки.
У Таньки были куклы, кукольные кроватки. Нет, туда нельзя. И я засунул хвостик в поломанный паровоз, в середину.
Мы взялись за кукол и очень примерно играли в гости, как будто бы на нас все время кто смотрит, а мы показываем, как мы хорошо играем.
В это время слышим голоса. Важный гудит басом. И вот уж они в прихожей, и горничная Фрося затопала мимо и говорит скоренько:
— Сейчас, сейчас шубу подам.
Мы так с куклами и замерли, еле руками шевелим.
Таня дрожит и бормочет за куклу:
— Здравствуйте! Как вы поживаете? Сколько вам лет? Как вы поживаете? Сколько вам лет?
Вдруг дверь к нам отворяется: отец распахнул.
— А вот это, — говорит, — мои сорванцы.
Важный стоит в дверях, черная борода круглая, мелким барашком, и улыбается толстым лицом:
— А, молодое поколение!
Ну, как все говорят.
А за ним стоит Фроська и держит шубу нараспашку. Отец нахмурился, мотнул нам головой. Танька сделала кривой реверанс, а я что было силы шаркнул ножкой.
— Играете? — сказал важный и вступил в комнату. Присел на корточки, взял куклу. И я вижу, в дверях дура Фроська стоит и растянула шубу, как будто нарочно распялила и показывает. И это пустое место без хвостика так и светит. Важный взял куклу и спрашивает:
— А эту барышню как же зовут?
Мы оба крикнули в один голос:
— Варя!
Важный засмеялся:
— Дружно живете.
И видит вдруг у Таньки слезы на глазах.
— Ничего, ничего, — говорит, — я не испорчу.
И скорей подал пальчиками куклу. Поднялся и потрепал Таню по спине. Он пошел прямо к шубе, но смотрел на отца и не глядя стал попадать в рукава. Запахнул шубу; Фроська подсовывает глубокие калоши.
Не может быть, чтобы отец не заметил. Но отец очень веселый вошел к нам и сказал смеясь:
— Зачем же конем таким?
И представил, как я шаркнул.
В этот день мы с Танькой про хвостик не говорили. Только когда пили вечером чай, то все переглядывались через стол, и оба знали, что про хвостик. Я даже раз, когда никто не глядел, обвел пальцем по скатерти, как будто хвостик. Танька видела и сейчас же уткнулась в чашку.
Потом мне стало весело. Я поймал Ребика, нашу собаку, зажал его хвост в кулак, чтоб из руки торчал только кончик, и показал Таньке. Она замахала руками и убежала.
На другой день, как проснулся, вспомнил сейчас же хвостик. И стало страшно: а ну как важный только для важности в гостях и не глядит даже на шубу, а дома-то небось каждый хвостик переглаживает? Даже, наверно, наизусть знает, сколько их счетом. Гладит и считает: раз, два, три, четыре… Вскочил с постели, подбежал к Таньке и шепчу ей под одеяло в самое ухо:
— Он, наверное, дома пересчитает хвостики и узнает. И пришлет сюда человека с письмом. А то сам приедет.
Танька вскочила и шепчет:
— Чего ж там считать, и так видно: вот какая пустота! — и обвела пальцем в воздухе большой круг.
Мы на весь день притихли и от каждого звонка прятались в детскую и у дверей слушали: кто это, не за хвостиком ли?
Несколько дней мы так боялись.
А потом я говорю Таньке:
— Давай посмотрим.
Как раз никого в квартире не было, кроме Фроськи. Заперли двери, и я тихонько вытянул из паровоза хвостик. Я и забыл, какой он хорошенький, пушистенький.
Таня положила его к себе на колени и гладит.
— Пудя какой, — говорит. — Это собачка кукольная.
И верно. Хвостик в паровозе загнулся, и совсем будто собачка свернулась и лежит с пушистым хвостом.
Мы сейчас же положили его на кукольный диван, примерили. Ну, замечательно!
Танька закричала:
— Брысь, брысь сейчас! Не место собакам на диване валяться! — и скинула Пудю. А я его Варьке на кровать.
А Танька:
— Кыш, кыш! Вон, Пудька! Блох напустишь…
Потом посадили Пудю Варьке на колени и любовались издали: совсем девочка с собачкой.
Я сейчас же сделал Пуде из тесемочки ошейник, и получилось совсем как мордочка. За ошейник привязали Пудю на веревочку и к Варькиной руке. И Варьку водили по полу гулять с собачкой.
Танька кричала:
— Пудька, тубо!
Я сказал, что склею из бумажек Пуде намордничек.
У нас была большая коробка от гильз. Сделали в ней дырку, Танька намостила тряпок, и туда посадили Пудю, как в будку. Когда папа позвонил, мы спрятали коробку в игрушки. Забросали всяким хламом. Приходил к нам Яшка Рыжий, и мы клали Пудю Ребику на спину и возили по комнате — играли в цирк. А раз, когда Рыжий уходил, он нарочно при всех стал в сенях чмокать и звать:
— Пудя! Пудька! — И хлопал себя по валенку.
Прибежал Ребик, а Яшка при папе нарочно кричит:
— Да не тебя, дурак, а Пудю. Пудька! Пудька!
Папа нахмурился:
— Какой еще Пудька там? — И осматривается.
Я сделал Яшке рожу, чтобы уходил. А он мигнул и язык высунул. Ушел все-таки.
Мы с Таней сговорились, что с таким доносчиком не будем играть и водиться не будем. Пусть придет — мы в своей комнате запремся и не пустим. Я забил сейчас же гвоздь в притолоку, чтобы завязывать веревкой ручку. Я завязал, а Таня попробовала из прихожей. Здорово держит. Потом Танька запиралась, а я ломился: никак не открыть. Как на замке. Радовались, ждали — пусть только Рыжий придет.
Я Пуде ниточкой замотал около кончика, чтобы хвостик отделялся. Мы с Таней думали, как сделать ножки, — тогда совсем будет живой.
А Рыжий на другой же день пришел. Танька прибежала в комнату и шепотом кричит:
— Пришел, пришел!
Мы вдвоем дверь захлопнули, как из пушки, и сейчас же на веревочку.
Вот он идет… Толкнулся… Ага! Не тут-то было. Он опять.
— Эй, пустите, чего вы?
Мы нарочно молчим. Он давай кулаками дубасить в дверь:
— Отворяй, Танька!
И так стал орать, что пришла мама.
— Что у вас тут такое?
Рыжий говорит:
— Не пускают, черти!
— А коли черти, — говорит мама, — так зачем же ты к чертям ломишься?
— А мне и не их вовсе надо, — говорит Рыжий, — я Пудю хочу посмотреть.
— Что? — мама спрашивает. — Пудю? Какого такого?
Я стал скорей отматывать веревку и раскрыл дверь.
— Ничего, — кричу, — мама, это мы так играем! Мы в Пудю играем. У нас игра, мама, такая…
— Так орать-то на весь дом зачем? — И ушла.
Рыжий говорит:
— А, вы, дьяволы, вот как? Запираться? А я вот сейчас пойду всем расскажу, что вы хвостик оторвали. Человек пришел к отцу в гости. Может, даже по делу какому. Повесил шубу, как у людей, а они рвать, как собаки. Воры!
— А кто говорил: «Дерни, дерни»?
— Никто ничего и не говорил вовсе, а если каждый раз по хвостику да по хвостику, так всю шубу выщипаете.
Танька чуть не ревет.
— Тише, — говорит, — Яша, тише!
— Чего тише? — кричит Рыжий. — Чего мне тише? Я не вор. Пойду и скажу.
Я схватил его за рукав.
— Яша, — говорю, — я тебе паровоз дам. Это ничего, что крышка отстала. Он ходит полным ходом, ты же знаешь.
— Всякий хлам мне суешь, — заворчал Рыжий.
Но хорошо, что кричать-то перестал. Потом поднял с пола паровоз.
— Колесо, — говорит, — проволокой замотал и тычешь мне.
Посопел, посопел…
— С вагоном, — говорит, — возьму, а так — на черта мне этот лом!
Я ему в бумагу замотал и паровоз и вагон, и он сейчас же ушел через кухню, а в дверях обернулся и крикнул:
— Все равно скажу, хвостодёры!
Потом мы с Таней гладили Пудю и положили его спать с Варькой под одеяло. Танька говорит:
— Чтоб ему теплей было.
Я сказал Таньке, что Рыжий все равно обещал сказать. И мы все думали, как нам сделать. И вот что выдумали.
Самое лучшее попасть бы в такое время, когда папа будет веселый, — после обеда, что ли. Положить Пудю на платочек на носовой, взять за четыре конца и войти в столовую каким-нибудь смешным вывертом. И петь что-нибудь смешное при этом. Как-нибудь:
Пудю несем,
Пахнем гусем.
И еще там что-нибудь.
Все засмеются, а мы еще больше запоем — и к папе. Папа: «Что это вы, дураки?» — и засмеется. А тут мы как-нибудь кривульно расскажем, и все сойдет. Папе, наверно, даже жалко будет отбирать от нас Пудю.
Или вот еще: на Ребика положим и вывезем. И тоже смешное будем петь. Рыжий придет ябедничать, а все уж и без него знают, и ничего не было. Запремся, как тогда, и пускай скандалит. Мама его за ухо выведет, вот и все.
Я еще в кровати думал, что я устрою Яшке Рыжему.
Утром мы все пили чай. Вдруг вбегает Ребик, рычит и что-то в зубах треплет.
Папа бросился к нему:
— Опять что-нибудь! Тубо, тубо! Дай сюда!
А я сразу понял — что, и в животе похолодело.
Папа держит замусоленный хвостик и, нахмурясь, говорит:
— Что это? Откуда такое?
Мама поспешила, взяла осторожно пальчиками. Ребик визжит, подскакивает, хочет схватить.
— Тубо! — крикнул папа и толкнул Ребика ногой. Поднесли к окну, и вдруг мама говорит:
— Это хвостик. Это от шубы.
Папа вдруг как будто задохнулся сразу и как крикнет:
— Это черт знает что такое!..
Я вздрогнул. А Танька всхлипнула — она с булкой во рту сидела. Папа затопал к Ребику.
— Эту собаку убить надо! Это дьявол какой-то!
Ребик под диван забился.
— Раз уж пришлось за штаны платить… Ах ты, дрянь эдакая! Теперь шубы, за шубы взялся!..
И папа вытянул за ошейник Ребика из-под дивана. Ребик выл и корчился. Знал, что сейчас будут бить. Танька стала реветь в голос. А отец кричит мне:
— Принеси ремень! Моментально!
Я бросился со стула, совался по комнатам.
— Моментально! — заорал отец на всю квартиру злым голосом. — Да свой сними, болван! Живо!
Я снял пояс и подал отцу. И папа стал изо всей силы драть ремнем Ребика. Танька выбежала. Папа тычет Ребика носом в хвостик — он на полу валялся — и бьет, бьет:
— Шубы рвать! Шубы рвать! Я те дам шубы рвать!
Я даже не слыхал, что еще там папа говорил, — так орал Ребик, будто с него с живого шкуру сдирают. Я думал, вот умрет сейчас. Фроська в дверях стояла, ахала.
Мама только вскрикивала:
— Оставь! Убьешь! Николай, убьешь! — Но сунуться боялась.
— Веревку! — крикнул папа. — Афросинья, веревку!
— Не надо, не надо, — говорит Фроська.
Папа как крикнет:
— Моментально!
Фроська бросилась и принесла бельевую веревку.
Я думал, что папа сейчас станет душить Ребика веревкой. Но папа потащил его к окну и привязал за ошейник к оконной задвижке. Потом поднял хвостик, привязал его за шнурок от штор и перекинул через оконную ручку.
— Пусть видит, дрянь, за что драли. Не кормить, не отвязывать.
Папа был весь красный и запыхался.
— Эту дрянь нельзя в доме держать. Собачникам отдам сегодня же! — И пошел мыть руки. Глянул на часы. — А, черт! Как я опоздал! — И побежал в прихожую.
Пудю Ребик всего заслюнявил, он был мокрый и взъерошенный, и как раз поперек живота туго перехватил его папа шнурком. Он висел вниз головой, потому что видно было сверху перехват хвостика, который я там намотал из ниток. Если б отец тогда хорошенько разглядел, так увидал бы все и догадался бы, что все это не без нас. Да и теперь все равно могут увидеть. Как станут важному назад отсылать хвостик, начнут его чистить — вдруг нитки. Откуда нитки? А уж Ребика все равно побили…
Я сказал Таньке, чтобы украла у мамы маленькие ногтяные ножнички, улучил время, влез на подоконник и тихонько ножничками обрезал нитки. Все-таки осталось вроде шейки, и я распушил там шерсть, чтоб ничего не было заметно.
Ребик подвывал, подрагивал и все лизал задние лапы. Мы с Танькой сели к нему на пол и все его ласкали. Танька приговаривает:
— Ребинька, миленький, били тебя! Бедная моя собака! — Стала реветь. И я потом заревел.
— Отдадут, — говорю, — собачникам. Папа сказал, что отдаст. На живодерню.
И представилось, как придет собачник, накинет Ребичке петлю на шею и потянет. Как ни упирайся, все равно потянет. А потом так, на петле, с размаху — брык в фургон со всей силы. А там на живодерне будут резать. Для чего-то там живых режут, мне говорили.
Потом мы у Фроськи выпросили мяса, — Танька под юбкой мимо мамы пронесла, — и скормили Ребику. А зачем ему есть? Ведь так только, все равно на живодерню.
И мы с Танькой говорили:
— Мы за тебя просить будем, мы на коленки станем и будем плакать, чтоб папа не отдавал.
И это все потому, что Танька выдумала к Варьке подложить Пудю. А Варькина кровать стояла на полу, в углу, на бумажном коврике. Вот Ребик и нанюхал Пудю.
Принесли мы ему пить. Он лакнул два раза и бросил. Танька заревела:
— Он чует, чует!
А я стал ей про живодерню рассказывать. Я сам не знал, а так прямо говорю:
— Двое держат, а один режет. — И показал на Ребике рукой, как режут.
Танька залилась.
— Я скажу, я скажу, что мы!.. Скажем… Хоть на коленки станем, а скажем.
И все ревет, ревет… Я сказал:
— Скажем, скажем. Только чтоб Ребика не отдавали. Не дадим.
И мы так схватились за Ребика, что он взвизгнул.
А время обеда приближалось, и вот уж скоро должен прийти папа со службы. Мама вернулась из города с покупками.
— Не сидите на грязном полу. И не возитесь с собакой — блох напустит.
Мы встали и уселись на подоконнике над Ребичкой и все смотрели на дверь в прихожую. Решили, как папа придет, сейчас же просить, а то потом не выйдет. Таньку послали мыть заплаканную морду. Она скоро: раз-два, и сейчас же прибежала и села на место. Я тихонько гладил Ребика ногой, а Танька не доставала. На стол уже накрыли, свет зажгли и шторы спустили. Только на нашем окне оставили: на шнурке папа повесил Пудю, и никто не смел тронуть.
Позвонили. Мы знали, что папа. У меня сердце забилось. Я говорю Таньке:
— Как войдет, сейчас же на пол, на колени, и будем говорить. Только вместе, смотри. А не я один. Говори: «Папа, прости Ребика, это мы сделали!»
Пока я ее учил, уж слышу голоса в прихожей, очень веселые, и сейчас же входит важный, а за ним папа.
Важный сделал шаг и стал улыбаться и кланяться. Мама к нему спешила навстречу. Я не знал, как же при важном — и вдруг на колени? И глянул на Таньку. Она моментально прыг с подоконника, и сразу бац на коленки, и сейчас же в пол головой, вот как старухи молятся. Я соскочил, но никак не мог стать на колени. Все глядят, папа брови поднял.
Танька одним духом, скороговоркой:
— Папа, прости Ребика, это мы сделали!
И я тогда скорей сказал за ней:
— Это мы сделали.
Все подошли:
— Что, что такое?
А папа улыбается, будто не знает даже, в чем дело.
Танька все на коленках и говорит скоро-скоро:
— Папочка, миленький, Ребичка миленького, пожалуйста, миленький, миленького Ребичка… не надо резать…
Папа взял ее под мышки:
— Встань, встань, дурашка!
А Танька уже ревет — страшная рева! — и говорит важному:
— Это мы у вас хвостик оторвали, а не Ребик вовсе.
Важный засмеялся и оглядывается себе за спину:
— Разве у меня хвост был? Ну вот спасибо, если оторвали.
— Да видите ли, в чем дело, — говорит папа, и все очень весело, как при гостях: — собака вдруг притаскивает вот это, — и показывает на Пудю. И стал рассказывать.
Я говорю:
— Это мы, мы!
— Это они собаку выгораживают, — говорит мама.
— Ах, милые! — говорит важный и наклонился к Таньке.
Я говорю:
— Вот ей-богу — мы! Я оторвал. Сам.
Отец вдруг нахмурился и постучал пальцем по столу:
— Зачем врешь и еще божишься?
— Я даже хвостик ему устроил, я сейчас покажу. Я там нитками замотал.
Сунулся к окну и назад: я вспомнил, что нитки я обрезал.
Отец:
— Покажи, покажи. Моментально!
Важный тоже сделал серьезное лицо. Как хорошо было, все бы прошло. Теперь из-за ниток этих…
— Яшка, — говорю я, — Яшка Рыжий видел, — и чуть не плачу.
А папа крикнул:
— Без всяких Яшек, пожалуйста! Достать! Моментально! — И показал пальцем на Пудю.
Важный уже повернулся боком и стал смотреть на картину. Руки за спину.
Я полез на окно и рвал и кусал зубами узел. А папа кричал:
— Моментально! — и держал палец.
Таньку мама уткнула в юбку, чтоб не ревела на весь дом.
Я снял Пудю и подал папе.
— Простите, — вдруг обернулся важный, — да от моей ли еще шубы? — И стал вертеть в пальцах Пудю.
— Позвольте, это что же? Что тут за тесемочки?
— Намордничек! — крикнула Танька из маминой юбки.
— Ну вот и ладно! — крикнул важный, засмеялся и схватил Таньку под мышки и стал кружить по полу:
— Тра-бам-бам! Трум-бум-бум!
— Ну, давайте обедать, — сказала мама.
Уж сколько тут реву было!..
— Отвяжи собаку, — сказал папа.
Я отвязал Ребика. Папа взял кусок хлеба и бросил Ребику:
— Пиль!
Но Ребик отскочил, будто в него камнем кинули, поджал хвост и, согнувшись, побежал в кухню.
— Умой поди свою физию, — сказала мама Таньке, и все сели обедать.
Важный Пудю подарил нам, и он у нас долго жил. Я приделал ему ножки из спичек. А Яшке, когда мы играли в снежки, мы с Танькой набили за ворот снегу.
Пусть знает!
Веселый купец
Жил-был моряк Антоний. У него был свой собственный двухмачтовый корабль. Антоний был итальянец, и корабль его ходил по всем морям. Корабли у других хозяев назывались важно. То «Святой Николай», то «Город Генуя» или «Король Филипп», а Антоний назвал свой корабль «Не Горюй».
Бывало, нет в море ветру, стоит корабль. Всем досадно. Антоний глянет на паруса и скажет весело:
— Стоит «Не Горюй»!
Раз положило ветром корабль совсем боком, все перепугались, Антоний как крикнет:
— Лежит «Не Горюй»!
У всех и страх прошел, и побежали матросы на мачты убирать паруса. И все говорили:
— Разобьет нас о камни, все равно капитан крикнет свое: «Пропал „Не Горюй“!»
А надо сказать, что везло Антонию во всем: стоят корабли в гавани, везти нечего, хозяева злые по берегу ходят. А гляди — Антоний наберет всякой дребедени и чуть не по самую палубу загрузит корабль.
— Мне всегда счастье будет, — говорил Антоний. — Имя у меня такое — все Антонии счастливые. А которые несчастные Антонии, так это значит дураки. Дурака как ни назови, все равно за борт свалится.
Все к Антонию служить набивались. Понятное дело: коли хозяину везет, значит и матросам больше перепадает. Да и весело у веселого служить. Так все в порту и звали Антония — Веселый Купец.
Стоял Антоний со своим кораблем в речном порту. И как назло уж вовсе никакого грузу нельзя было достать. Антоний по городу бегает — нечего везти. Пришел в порт, дымит трубочкой, торопится по пристани. А с других кораблей хозяева поглядывают, подмигивают, локтем соседей подталкивают — кивают на Антония.
— Кажись, невеселый идет.
Один крикнул:
— Эй, Антоний! Грузу-то много ли?
Антоний стал, обернулся и крикнул, чтобы всем было слыхать:
— Полон корабль, по самую палубу загрузим. Завтра в море ухожу.
А ему рукой машут — врешь, значит, хвастаешь.
А к вечеру едут в порт подводы одна за другой, вереницей, еле лошади тянут. И все к Антонию. Повыскакивали с кораблей на берег люди, щупают на ходу, что в мешках. Смешное какое-то: крупа не крупа. Один и ткнул ножом, — а из мешка песок.
И все стали кричать:
— Песок! Песок! Вот дурак, с реки песок в море возит!
Антоний только на матросов покрикивает:
— Грузи «Не Горюй» под самую палубу!
Люди над матросами смеются:
— Кашу варить будете? Или на муку молоть повезете?
А матросы поплевывают:
— Дело хозяйское.
— Для форсу, — решили моряки, — для форсу грузится.
А Антоний хлопочет:
— Туда клади, сюда неси.
Под утро загрузили корабль — дальше уж некуда. Потянул ветерок, и все видели, как вытянулся «Не Горюй» на середину реки, поставил паруса и ушел в море.
А Антоний и вправду не знал, куда с этим песком деваться. Вышел в море и не знает, куда курс держать.
«Эх, — думает Антоний, — есть одна гавань, и город там богатый — давно там не бывал я. Была не была, пойду я туда, а там видно будет».
Набил трубочку, вышел на палубу. Надулись паруса пузырями, идет судно попутным ветром. Солнце с неба светит, веселая вода за бортом плещется, и от палубы смоляной горячий дух поднимается. Везет «Не Горюй» полное брюхо песку, тянет, везет, куда хозяин ведет. Тяжело на волне переваливается. Матросы в тень забрались и в карты шлепают. Один рулевой стоит и правит, куда велел Антоний.
Наутро стали подходить к берегу. Что такое? Узнать Антоний не может: как будто и тот город стоит, куда шел, да берега не узнать: где раньше деревянные сваи из воды забором торчали, черные, как старые зубы, — тут уж стена каменная стоит, загораживает гавань от зыби. А на пристани народу — как муравьев, и натыкано чего-то, нагорожено.
Приказал Антоний отдать якорь. Не вошел в гавань, а поставил судно перед каменной стенкой.
— Спускай, — говорит, — ребята, шлюпку: я на берег еду.
Гребут молодцы, наваливаются, Антоний правит. Вот проход в стене оставлен. Прошел в проход Антоний, гребут к пристани. Батюшки! Пристать некуда! Все разворотили, всю пристань заново строят.
— Сюда! Сюда! — кричат с берега и показывают, где есть удобное местечко. Выскочил Антоний на берег — еле пройти, протиснуться. Рабочих, каменщиков! Стучат, камень тешут. Мастера бегают:
— Не спи, — кричат, — поторапливайся.
И все, как мукой, каменной пылью засыпаны.
— Не ко времени, — говорят Антонию, — не ко времени пришел, брат. Тут у нас и стать негде. Видишь, что делается. Ни одного корабля в гавани нет. Иди дальше со своим судном.
И никто на Антония и глядеть не хочет.
«Ну, — думает Антоний, — не стыдно и уйти: нельзя никому здесь выгружаться, не я один».
И пошел в город.
«Куплю, — думает, — бочонок вина, сам выпью и ребят угощу. Все равно весело будет».
Вдруг подходит к нему старик — тамошний купец.
— О, — говорит, — Антоний, Веселый Купец. Здорово! Гляди — и тебе не повезло. А товар-то дорогой, должно?
Антоний рассмеялся:
— Да просто песок.
— Речной? — старик крикнул и присел даже.
— С реки, — говорит Антоний.
— Да милый ты мой! Да хороший ты мой! Песку-то тут и надо. К нам король приезжает, нам три недели осталось, а песку-то проклятого не хватает на постройку. За сорок верст возим. Да не шутишь ли?
— Да я знал, — говорит Антоний, — о чем вы плачете, — вот и привез песку. Цена-то вот только хороша ли?
А тут уж народ обступил, и все кричат:
— Песок! Песок привез! Самолучший.
И наперебой гонят цену — крик подняли.
— Много ли?
— Полно судно!
Антоний и в город не успел сходить.
— Гони, — кричат, — судно сюда, к самой постройке.
Засмеялся Антоний, в землю плюнул.
— Тьфу ты, — говорит, — вот поди: даром я Антоний, что ли?

Нагнали народу выгружать Антониев корабль. Песок горой на пристань высыпают, Антоний сидит да деньги считает. Матросам бочонок вина поставил. Сидят выпивают и песни горланят.
Снялся утром Антоний, а куда — матросы не спрашивают. Так уж заведено было: хоть к черту на рога. А ведет Антоний судно — значит, не горюй. Капитан знает!
Скрылся за кормой город — легкой полоской лежит на горизонте берег, будто прочеркнут легкой черточкой. Бежит по воде «Не Горюй», полощется белым пузом, порожнем бежит. Прыгает, как утка, на волне. Веселый ветер играет в море. Надулись паруса, напружились мачты. Антоний выколачивает трубочку о борт. Кричит:
— Давай мне, ребята, кружку вина!
Пьет Антоний вино из ковшика, и несет в лицо свежую пену из-за борта. Летняя погода — веселая. Синяя вода в Средиземном море, синяя, будто синька распущена. И зыбь завивается большими гребешками, и средь зыбей белым лебедем переваливается корабль на всех парусах.
А в реке, в порту на кораблях последний табак докуривают. Стоят все корабли хмурые, и голые мачты с реями торчат, как кресты на кладбище. Хозяева злые ходят по пристани и уж друг на друга глядеть не могут. И вдруг крикнул кто-то:
— Гляди — не Антоний ли?
Все глянули — и верно: валит в порт «Не Горюй» напротив воды, тужится против теченья, раздулись, как щеки, паруса с натуги, и вечернее солнце ударило в них красным пламенем.
Вышел на пристань Антоний.
— Что, — говорят, — на зубах не хрустит?
Антоний веселыми ногами в город спешит, трубкой дымит, посмеивается.
— Тебя как звать? — спрашивает одного.
— Филипп.
— Вот здесь и прилип! А тебя?
— Герасим.
— Погоди, завтра покрасим! А я Антоний — не горит, не тонет.
Пошли капитаны Антониевых матросов спрашивать: куда ходили, чего там хозяин накуролесил?
А те все в одно слово:
— За морем были, весь товар сбыли.
Наутро глядят капитаны — опять Веселый Купец песок грузит.
Одни говорят:
— С ума сошел от форсу.
А другие продали последние веревки и наняли подводы, чтоб им тоже песок возили. Загрузился Антоний песком. Вышел в море, оглянулся — три корабля сзади.
И направил Антоний свой корабль прямо в море. Глядит — и все три корабля за ним повернули. Идут следом, как на веревке привязанные.
А Антоний посмеивается:
— Иди, иди, по воде следу нету, дай срок.
Стих ветер. Лежит море как скатерть шелковая, и на нем три белых корабля, а впереди четвертый, Антониев. Вечер упал. И прикрыло море черным небом — только звезды на небе горят, колыхаются. И тут задышал ветерок. Встрепенулся «Не Горюй», выпучились паруса, зашептал ветер в снастях, зажурчала вдоль бортов вода.
Оттолкнул Антоний рулевого, сам взялся за руль и повернул корабль, куда надо.
— Так и веди, — сказал Антоний, — а огня на судне — чтоб ни-ни, чтоб и трубки на палубе не зажгли.
А три корабля все шли туда, вперед, как повел их Антоний, — всю ночь шли. Наутро глянули — нет Антония. Ушел «Не Горюй» — и загоревали. Надул Веселый Купец, удрал. А по воде следу нету. Озлились и пошли назад. Дорогой песок в море сыпали. Пропади он пропадом!
В третий раз сходил Антоний, и уж никто за ним не гнался.
— Куда ж ты возил? — спрашивают.
— А на мельницу, — говорит Антоний, — на муку мололи. Приходи нонче ко мне блины есть.
Денег стало у Антония — куча. И привязалось к нему счастье — хоть поленом гони. И уж все на него сердиться забыли. Придут капитаны погостить на судно — Антоний вина не жалеет.
Вот раз идет Антоний в море и видит — дым идет из моря. Что за чудо? Не горит ли корабль на воде? И направил на дым. Добежать бы скорей, спасти хоть людей.
Он к дыму, а дым от него. Что за притча? Достал Антоний медную трубу и стал в трубу глядеть. Матросы сзади стояли — ждали, что капитан увидит.
— Ничего не пойму, — сказал Антоний, — кухня по морю плывет. Черная труба торчит, а оттуда дым валит.
И отдал матросам трубку. Все глядели. И один сказал:
— Слыхал я про это. Это — пароход.
— Сам знаю, — сказал Антоний, и первый раз капитан нахмурился и ушел в каюту.
— А здорово прет проклятая пекарня, — сказали матросы.
А ночью не было ветра. «Не Горюй» стоял, и паруса отдыхали. Как усталые повисли на реях. И вдруг мимо прошумел пароход и махнул на корабль вонючим дымом. Прошел мимо корабля — и слышно было в тихой ночи, как ворочается, урчит машина в утробе, ворчит, наворачивает…
Выскочил Антоний на палубу, глянул вслед пароходу:
— Как еще вода эту жаровню держит! — и плюнул за борт: — На тебе на дорогу.
Старый матрос подошел к Антонию, кивнул вслед пароходу:
— А ведь самый-то лучший груз они подбирают.
— Плевал я, — засмеялся Антоний, — пусть дураки везут им мешки да бочки. Да на этой жаровне и ладан серой провоняет! А много ли их, пароходов-то?
— Да слыхал, что уж два их в нашем море завелось.
Ушел старик спать. Антоний долго глядел вслед пароходу и видел, как уходит вдаль огонек, все меньше, меньше и вот уж совсем не стало.
— Ишь устилает, — сказал Антоний. — Погоди! — и погрозил кулаком пароходу вслед.
С полночи заиграл ветерок, скрипнули мачты, проснулся «Не Горюй» и пошел полным ветром через море, на ту сторону.
А на той стороне был город на море. И прямо пройти к этому городу нельзя было. Под водой лежала каменная гряда. Каменные горы стеной стояли, острые, как пики, и только порожним кораблям можно было проскользнуть поверх этих пик, а груженые корабли делали крюк, большой дугой обходили эти мели и камни.
Антоний не спал ночью, поджидал, когда надо свернуть и пойти вдоль страшных каменьев.
«Волчьи зубы», — говорили моряки про эти каменья.
Стало светать, и уж близко должны быть Волчьи зубы. Глядит Антоний вперед — что за чудо? Будто вышел зуб из воды и торчит черным пеньком. Присмотрелся — что за дьявол? Никак пароход стоит. Стоит как раз на «зубах».
— Ребята! — крикнул Антоний, — попала кузница волку в зубы.
Все вскочили, все через борт глядят, глаза со сна протирают.
— Верно! Сел пароход на каменья.
А на пароходе флаг на мачте и флаг узлом завязан: просит пароход флагом помощи.
Антоний направил корабль к пароходу, а с парохода к нему шлюпка идет, гребут гребцы изо всех сил. Приехал сам капитан.
— Антоний, — говорит капитан, — будь, Антоний, другом, спаси ты нас.
— А езжайте все ко мне, — говорит Антоний, — я гостям всегда рад.
— Нет, — говорит капитан, — нет, Антоний. Дай ты мне один свой парус. У меня дырка в боку. Я твой парус подведу, растяну за четыре угла, и он мне как пластырем дыру мою залепит. Дойду как-нибудь до порта.
— Тебе пластырь надо? — говорит Антоний. — У меня не аптека!
— Антоний, — взмолился капитан, — видишь, стоит мой пароход, а ты мимо идешь…
— Я тоже стоял, а ты мимо шел, — смеется Антоний, — я ж не плакал.
— Так ведь потонет пароход! — закричал капитан.
— А зачем кузнице по морю плавать? — сказал Антоний. — Бросай свой утюг, вези всех людей сюда. А не хочешь — я дальше пошел. Решай: раз и два.
Озлился капитан, чуть не заплакал. Однако поехал назад и всех людей перевез к Антонию на корабль.
— Пошел «Не Горюй»! — крикнул Антоний и пустил корабль в обход вдоль «зубов».
А капитан стоял на борту и все глядел, как тонул его пароход.
— Все равно другой остался, — шепнул старик Антонию в ухо.
А на другом пароходе был ловкий капитан. Осторожный моряк, изворотливый. Бегал, рыскал его пароход по всем портам. Только Антоний сунется за товаром, — глядь — уж пароход перехватил и увез куда надо.
Товарищи-капитаны смеются.
— Что, — говорят, — вози песок, Веселый Купец.
— Всему время будет, — говорит Антоний. — Чего вы пароходом пугаете? Да плевал я на это чучело, коли я Антоний! Чем пароход грузится?
— Да не для тебя это, — говорят капитаны. — Маслом прованским грузится — новое масло, брат, а за морем его нет. Сейчас какую хочешь там цену дадут — приди только вперед парохода. А уж опоздаешь — никто и бочки одной не возьмет. Повезешь домой.
— Плевал я, — сказал Антоний, и побежал в город. Накупил масла на все деньги, что были. На пароход бочки катают, спешат, а на Антониев корабль и того хлеще: вся команда в поту. И закатывают, закатывают, как орехи в мешок сыпят.
Управился Антоний раньше парохода. Скорей ставь паруса, пошел в море.
Как двинул ветер с берега — еле мачты держат, зыбь в корму шлепает, подгоняет.
— Не горюй! — кричит Антоний. — А что, ребята, не Антоний я?
Уж вот-вот он, берег. Еще немного. Спадать тут стал ветер, не дотянул. Ах, чуть-чуть бы — вон и город видать, рукой подать. Оглянулся Антоний и видит: дымит сзади пароход. Вот уж видать, как торчит черной папиросой труба из моря, а вот и весь пароход видно стало. А у Антония нет ветру в парусах, нет совсем, хоть сам дуй. Совсем нагоняет Антония черный пароход, и черным змеем далеко-далеко уходит дым, виснет над морем.
Прошумел мимо пароход и первым пришел в порт.
Все матросы оглянулись на Антония.
— Не горюй, — сказал Антоний, — все равно наша возьмет.
Только к ночи притащился Антоний в порт. Про товар никто и не спрашивает. У всех купцов полно масла.
— А куда, — спросил Антоний, — пароход пошел?
— Да сейчас, — говорят, — только вышел. Разве не встретили? Туда, знаешь, пошел — за Волчьи зубы, там масла нет. Цена, сказывали, как на золото.
— Ставь паруса! — крикнул Антоний.
Сорвался Антоний из порта, и побежало судно в море.
И снова двинул прежний ветер. Крепкий, ровный.
— Откуда снова взялся? — говорят матросы.
— Это он обедать ходил, — кричит Антоний. — Что он вам поденщик, что ли? Поспал, теперь свое возьмет. Не горюй, молодцы!
Ночь была темная, тьма густая стояла, только вода белыми гребнями вспыхивала, и птицами летала белая пена через Антониев корабль. Никто на корабле не спал, и сам Антоний на руле стоял. И как раз тут, вот уж скоро, должны быть рядом Волчьи зубы.
Вдруг Антоний повернул корабль — и все поняли, что направил прямо на Волчьи зубы. Да с такого хода!
Старик подбежал к Антонию:
— Хозяин! Что делаешь? На каменья правишь!
— Не горюй! — орет Антоний. — Открывай трюм, ребята, кидай бочки за борт, пока не крикну баста. Живо!
Бросились матросы, открыли трюм и давай валить бочки за борт. С ума сошел хозяин. Да все равно — не горюй!
— Вали, вали! — кричит Антоний, — живо!
Половину груза вывалили матросы. А каждый в уме путь мерит: вот-вот уж скоро Волчьи зубы.
А «Не Горюй» всплыл выше, легче стало судно, и совсем на бок положил его ветер. А на самые на Волчьи зубы напрямик к порту гонит свой корабль Антоний.
И вот они, буруны, белеют во тьме над «зубами», ревом ревет вода, пенится. В самые буруны гонит Антоний судно, со всего ходу. Матросы глаза зажмурили. Ждут, как треснет с ходу, как полетят на палубу мачты, как горшок об камень, разлетится вдребезги судно.
Влетел Антоний в пену и крикнул:
— Антоний идет! Держись!
Затрясся в пене корабль и прошел дальше. Матросы друг на друга глядят — стоят мокрые и понять не могут: на том ли, на этом свете? А корабль полугруженый лежал боком и сидел в воде как порожний. Бежит дальше.
Ветер давит паруса, трещат снасти. Вот уж два паруса выдавило; как лист по ветру унесла погода белые клочья в черную ночь. Прет Антоний прямо в порт — вон огни по берегу рассыпались, переливаются, дышат как уголья. Влетел в порт Антоний и отдал якорь.
А к судну уж шлюпка тащится.
Кричат:
— Не с маслом ли?
И часу не прошло — полна палуба купцов у Антония. Набивают цену — дай только хоть баночку.
— А парохода, — спрашивают, — не видали?
— А не знаю, — говорит Антоний, — раньше нас вышел, видать, не к вам пошел.
Продал Антоний в тот же час все масло, что у него осталось, — и такую цену дали ему, что и не снилось Антонию.
А наутро пришел пароход. Антоний капитану шляпой машет.
И ни бочки не взяли с парохода. Повернул пароход и задымил сердито.
А Антоний пришел домой.
— Нет, — говорит, — не буду я счастья моего до донышка высасывать. Переехала мне дорогу плавучая кузница!
Продал корабль, матросов всех деньгами одарил.
— Спасибо, — говорит, — за службу, ни разу меня не выдали, ребята.
И открыл Антоний на берегу корчму «Не Горюй».
Черные паруса
1. Ладьи
Обмотали весла тряпьем, чтоб не стукнуло, не брякнуло дерево. И водой сверху полили, чтоб не скрипнуло, проклятое.
Ночь темная, густая, хоть палку воткни.
Подгребаются казаки к турецкому берегу, и вода не плеснет: весло из воды вынимают осторожно, что ребенка из люльки.
А лодки большие, развалистые. Носы острые, вверх тянутся. В каждой лодке по двадцать пять человек, и еще для двадцати места хватит.
Старый Пилип на передней лодке. Он и ведет.
Стал уж берег виден: стоит он черной стеной на черном небе. Гребанут, гребанут казаки и станут — слушают.
Хорошо тянет с берега ночной ветерок. Все слыхать. Вот и последняя собака на берегу брехать перестала. Тихо. Только слышно, как море шуршит песком под берегом: чуть дышит Черное море.
Вот веслом дно достали. Вылезли двое и пошли вброд на берег, в разведку. Большой, богатый аул тут, на берегу, у турок стоит.
А ладьи уж все тут. Стоят, слушают — не забаламутили б хлопцы собак. Да не таковские!
Вот чуть заалело под берегом, и обрыв над головой стал виден. С зубцами, с водомоинами.
И гомон поднялся в ауле.
А свет ярче, ярче, и багровый дым заклубился, завился над турецкой деревней: с обоих краев подпалили казаки аул. Псы забрехали, кони заржали, завыл народ, заголосил.
Рванули ладьи в берег. По два человека оставили казаки в лодке, полезли по обрыву на кручу. Вот она, кукуруза, — стеной стоит над самым аулом.
Лежат казаки в кукурузе и смотрят, как турки все свое добро на улицу тащат: и сундуки, и ковры, и посуду, все на пожаре, как днем, видать. Высматривают, чья хата побогаче.
Мечутся турки, ревут бабы, таскают из колодца воду, коней выводят из стойл. Кони бьются, срываются, носятся меж людей, топчут добро и уносятся в степь.
Пожитков груда на земле навалена.
Как гикнет Пилип! Вскочили казаки, бросились к турецкому добру и ну хватать, что кому под силу.
Обалдели турки, орут по-своему.
А казак хватил и — в кукурузу, в темь, и сгинул в ночи, как в воду нырнул.
Уж набили хлопцы лодки и коврами, и кувшинами серебряными, и вышивками турецкими, да вот вздумал вдруг Грицко бабу с собой подхватить — так, для смеху.
Баба как даст голосу, да такого, что сразу турки в память пришли. Хватились ятаганы откапывать в пожитках из-под узлов и бросились за Грицком.
Грицко и бабу кинул, бегом ломит через кукурузу, камнем вниз с обрыва и тикать к ладьям.
А турки за ним с берега сыпятся, как картошка. В воду лезут на казаков: от пожара, от крика как очумели, вплавь бросились.
Тут уж с обрыва из мушкетов палить принялись и пожар-то свой бросили. Отбиваются казаки. Да не палить же из мушкетов в берег — еще темней стало под обрывом, как задышало зарево над деревней. Своих бы не перебить. Бьются саблями и отступают вброд к ладьям.
И вот, кто не успел в ладью вскочить, порубили тех турки. Одного только в плен взяли — Грицка.
А казаки налегли что силы на весла и — в море, подальше от турецких пуль. Гребли, пока пожар чуть виден стал: красным глазком мигает с берега. Тогда подались на север, скорей, чтоб не настигла погоня.
По два гребца сидело на каждой скамье, а скамей было по семи на каждой ладье: в четырнадцать весел ударяли казаки, а пятнадцатым веслом правил сам кормчий. Это было триста лет тому назад. Так ходили на ладьях казаки к турецким берегам.
2. Фелюга
Пришел в себя Гриц. Все тело избито. Саднит, ломит. Кругом темно. Только огненными линейками светит день в щели сарая. Пощупал кругом: солома, навоз.
«Где это я?»
И вдруг все вспомнил. Вспомнил, и дух захватило. Лучше б убили. А теперь шкуру с живого сдерут. Или на кол посадят турки. Для того и живого оставили. Так и решил. И затошнило от тоски и от страха.
«Может, я не один тут, — все веселей будет».
И спросил вслух:
— Есть кто живой?
Нет, один.
Брякнули замком, и вошли люди. Ударило светом в двери. Грицко и свету не рад. Вот она, смерть пришла. И встать не может.
Заслабли ноги, обмяк весь. А турки теребят, ногами пинают — вставай!
Подняли.
Руки закрутили назад, вытолкали в двери. Народ стоит на улице, смотрит, лопочут что-то. Старик бородатый, в чалме, нагнулся, камень поднял. Махнул со злости и попал в провожатых.
А Грицко и по сторонам не глядит, все вперед смотрит — где кол стоит? И страшно, и не глядеть не может: из-за каждого поворота кола ждет. А ноги как не свои, как приделанные.
Мечеть прошли, а кола все нет. Из деревни вышли и пошли дорогой к морю.
«Значит, топить будут, — решил казак. — Все муки меньше».
У берега стояла фелюга — большая лодка, острая с двух концов. Нос и корма были лихо задраны вверх, как рога у турецкого месяца.
Грицко бросили на дно. Полуголые гребцы взялись за весла.
3. Карамусал
«Так и есть, топить везут», — решил казак.
Грицко видал со дна только синее небо да голую потную спину гребца. Стали вдруг легче грести. Гриц запрокинул голову: видит нос корабля над самой фелюгой. Толстый форштевень изогнуто подымался из воды. По сторонам его написаны краской два глаза, и, как надутые щеки, выпячиваются круглые скулы турецкого карамусала. Как будто от злости надулся корабль.
Только успел Грицко подумать, уж не повесить ли его сюда привезли, как все было готово. Фелюга стояла у высокого крутого борта, и по веревочному трапу с деревянными ступеньками турки стали перебираться на корабль. Грицка веревкой захлестнули за шею и потащили на борт. Едва не задушили.
На палубе Гриц увидел, что корабль большой, шагов с полсотни длиной. Две мачты, и на спущенных над палубой рейках туго скручены убранные паруса. Фок-мачта смотрела вперед. От мачт шли к борту веревки — ванты. Тугие — ими держалась мачта, когда ветер напирал в парус. У бортов стояли бочки.
На корме была нагорожена целая кибитка. Большая, обтянутая плотной материей. Вход в нее с палубы был завешан коврами.
Стража с кинжалами и ятаганами у пояса стояла при входе в эту кормовую беседку.
Оттуда не спеша выступал важный турок — в огромной чалме, с широчайшим шелковым поясом; из-за пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой, с самоцветными каменьями.
Все на палубе затихли и смотрели, как выступал турок.
— Капудан, капудан, — зашептали около Грицка.
Турки расступились. Капудан (капитан) глянул в глаза Грицку, так глянул, как ломом ткнул. Целую минуту молчал и все глядел. Затем откусил какое-то слово и округло повернул к своей ковровой палатке на корме.
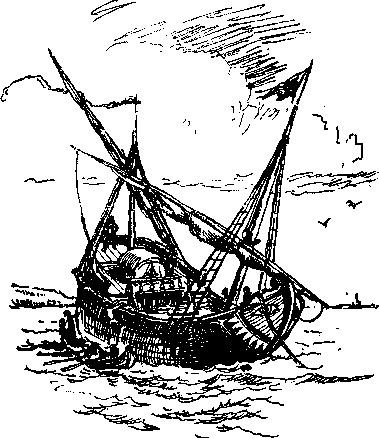
Стража схватила Грицка и повела на нос.
Пришел кузнец, и Грицко мигнуть не успел, как на руках и ногах заговорили, забренчали цепи.
Открыли люк и спихнули пленника в трюм. Грохнулся Грицко в черную дырку, ударился внизу о бревна, о свои цепи. Люк неплотно закрывался, и сквозь щели проникал светлыми полотнами солнечный свет.
«Теперь уж не убьют, — подумал казак, — убили бы, так сразу, там, на берегу».
И цепям и темному трюму обрадовался.
Грицко стал лазать по трюму и рассматривать, где ж это он. Скоро привык к полутьме.
Все судно внутри было из ребер[1], из толстых, вершка по четыре. Ребра были не целые, стычные, и густо посажены. А за ребрами шли уже доски. Между досками, в щелях, смола. По низу в длину, поверх ребер, шло посредине бревно[2]. Толстое, обтесанное. На него-то и грохнулся Гриц, как его с палубы спихнули.
— А таки здоровая хребтина! — И Грицко похлопал по бревну ладошкой.
Грицко грохотал своими кандалами — кузница переезжает.
А сверху в щелочку смотрел пожилой турок в зеленом тюрбане. Смотрел, кто это так ворочается здорово. И заприметил казака.
— Якши урус[3], - пробормотал он про себя. — За него можно деньги взять. Надо подкормить.
4. Порт
В Царьграде на базаре стоял Грицко и рядом с ним невольник-болгарин. Турок в зеленой чалме выменял казака у капудана на серебряный наргиле[4] и теперь продавал на базаре.
Базар был всем базарам базар. Казалось, целый город сумасшедших собрался голоса пробовать. Люди старались перекричать ослов, а ослы — друг друга. Груженые верблюды с огромными вьюками ковров на боках, покачиваясь, важно ступали среди толпы, а впереди сириец орал и расчищал каравану дорогу: богатые ковры везли из Сирии на царьградский рынок.
Губастого ободранного вора толкала стража, и густой толпой провожали их мальчишки, бритые, гологоловые.
Зелеными клумбами подымались над толпой арбы с зеленью. Завешанные черными чадрами турецкие хозяйки пронзительными голосами ругали купцов-огородников.
Над кучей сладких, пахучих дынь вились роем мухи. Загорелые люди перекидывали из руки в руку золотистые дыни, заманивали покупателя дешевой ценой.
Грек бил ложкой в кастрюлю — звал в свою харчевню.
С Грицком продавал турок пять мальчиков-арапчат. Он велел им орать свою цену и, если они плохо старались, поддавал пару плеткой.
Рядом араб продавал верблюдов. Покупатели толклись, приливали, отливали и рекой с водоворотом текли мимо.
Кого только не было! Ходили и арабы: легко, как на пружинках, подымались на каждом шагу.
Валили толстым пузом вперед турецкие купцы с полдюжиной черных слуг. Проходили генуэзцы в красивых кафтанах в талью; они были франты и всё смеялись, болтали, как будто пришли на веселый маскарад. У каждого на боку шпага с затейливой ручкой, золотые пряжки на сапогах.

Среди толчеи вертелись разносчики холодной воды с козьим бурдюком за спиной.
Шум был такой, что грянь гром с неба — никто б не услышал. И вот вдруг этот гам удвоился — все кругом завопили, как будто их бросили на уголья.
Хозяин Грицка схватился нахлестывать своих арапчат. Казак стал смотреть, что случилось. Базар расступался: кто-то важный шел — видать, главный тут купец.
Двигался венецианский капитан, в кафтане с золотом и кружевом. Не шел, а выступал павлином. А с ним целая свита расшитой, пестрой молодежи.
Болгарин стал креститься, чтоб видали: вот христианская душа мучится. Авось купят, крещеные ведь люди. А Гриц пялил глаза на шитые кафтаны.
И вот шитые кафтаны стали перед товаром: перед Грицком, арапчатами и набожным болгарином. Уперлись руками в бока, и расшитый золотом капитан затрясся от смеха. За ним вся свита принялась усердно хохотать. Гнулись, переваливались. Им смешно было глядеть, как арапчата, задрав головы к небу, в один голос выли свою цену.
Капитан обернулся к хозяину с важной миной. Золоченые спутники нахмурились, как по команде, и сделали строгие лица.
Болгарин так закрестился, что руки не стало видно.
Народ сбежался, обступил венецианцев, всякий совался, тискался: кто подмигивал хозяину, кто старался переманить к себе богатых купцов.
5. Неф
Вечером турок отвел Грицка с болгарином на берег и перевез на фелюге на венецианский корабль.
Болгарин всю дорогу твердил на разные лады Грицку, что их выкупили христиане. От бусурман выкупили, освободили.
А Гриц сказал:
— Що мы им, сватья чи братья, що воны нас выкуплять будут? Дурно паны грошей не дадуть!
Корабль был не то, что турецкий карамусал, на котором привезли Грицка в Царьград. Как гордая птица, лежал на воде корабль, высоко задрав многоярусную корму. Он так легко касался воды своим круто изогнутым корпусом, как будто только спустился отдохнуть и понежиться в теплой воде. Казалось, вот сейчас распустит паруса-крылья и вспорхнет. Гибкими змеями вилось в воде его отражение. И над красной вечерней водой тяжело и важно реял за кормой парчовый флаг. На нем был крест и в золотом ярком венчике икона.
Корабль стоял на чистом месте, поодаль от кучи турецких карамусалов, как будто боялся запачкаться.
Квадратные окна были вырезаны в боку судна — семь окон в ряд, по всей длине корабля. Их дверцы были приветливо подняты вверх, а в глубине этих окон (портов), как злой зрачок, поблескивали дула бронзовых пушек.
Две высокие мачты, одна в носу[5], другая посредине[6], натуго были укреплены веревками. На этих мачтах было по две перекладины — реи. Они висели на топенантах, и, как вожжи, шли от их концов (ноков) брасы. На третьей мачте, что торчала в самой корме[7], был только флаг. С него глаз не спускал болгарин.
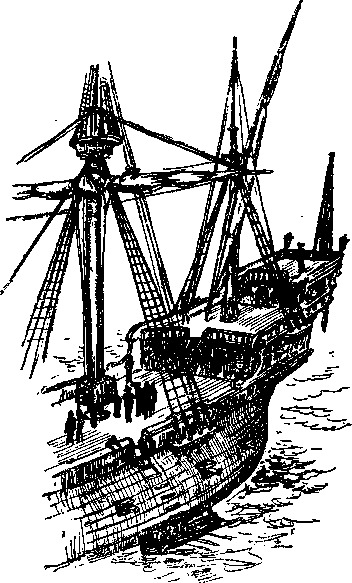
Грицко залюбовался кораблем. Он не мог подумать, что вся эта паутина веревок — снасти, необходимые снасти, без которых нельзя править кораблем, как конем без узды. Казак думал, что все напутано для форсу; надо было б еще позолотить.
А с самой вышки кормы глядел с борта капитан — сеньор Перучьо. Он велел турку привезти невольников до заката солнца и теперь гневался, что тот запаздывает. Как смел? Два гребца наваливались что есть силы на весла, но ленивая фелюга плохо поддавалась на ход против течения Босфора.
Толпа народа стояла у борта, когда, наконец, потные гребцы ухватили веревку (фалень) и подтянулись к судну.
«Ну, — подумал Гриц, — опять за шею…»
Но с корабля спустили трап, простой веревочный трап, невольникам развязали руки, и хозяин показал: полезайте!
Какие красивые, какие нарядные люди обступили Грицка! Он видал поляков, но куда там!
Середина палубы, где стоял Грицко, была самым низким местом. На носу крутой стеной начиналась надстройка[8].
На корме надстройка еще выше и поднималась ступенями в три этажа. Туда вели двери великолепной резной работы. Да и все кругом было прилажено, пригнано и форсисто разделано. Обрубком ничто не кончалось: всюду или завиток, или замысловатый крендель, и весь корабль выглядел таким же франтом, как те венецианцы, что толпились вокруг невольников. Невольников поворачивали, толкали, то смеялись, то спрашивали непонятное, а потом все хором принимались хохотать. Но вот сквозь толпу протиснулся бритый мужчина. Одет был просто. Взгляд прямой и жестокий. За поясом — короткая плетка. Он деловито взял за ворот Грицка, повернул его, поддал коленом и толкнул вперед. Болгарин сам бросился следом.
Опять каморка где-то внизу, по соседству с водой, темнота и тот самый запах: крепкий запах, уверенный. Запах корабля, запах смолы, мокрого дерева и трюмной воды. К этому примешивался пряный запах корицы, душистого перца и еще каких-то ароматов, которыми дышал корабельный груз. Дорогой, лакомый груз, за которым венецианцы бегали через море к азиатским берегам. Товар шел из Индии.
Грицко нанюхался этих крепких ароматов и заснул с горя на сырых досках. Проснулся оттого, что кто-то по нему бегал. Крысы!
Темно, узко, как в коробке, а невидимые крысы скачут, шмыгают. Их неведомо сколько. Болгарин в углу что-то шепчет со страху.
— Дави их! Боишься паньскую крысу обидеть? — кричит Грицко и ну шлепать кулаком, где только услышит шорох. Но длинные, юркие корабельные крысы ловко прыгали и шныряли. Болгарин бил впотьмах кулаками по Грицку, а Грицко по болгарину.

Грицко хохотал, а болгарин чуть не плакал.
Но тут в дверь стукнули, визгнула задвижка, и в каморку влился мутный полусвет раннего утра. Вчерашний человек с плеткой что-то кричал в дверях, хрипло, въедливо.
— Ходимо! — сказал Грицко, и оба вышли.
6. Ванты
На палубе были уже другие люди — не вчерашние. Они были бедно одеты, выбриты, с мрачными лицами.
Под носовой надстройкой в палубе была сделана круглая дыра. Из нее шла труба. Она раскрывалась в носу снаружи. Это был клюз. В него проходил канат с корабля к якорю. Человек сорок народу тянуло этот канат. Он был в две руки толщиной; он выходил из воды мокрый, и люди с трудом его удерживали. Человек с плеткой, подкомит, пригнал еще два десятка народу. Толкнул туда и Грицка. Казак тянул, жилился. Ему стало веселей: все же с народом!
Подкомит подхлестывал, когда ему казалось, что дело идет плохо. Толстый мокрый канат ленивой змеей не спеша выползал из клюза, как из норы. Наконец стал. Подкомит ругался, щелкал плетью. Люди скользили по намокшей уже палубе, но канат не шел дальше.
А наверху, на баке, топали, и слышно было, как кричали по-командному непонятные слова. По веревочным ступенькам — выбленкам — уже лезли на мачты люди.
Толстые веревки — ванты — шли от середины мачты к бортам. Между ними-то и были натянуты выбленки. Люди босыми ногами ударяли на ходу по этим выбленкам, и они входили в голую подошву, казалось, рвали ее пополам. Но подошвы у матросов были так намозолены, что они не чувствовали выбленок.
Матросы не ходили, а бегали по вантам легко, как обезьяны по сучьям. Одни добегали до нижней реи и перелезали на нее, другие пролезали на площадку, что была посредине мачты (марс), а от нее лезли по другим вантам (стень-вантам) выше и перелезали на верхнюю рею. Они, как жучки, расползались по реям.
На марсе стоял их начальник — марсовый старшина — и командовал.
На носу тоже шла работа. Острым клювом торчал вперед тонкий бушприт, перекрещенный блиндареем. И там, над водой, уцепившись за снасти, работали люди. Они готовили передний парус — блинд.
С северо-востока дул свежий ветер, крепкий и упорный. Без порывов, ровный, как доска.
Парчового флага уже не было на кормовой мачте — бизани. Там трепался теперь на ветру флаг попроще. Как будто этим утренним ветром сдуло весь вчерашний багряный праздник. В сером предрассветье все казалось деловым, строгим, и резкие окрики старшин, как удары плетки, резали воздух.
7. Левым галсом
А вокруг на рейде еще не просыпались турецкие чумазые карамусалы, сонно покачивались испанские каравеллы. Только на длинных английских галлеях шевелились люди: они мыли палубу, черпали ведрами на веревках воду из-за борта, а на носу стояли люди и глядели, как снимется с якоря веницианец, — не всегда это гладко выходит.
Но вот на корме венецианского корабля появился капитан. Что же якорь? Якорь не могли подорвать люди. Капитан поморщился и приказал перерубить канат. Не первый якорь оставлял корабль на долгой стоянке. Еще три оставалось в запасе. Капитан вполголоса передал команду помощнику, и тот крикнул, чтобы ставили блинд.
Вмиг взвился под бушпритом белый парус. Ветер ударил в него, туго надул, и нос корабля стало клонить по ветру. Но ветер давил и высокую многоярусную корму, которая сама была хорошим деревянным парусом; это мешало судну повернуться.
Опять команда — и на передней (фок) мачте между реями растянулись паруса. Они были подвязаны к реям, и матросы только ждали команды марсового, чтобы отпустить снасти (бык горденя), которые подтягивали их к реям.
Теперь корабль уж совсем повернул по ветру и плавно двинулся в ход по Босфору на юг. Течение его подгоняло.
А на берегу стояла толпа турок и греков: все хотели видеть, как вспорхнет эта гордая птица.
Толстый турок в зеленой чалме ласково поглаживал широкий пояс на животе: там были венецианские дукаты.
Солнце вспыхнуло из-за азиатского берега и кровавым светом брызнуло в венецианские паруса. Теперь они были на всех трех мачтах. Корабль слегка прилег на правый борт, и казалось, что светом дунуло солнце и поддало ходу. А вода расступалась, и в обе стороны от носа уходила углом живая волна. Ветер дул слева — левым галсом шел корабль.
Матросы убирали снасти. Они свертывали веревки в круглые бухты (мотки), укладывали и вешали по местам. А начальник команды, аргузин, неожиданно появлялся за плечами каждого. Каждый матрос, даже не глядя, спиной чувствовал, где аргузин. У аргузина будто сто глаз — всех сразу видит.
На высоком юте важно прохаживался капитан со своей свитой. За ними по пятам ходил комит. Он следил за каждым движением капитана: важный капитан давал иной раз приказ просто движением руки. Комиту надо было поймать этот жест, понять и мгновенно передать с юта на палубу. А там уж было кому поддать пару этой машине, что шевелилась около снастей.
8. На фордевинд
К полудню корабль вышел из Дарданелл в синюю воду Средиземного моря.
Грицко смотрел с борта в воду, и ему казалось, что прозрачная синяя краска распущена в воде: окуни руку и вынешь синюю.
Ветер засвежел, корабль повернул правей. Капитан глянул на паруса, повел рукой. Комит свистнул, и матросы бросились, как сорвались, тянуть брасы, чтобы за концы повернуть реи по ветру. Грицко глазел, но аргузин огрел его по спине плеткой и толкнул в кучу людей, которые тужились, выбирая брас.
Теперь паруса стояли прямо поперек корабля. Чуть зарывшись носом, корабль шел за зыбью. Она его нагоняла, подымала корму и медленно прокатывала под килем.
Команде давали обед. Но Грицку с болгарином сунули по сухарю. Болгарина укачало, и он не ел.
Тонкий свисток комита с кормы всполошил всех. Команда бросила обед, все выскочили на палубу. С кормы комит что-то кричал, его помощники — подкомиты — кубарем скатились вниз на палубу.
На юте стояла вся свита капитана и с борта глядела вдаль. На Грицко никто не обращал внимания.
У люка матросы вытаскивали черную парусину, свернутую тяжелыми, толстыми змеями. Аргузин кричал и подхлестывал отсталых. А вверх по вантам неслись матросы, лезли на реи. Паруса убирали, и люди, налегши грудью на реи, перегнувшись пополам, сложившись вдвое, изо всей силы на ветру сгребали парус к рее. Нижние (Шкотовые) концы болтались в воздухе, как языки, — тревожно, яростно, а сверху спускали веревки и быстро к ним привязывали эти черные полотна.
Грицко, разинув рот, смотрел на эту возню. Марсовые что-то кричали внизу, а комит носился по всему кораблю, подбегал к капитану и снова камнем летел на палубу. Скоро вместо белых, как облако, парусов появились черные. Они туго надулись между реями.
Ветра снова не стало слышно, и корабль понесся дальше.
Но тревога на корабле не прошла. Тревога напряглась, насторожилась. На палубе появились люди, которых раньше не видал казак: они были в железных шлемах, на локтях, на коленях торчали острые железные чашки. На солнце горели начищенные до сияния наплечники, нагрудники. Самострелы, арбалеты, мушкеты[9], мечи на боку. Лица у них были серьезны, и смотрели они в ту же сторону, куда и капитан с высокого юта.
А ветер все крепчал, он гнал вперед зыбь и весело отрывал мимоходом с валов белые гребешки пены и швырял в корму кораблю.
9. Красные паруса
Грицко высунул голову из-за борта и стал глядеть туда, куда смотрели все люди на корабле. Он увидал далеко за кормой, слева, среди зыби, рдеющие, красные паруса. Они то горели на солнце, как языки пламени, то проваливались в зыбь и исчезали. Они вспыхивали за кормой и, видно, пугали венецианцев.
Грицку казалось, что корабль с красными парусами меньше венецианского.
Но Грицко не знал, что с марса, с мачты, видели не один, а три корабля, что это были пираты, которые гнались на узких, как змеи, судах, гнались под парусами и помогали ветру веслами.
Красными парусами они требовали боя и пугали венецианцев.
А венецианский корабль поставил черные, «волчьи» паруса, чтоб его не так было видно, чтобы стать совсем невидимым, как только сядет солнце. Свежий ветер легко гнал корабль, и пираты не приближались, но они шли сзади, как привязанные.
Судовому священнику, капеллану, приказали молить у бога покрепче ветра, и он стал на колени перед раскрашенной статуей Антония, кланялся и складывал руки.
А за кормой все вспыхивали из воды огненные паруса.
Капитан смотрел на солнце и думал, скоро ли оно зайдет там впереди, на западе.
Но ветер держался ровный, и венецианцы надеялись, что ночь укроет их от пиратов. Казалось, что пираты устали грести и стали отставать. Ночью можно свернуть, переменить курс, а по воде следу нету. Пусть тогда ищут.
Но когда солнце сползало с неба и оставалось только часа два до полной тьмы, ветер устал дуть. Он стал срываться и ослабевать. Зыбь ленивее стала катиться мимо судна, как будто море и ветер шабашили под вечер работу.
Люди стали свистеть, обернувшись к корме: они верили, что этим вызовут ветер сзади. Капитан посылал спрашивать капеллана: что же Антоний?
10. Штиль
Но ветер спал вовсе. Он сразу прилег, и все чувствовали, что никакая сила его не подымет: он выдулся весь и теперь не дыхнет. Глянцевитая масляная зыбь жирно катилась по морю, спокойная, чванная. И огненные языки за кормой стали приближаться. Они медленно догоняли корабль. Но с марса кричали сторожевые, что их уже оказалось четыре, а не три. Четыре пиратских судна!
Капитан велел подать себе хлеба. Он взял целый хлеб, посолил его и бросил с борта в море. Команда глухо гудела: все понимали, что настал мертвый штиль. Если и задышит ветерок, то не раньше полуночи.
Люди столпились около капеллана и уже громко ворчали: они требовали, чтоб монах им дал Антония на расправу. Довольно валяться в ногах, коли тебя все равно не хотят слушать! Они прошли в каюту-часовню под ютом, сорвали статую с ее подножия и всей гурьбой потащили к мачте.
Капитан видел это и молчал. Он решил, что грех будет не его, а толк все же может выйти. Может быть, Антоний у матросов в руках заговорит по-иному. И капитан делал вид, что не замечает. Грешным делом, он уже бросил два золотых дуката в море. А матросы прикрутили Антония к мачте и шепотом ругали его на разных языках.
Штиль стоял на море спокойный и крепкий, как сон после работы.
А пираты подравнивали линию своих судов, чтобы разом атаковать корабль. Поджидали отсталых.
На второй палубе пушкари стояли у медных орудий. Все было готово к бою.
Приготовили глиняные горшки с сухой известью, чтоб бросать ее в лицо врагам, когда они полезут на корабль. Развели в бочке мыло, чтоб его лить на неприятельскую палубу, когда корабли сцепятся борт о борт: пусть на скользкой палубе падают пираты и скользят в мыльной воде.
Все воины, их было девяносто человек, готовились к бою; они были молчаливы и сосредоточенны. Но матросы гудели: они не хотели боя, они хотели уйти на своем легком корабле. Им обидно было, что нет ветра, и они решили туже стянуть веревки на Антонии: чтоб знал! Один пригрозил палкой, но ударить не решился.
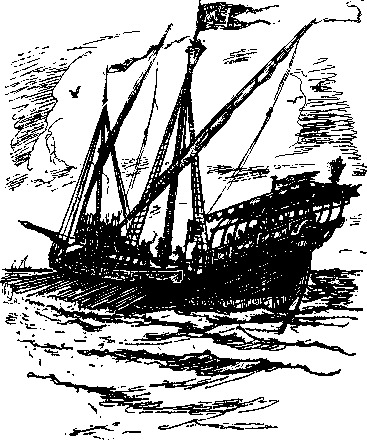
А черные «волчьи» паруса обвисли на реях. Они хлопали по мачтам, когда судно качало, как траурный балдахин.
Капитан сидел в своей каюте. Он велел подать себе вина. Пил, не хмелел. Бил по столу кулаком — нет ветра. Поминутно выходил на палубу, чтоб взглянуть, не идет ли ветер, не почернело ли от ряби море.
Теперь он боялся попутного ветра: если он начнется, то раньше захватит пиратов и принесет их к кораблю, когда он только что успеет взять ход. А может быть, и уйти успеет?
Капитан решил: пусть будет какой-нибудь ветер, и пообещал в душе отдать сына в монахи, если хоть через час подует ветер.
А на палубе матрос кричал:
— В воду его, чего смотреть, ждать некогда!
Грицку смешно было смотреть, как люди серьезно обсуждали: головой пустить вниз статую или привязать за шею?
11. Шквал
Пираты были совсем близко. Видно было, как часто ударяли весла. Можно было различить и кучку народа на носу переднего судна. Красные паруса были убраны: они мешали теперь ходу.
Мачты с длинными гибкими рейками покачивались на зыби, и казалось, что не длинная галера на веслах спешит к кораблю, а к лакомому куску ползет сороконожка и бьет от нетерпения лапами по воде, качает гибкими усами.
Теперь было не до статуи, ветра никто уже не ждал, все стали готовиться к бою. Капитан вышел в шлеме. Он был красен от вина и волнения. Дюжина стрелков залезла на марс, чтобы сверху бить стрелами врага. Марс был огорожен деревянным бортом. В нем были прорезаны бойницы. Стрелки стали молча размещаться. Вдруг один из них закричал:
— Идет! Идет!
На палубе все задрали вверх головы.
— Кто идет? — крикнул с юта капитан.
— Ветер идет! Встречный с запада!
Действительно, с марса и другим была видна черная кайма у горизонта: это ветер рябил воду, и она казалась темной. Полоса ширилась, приближаясь.
Приближались и пираты. Оставалось каких-нибудь четверть часа, и они подойдут к кораблю, который все еще болтал на месте своими черными парусами, как параличный калека.
Все ждали ветра. Теперь уж руки не пробовали оружия — они слегка дрожали, а бойцы озирались то на пиратские суда, то на растущую полосу ветра впереди корабля.
Все понимали, что этим ветром их погонит навстречу пиратам. Удастся ли пройти боковым ветром (галфвинд) наперерез пиратам и удрать у них из-под носу?
Капитан послал комита на марс — поглядеть, велик ли ветер, быстро ли набегает темная полоса. И комит со всех ног пустился по вантам. Он пролез сквозь отверстие (собачью дыру) на марс, вскочил на его борт и побежал выше по стень-вантам. Он еле переводил дух, когда долез до марс-рея, и долго не мог набрать воздуха, чтоб крикнуть:
— Это шквал! Сеньор, это шквал!
Свисток — и матросы бросились на реи. Их не надо было подгонять — они были моряки и знали, что такое шквал.
Солнце в багровом тумане грузно, устало катилось за горизонт. Как нахмуренная бровь, висела над солнцем острая туча. Паруса убрали. Крепко подвязали под реями. Корабль затаил дух и ждал шквала. На пиратов никто не глядел, все смотрели вперед.
Вот он гудит впереди. Он ударил по мачтам, по реям, по высокой корме, завыл в снастях. Передний бурун ударил в грудь корабль, хлестнул пеной на бак и понесся дальше. Среди рева ветра громко, уверенно резанул уши свисток комита.
12. Рифы
Команда ставила на корме косую бизань. На фок-мачте ставили марсель — но как его уменьшили! — риф-сезни связали в жгут его верхнюю половину, и он, как черный ножик, повис над марсом.
Красный закат предвещал ветер, и, как вспененная кровь, рвалось море навстречу мертвой зыби.
И по этой толчее, накренясь лихо на левый борт, рванул вперед венецианский корабль.
Корабль ожил. Ожил капитан, он шутил:
— Кажется, чересчур напугали Антония. Эти разбойники и скрягу заставят раскошелиться.
А команда, шлепая босыми ногами по мокрой палубе, тащила с почтением несчастную статую на место.
О пиратах никто теперь не думал. Шквал им тоже наделал хлопот, а теперь сгустившийся кровавый сумрак закрыл от них корабль. Дул сильный ровный ветер с запада. Капитан прибавил парусов и шел на юг, чтоб за ночь уйти подальше от пиратов. Но корабль плохо шел боковым ветром — его сносило вбок, он сильно дрейфовал. Высокий ют брал много ветра. Пузатые паруса не позволяли идти под острым углом, и ветер начинал их полоскать, едва рулевой пытался идти острее, «круче».
В суматохе аргузин забыл про Грицка, а он стоял у борта и не сводил глаз с моря.
13. На буксире
Наутро ветер «отошел»: он стал дуть больше с севера. Пиратов нигде не было видно. Капитан справлялся с картой. Но за ночь нагнало туч, и капитан не мог по высоте солнца определить, где сейчас корабль. Но он знал приблизительно.
Все люди, которые правили кораблем, невольно, без всякого усилия мысли, следили за ходом корабля, и в уме само собою складывалось представление, смутное, но неотвратимое: люди знали, в каком направлении земля, далеко ли они от нее, и знали, куда направить корабль, чтоб идти домой. Так птица знает, куда ей лететь, хоть и не видит гнезда.
И капитан уверенно скомандовал рулевому, куда править. И рулевой направил корабль по компасу так, как приказал ему капитан. А комит свистел и передавал команду капитана, как поворачивать к ветру паруса. Матросы тянули брасы и «брасопили» паруса, как приказывал комит.
Уже на пятые сутки, подходя к Венеции, капитан приказал переменить паруса на белые и поставить за кормой парадный флаг.
Грицка и болгарина заковали в цепи и заперли в душной каморке в носу. Венецианцы боялись: берег был близко, и кто их знает? Бывало, что невольники прыгали с борта и добирались вплавь до берега.
На корабле готовили другой якорь, и аргузин, не отходя, следил, как его привязывали к толстому канату.
Был полдень. Ветер еле работал. Он совсем упал и лениво шутил с кораблем, набегал полосами, рябил воду и шалил с парусами. Корабль еле двигался по застывшей воде — она была гладкая и казалась густой и горячей. Парчовый флаг уснул и тяжело висел на флагштоке.
От воды подымалось марево. И, как мираж, подымались из моря знакомые купола и башни Венеции.
Капитан приказал спустить шлюпку. Дюжина гребцов взялась за весла. Нетерпеливый капитан приказал буксировать корабль в Венецию.
14. Буцентавр
Выволокли пленников из каморки, повезли на богатую пристань. Но ничего наши ребята рассмотреть не могли: кругом стража, толкают, дергают, щупают, и двое наперебой торгуют невольников: кто больше. Поспорили, поругались; видит казак — уже деньги отсчитывают. Завязали руки за спину и повели на веревке. Вели вдоль набережной, вдоль спокойной воды. На той стороне дома, дворцы стоят над самым берегом и в воде мутно отражаются, переливаются.
Вдруг слышит Грицко: по воде что-то мерно шумит, плещет, будто шумно дышит. Глянул назад и обмер: целый дворец в два этажа двигался вдоль канала. Такого дома и на земле казак не видал. Весь в завитках, с золочеными колонками, с блестящими фонарями на корме, а нос переходил в красивую статую. Все было затейливо переплетено, перевито резными гирляндами. В верхнем этаже в окнах видны были люди; они были в парче, в шелках.
Нарядные гребцы сидели в нижнем этаже. Они стройно гребли, подымали и опускали весла, как один человек.
— Буцентавр! Буцентавр! — загалдели кругом люди. Все остановились на берегу, придвинулись к воде и смотрели на плавучий дворец.
Дворец поравнялся с церковью на берегу, и вдруг все гребцы резко и сильно ударили три раза веслами по воде и три раза крикнули:
— Ал! ал! ал!
Это Буцентавр по-старинному отдавал салют старинной церкви.

Это главный венецианский вельможа выезжал давать клятву морю. Клятву верности и дружбы. Обручаться, как жених с невестой.
Все смотрели вслед уплывающему дворцу, стояли — не двигались. Стоял и Грицко со стражей. Смотрел на рейд, и каких только судов тут не было!
Испанские галеасы с высоким рангоутом, с крутыми бортами, стройные и пронзительные. Стояли они, как притаившиеся хищники, ласковые и вежливые до поры до времени. Они стояли все вместе кучкой, своей компанией, как будто не торговать, а высматривать пришли они на венецианский рейд.
Плотно, развалисто сидели на воде ганзейские купеческие корабли. Они вразвалку пришли издалека, с севера. Деловито раскрыли ганзейские корабли свои трюмы и выворачивали по порядку плотно набитые товары.
Стая лодок вертелась около них; лодки толкались, пробирались к борту, а ганзейский купец в очередь набивал их товаром и отправлял на берег.
Португальские каравеллы, как утки, покачивались на ленивой волне. На высоком юте, на задранном вверх баке не видно было людей. Каравеллы ждали груза, они отдыхали, и люди на палубе лениво ковыряли иголками с дратвой. Они сидели на палубе вокруг потрепанного погодой грота и ставили толстые заплаты из серой парусины.
А дальше, вдоль набережной, кормой к берегу, стояли длинные блестящие красавицы — венецианские галеры. К ним-то и двинулась стража с Грицком.
15. Галера
Галера стояла кормой к берегу. Сходня, устланная ковром, вела с берега на галеру. Выступ у борта был открыт. Этот борт поднимался над палубой хвастливым изгибом.
Вдоль него бежали тонкой ниткой буртики, канты, а у самой палубы, как четки, шли полукруглые прорези для весел — по двадцать пять с каждого борта.
Комит с серебряным свистком на груди стоял на корме у сходни. Кучка офицеров собралась на берегу.
Ждали капитана.
Восемь музыкантов в расшитых куртках, с трубами и барабанами, стояли на палубе и ждали приказа грянуть встречу.
Комит поглядывал назад на шиурму — на команду гребцов. Он всматривался: при ярком солнце под тентом казалось полутемно, и, только приглядевшись, комит различал отдельных людей: черных негров, мавров, турок, — они все были голы и прикованы за ногу к палубе.
Но все в порядке: люди сидят на своих банках по шести человек правильными рядами справа и слева.
Был штиль, и от нагретой воды канала подымалось зловонное дыхание.
Голые люди держали огромные весла, вытесанные из бревна: одно на шесть человек.
Люди смотрели, чтоб весла стояли ровно.
Дюжина рук напряженно держала валек тяжелого галерного весла.
Аргузин ходил по мосткам, что тянулись вдоль палубы между рядами банок, и зорко поглядывал, чтоб никто не дохнул, не шевельнулся.
Два подкомита — один на баке, другой среди мостков — не спускали глаз с разноцветной шиурмы; у каждого в руке была плеть, и они только смотрели, по какой голой спине пора щелкнуть.
Все томились и задыхались в парном вонючем воздухе канала. А капитана все не было.
16. Кормовой флаг
Вдруг все вздрогнули: издали послышалась труба — тонко, певуче играл рожок. Офицеры двинулись по набережной. Вдали показался капитан, окруженный пышной свитой. Впереди шли трубачи и играли сигнал.
Комит метнул глазом под тент, подкомиты зашевелились и наспех на всякий случай хлестнули по спинам ненадежных; те только ежились, но боялись шевельнуться.
Капитан приближался. Он не спеша важно выступал в середине процессии. Офицер из свиты дал знак на галеру, комит махнул музыкантам, и грянула музыка: капитан по ковру вступал на галеру.
Едва он ступил на палубу, как над кормой тяжело всплыл огромный, шитый золотом флаг. На нем был вышит мишурой и шелками герб, фамильный герб капитана, венецианского вельможи, патриция Пиетро Гальяно.
Капитан посмотрел за борт — в сонную лоснящуюся воду: золотом глянуло из воды отражение шитого флага. Полюбовался. Патриций Гальяно мечтал, чтобы его слава и деньги звенели звоном по всем морям.
Он сделал строгое, надменное лицо и прошел на корму с дорогой, вызолоченной резьбой, с колонками и фигурами.
Там под трельяжем[10], накрытым дорогим ковром, стояло его кресло. Не кресло, а трон.
Все почтительно молчали. Шиурма замерла, и голые люди, как статуи, неподвижно держали на весу тяжелые весла.
Капитан шевельнул рукой — и музыка смолкла. Кивком головы Гальяно подозвал старшего офицера. Офицер докладывал, что галера вооружена, снаряжена, что куплены новые гребцы, что провиант, вода и вино запасены, оружие в исправности. Скривано (писец) стоял сзади со списком наготове — для справок.
17. Шиурма
— Посмотрим, — вымолвил командир.
Он встал с трона, спустился в свою каюту в корме и оглядел убранство и вооружение, что висело по стенам. Прошел в кают-камеру и обозрел все — и запасы и оружие. Он проверял арбалетчиков: заставлял их при себе натягивать тугой арбалет. Один арбалет он приказал тут же выбросить за борт; едва следом не полетел в воду и сам арбалетчик.
Капитан был в гневе. Все трепетали, и комит, подобострастно извиваясь, показывал капитану шиурму.
— Негр. Новый. Здоровый парень… очень даже здоровый.
Капитан поморщился:
— Негры — дрянь. Хороши первый месяц. Потом киснут и дохнут. Военная галера не для тухлого мяса.
Комит опустил голову. Он купил негра по дешевке и втридорога показал цену командиру.
Гальяно внимательно рассматривал гребцов. Они сидели в обычной при гребле позе: прикованная нога опиралась на подножку, а другой ногой гребец упирался в переднюю банку.
Капитан остановился: у одного гребца дрожали руки от напряженного, застывшего усилия.
— Новый? — бросил он комиту.
— Да, да, синьор, новый, славянин. С Днепра. Молодой, сильный чело…
— Турки лучше! — оборвал капитан и отвернулся от новичка.
Грицка б никто не узнал: он был побрит — голый череп, без усов, без бороды, с клочками волос на маковке.
На цепи, как и все эти цепные люди. Он посматривал на цепочку на ноге и приговаривал про себя:
— О це ж дило! И усе через бабу… Сидю, як пес на цепочке…
Ему уже не раз попадало плетью от подкомитов, но он терпел и приговаривал:
— А усе через нее. Только не может же быть того…
Он никак не мог поверить, чтоб так оно все и осталось в этом царстве, где коки прикованы к камбузу, гребцы к палубе, где триста человек здоровых людей дрожат перед тремя плетками комитов.
А пока что Грицко держался за валек весла. Он сидел первым от борта. Главным гребцом на весле считался шестой от борта; он держался за ручку.
Это был старый каторжник. Его приговорили к службе на галере, пока не раскается: он не признавал римского папы, и за это его судили. Он уже десять лет греб и не раскаивался.
Сосед у Грицко был черный — негр. Он блестел, как глазированная посуда. Грицко о него не пачкался и удивлялся. У негра всегда был осоловелый вид, и он грустно хлопал глазами, как больная лошадь.
Негр слегка шевельнул локтем и показал глазами на корму. Комит подносил ко рту свисток.
На свист комита ответили командой подкомиты, грянула музыка, и в такт ей все двести человек согнулись вперед, даже привстали на банках.
Все весла, как одно, рванулись вперед. Гребцы приподняли вальки, и едва лопасти весел коснулись воды, как все люди дернулись, изо всей мочи потянули весла к себе, вытянув руки. Люди падали назад на свои банки, все разом.
Банки подгибались и охали. Хриплый вздох этот повторялся при каждом ударе весел. Его слышали гребцы, но не слышали те, что окружали капитанский трон. Музыка заглушала скрип банок и те слова, которыми перекидывались галерники.
А галера уже оторвалась от берега. Ее пышная корма теперь вся была видна столпившимся любопытным.
Всех восхищали фигуры греческих богов, редкой работы колонки, затейливый орнамент. Патриций Гальяно не жалел денег, и десять месяцев лучшие художники Венеции работали над носовой фигурой и разделкой кормы.
Галера казалась живой. Длинный водяной дракон бил по воде сотней плавников.
От быстрого хода ожил тяжелый флаг и зашевелился. Он важно поворачивался и чванился золотом на солнце.
Галера вышла в море. Стало свежее. Легкий ветер тянул с запада. Но под тентом вздыхали банки, и триста голых людей сгибались, как черви, и с размаху бросались на банки.
Гребцы тяжело дышали, и едкий запах пота носился над всей шиурмой. Теперь музыки не было, бил только барабан, чтоб давать такт гребцам.
Грицко изнемогал. Он только держался за валек весла, чтоб двигаться в такт со всеми. Но бросить, не сгибаться он не мог: задним веслом попадут по спине.
В такт барабану двигалась эта живая машина. Барабан ускорял свой бой, ускоряла работу машина, и люди начинали чаще сгибаться и падать на банки. Казалось, что барабан двигал машину, барабан гнал галеру вперед.
Подкомиты смотрели во все глаза: капитан пробовал шиурму, и нельзя было ударить в грязь лицом. Плетки ходили по голым спинам: подкомиты поддавали пару машине.
Вдруг свисток с кормы — раз и два. Подкомиты что-то крикнули, и часть гребцов сняла руки с весел. Они опустились и сели на палубу.
Грицко не понимал, в чем дело. Его сосед-негр сел на палубу. Грицко получил плеткой по спине и крепче вцепился в валек. Негр схватил его за руки и потянул вниз. А тут в спину налетел валек переднего весла и вовремя сбил Грицка наземь — комит уж нацелился плеткой.
Это капитан приказал грести четырем из каждой шестерки. Он хотел посмотреть, какой получится ход, когда треть команды отдыхает.
Теперь гребли четверо на каждом весле. Двое у борта отдыхали, опустившись на палубу. Грицко в кровь успел уже разодрать себе руки. Но у привычных галерников ладонь была, как подошва, и валек не натирал руки.
Теперь галера шла в открытом море.
Западный ветер гнал легкую зыбь и полоскал борта судна. Мокрые золоченые боги на корме блестели еще ярче. Тяжелый флаг совсем ожил и полоскался в свежем ветре: вельможный флаг расправился, размялся.
18. Правым галсом
Комит коротко свистнул.
Барабан смолк. Это командир приказал остановить греблю.
Гребцы стали втягивать весла на палубу, чтоб уложить их вдоль борта. Матросы убирали тент. Он вырывался из рук и бился на ветру. Другие полезли по рейкам: они отдавали сезни, которыми были плотно подвязаны к рейкам скрученные паруса.
Это были треугольные паруса на длинных гибких рейках. Они были на всех трех мачтах. Новые, ярко-белые. И на переднем было нашито цветное распятие, под ним три герба: папы римского, католического[11] короля и Венецианской республики. Гербы соединены были цепью. Обозначало это крепкий, нерушимый боевой союз трех государств против неверных, против сарацин, мавров, арабов, турок.
Туго расправились на ветре паруса. На свободном углу паруса была веревка — шкот. За нее тянули матросы, и капитан давал приказание, как натянуть: от этого зависит ход судна. Матросы знали свои места, каждый знал свою снасть, и они бросились исполнять приказание капитана. Наступали на измученных гребцов, как на кладь.
Матросы были наемные добровольцы; в знак этого у них оставляли усы. А галерники были каторжники, рабы, и матросы их топтали.
Галера накренилась на левый борт и плавно скользила по зыби. После барабана, стона банок, шума весел спокойно и тихо стало на судне. Гребцы сидели на палубе, опершись спиной о банки. Они вытянули набухшие, затекшие руки и тяжело дышали.
Но за плеском зыби, за говором флагов, что трепались на ноках рейков, не слыхали синьоры на корме под трельяжем говорка, смутного бормотанья, как шум, и ровного, как прибой. Это шиурма от весла к веслу, от банки к банке передавала вести. Они облетали всю палубу, от носа к корме, шли по левому борту и переходили на правый.
19. Комиты
Подкомиты не видели ни одного раскрытого рта, ни одного жеста: усталые лица с полуоткрытыми глазами. Редко кто повернется да звякнет цепочкой.
У подкомитов зоркий глаз и тонкое ухо. Им слышалось среди глухого бормотанья, звяканья цепей, плеска моря — им слышался звук, будто крысы скребут.
«Тихо на палубе, осмелели проклятые!» — думал подкомит и прислушивался — где?
Грицко оперся о борт и свесил меж колен бритую голову с клочком волос на макушке. Поматывая головой, думал о гребле и приговаривал про себя:
— Ще раз так, то я вже сдохну.
Негр отвернулся от своего соседа-турка и чуть не упал на Грицка. Придавил ему руку. Казак хотел ее высвободить. Но негр крепко ее зажал, и Грицко почувствовал, что ему в руку суют что-то маленькое, твердое. Потом разобрал — железка.
Негр глянул полуоткрытым глазом, и Грицко понял: и бровью моргнуть нельзя.
Взял железку. Тихонько пощупал — зубатая.
Пилка!
Маленький жесткий зубатый кусочек. Грицка в пот бросило. Задышал сильней. А негр закрыл совсем глаза и еще больше навалился своим черным скользким телом на Грицкову руку.
Подкомиты прошли, остановились и внимательно посмотрели на изнеможенного негра. Грицко замер. Он весь обвис от страха и хитрости: пусть думают, что он едва жив, до того утомился.
Комиты говорили, а Грицко ждал: вдруг бросятся, поймают на месте.
Он не понимал, что они говорили про неудачно купленного негра.
— Лошадь, настоящая лошадь, а сдохнет. От тоски они дохнут, канальи, — говорили подкомиты. Они прошли дальше, на бак: там их ждал обед.
Загорелая голая нога просунулась острожно между Грицком и негром.
Казак обиделся:
«Тисно, а вин ще пхается».
Нога зашевелила пальцами.
«Ще дразнится!» — подумал Грицко.
Хотел толкнуть ногу в намозоленную подошву. А нога снова нетерпеливо, быстро зашевелила пальцами.
Негр приоткрыл глаз и взглядом указал на ногу. Грицко понял. Он устало переменил позу, навалился на эту голую ногу и засунул между пальцев этот обгрызок пилки.
Негр не шелохнулся. Не двинулся и Грицко, когда нога протянулась назад к соседям.
Порыв веселого ветра набежал на галеру, а с ним зыбина увесисто шлепнула в правый борт. Брызгами обдало по голым телам.
Люди дернулись и звякнули цепями. И в этом шуме Грицко ясно услышал, как шелестом долетел до него звук:
— Якши?[12]
Первое слово, что понял Грицко на галере. Дрогнул, обрадовался. Родными слова показались. Откуда? Поднял глаза, а это турок, что облокотился о черного негра, скосил глаза и смотрит внимательно, серьезно.
Чуть не крикнул казак во всю глотку от радости:
— Якши! Якши!
Да спохватился. И ведь знал-то всего три слова: урус[13], якши да алла[14]. И когда опять зашлепали на палубе матросы, чтобы подобрать шкоты, Грицко успел прохрипеть:
— Якши, якши!
Турок только глазами метнул.
Это ветер «зашел» — стал больше дуть с носу. Галера подобрала шкоты и пошла круче к ветру.
Все ждали, что синьор Пиетро Гальяно повернет назад, чтоб до захода солнца вернуться в порт. Осмотр окончен. Никто не знал тайной мысли капитана.
20. Поход
Капитан отдал приказание комиту. Тот передал его ближайшим к корме гребцам, «загребным», они передали следующим, что держали весла за рукоятку, и команда неслась вдоль галеры к баку по этому живому телефону.
Но чем дальше уходили слова по линии гребцов, тем все больше и больше прибавлялось слов к команде капитана, непонятных слов, которых не поняли б и подкомиты, если б услышали. Они не знали этого каторжного языка галерников.
Капитан требовал, чтоб к нему явился из своей каюты священник. А шиурма прибавляла к этому свое распоряжение.
— Передавай ее дальше, на правый борт.
Слова относило ветром, и слышал их только сосед.
Скоро по средним мосткам затопал, подбирая сутану[15], капеллан. Он спешил и на качке нетвердо ступал по узким мосткам и, балансируя свободной рукой, размахивал четками.
— Отец! — сказал капитан. — Благословите оружие против неверных.
Свита переглянулась.
Так вот отчего галера шпарит правым галсом вкрутую уже три часа кряду, не меняя курса!
Поход!
На свой риск и страх. Партизанский подвиг затеял Гальяно.
— Неверные, — продолжал капитан, — овладели галерой патриция Рониеро. Генуэзские моряки не постыдились рассказать, что это было на их глазах. Должен ли я ждать благословения Совета?
На баке толпились уже вооруженные люди в доспехах, с мушкетами, копьями, арбалетами. Пушкари стояли у носовых орудий.
Капеллан читал латинские молитвы и кропил пушки, мушкеты, арбалеты, спустился вниз и кропил камни, которые служили вместо ядер, глиняные горшки с огненным составом, шарики с острыми шипами, которые бросают при атаке на палубу врагам. Он только остерегся кропить известь, хотя она и была плотно укупорена в засмоленных горшках.
Шиурма знала уже, что это не проба, а поход.
Старый каторжник, что не признавал папы римского, что-то шепнул переднему гребцу. И пока на баке все тянули в голос «Те deum», быстро, как ветер бежит по траве, зашелестели слова от банки к банке. Непонятные короткие слова.
21. Свежий ветер
Ветер, все тот же юго-западный ветер, дул весело и ровно. Начал играючи, а теперь вошел в силу, гнал бойкую зыбь и плескал в правую скулу галеры.
А галера рылась в зыбь, встряхивалась, отдувалась и рвалась вперед, на другой гребень.
Поддает зыбь, блестят брызги на солнце и летят в паруса, обдают людей, что столпились на баке.
Там солдаты с подкомитом говорили про поход. Никто не знал, что затеял Пиетро Гальяно, куда он ведет галеру.
Всем выдали вина после молебна; тревожно и весело было людям.
А на юте, под трельяжем, патриций сидел на своем троне, и старший офицер держал перед ним карту моря. Комит стоял поодаль у борта и старался уловить, что говорит командир с офицером. Но комит стоял на ветру и ничего не слышал.
Старый каторжник знал, что Гальяно здесь врага не встретит. Знал, что такой погодой они к утру выйдут из Адриатики, а там… Там пусть только нападут…
Матросы разносили суп гребцам. Это были вареные фиги, и там плавало сверху немного масла. Суп давали в море через день — боялись, чтоб еда не отяготила гребцов на их тяжелой работе. Негр не ел — он тосковал на цепи, как волк в клетке.
К вечеру ветер спал, паруса обессиленно повисли. Комит свистнул.
Матросы убирали паруса, лазая по рейкам, а гребцы взялись за греблю.
22. На юте
И опять барабан забил дробь — четко, неумолимо отбивал он такт, чтобы люди бросались вперед и падали на банки. И опять все триста гребцов, как машина, заработали тяжелыми, длинными веслами.
Негр вытягивался всей тяжестью на весле, старался, даже скалился. Пот лил с него, он блестел, как полированный, и банка под ним почернела — промокла. То вдруг силы оставляли этого громадного человека, он обмякал, обвисал и только держался за валек слабыми руками, и пятеро товарищей чувствовали, как тяжело весло: грузом висело черное тело и мешало грести.
Старый каторжник глянул, отвернулся и еще сильней стал налегать на ручку.
А негр водил мутными глазами по сторонам — он уже ничего не видел и собирал последнюю память. Память обрывалась, и негр уж плохо понимал, где он, но все же в такт барабану сгибался и тянулся за вальком весла.
Вдруг он пустил руки: они сами разжались и выпустили валек.
Негр рухнул спиной на банку и скатился вниз. Товарищи посмотрели и скорей отвернулись: они не хотели глядеть на него, чтобы не обратить внимания подкомитов.
Но разве что укроется от подкомита?
Уже двое с плетьми бежали по мосткам: они увидали, что пятеро гребут, а шестого нет на Грицковой банке. Через спины людей подкомит хлестнул негра. Негр слабо дернулся и замер.
— А, скотина! Валяться? Валяться? — шипел подкомит и со злостью, с яростью хлестал негра.
Негр не двигался. Мутные глаза остановились. Он не дышал.
Комит с юта острым глазом все видел. Он сказал два слова офицеру и свистнул.
Весла стали.
Галера с разгону шла вперед, шумела вода под форштевнем.
Комит пошел по мосткам, подкомиты пробирались между банок к негру.
— Что? Твой негр! — крикнул вдогонку комиту Пиетро Гальяно.
Комит повел лопатками, как будто камнем ударили в спину слова капитана, и ускорил шаги.
Он вырвал плеть у подкомита, сжал зубы и изо всей силы стал молотить плеткой черный труп.
— Сдох!.. Сдох, дьявол! — злился и ругался комит.
Галера теряла ход. Комит чувствовал, как зреет на юте гнев капитана. Он спешил.
Каторжный кузнец уже возился около ноги покойного. Он заметил, что цепочка надпилена, но смолчал. Гребцы смотрели, как подкомиты поднимали и переваливали через борт тело товарища. Комит последний раз изо всей злой силы резнул плетью по мертвому телу, и с шумом плюхнуло тело за борт.
Стало темно, и на корме зажгли над трельяжем фонарь, высокий, стройный, в полчеловеческого роста фонарь, разукрашенный, с завитками, с фигурами, с наядами на подножке. Он вспыхнул желтым глазом через слюдяные стекла.
Небо было ясное, и теплым светом горели звезды — влажным глазом смотрели с неба на море.
Из-под весел белой огненной пеной подымалась вода — это горело ночное море, и смутным, таинственным потоком выбегала в глубине струя из-под киля и вилась за судном.
Гальяно пил вино. Ему хотелось музыки, песни. Хорошо умел петь второй офицер, и вот Гальяно приказал замолчать барабану. Комит свистнул. Дробь оборвалась, и гребцы подняли весла.
Офицер пел, как певал он дамам на пиру, и все заслушались: и галерники, и свита, и воины. Высунулся из своей каюты капеллан, вздыхал и слушал грешные песни.
Под утро побежал свежий трамонтан и полным ветром погнал галеру на юг. На фордевинд шла галера, откинув свой косой фок направо, а грот — налево. Как бабочка распустила крылья.
Усталые гребцы дремали. Гальяно спал в своей каюте, и над ним покачивалось на зыби и говорило оружие. Оно висело на ковре над койкой.
Галера вышла в Средиземное море. Вахтенный на мачте осматривал горизонт.
Там, на верхушке, мачта распускалась, как цветок, как раструб рога. И в этом раструбе, уйдя по плечи, сидел матрос и не спускал глаз с моря.
И вот за час до полудня он крикнул оттуда:
— Парус! — и указал на юг прямо по курсу корабля.
Гальяно появился на юте. Проснулись гребцы, зашевелились на баке солдаты.
23. Саэта
Корабли сближались, и теперь все ясно видели, как, круто вырезаясь против ветра в бейдевинд, шел сарацинский корабль — саэта, длинная, пронзительная, как стрела.
Пиетро Гальяно велел поднять на мачте красный флаг — вызов на бой.
Красным флагом на рейке ответила сарацинская саэта — бой принят.
Пиетро Гальяно велел готовиться к бою и спустился в каюту.
Он вышел оттуда в латах и шлеме, с мечом на поясе. Теперь он не садился в свое кресло, он ходил по юту — сдержанно, твердо.
Он весь напрягся, голос стал звончей, верней и обрывистей. Удар затаил в себе командир, и все на корабле напряглись, приготовились. Из толстых досок городили мост. Он шел посередине, как пояс, от борта к борту над гребцами. На него должны забраться воины, чтоб оттуда сверху разить сарацин из мушкетов, арбалетов, сыпать камнями и стрелами, когда корабли сцепятся борт о борт на абордаж.
Гальяно метился, как лучше ударить в неприятеля.
На саэте взялись за весла, чтоб лучше управляться, — трудно идти вкрутую против ветра.
24. «Снаветра»
А Гальяно хотел подойти «снаветра», чтоб по течению ветра сарацины были ниже его.
Он хотел с ходу ударить саэту в скулу острым носом, пробить, с разгону пройтись по всем ее веслам с левого борта, поломать их, своротить, сбросить гребцов с банок и сразу же засыпать врага стрелами, камнями, как ураган, обрушиться на проклятых сарацин.
Все приготовились и только изредка шепотом переговаривались отрывисто, крепко.
На шиурму никто не глядел, о ней забыли и подкомиты.
А старому каторжнику на каторжном языке передавали:
— Двести цепочек!
А он отвечал:
— По моему свистку сразу.
Казак взглядывал на старика, не понимал, что затевают и когда надо. Но каторжник отворачивал лицо, когда Грицко не в меру пялился.
На баке уже дымились фитили. Это приготовились пушкари у заряженных орудий. Они ждали — может быть, ядрами захочет встретить командир неприятельскую саэту.
Начальник мушкетеров осмотрел стрелков. Оставалось зажечь фитили на курках. Надавят мушкетеры крючок, и фитили прижмутся к затравкам[16]. Тогдашние тяжелые мушкеты палили, как ручные пушки.
Саэта, не меняя курса, шла навстречу венецианцам. Оставалось минут десять до встречи.
Десять стрелков пошли, чтоб взобраться на мост.
И вдруг свист, резкий, пронзительный, разбойничий свист резанул уши.
Все обернулись и обомлели.
Каторжная шиурма встала на ноги. Если б деревянная палуба стала вдруг дыбом на всем судне, не так бы изумилась команда. И солдаты минуту стояли в ужасе, как будто на них неслось стадо мертвецов.
Люди дергали своими крепкими, как коренья, руками надпиленные цепи. Рвали, не жалея рук. Другие дергали прикованной ногой. Пусть нога прочь, но оторваться от проклятой банки.
Но это была секунда, и двести человек вскочили на банки.
Голые в рост, они побежали по скамьям, с воем, с звериным ревом. Они лязгали обрывками цепей на ногах, цепи бились на бегу по банкам. Обгорелые, черные, голые люди с озверелыми лицами прыгали через снасти, опрокидывали все по дороге. Они ревели от страха и злобы. С голыми руками против вооруженных людей, что стояли на баке!
Но с юта грянул выстрел. Это синьор Гальяно вырвал мушкет у соседа, выпалил. Выпалил в упор по наступавшим на него галерникам. Вырвал из ножен меч. Лицо перекосилось от бешенства.
— Проклятые изменники! — хрипел Гальяно, махал мечом, не подпуская к трельяжу. — Сунься!
Выстрел привел в память людей на баке. Из арбалетов полетели стрелы.
Гребцы падали.
Но те, кто рвался на бак, ничего не видели: выли звериным голосом, не слышали выстрелов, неудержимо рвались вперед, наступали на убитых товарищей и лезли ревущей тучей. Они бросались, хватали голыми руками мечи, лезли на копья, падали, а через них прыгали задние, бросались, душили за горло солдат, впивались зубами, рвали и топтали комитов.
Пушкари, не зная для чего, выпалили в море.
А галерники сталкивали солдат с борта, другие, обезумевшие, топтали и коверкали убитых солдат. Мавр огромного роста крушил обломком арбалета все кругом — и своих и чужих.
А на юте, у трельяжа, синьор Гальяно рванулся вперед на галерников. Поднял свой меч, и люди на минуту стали: бешеных, цепных людей остановила решимость одного человека.
Но не успели офицеры поддержать своего синьора: старый каторжник бросился вперед, головой ударил командира, и вслед за ним голая толпа залила трельяж с воем и ревом.
Двое офицеров сами бросились в воду. Их утопили тяжелые латы.
А галера без рулевого стала в ветер, и он трепал, полоскал паруса, и они тревожно, испуганно бились.
Хлопал и бормотал над трельяжем тяжелый штандарт Пиетро Гальяно. Синьора уже не было на судне — его сбросили за борт.
Комита люди, сорвавшиеся с цепи, разорвали в клочья. Галерники рыскали по судну, выискивали притаившихся в каютах людей и били без разбора и пощады.
25. Оверштаг
Сарацины не понимали, что случилось. Они ждали удара и удивлялись, почему нелепо дрейфует, ставши в ветер, венецианская галера.
Военная хитрость? Сдача?
И саэта сделала поворот, оверштаг, и направилась к венецианской галере.
Сарацины приготовили новое оружие. Они насажали в банки ядовитых отвратительных змей и этими банками готовились закидать неприятельскую палубу.
Венецианская шиурма была почти вся из моряков, взятых с мавританских и турецких судов; они знали парусное дело и повернули галеру левым бортом к ветру. Левым галсом пошла навстречу сарацинам венецианская галера под командой турка, Грицкова соседа. Старого каторжника зарубил синьор Гальяно, и он лежал под трельяжем, уткнувшись лицом в окровавленный ковер.
Флаг Гальяно шумел по-прежнему на ветру на крепком флагштоке. Сарацины видели кормовой флаг на своем месте — значит, венецианцы не сдаются, идут на них.
Сарацины приготовили железные крючья, чтоб сцепиться борт о борт. Они шли под парусами правым галсом навстречу галере.
Но вот на трельяж влез голый человек, черный и длинный. Он поймал вьющийся штандарт за угол, а тот бился и вырывался у него из рук, как живой.
Это великан мавр решил сорвать кормовой флаг. Он дергал. Флаг не поддавался. Он рванул, повис на нем — затрещала дорогая парча, флаг сорвался и вместе с мавром полетел за борт.
Все турки из шиурмы собрались на баке; они кричали по-арабски сарацинам, что капитана нет, нет солдат, что они, галерники, сдают судно.
Рулевой приводил к ветру. Передний парус, фок, подтянули шкотом так, что он стал против ветра и работал назад, а задний, грот, вытянули шкотом втугую, и он слабо работал вперед.
Галера легла в дрейф.
Она едва двигалась вперед и рыскала, то катясь под ветер, то выбегая на ветер. Осторожно подходили к ней саранцы, все еще не доверяя.
Мало ли хитростей в морской войне!
Оружие было наготове.
Турки клялись аллахом и показывали порванные цепи.
Сарацины стали борт о борт и взошли на палубу.
26. В дрейф
Это были марокканские арабы. Они были в красивых чеканной работы шлемах и латах — в подвижных, легких чешуйчатых латах. В этой броне они ловко и гибко двигались и блестели чешуей на солнце, как змеи. Убитые галерники валялись среди окровавленных банок, многие так и оставались на цепи, простреленные пулями и стрелами солдат.
Мавры-галерники наспех объясняли землякам, что случилось. Они говорили все сразу.
Сарацинский капитан все уже понял. Он велел всем молчать.
Теперь, после гама и рева, первый раз стало тихо, и люди услышали море, как оно билось между бортами судов.
Галера осторожно продвигалась вперед, лежа в дрейфе, ждала своей участи, и только чуть полоскал на ветру уголок высокого паруса.

Сарацинский капитан молчал и обводил глазами окровавленную палубу, убитых людей и нежные белые крылья парусов. Галерники смотрели на сарацина и ждали, что он скажет. Он перевел глаза на толпу голых гребцов, посмотрел с минуту и сказал:
— Я даю свободу мусульманам. Неверные пусть примут ислам. Вы подняли руку на врагов, а они на своих.
Глухой ропот прошел по голой толпе.
Турок, Грицков сосед, вышел, стал перед сарацинским капитаном, приложил руку ко лбу, потом к сердцу, набрал воздуху всей грудью, выпустил и снова набрал.
— Шейх! — сказал турок. — Милостивый шейх! Мы все — одно. Шиурма — мы все. Зачем одним свобода, другим нет? Они все наши враги были, эти, которых мы убили. А мы все на одной цепочке были, одним веслом гребли, и правоверные и неверные. Одной плеткой нас били, один хлеб мы ели, шейх. Вместе свободу добывали. Одна пусть судьба наша будет.
И опять стало тихо, только вверху, как трепетное сердце, бился легкий парус.
Шейх смотрел в глаза турку, крепко смотрел, и турок уперся ему в глаза. Смотрел, не мигая, до слез.
И все ждали.
И вдруг улыбнулся сарацин.
— Хорошо ты сказал, мусульманин. Хорошо! — Показал рукой на убитых и прибавил: — Смешалась ваша кровь в бою. Будет всем одно. Убирайте судно.
Он ушел, перескочил на свою саэту.
Все завопили, загомонили и не знали, за что приняться.
Радовались, кто как умел: кто просто махал руками, кто дубасил до боли кулаком по борту галеры, другой кричал:
— Ий-алла! Ий-алла!
Сам не знал, что кричал, и не мог остановиться.
Грицко понял, что свобода, и орал вместе со всеми. Он кричал в лицо каждому:
— А я ж казав! А я ж казав!
Первый опамятовался Грицков турок. Он стал звать к себе людей. Он не мог их перекричать и манил руками. Турок показывал на раненых.
И вдруг гомон стих.
Шиурма принялась за дело. С сарацинской саэты пришли на помощь. Отковали тех, кто не успел перепилить цепи и остался у своей банки.
Когда взяли тело старого каторжника, все притихли и долго смотрели в мертвое лицо товарища — не могли бросить в море. Сарацины его не знали. Они подняли его. Зарычала цепочка через борт, загремела, и приняло море человека.
И все отвернулись от борта. Шепотом говорили на своем каторжном языке и мыли кровавую палубу.
Теперь флаг с полумесяцем развевался на мачте. Галера послушно шла в кильватер сарацинской саэте.
Сарацинский моряк теперь вел венецианскую галеру в плен к африканским берегам.
27. У сарацин
Толпа стояла на берегу, когда в залив влетела полными парусами ловкая саэта. За ней шла, не отставая, как за хозяином, в свой плен галера с затейливо разубранной кормой, в белых нарядных парусах на гибких рейках.
Саэта стала на якорь, и галера следом за ней стала в ветер и тоже отдала якорь. Шиурма мигом сбила и убрала паруса.
На берегу поняли, что саэта привела пленницу. Толпа кричала. Народ палил в воздух из мушкетов. Странно было смотреть на эту новую, блестящую галеру, без царапинки, без следов боя и трепки — здесь, в мавританской бухте, рядом с сарацинской саэтой.
Шейх исполнил свое слово: всякий галерник волен был идти куда хочет. И Грицко долго объяснял своему турку, что он хочет домой, на Украину, на Днепр.
А турок и без слов знал, что всякий невольник хочет домой, только не мог растолковать казаку, что надо ждать случая.
Казак, наконец, понял самое главное: что не выдаст турок, каторжный товарищ, и решил: «Буду его слушать…»
И стал жить у сарацин.
В бухте стояло около десятка разных судов.
Некоторые были так ловко выкрашены голубой краской, что ленивому глазу трудно было их сразу заметить в море. Это сарацинские пикеты красили так свои фюсты, чтоб незаметно подкрадываться к тяжелым купеческим судам.
Это были маленькие галеры, ловкие, юркие, с одной мачтой. Их легко подбрасывала мелкая зыбь в бухте. Казалось, им не сидится на месте, вот-вот сорвутся, понесутся и ужалят, как ядовитое насекомое.
У бригантин форштевень переходил в острый и длинный клюв. Бригантины смотрели вперед этим клювом, как будто целились. Корма выгибалась фестоном и далеко свешивалась над водой.
Весь ют был поднят. Из портов кормовой надстройки торчали бронзовые пушки, по три с каждого борта.
Турок показывал казаку на бригантину и что-то успокоительно бормотал. Казак ничего не понимал и кивал головой: понимаю, дескать, хорошо, спасибо.
Много хотелось Грицку сказать галернику-турку, да не мог ничего и только приговаривал:
— Якши, якши.
Сидел на песке, смотрел на веселую бухту, на сарацинские суда и загадывал:
— Через год буду дома… хоть бы через два… а вдруг на рождество! — И вспомнил снег. Взял рукой горсть красноватого горячего песку, сдавил, как снежок. Не клеится. Рассыпался, как вода.
Арабы ходили мимо в белых бурнусах, скрипели черными ногами по песку. Зло посматривали на казака. А Грицко отворачивался и все смотрел на веселую бухту, навстречу ветру.
28. Бухта
Фелюга стояла на берегу. Кольями она была подперта в борта и сверху прикрыта парусом, чтоб не рассохлась на солнце. Спала, как под простыней. Парус навесом свешивался с борта. В тени его лежали арабы. Они спали, засунув головы под самое пузо сонной фелюги, как щенки под маткой.
А мелкий прибой играл и ворочал ракушей под берегом. Ровно и сладко.
В углу бухты мальчишки купали коней, кувыркались в воде, барахтались. Мокрые лошади блестели на солнце, как полированные. Загляделся казак на коней.
Вдруг вдали показался верховой араб в белом бурнусе, на вороной лошади. Длинный мушкет торчал из-за спины. Он проскакал мимо мальчишек, что-то им крикнул. Мальчишки мигом вскочили на коней и в карьер поскакали от берега.
Араб ехал к Грицку и по дороге что-то кричал фелюжникам.
Фелюжники проснулись, помигали со сна с минуту и вдруг вскочили, как пружины. Они мигом выбили подпорки, облепили фелюгу и с криком дернули ее к морю. Верховой осадил коня, глянул зверем на Грицка, заорал грозно и замахнулся плеткой. Грицко встал и отбежал в сторону.
Араб пугнул его конем в два прыжка. Поднял на дыбы лошадь и повернул ее в воздухе. Ударил острыми стременами в бока и полетел дальше. Скоро весь берег покрылся народом — белыми бурнусами, полосатыми хламидами. Бабы арабские стояли на пригорке.
Все смотрели в море.
Это сторожевые с горы дали знать, что с моря идет парус. Не сарацинский парус. Фелюга уже рыскала по бухте от судна к судну: передавала приказ шейха готовиться сняться в море.
А на берегу зажгли костер.
Какая-то старая, высохшая женщина стояла у костра и держала за крылья петуха.
Петух перебирал в воздухе лапами и стеклянными глазами смотрел на огонь.
Старуха раскачивалась и что-то бормотала.
Грудь до самого пояса была вся в толстых бусах, в монетах, в раковинах. Бусы переливчато бренчали, тоже говорили.
Народ стоял кружком и молчал.
Старуха кинула в огонь ладану, и сладкий дым понесло ветром вбок, где за мысом синело яркой синью Средиземное море.
Старухе подали нож. Она ловко отхватила петуху голову и бросила ее в огонь.
Все отошли: теперь начиналось самое главное.
Петуха общипывала старуха и проворно работала черными костлявыми пальцами и пускала перья по ветру.
Теперь все смотрели, куда полетят петушьи перья. Перья летели по ветру: они летели к мысу, летели к Средиземному морю.
Значит, удача.
И шейх дал приказ фюстам выйти в море.
Полетели бы перья в аул — сарацины остались бы в бухте.
Арабы бросились к фелюгам.
А женщины остались со старухой у костра, и она еще долго бурливо гремела бусами и бормотала нараспев старинные заклинания.
Две фюсты первые вырвались в море.
Они пошли в разведку с темными парусами на мачтах.
Их скоро не стало видно: они как растворились в воздухе.
Бригантины на веслах выгребались из залива.
Грицко влез на пригорок и следил за сарацинскими судами и европейским парусом.
Парус шел прямо к бухте — спокойно и смело.
29. Славянский неф
Грицков турок нашел своего товарища. Он тянул Грицка вниз на берег и что-то серьезно и тревожно говорил. Все повторяли одно, но казак ничего не понимал. Однако пошел за турком — он ему верил: крепко каторжное слово.
Это сарацины собрали всех христиан в кружок, чтобы все на глазах были, чтоб не давали своим сигналов. Пересчитали и хватились Грицка.
Христиане сидели в кружке на берегу, а вокруг стояли сарацины с копьями. Турок привел казака и сам остался в кружке. Грицко осмотрелся — вся шиурма была тут: мусульмане-галерники не хотели покидать товарищей. Они сидели впереди и коротко переругивались со стражей.
Но вот все поднялись, засуетились.
В бухту вернулась бригантина. Она вошла и отдала якорь на своем месте. Скоро весь сарацинский флот был в бухте.
Неужели отступили, спрятались в бухту от одного корабля?
Но вот в проходе появился высокий корабль. Он тяжело, устало входил в бухту под одним парусом. Осторожно пробирался в чужом месте далекий путник.
Стража разошлась. Галерники разбрелись. Казак не понимал, что случилось. Решил, что христиане сдались без боя.
Дюжина фелюг обступила корабль. Все старались пробиться к борту.
Турок, увязая ногами в песке, бежал к Грицку и что-то кричал. Он улыбался всеми зубами, кричал изо всей силы Грицку в ухо раздельно, чтоб понял казак. И все смеялся, весело, радостно. Наконец шлепнул Грицка по спине и крикнул:
— Якши, якши, урус, чек якши!
И потащил его за руку бегом к каику.
Узкий каик уже отчаливал от берега, гребцы, засучив шаровары, проводили каик на глубокое место. Их обдавало по грудь зыбью, каик вырывался, но люди смеялись и весело кричали.
На крик турка они оглянулись. Остановились. Закивали головами.
Турок пихал Грицка в воду, торопливо толкал, показывая на каик. Грицко пошел в воду, но оглянулся на турка. Турок, высоко поднимая ноги, догнал Грицка и потащил дальше. Смеялся, скалил зубы.
Гребцы гукнули и разом вскочили с обоих бортов в узкий каик. Зыбью рвануло каик к берегу, но весла уж были на месте и дружно ударили по воде.
Прибой, играя, поставил чуть не дыбом каик. Арабы весело осклабились и налегли, так что затрещали шкармы. Каик рванулся, прыгнул на другой гребень раз и два и вышел за пену прибоя. Грицко видел, что его везут к христианскому кораблю. Прогонистый каик, как ножом, резал воду. А турок, знай, хлопал казака по спине и приговаривал:
— Якши, дели баш!
Грицко немного побаивался. Может, думают, что ему к христианам хочется: был он уж у одних. Да надеялся на каторжного товарища. Этот понимает!
По трапу влез Грицко за турком на корабль. С опаской глянул на хозяев.
Что за люди? Двое к нему подошли. Они были в белых рубашках, в широких шароварах, в кожаных постолах на ногах. Что-то знакомое мелькнуло в длинных усах и усмешке.
Они, смеясь, подошли к нему.
Турок по-своему что-то сказал им.
И вдруг один сказал, смеясь:
— Добры день, хлопче!
Казак так и обмер. Рот разинул, и дыханье стало. Если б кошка залаяла, если б мачта по-человечьи запела, не так бы он удивился.
Казак все смотрел, испуганно, как спросонья, хлопал глазами. А христианский моряк смеялся. Хохотал и турок и от радости приседал и стукал Грицка ладошкой в плечо:
— А дели, дили-сен, дели!
30. До хаты
Это был славянский корабль. Он пришел к маврам с товаром издалека, с Далматского берега, из Дубровки. Небогатый был корабль у дубровичан — из-под топора все.
И одеты хорваты-дубровичане были просто: в портах да рубахах.
Пахло на судне смолой да кожей.
Не свой, чужой товар развозило по всему Средиземному морю славянское судно — ломовое судно. Как ломовые дроги, смотрело оно из-под смолы и дегтя, которым вымазали дубровичане и борта и снасти. В заплатах были их паруса, как рабочая рубаха у сносчика.
Люди на судне приветливо встретили казака, и не мог Грицко наговориться. Слушал турок непонятную славянскую речь и все смеялся, тер себе ладошками бока и скалил зубы.
Потом заговорил с хорватами по-турецки.
— Это он спрашивает, переправим ли тебя домой, — сказали Грицку хорваты и побожились турку, что поставят казака на дорогу, будет он дома.
Через год только добился казак до своих мест. Сидел на завалинке под хатой и в сотый раз землякам рассказывал про плен, про неволю, про шиурму.
И всегда кончал одним:
— Бусурманы, бусурманы… А вот на того турка я ридного брата не сменяю.
1
Ребра эти называются шпангоутами.
2
Это бревно, покрывающее шпангоуты, называется кильсоном.
3
Хорош русский.
4
Наргиле — кальян, прибор для курения.
5
Фок-мачта.
6
Грот-мачта.
7
Бизань-мачта.
8
Надстройка — по-морскому — бак.
9
Мушкеты — тяжелые, старинные ружья, кончавшиеся раструбом.
10
Трельяж — решетчатый навес. Он сводом перекрывает ют венецианской галеры.
11
Испанского.
12
Якши — хорошо.
13
Урус — русский.
14
Алла — бог.
15
Сутана — одеяние католических священников.
16
Затравка — отверстие в казенной (задней) части пушки или ружья, через которое поджигают заряд.
Джарылгач
Новые штаны
Это хуже всего — новые штаны. Не ходишь, а штаны носишь: все время смотри, чтоб не капнуло или еще там что-нибудь. Зовут играть — бойся. Из дому выходишь — разговоров этих! И еще мать выбежит и вслед кричит на всю лестницу: «Порвешь — лучше домой не возвращайся!» Стыдно прямо. Да не надо мне этих штанов ваших! Из-за них вот все и вышло.
Старая фуражка
Фуражка была прошлогодняя. Немного мала, правда. Я пошел в порт, последний уж раз: завтра ученье начиналось. Все время аккуратно, между подвод прямо змеей, чтоб не запачкаться, не садился нигде, — все это из-за штанов проклятых. Пришел, где парусники стоят, дубки. Хорошо: солнце, смолой пахнет, водой, ветер с берега веселый такой. Я смотрел, как на судне двое возились, спешили, и держался за фуражку. Потом как-то зазевался, и с меня фуражку сдуло в море.
На дубке
Тут один старик сидел на пристани и ловил скумбрию. Я стал кричать: «Фуражка, фуражка!» Он увидал, подцепил удилищем, стал подымать, а она вот-вот свалится, он и стряхнул ее на дубок. За фуражкой можно ведь пойти на дубок? Я и рад был пойти на судно. Никогда не ходил, боялся, что заругают.
С берега на корму узенькая сходня, и страшновато идти, а я так, поскорей.
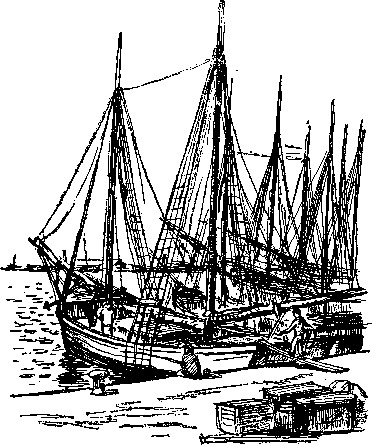
Я стал нарочно фуражку искать, чтоб походить по дубку, очень приятно на судне. Пришлось все-таки найти, и я стал фуражку выжимать, а она чуть намокла. А эти, что работали, и внимания не обратили. И без фуражки можно было войти. Я стал смотреть, как бородатый мазал дегтем на носу машину, которой якорь подымают.
С этого и началось
Вдруг бородатый перешел с кисточкой на другую сторону мазать. Увидал меня да как крикнет: «Подай ведерко! Что, у меня десять рук, что ли? Стоит, тетеря!» Я увидал ведерко со смолой и поставил около него. А он опять: «Что, у тебя руки отсохнут — подержать минуту не можешь!» Я стал держать. И очень рад был, что не выгнали. А он очень спешил и мазал наотмашь, как зря, так что кругом деготь брызгал, черный такой, густой. Что ж мне, бросать, что ли, ведерко было? Смотрю, он мне на брюки капнул раз, а потом капнул сразу много. Все пропало: брюки серые были.
Что же теперь делать?
Я стал думать: может быть, как-нибудь отчистить можно? А в это время как раз бородатый крикнул: «А ну, Гришка, сюда, живо!» Матрос подбежал помогать, а меня оттолкнул, я так и сел на палубу, карманом за что-то зацепился и порвал. И из ведерка тоже попало. Теперь совсем конец. Посмотрел: старик спокойно рыбу ловит, — стоял бы я там, ничего б и не было.
Уж все равно
А они на судне очень торопились, работали, ругались и на меня не глядели. Я и думать боялся, как теперь домой идти, и стал им помогать изо всех сил: «Буду их держаться» — и уж ничего не жалел. Скоро стал, как черт: весь перемазался, и рожу тоже. Этот, с бородой, был хозяин; Опанас его зовут.
Пришел третий
Я все Опанасу помогал: то держал, то приносил, и все делал со всех ног, кубарем. Скоро пришел третий, совсем молодой, с мешком, харчи принес и сдачи. Стали паруса готовить, а у меня сердце екнуло: выбросят на берег и мне теперь некуда идти. И я стал как сумасшедший.
Стали сниматься
А они уж все приготовили, и я жду, сейчас скажут: «А ну, ступай!» И боюсь глядеть на них. Вдруг Опанас говорит: «Ну, мы снимаемся, иди на берег». У меня ноги сразу заслабли. Что ж теперь будет? Пропал я. Сам не знаю, как это снял фуражку, подбежал к нему: «Дядя Опанас, — говорю, — дядя Опанас, я с вами пойду, мне некуда идти, я все буду делать». А он: «Потом отвечай за тебя». А я скорей стал говорить: «Ни отца у меня, ни матери, куда мне идти?» Божусь, что никого у меня, все вру: папа у меня — почтальон. А он стоит, какую-то снасть держит и глядит не на меня, а что Григорий делает. Сердито так.
Так и остался я
Как гаркнет: «Отдавай кормовые!» Я слыхал, как сходню убирают, а сам все лопочу: «Я все буду делать, в воду полезу, куда хотите, посылайте». А Опанас как будто не слышит. Потом все стали якорь подымать машиной: как будто воду качают на носу этой самой машиной — брашпилем. Я старался изо всех сил и ни о чем не думал, только чтоб скорей отойти, только чтоб не выкинули.
Сказали — борщ варить
Потом паруса стали ставить, я все вертелся и на берег не глядел, а когда глянул — мы уже идем, плавно, незаметно, и до берега далеко — не доплыть, особенно если в одежде. У меня мутно внутри стало, даже затошнило, как вспомнил, что я сделал. А Григорий подходит и так по-хорошему говорит: «А ты теперь поди в камбуз, борщ вари; там и дрова». И дал мне спички.
Какой такой камбуз?
Мне стыдно было спросить, что это — камбуз. Я вижу: у борта стоит будочка, а из нее труба вроде самоварной. Я вошел, там плитка маленькая. Нашел дрова и стал разводить. Раздуваю, а сам думаю: что же это я делаю? А уж знаю, что все кончено. И стало страшно.
Ничего уж не поделаешь…
Ничего, думаю, надо пока что борщ варить. Григорий заходил от плиты закуривать и говорил, когда что не так. И все приговаривает: «Да ты не бойся, чего ты трусишь? Борщ хороший выйдет». А я совсем не от борща. Стало качать. Я выглянул из камбуза — уж одно море кругом. Дубок наш прилег на один борт и так и пишет вперед. Я увидал, что теперь ничего не поделаешь. Мне стало совсем все равно, и вдруг я успокоился.
Поужинали и спать
Ужинали в каюте, в носу, в кубрике. Мне хорошо было, совсем как матрос: сверху не потолок, а палуба, и балки толстые — бимсы, от лампочки закопчены. И сижу с матросами. А как вспомню про дом, и мамка и отец такими маленькими кажутся, где-то шевелятся. Все равно: и я теперь ничего не могу сделать, и мне ничего не могут. Григорий говорит: «Ты, хлопчик, наморился, спать лягай», — и показал койку.
Как в ящике
В кубрике тесно, койка, как ящик, только что без крышки. Я лег в тряпье какое-то. А как прилег, слышу: у самого борта вода плещет чуть не в самое ухо. Кажется, сейчас зальет. Все боялся сначала — вот-вот брызнет. Особенно когда с шумом, с раскатом даст в борт. А потом привык, даже уютней стало: ты там плещи не плещи, а мне тепло и сухо. Не заметил, как заснул.
Вот когда началось-то!
Проснулся — темно, как в бочке. Сразу не понял, где это я. Наверху по палубе топочут каблучищами, орут, и зыбью так и бьет; слышу, как уже поверху вода ходит. А внутри все судно трещит, кряхтит на все голоса. А вдруг тонем? И показалось, что изо всех щелей сейчас вода хлынет, сейчас, сию минуту. Я вскочил, не знаю, куда бежать, обо все стукаюсь, в потемках нащупал лесенку и выскочил наверх.
Пять саженей
Совсем ночь, моря не видно, а только из-под самого борта зыбь бросается, как оскаленная, на палубу, а палуба из-под ног уходит, и погода ревет, воет со злостью, будто зуб у ней болит. Я схватился за брашпиль, чтоб устоять, а тут всего окатило. Слышу, Григорий кричит: «Пять саженей, давай поворот. Клади руля! На косу идем!» Дубок толчет, подбивает, шлепает со всех сторон, как оплеухами, а он не знает, как и повернуться, — и мне кажется, что мы на месте стоим и еще немного, и нас забьет эта зыбь.
Поворот
Пусть куда-нибудь поворот, все равно, только здесь нельзя. И я стал орать: «Поворот, поворот! Пожалуйста, дяденьки, миленькие, поворот!» Моего голоса за погодой и не слыхать. А Опанас охрип, орет с кормы: «Куда, к чертям, поворот, еще этим ветром пройдем!» Еле через ветер его слышно. Григорий побежал к нему. А я стою, держусь, весь мокрый, ничего уже не понимаю и только шепчу: «Поворот, поворот, ой, поворот!»
Сели
Думаю: «Григорий, Гришенька, скажи ему, чтоб поворот». И так я Григория сразу залюбил. Как он борщ-то мне помогал! Слышу обрывками, как они на корме у руля ругаются. Я хотел тоже побежать просить, чтоб поворот. Не дошел — так зыбью ударило, что хватился за какой-то канат, вцепился и боюсь двинуться. Не знаю уже, где паруса, где море и где дубок кончается. Слышу, Григорий кричит, ревет прямо: «Не видишь, толчея какая, на мель идем!» И вдруг как тряханет все судно, что-то затрещало, — я с ног слетел. На корме закричали, Григорий затопал по палубе. Тут еще раз ударило об дно, и дубок наклонился. Я подумал: теперь пропали.
Стало светать
Григорий кричит: «Было б до свету в море продержаться! Вперлись в Джарылгач в самый. Еще растолчет нас тут до утра!» А тут опять дубок наш приподняло, стукнуло об дно; он так весь и затрепетал, как птица. А зыбь все ходит и через палубу. Я все ждал, когда тонуть начнем. А тут Григорий на меня споткнулся, поднял на ноги и говорит: «Иди в кубрик; не бойся: мы под самым берегом». Я сразу перестал бояться. И тут заметил, что стало светать.
Второй Джарылгацкий знак
Я залез в кубрик. Пощупал — сухо. Судно не качало, а оно только вздрагивало, как даст сильно зыбью в борт, — как будто раненое и умирает. Я вспомнил про дом: черт бы с ними, с брюками, головы бы не сняли, а теперь вот что. А наверху, слышу, кричат: «Я ж тебе говорил — под второй Джарылгацкий и выйдем». Я забился в койку и решил, что буду так сидеть, пусть будет что будет. Что-нибудь же будет?
Берег
А наверху погода ревет, и каблуки топают. Слышу, по трапу спускаются, и Григорий кричит: «Эй, хлопчик, как тебя? Воды нема в кубрике?» Я думал — ему пить, и стал руками шарить. А он где-то впереди открыл пол и, слышу, щупает. Я опять испугался: значит, течь может быть. Григорий говорит: «Сухо». Я выглянул из койки в люк; мутный свет видно, и как будто все сразу спокойней стало: это от свету. Я выскочил за Григорием на палубу. Море желтое и все в белой пене. Небо наглухо серое. А за кормой еле виден берег — тонкой полоской, и там торчит высокий столб.
Вывернуться!
Ветром обдувало, я весь мокрый, и у меня зуб на зуб не попадал. Опанас тычет Григорию: «Если бы за знак закрепить да взять конец на тягу, вывернулись бы и пошли». А Григорий ему: «Шлюпку перекинет, вон какие зыба под берегом лопаются, плыть надо». Опанас злой стоит, и ему ветром бороду треплет, страшный такой. Посмотрел на меня зверем: «Вот оно, кричал тогда, дурак: „В воду, я хоть в воду“, — вот все через тебя. Лезь вот теперь за борт!» Мне так захотелось на берег, и так страшно Опанаса стало, что я сказал: «Я и поплыву, я ничего». Он не слыхал за ветром и заорал на меня: «Ты что еще там?» У меня зубы трясутся, а я все-таки крикнул: «Я на берег»…
С борта
Опанас кричит: «Плыви, плыви! Возьмешь не знай кого, через тебя все и вышло. Полезай!» Григорий говорит: «Не надо, чтоб мальчик. Я поплыву». А Опанас: «Пусть он, он!» — и прямо зверем: «Звал тебя кто, черта лохматого! Пропадем с тобой, все равно за борт выкину!» Григорий ругался с ним, а я кричу: «Поплыву, сейчас поплыву». Григорий достал доску, привязал меня за грудь к доске. И говорит мне в ухо: «Тебя зыбью аккурат на Джарылгач вынесет, ты спокойно, не теряй силы». Потом набрал целый моток тонкой веревки. «Вот, — говорит, — на этой веревке пускать тебя буду. Будет плохо, назад вытяну. Ты не дрефь! А доплывешь, тяни за эту веревку, мы на ней канат подадим, закрепи за столб, за знак этот, а вывернемся, сойдем с мели, ты канат отвяжи скорей, отдай, сам хватайся за него, мы тебя на нем к себе на судно и вытянем».

Мне так хотелось на берег, казалось, совсем близко, я на воду и не глядел, только на песок, где знак этот торчал. Я полез на борт. А Гришка спрашивает: «Как звать?» А я и не знаю, как сказать, и, как в училище, говорю: «Хряпов», а потом уже сказал, что Митькой. «Ну, — говорит Григорий, — вались, Хряп! счастливо».
На доске
Я бросился с борта и поплыл. Зыбь сзади накатом, в затылок мне, и вперед так и гонит; я только на берег и смотрю. А берег низкий, один песок. Как зыбью подымет, так под сердце и подкатывает, а я все глаз с берега не свожу. Как стал подплывать, вижу: ревет прибой под берегом, рычит, копает песок, все в пене. Закрутит, думаю, и убьет, прямо о песок головой. И вот все ближе, ближе…
Зыбь лопается
Вдруг чувствую, понесло-понесло меня на гребешке, высоко, как на руках, подняло, и сердце упало: сейчас зыбь лопнет, как трахнет об песок! Не буду живой! А тут веревка моя вдруг натянулась, и зыбь вперед пошла и без меня лопнула. И так пошло каждый раз — я догадался, что это Григорий с судна веревкой правит. Я уж песок под ногами стал чувствовать, хотел бежать, но сзади как заревет зыбь, нагнала, повалила, завертела, я песку наглотался, но на доске снова выплыл.
За знак
Наконец я выкарабкался. Глянул на судно: стоит и парусами на зыби колышет, как птица подстреленная. А я так рад был, что на земле, и мне все казалось, что еще качает, что земля подо мной ходит. Я отвязался от доски и стал тянуть веревку. Знак как раз тут же был: громадный столб с укосинами, и наверху что-то наворочено вроде бочки. Я взял веревку на плечи и пошел. Ноги в песке вязнут, и во рту песок, и в глаза набило, и низом метет песком. Еле веревку вытащил… Смотрю, уж кончилась тонкая веревка, и канат пошел толстый. Я его запутал, как умел, за знак, под самый корень, и лег на песок — весь дух из меня вон, пока я тянул.
Вывернулись
Знак дрогнул. Вижу — натянулся канат; я привстал. Судно повернулось, оттуда стали мне махать. Я встал и начал отпутывать канат, — здорово затянуло.
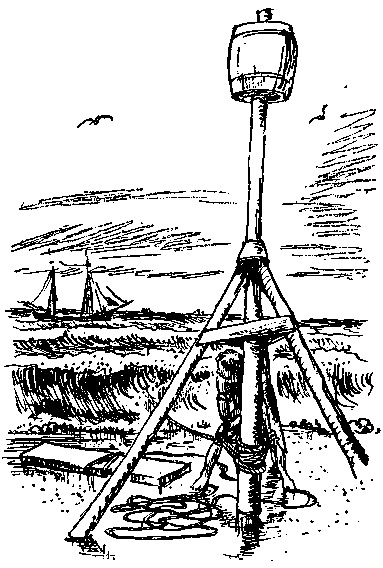
Судно пошло, канат ушел в воду, потянулась и веревка, как живая змейка, так и убегает в море.
Берег или море?
Я видел, как Григорий с борта махал мне рукой, — хватайся, вытащим на веревке, — я не знал: тут остаться или к Опанасу и в море. Оглянулся — сзади пустой песок, а все-таки земля. Я думал, а веревка змейкой убегала и убегала. Вот доска дернулась и поползла. Сейчас уйдет! Я подумал: остаться, и все-таки бросился за доской в воду. Но тут зыбь ударила, я назад, а доска ушла.
Один
Я видел, как доска скакала по зыби к судну, а судно уходило в море. Вот тут я схватился, что я один, и я побежал прямо прочь от берега по песку. А вдруг тут совсем никого нет и ни до кого не дойти? Я опять оглянулся — судно было совсем далеко, только паруса видно. Лежал бы теперь в койке и приехал бы куда-нибудь.
Стадо
А вдали я увидел, будто стадо. Пошел туда — ну, вот, люди, пастухи там должны быть. Боялся только, что собаки выскочат. Я перестал бежать, но шел со всех сил. Волочу ноги по песку. Когда стал подходить, вижу — это верблюды. Я совсем близко подошел — ни одной собаки нет. И людей тоже.
Верблюды
Верблюды стояли как вкопанные, как ненастоящие. Я боялся идти в середину стада и пошел вокруг. А они как каменные. Мне стало казаться, что они неживые и что этот Джарылгач, куда я попал, заколдованный, и стало страшно. Я так их стал бояться, что думал: вот-вот какой-нибудь обернется, ухмыльнется и скажет: «А я…» Ух!.. Я отошел и сел на песок. Какие-то торчки растут там вроде камыша, и несет ветер песок, и песок звенит о камыш — звонко и тоненько.
А я один. И наметает, наметает мне на ноги песку. Мои брюки не узнать стало. И показалось мне, что меня заметает на этом Джарылгаче, и такое полезло в голову, что я вскочил и опять к верблюдам.
Избушка
Я подошел, встал против одного верблюда. Он стоял, как каменный. Я вдруг стал кричать; что попало кричал во всю глотку. Вдруг он как шагнет ко мне! Мне так страшно стало, что я повернулся и бежать. Бежать со всех ног! Смейтесь, вам хорошо, а вот когда один… все может быть.

Я не оглядывался на верблюдов, а все бежал и бежал, пока сил хватило. И показалось мне, что нет выхода из этих песков, а верблюды здесь для страху. И тут я увидел вдали избушку. Весь страх пропал, и я пустился туда, к избе. Иду, спотыкаюсь, вязну в песке, но сразу весело стало.
Мертвое царство
В избушке ставни были закрыты, а за плетнем во дворе навес. И опять нет собаки, и тихо-тихо. Только слышно, как песок о плетень шуршит. Я тихонько постучал в ставни. Никого. Обошел избушку — никого. Да что это? Кажется мне или в самом деле? И опять в меня страх вошел. Я боялся сильно стучать, — а вдруг кто-нибудь выскочит, неизвестный какой-нибудь. Пока я стучал да ходил, я не заметил, что со всех сторон идут верблюды к избушке, не спеша, шаг за шагом, как заводные, и опять мне показалось, что ненастоящие.
В яслях
Я стал скорей перелезать через плетень во двор, ноги от страху ослабли, трясутся; перебежал двор, под навес. Смотрю — ясли, и в них сено. Настоящее сено. Я залез в ясли и закопался в сено, чтоб ничего не видеть. Так лежал и не дышал. Долго лежал, пока не заснул.
Ведро
Просыпаюсь — ночь, темно, а на дворе полосой свет. Я прямо затрясся. Вижу, дверь в избушку открыта, а из нее свет. Вдруг слышу, кто-то идет по двору и на ведро споткнулся, и бабий, настоящий бабий голос кричит: «Угораздило тебя сослепу ведро по дороге кинуть, я-то его ищу!»
Домовой
Она подняла ведро и пошла. Потом слышу, как из колодца воду достает. Как пошла мимо меня, я и пискнул: «Тетенька!» Она и ведро упустила. Бегом к двери. Потом вижу, старый выходит на порог: «Что ты, — говорит, — пустое болтаешь, какой может быть домовой! Давно вся нечисть на свете перевелась». А баба кричит: «Запирай двери, я не хочу!» Я испугался, что они уйдут, и крикнул: «Дедушка, это я, я!» Старик метнулся к двери, принес через минуту фонарь. Я вижу — фонарь так в руках и ходит.
Что оно такое — Джарылгач?
Он долго подходить боялся и не верил, что я не домовой. И говорит: «Коли ты не нечистая сила, скажи, как твое имя крещеное».
«Митька, — кричу, — Митька я, Хряпов, я с судна!» Тут он только поверил и помог мне вылезть, а баба фонарь держала. Тут стали они меня жалеть, чай поставили, печку камышом затопили. Я им рассказал про себя. А они мне сказали, что это остров Джарылгач, что здесь никто не живет, а верблюдов помещицких сюда пастись приводят и только кой-когда старик их поить приезжает. Они могут подолгу без воды быть. Берег тут — рукой подать. А пошли верблюды за мной к избе потому, что подумали, что я их пить зову, они свой срок знают. Старик сказал, что деревня недалеко и почта там: завтра домой можно депешу послать.
Мамка
Через день я уж в деревне был и ждал, что будет из дому. Приехала мамка и не ругала, а только все ревела: поглядит и в слезы. «Я, — говорит, — тебя уж похоронила…» Ну, с отцом дома другой разговор был.
Урок географии
На острове Цейлоне есть город и порт английский Коломбо[17]. Большой город, портовый. Превосходный порт. Огорожен каменной стеной прямо от океана — метров на тридцать. И на солнце, на тропическом, этот блеск как вскрикивает все равно. Зыбь двинет в стенку — бух, а вода взмоет в небо, будто ужаленная. А зыбь ходит, как гора, как зеленая стеклянная гора. Ее солнце сверху отвесно пронизывает, и она идет на тебя, если на пароходе, например, и вся эта прозелень насквозь светится зеленым воздухом.
Люди там живут, на этом острове, черные. Сингалезы. Они курчавые, на наших цыган похожи. И они в эту зыбь лезут на двух бревнах, прямо-таки на двух бревнах, сбитых двумя перемычками, — ну, как сани морские. Так вот на двух таких бревнах выходят под парусом в океан за рыбой. Они, конечно, не верхом на этих бревнах сидят… Нет, на одном бревне, что побольше, борта нашиты, две доски, а другое — только противовес. И под парусом такая история устилает в хороший ветерок километров по тридцать в час. А там ветер летом дует из-под Африки.
А зимой дует с берега, из Азии. Муссон этот ветер называется. Юго-западный и северо-восточный муссон. Ровный дует, как доска. До того сильный, что можно вперед наклониться и стоять, как с поддержкой. Вот он и разводит эту сумасшедшую зыбь. А сингалезы не боятся. Дуют в океан и там из глубины вот этаких рыбищ вытаскивают — во! Метровой длины.
А на острове растут пальмы. Леса пальмовые, вот как у нас сосновые. Только ствол пальмовый потоньше. И, конечно, не шишки растут там, а кокосовые орехи. Кокосовые пальмы растут.
И лазят сингалезы, как обезьяны, на этот гладкий пальмовый ствол. Обхватит руками, пальцами, ладошкой, сам сложится пополам и ногами, ступнями упрется в ствол.
Вот так и лезет сингалез. Сорвал кокос, бросает, товарищ внизу ловит. Ведь кокос весь как в чехле. На нем еще до скорлупы пальца на три обмотки. То есть, что я! Ну, будто бы волосом он упакован кругом, а сверху тонкая кожурка. И если ее содрать, то вот тогда доберешься до скорлупы. У конца ореха три глаза, то есть дырочки, они мягким закупорены, и сингалез пальцем ткнул в одну, в другую — и готовы дырки — сует: пей.
Там сок внутри. Ух, какой освежающий! Это не березу сосать. Это он мне сок потому дал, что обрадовался, что я не англичанин. Он не здорово понял, что я русский. Может, и не знал, что такие есть. А понял только, что не англичанин, и сразу задружился. «Не англичанин? Пей, пей, пожалуйста». Я весь орех выпил. А если англичанин, он бы к нему волком. Да и понятно. Я бы на их месте бил бы их прямо в лесу этими кокосами с пальмы, с самой маковки.
Да вот, извольте: выезжаю я на шлюпке на берег. Надо лодочнику заплатить. Мелочи нет. Я говорю лодочнику: «Пойди вот к полисмену, разменяй». А полисмен ходит — здоровый дядя, плотный, прямо тучный мужчинища. Тросточка бамбуковая под мышкой. Лодочник худощавый. Подходит, на ладошке мою деньгу протягивает. Полисмен из-за спины оглянулся, вытянул из-под мышки палочку — трах со всей силы по ногам лодочника моего. Он запрыгал. Подбегает ко мне. Значит, поговорил с полисменом. Я к полисмену:
— Что это за безобразие? За что человека бьете? Что, с вами говорить нельзя?
— Вам говорить можно. Пожалуйста, — и даже рукой к своему шлему притронулся. — Вам что? Разменять? Сделайте одолжение.
Взял монету и пошел к ларьку.
— По скольку вам нужно? По десяти?
Повернулся к ларечнику:
— А ну, давай по десяти!
И ларечник высыпает мелочь на прилавок — каких угодно-с! А полисмен не спеша выбирает для меня монетки почище. Потом мне вполголоса сказал:
— Нас, господин, белых, мало, а их по сто тысяч на одного англичанина приходится. Надо строго. Надо, чтобы они от одного имени английского тряслись.
Вот в маленьком фаэтончике, кабриолетике, на двух колесах, то есть в оглоблях, — там человек. Сингалез. На нем только трусики одни. А в колясочке — англичанин, туша этакая, и морда, как бифштекс. Развалился, как под ним эта колясочка не лопнет! Ножищи выпятил; на них, как копыта, ботинки с подошвой — во! — в два пальца. И каблучища с кузнечный молот. И он этим каблучищем в худую эту черную спину тычет, подгоняет. А тот бежит, чуть язык за плечи не закинул, весь мокрый. Жарища ведь, баня. Это вот у них извозчики — рикши. Они ко мне приставали, чтобы повезти. Да не могу я на людях ездить. Черт меня побери совсем! Они все от чахотки помирают.
Есть еще колония у них, у англичан: Сингапур. Это для флота база. Вот тут малайцы живут. Желтые они. Как крашеные. Прямо удивляешься, до чего желтые. Будто желтуха у каждого. Только здесь тоже на людях ездят. Кругом рай земной. Бананы, пальмы, море. Такие цветы, как будто сплошные это оранжереи. Дай, думаю, поеду, погляжу на всю эту роскошь. Ведь вот цветы какие, с горсть. А красота вот она какая там.
Сажусь в трамвай.
— За город? — спрашиваю.
— Да, — говорят, — последняя остановка отсюда за две мили.
Трамваи открытые, лавки поперек, ступеньки с обеих сторон во всю длину. Вижу, трое малайцев сидят на лавочке, как раз мне, четвертому, место есть. Сел. Хвать, малайцы снимаются, будто духу моего не выносят, и на заднюю площадку перебираются. Ну, думаю, надо им объяснить, что я не англичанин, авось не будут так ненавидеть. Оборачиваюсь, говорю громко:
— Ай эм рашен, ноу инглиш. Тэйк ёр плейс, плиз.
Это значит: «Я русский. Садитесь, пожалуйста».
Улыбаются, стоят. А я один на лавке сижу.
«Не верят», — думаю. Тут по ступенькам добирается до меня кондуктор: билет получите.
— Да, — говорю, — а почему люди ушли? Вон уж на площадке давка, — говорю. — Жара такая, пусть сядут, а то я уйду, людей спугнул.
Кондуктор объясняет:
— Правило уж такое. Желтый с белым не смеет на одной лавке сидеть.
— А мне, — говорю, — очень будет приятно. Очень прошу вас.
Кондуктор улыбается, плечами пожимает.
— Не имею права допустить нарушения, меня со службы погонят, если кто увидит.
— Мне придется, — говорю, — пешком идти: не хочу людей пугать, не желаю, чтобы из-за меня давка была.
— А вот, — говорит кондуктор, — передняя лавка свободна вовсе.
— Так чего же, — говорю, — они не сядут, а на площадке жмутся?
— Для белых эта лавка. Желтые не имеют права там сидеть. Передняя — это чтобы продувало и от желтых духу бы не несло на господ. Нехорошо, если желтые впереди.
А сам — как лимон. Тоже малаец.
«Вот, — думаю, — тут уж довели до самой точки: не только имени, духу боятся».
Пришлось мне перебраться на переднюю лавку. Сижу, как идиот. То есть, как англичанин. И не могу я так. Хоть сходи. И вдруг выдумал: спинка-то у скамейки переворачивается, когда трамвай назад идет, все спинки переворачиваются, и все сиденья тогда глядят в другую сторону. Я перевернул спинку и сел задом по движению. И колени в колени с малайцами, что сидели на второй лавке. Я давай с ними болтать. Весь трамвай загудел. Но, вижу, улыбаются. Кондуктор не посмел ничего сказать. Видно, в правилах не было предусмотрено такого случая, как бы сказать, ну такого… бузового.
Да-с, так вот еду. Говорю: я русский и вообще черт с ними, с правилами и с англичанами.
— У нас, — говорю, — этого нет, дорогие друзья. У нас в трамвае все навалом, и будь ты малаец, или эфиоп, или, говорю, китаец — все равно. У нас, говорю, даже англичан пускают.
Они как фыркнут! Однако осторожно. Крепко у них так в головах насчет англичан завинчено.
А тут вскоре сел англичанин. Позвал кондуктора, и пришлось спинку переворачивать. Англичанин даже не взглянул на меня, сел на один край, я — на другой.
А вот еще одно английское гнездо. Тоже база. Гонконг. Тут уж китайцы. Они там все в отдельном квартале. Улочка узенькая, шагов десять ширины, и, как флаги на веревках, повешены вывески. Из материи. Живут до того скучно, что одни только двери, кажется, и есть. Стен будто совсем нет.
И валит по этой улочке полным ходом трамвай. И китайские мальчишки, как воробьи, прыскают из-под трамвая. Я прямо глаза жмурил — вот-вот задавит. Однако — никого. А улица полна народу. И за трамваем народ сейчас же смыкается, как вода.
— Что это, — спрашиваю соседа, — тесно так живут?
Сосед был голландец, он ответил:
— Места им отведено мало, а их много. Вы посмотрите их на воде.
Я пошел к воде. Правду сказать, не видать было воды. Под берегом все битком забито было китайскими шлюпками. Как мостовая. Я спросил:
— Нельзя ли покататься?
— Ах, пожалуйста! — И сейчас же меня один китаец повел через чужие шлюпки дальше и дальше по этой шлюпочной площади. Шлюпки все палубные, очень аккуратно сделаны, чистенькие. — Вот, — говорит, — это моя. — И стал подымать парус.
Я взялся за руль. Вышли мы из кучи шлюпок, все китайцы помогали, проталкивали. И надо всеми шлюпками стоит запах китайской пищи: кунжутного масла и чесноку. И у нас из люка шел тот же дух.
Тут ветерок покрепче нажал, я ногой уперся в брезент: впереди брезент пакетом лежал. Вдруг пакет зашевелился, как живой. Я даже струхнул сначала. Смотрю, из пакета — голова, круглая, как на шахматной пешке. Китайчонок. Жмурится на солнце.
— Это, — говорит хозяин, — мой сын.
Я достал две картинки от папирос, даю ему. Он взял и что-то по-китайски крикнул. И вдруг из люка — китайская девчонка. Мальчик побежал по палубе — года ему три. Я кричу: «Упадет!» Китаец мой только смеется. Мальчишка стал с девчонкой картинки делить. Я нашарил еще одну в кармане и кричу: «На еще!» Он увидал. Смотрю, вылезает еще девчонка. Я говорю хозяину:
— Сколько же у тебя их?
Полез я по палубе, заглянул в люк. Там, на дне, на циновке сидела китаянка. На руках ребенок, а перед носом жаровня, на ней она рыбу жарила. А если там на ноги встать, то ровно по пояс придется ей палуба. Жить там можно только ползком.
— А дом у вас на берегу есть?
Китаец замахал руками:
— Нас на берег не очень и пускают.
Я говорю:
— Много вас на воде?
Китаец никак не мог сказать такого числа, он по-английски не знал, как и сказать, объяснил кое-как: выходило, несколько тысяч.
— А если буря?
Китаец серьезным стал.
— Было, — говорит, — раз такое. Мы все говорим полисмену: «Надо лодки вытягивать, будет страшная буря — тайфун, нас всех в черепки переколотит». А англичане: «Нет! Не врите. Сидите, где посажены. И вот отсюда досюда ваше место». А мы бурю эту за несколько дней чувствуем и чуем, как смерть. И были все в тоске. И мы хотели пойти к начальнику. Нет, не пустили.
И вот вы представьте себе, что все китайцы со всеми этими ребятишками сидели на воде и ждали смерти. И налетела эту буря — тайфун. Он обращает море в кипящий котел, он ветром срывает деревни на берегу, крыши пухом летят. Несет, как бумажки, целые ворота, скотину подымает в воздух. И тут же над головой, как из дыры в небе, льет дождь, что пригибает человека к земле. И вот такой тайфун налетел на эту плавучую деревню. Китаец не мог мне опять назвать числа, сколько пропало китайчат и больших китайцев. Все шлюпки разбило вдребезги, в щепки, растрепало по небу и по морю последние остатки. А кто выбрался на берег — ого! Тех сейчас же загнали полисмены в загон и заперли: на земле вам места нет, нечего вам тут вой подымать. И как оставшиеся китайцы потом оправились, не мог я понять. Китаец мой только говорил: «Хорошо, ух, как хорошо, что детей этих тогда не было!» Так радовался, как будто про счастье рассказывал, а не про бедствие.
— Чего ты радуешься? — говорю.
— А что они есть, — и сына за ухо подергал.
Я ему дал монету, говорю:
— Сдачи не надо. Все тебе.
Он испугался.
— Напиши, — говорит, — мне расписку по-английски, что это ты сам мне дал, а не я украл. Я боюсь, что нехорошо может быть. Полисмен…
А я говорю ему:
— К черту полисмена!
А он мне деньги назад сует: не надо, мол, никаких тогда денег. Пришлось писать. Я написал:
«Проклятые полисмены английские! Я дал этому китайцу доллар, не отнимайте у человека, что он заработал». И подписал, и свой адрес написал.
А китаец не столько доллару радовался, сколько боялся, как бы несчастья не было от такого богатства.
17
Теперь Коломбо — столица независимого государства Шри Ланка.
Над водой
— Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь, боюсь! — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто.
— Теперь — как по железной дороге, — утешал ее толстяк, — даже лучше: никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов. — За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели.
Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть.
Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом:
— А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные? Ведь ночью их не видать?
Пилот улыбнулся.
— Да и днем их не видно.
— А если провалимся, то?..
— Ну пролетим вниз немного, не беда, — мы высоко полетим.
— Ах, очень высоко? — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. — Это очень приятно! — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком.
— Э-эй, обормоты! Не разливай бензина! — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки.
— Ладно, черт! — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин.
— Теперя ходче пойдет. Чего зря-то мерзнуть! А засорится мотор — так тебе, дьяволу, и надо, лайся больше! Сам обормотина! — вполголоса ворчал мальчишка.
Наконец все было готово, все десять пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно.
— А что ж, меня-то возьмешь? — спросил механика ученик Федорчук.
— Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти продать пуда четыре.
— Так ведь какое тут ученье! Взяли бы — пригодился б, может быть.
— Какая от тебя польза, одно слово — балласт, — отрезал механик.
Но пилоту стало жаль Федорчука.
— Я все равно никакой спекуляции везти не дам, чего там! Пусть учится. Одевайся — полетишь!
Федорчук бегом пустился в ангар одеваться.
Снялись.
Аппарат набирал высоты, выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, — яркое, яркое солнце, а внизу ослепительно белая пустыня — те же облака сверху.
Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться, но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала.
— А мы все поднимаемся, — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно, своему обалдевшему соседу.
Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть.
А впереди у управления сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты, в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы: на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами — руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх. Уже близко облака.
— А как в облаках? — писал Федорчук.
— Чепуха, увидишь, — ответил механик.
Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом, он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу.
Снег залепил окно впереди пилота — внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее.
Механик написал Федорчуку:
— Мы в облаках.
Вокруг них был густой туман и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было — оставалось полчаса до заката.
Но вот стало светлеть, еще и еще, и яркое солнце совсем на горизонте весело засверкало на залепленных снегом стеклах. Даже пассажиры, что смотрели в пол, приободрились и ожили. Сильный ветер от хода аппарата сдул налипший на стекла снег, и стало видно яркую пелену внизу до самого горизонта, как будто над бесконечной снежной равниной несся аппарат.
Пилот смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом полторы версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех — в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки.
Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно: оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле.
Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы.
— Не пугайтесь, — писал толстяк, — если и станут моторы, мы спланируем.
— В море, — приписал долговязый и передал записку обратно.
Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор — через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло; но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор — и станет мотор.
Федорчук спросил, в чем дело. Но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин: магнето, свечи, клапана — и какой мотор, правый или левый? В каждом моторе, опять же, два карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли.
«Ну, подумал Федорчук, будем планировать и чиниться в воздухе».
Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или, в самом деле, что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает?
Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам.
Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, он знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор.
Альтиметр показывал 1900 метров.
А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко: рука его тряслась немного.
— Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим.
Но мысленно все прибавляли: вниз головой в море.
Пассажиры не знали, на какой они высоте.
Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота.
Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты; он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала. Все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться.
Толстяк повторял, не понимая своих слов:
— Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!..
Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты.
Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал: «Га-га-га». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери, и больше раскачивался молодой человек. «Га-га-га» перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали раздирающим хором.
А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся — он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах, в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр: он показывал 650.
Шестьсот пятьдесят метров до моря.
Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул:
— Возьми руль!
Хотел встать и сам пойти к мотору. Но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья.
Федорчук вскочил.
— Давай ключ! — крикнул он механику. Тот дрожащей рукой сунул ему в руку маленький гаечный ключик. Федорчук вышел на крыло.
Резкий пронизывающий ветер нес холодный туман, — он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах.
— К мотору!
Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще.
Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку.
— Вот она!
Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла.
Вот гайка поддалась.
Идет дело!

Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая — и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде.
— Готово!
Теперь гайку на место! Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть.
— Есть! — заорал Федорчук во всю силу своих легких.
Включили электрический пуск, и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был: на пол, на диваны, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму.
А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту.
Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот, бледный, все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.
Шквал
— Провались он совсем и с своей черепицей вместе! — ругался матрос Ковалев. — Этакую тяжесть на палубу валит!
— Ладно, сейчас кончаем, еще только тысяча осталась, — прохрипел старик боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу.
Жара стояла несносная, был самый разгар южного лета.
Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:
— Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!
— Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая, — пищал отправитель со слезой в голосе, — ведь через два часа на месте будете! Прибавлю пятак, уж куда ни шло.
— Продаешь нас за пятак, — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу, — рванет хороший ветерок, и амба: ляжем парусами на воду.
— Да что вы, что вы? — испуганно сказала стоявшая подле женщина. Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.

— А очень просто, — серьезно сказал Ковалев и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. — Он, не то нас, он и внучку не жалеет, — и Ковалев кивнул головой на девочку. — Вот подите, скажите ему.
— Да разве ему скажешь?.. — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку.
А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.
Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.
— Мертвый штиль, — сказал боцман. — Ух как бы не сорвалась ночью погода.
— Ничего, ничего, — затараторил хозяин, выходя из каюты, — бриз, бриз будет, хорошо пойдем. Веселей шевелись! — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.
Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отраженье в воде.
— А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? — спросил Ковалев девочку.
Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.
— Нет, зайчик живой, — ответила Настя с гордостью.
— Да ну? — сказал Ковалев и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.
— Вот и жаркое, — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.
Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.
— Не дадим, не бойся! — сказал матрос. — Это он шутит.
— А если буря будет? — спросила девочка, — страшная-престрашная, заиньку захлестнет волной?
— Мы его тогда в каюту к деду занесем, — утешал ее Ковалев.
— Ковалев! — раздался голос хозяина, — Дмитрий! Шлюпку на палубу!
Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказанье.
Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный: такой громадный и за зайчика заступился.
Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы.
Вот жарким дыханьем пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.
Ковалев стоял на руле.
— Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная погода, — говорил ему боцман.
Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.
— Чуть что, буди меня, Коваль, — сказал он, оглядывая небо и паруса. — Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду, сосну.
И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику.
Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге.
Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне.
«Эта зайца своего видит, — подумал Ковалев, — а дед все пятак: считает».
В это время ветер вдруг прервал свое дыханье, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегши на правый борт, побежало по-прежнему.
Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосками перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной.
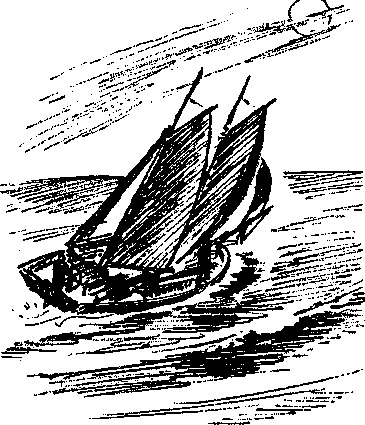
Бриз усилился, и судно побежало быстрей. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.
— Хозяин, — закричал Ковалев, — шквал идет с подветра!
Грек оглянулся.
— Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и… ах, черт! — сказал он и опять повернулся к столу.
Ковалев опрометью бросился к кубрику.
Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.
— Хлопцы, хлопцы! — заорал Ковалев в люк. — Шквал идет!
Сонное лицо боцмана показалось из люка.
— Чего орешь? — бормотал он спросонья.
— Шквал! — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. — Все наверх!
Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула о борт покатившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало, казалось, все судно рассядется надвое; волной хлынула вода в люк кубрика.
Шквал сделал свое дело и понесся дальше.
Все это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышалась испуганная ругань, проклятья. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.
— Стой! — вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновенье замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.
— Нас перекинуло, — сказал Ковалев, воспользовавшись минутой молчанья, — мы не пошли подзаныр[18]: вон как зыбь в борт бьется.
— Давай топор, — крикнул матрос Христо, — руби дно!
Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешал двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка.
— Есть, есть! — закричал Дмитрий, ухватив наконец топор.
— Повыше, повыше рубайте, — молил боцман, — вот тут!
Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.
Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.
— Рубай, рубай скорее, Гришка! — кричали люди. Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.
— Давай мне! — крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.
И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место.
А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.
В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду.
Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался заездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уже виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет! Значит, вон из каюты выходит воздух?.. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода.
— Дай топор! — кричал Дмитрий.
Он шарил в темноте руки Ковалева.
— Да давай же скорей! — кричали кругом.
Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.
— Стой, хлопцы! — кричал Ковалев. — Не руби!
Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.
— Стой! Ударишь — пропали все!
— Рубай! — кричал боцман.
— Нет! Воздух уйдет! — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия, — вода снизу через люк напирает… ее воздух сюда не пускает… Дыра будет… потонем, как мыши… Сюда вода зайдет.
Все замолчали.
— Вот! — Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.
— Верно! — сказал голос боцмана.
— Все одно, рубай! — кричал Христо.
— Хлопцы, — сказал Ковалев, и все почувствовали, что он что-то важное скажет, и замолкли, — сейчас на воле будем. Вот он люк, я ногой нащупал. Давай веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.
Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть; обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он борт — Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуху — хоть водой дохни. А там внизу чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю — вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта — грудь рвется, горло сжимает, вот-вот дохнет водой.

— Ну, на воле! Вот дохнул-то! — Огляделся Ковалев. Уж поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях. Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю. Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь.
Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.
Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней.
Ковалев направился на обломке реи к корме, откуда раздавались глухие удары.
— Рубят, ей богу, рубят! — крикнул Ковалев.
Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.
Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту.
А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно.
Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услыхали голос Ковалева.
— Брось рубить! Пропадешь! — кричал он греку и хотел впотьмах схватить его руку.
— Оставь! — заорал грек. — Убью!
Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол.
В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя.
— Давай девочку, а сама за нами по веревке — ныряй под судно.
— Ой, ой! — закричала женщина. Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.
Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.
Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина.
Все уселись в шлюпку.
Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту — видно, старик переводил дух — и снова гукали в дно.
— Могилу себе рубает, — сказал Ковалев. — Дорубится и поймет.
Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.
Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.
— Заткни дырку, могилу себе рубаешь! — кричал Ковалев. Христо что-то часто кричал по-гречески.
— Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий.
Но старик или не понимал, или не слышал: рубил и рубил.
И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.
Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.
— Ай-ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя.
Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.
— Ну, аминь, — сказал Ковалев, — пропал старик.
Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.
— Отваливай! — скомандовал Ковалев.
Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам.
— Чего ты, Настя? — спросил Ковалев.
Девочка плакала.
— А заинька, где заинька?
Не плачь, — утешал матрос, — мама другого купит.
Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: весла пропали, их не нашли.
— Вон, вон что-то! — вдруг крикнула Настя.
Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа.
Подошли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.
— Заинька, вот он, заинька! — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.
— Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал, — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля.
Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну.
Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.
Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.
18
На дно, под воду.
Под водой
Был ясный солнечный день. Эскадра, состоявшая из двух дивизионов миноносцев и дивизионов подводных лодок, вышла на маневры в море. Легкий ветер и веселая зыбь. Совсем по-праздничному. С головного миноносца давали сигналы, и суда перестраивались. Сигнальщики, на обязанности которых разбирать и передавать сигналы, во все глаза в бинокли наблюдали за мачтой головного судна, чтобы не пропустить сигнала. А там то и дело подымались и опускались сигнальные флажки. Подводные лодки шли, выставив свою серую спину из воды, как морские чудовища. Как сердце, глухо стукал внутри каждый дизель-мотор. Сегодня всем было весело, даже кочегары на миноносцах, наглухо закупоренные в котельном отделении, как в коробке, чувствовали веселое напряжение и, хоть не видали, что наверху делалось, знали, что что-то удалое затевается и уже никак нельзя подгадить, и все бойко шевелились в жаркой атмосфере кочегарки, поминутно поглядывали на манометр: не упал бы хоть на йоту пар. На подводных лодках все были в еще большем напряжении: каждую минуту ждали приказания погрузиться в воду и каждому командиру хотелось это сделать на виду у всей эскадры первому. Люди стояли по местам. Вот-вот прикажут под воду — дизель-мотор надо остановить и пустить в ход электрический мотор, ток для которого запасен в аккумуляторах; задраить наглухо входной люк и выставить из воды перископ — длинную трубку, этот глаз подводной лодки: через нее из-под воды можно видеть все, что делается на поверхности. Вдали на горизонте едва обозначался силуэт крейсера: там адмирал, он наблюдает за всеми движениями эскадры, следит, правильно ли суда выполняют то, что им приказано сделать.
Все чувствовали, что дело идет пока превосходно: суда перестраиваются быстро и точно, совсем как солдаты на ученье, держат правильные расстояния, все идут одной скоростью, все одинаковые, как игрушки новые, и, кажется, дымят даже одинаково.
Подводной лодкой № 17 командовал лейтенант Я. Он хорошо знал свое судно и надеялся, что теперь он, пожалуй, погрузится вторым; № 11 погружался всегда так, как будто его какая-нибудь рука сразу топила, жутко смотреть — за ним не угнаться. Ну, а другим лейтенант Я, спуску не даст. Команда как один. Всем хотелось не дать промашки. По сигналу надо погрузиться и атаковать адмиральский крейсер, затем, не всплывая на поверхность, вернуться в порт. А завтра будет отчет о маневрах, и целый день можно гулять, ходить к знакомым в городе и рассказывать про эту веселую прогулку. Мичман, не доверяя сигнальщику, сам тоже смотрел в большой бинокль на мачту главного миноносца, ожидая условленного сигнала. Механик со своими машинистами напряженно ждал команды сверху. Все было так натянуто, что, кажется, чихни теперь кто-нибудь громко, и все дружно стали бы переводить лодку в подводное состояние.
— Ну что? Есть? — спрашивал лейтенант каждый раз, когда новые флаги появлялись на главном миноносце.
— Не нам, — вздохнув, отвечал мичман.
— Есть! — вдруг закричал мичман, отрывая от глаз бинокль. Капитан стал командовать к спуску, но он еще не договорил команды, как дизель уже стал, и вместо него запел, зажужжал электромотор, уже стали наполняться цистерны балластной водой, все делалось само собой: спустился курок напряженного ожидания, и руки, которые томились наготове, быстро делали свое дело.
Вот уже под водой и на столике под перископом шатается на качке мелкая веселая картинка моря, бегущих миноносцев, а вон, как точка вдали, — адмиральский крейсер.
Нет, хорошо идут нынче маневры — всем было весело и радостно.
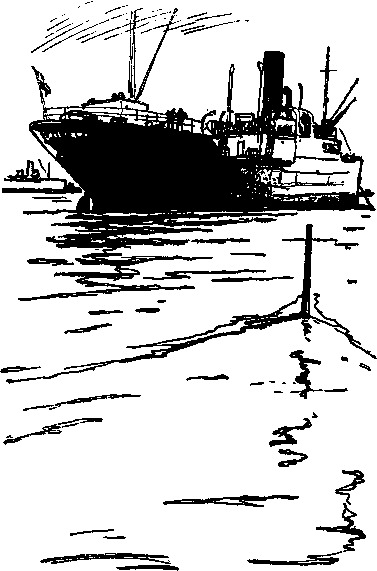
Вот уже близко крейсер. Теперь надо убрать перископ и идти по компасу в том же направлении. Перископ виден; он торчит все же из воды, и от него, как усы, в обе стороны расходятся от ходу тонкие волны. Уже подойдя ближе, надо только на минуту его выставить, чтобы проверить свое движение, потом подойти как можно ближе и выпустить мину… конечно, учебную, холостую.
Кажется, все удалось. № 17 взял по компасу обратный курс и пошел к порту. Теперь опять поставили перископ, и ясный день снова заиграл на белом столике.
— Ну, молодой человек, поздравляю, — сказал пожилой минный офицер мичману. — Первые маневры, не так ли? Чего на часы смотрите? Уж ждет вас кто-нибудь на берегу? — и он лукаво погрозил пальцем.
Мичман покраснел и улыбнулся.
— Нет, на что это в порт под водой? — продолжал минер. — Шутки шутками, а курить до смерти хочется. Далеко еще?
— Я считаю, что уже не больше часу, — сказал мичман и посмотрел на свои часы-браслет.
Справа виден был невдалеке перископ другой подводной лодки. Она понемногу обгоняла. Мичман завидовал и каждую минуту смотрел на часы.
— Ну, скажите, — приставал минер, — сейчас на берег, белый китель, и на бульвар! Не терпится?
Мичман отвернулся, но видно было, что улыбался.
Лейтенант сохранял спокойный деловой вид. Его тоже разбирало веселье удачи и радовал веселый вид под перископом, но он сдерживался, чтобы казаться солиднее.
Его интересовало, каким он опустился: вторым или опоздал. Он уже думал, что ничего, если и третьим.
Но вот он, порт. Прошли в ворота. Впереди на якоре торчит всем корпусом из воды порожний коммерческий пароход. «Тут пятьдесят футов, пароход сидит не больше двадцати. Есть где пройти под ним, — подумал лейтенант. — Эх, убрать перископ и поднырнуть под пароход». Веселость вырвалась наружу. Перископ убран, рулями дали уклон лодке вниз и потом стали подыматься.
Но в это время сразу ход лодки замедлился. Все пошатнулись вперед. Лейтенант вздрогнул. Минер вопросительно на него взглянул.
— Сели на мель? Так ведь? — спросил он лейтенанта.
Рули были поставлены на подъем, винт работал, а приборы показывали, что лодка на той же глубине. Лейтенант вспомнил, что тут в порту глинистое липкое дно; понял, что лодка своим брюхом влипла в эту вязкую жижу. И как ногу трудно оторвать от размокшей глинистой дороги, так лодке теперь почти невозможно оторваться от дна. Лейтенант все это соображал, и как он теперь раскаивался, что решился, поддавшись веселости, на этот мальчишеский поступок! Он приказал выкачать воду изо всех цистер. Мичман хотел показать, что он ничего не боится, и весело ходил смотреть, исполнено ли приказание лейтенанта. Но вся команда понимала, что дело плохо, и сосредоточенно исполняла приказания. Лейтенант смотрел на приборы.
Ну хоть бы что двинулось. Приборы показывали ту же глубину.
«Надо попробовать раскачать лодку, — думал лейтенант, — пусть вся команда перебегает из носа в корму и обратно. Может быть, только чуть-чуть в одном месте держит ее эта липкая донная грязь».
Команда стала перебегать из носа в корму и обратно, насколько это позволяло внутреннее устройство лодки, загороженное приборами, аппаратами. Лодка медленно раскачивалась, и лейтенанту представлялось, как липкая глина держит в своем цепком гнезде круглое брюхо лодки, и лодку не оторвать от глины, как не разнять две мокрые пластинки стекла.
Стали раскачивать с борта на борт. Лодка немного переваливалась. Старались угадать такт, чтобы вовремя поддавать, как раскачивают качели. Но и это не помогло. Лейтенант смотрел на приборы, и все по его лицу читали, что дело не подвинулось ни на волос.
— Мы еще, быть может, больше закапываемся, — мрачно проворчал механик.
Лейтенант ничего не ответил. Он, нахмурясь, смотрел вниз, что-то усиленно соображая. Все ждали и смотрели на него. Он чувствовал эти взгляды и напряженное ожидание, и это мешало ему спокойно соображать. Он как будто видел сквозь железную обшивку лодки эту липкую полужидкую глину, которая присосала дно судна; хотелось выскочить наружу и выручить судно хоть ценой своей жизни. Он повернулся и ушел в свою каюту, приказав остановить мотор.
Механик посмотрел сам на приборы.
— Над нами всего двадцать пять футов воды, — сказал он.
Все молчали. Слышно было, как шлепает вверху колесами пароход. Казалось, он толокся на месте.
— Буксир идет, — шепотом сказал один матрос.
— Покричи им, — пошутил кто-то.
Все ждали капитана. А он сидел у себя, в своей крошечной каютке, и не мог сосредоточить своих мыслей. Он все думал о том, что из-за его шалости все эти люди погибли, что нельзя даже крикнуть «спасайся, кто может», потому что никто не может спасаться, все они плотно припаяны ко дну этим глинистым грунтом и не могут вырваться из железной коробки. Эта мысль жгла его и туманила разум.
Ему было бы легче, если бы весь экипаж возмутился, если б на него набросились, стали бы упрекать, проклинать, а лучше всего, если б убили.
А весь экипаж собрался около рулевого управления, изредка шептались, коротко и серьезно. Мичман все посматривал на часы, но теперь не понимал уж, который час.
— Сколько времени? — спросил минер.
Мичман снова взглянул на браслет.
— Четыре часа, — сказал он, но так напряженно спокойно, что все поняли, как он боится.
— Ну еще на час… — начал было механик. Он хотел сказать «на час хватит воздуху», но спохватился, боясь волновать команду. Но все поняли, что если не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего этот час и остается им жить.
Тяжелый вздох пронесся над кучкой людей.
— Что ж капитан? — с нетерпеливой тоской сказал механик. Он раздражался и терял присутствие духа.
— Ну что капитан? — сказал задумчиво минер. — Что капитан? Что он может сделать, капитан?
Мичман стоял, красный, опершись о переборку, и все смотрел на свой браслет, как будто ждал срока, когда придет спасенье.
— Ведь мы через час задохнемся. Эй вы, — раздраженно сказал механик по-английски и дернул мичмана за руку, — пойдите скажите капитану, что остается час, идите сейчас же.
Но в это время сам капитан показался в проходе. Он был бледен как бумага, и лицо при свете электрической лампы казалось совсем мертвым. Его не сразу узнали и испугались, откуда мог взяться этот человек. Только черные глаза жили, и в них билась боль и решимость.
Все смотрели на него, но никто не ждал приказаний, все забыли об опасности, глядя на это лицо.
— Я пришел вам сказать, — начал капитан, — что я, я виноват во всем. И не по оплошности, а по шалости, вы сами это знаете, поднырнул — не надо было. Убейте меня.
Он держал за ствол браунинг и протягивал его рукояткой вперед.

— Что вы, что вы! — раздались голоса из команды, — еще, может, спасут! А не то уж вместе как-нибудь.
Капитан с минуту глядел на команду твердыми, горящими глазами. Затем круто повернулся и пошел назад. Мичман побежал вслед за ним.
— Капитан, не беспокойтесь… — начал было он.
Но в лице капитана не было беспокойства.
— Вот возьмите, — сказал он, передавая мичману судовой журнал, — и пишите дальше.
— Приказаний никаких?
— Я советую людям лечь и не двигаться, тогда надольше хватит воздуху. Может быть, дождутся помощи, нас хватятся. Берегите воздух. Пишите, пока будет можно. Ступайте.
Мичман вышел и передал распоряжение капитана. Все молча разошлись и легли.
Мичман сел за стол, раскрыл журнал.
«…20 июня 1912 года в 2 часа 40 мин. полудни, прочел он написанное рукой капитана, я, лейтенант Я., командир подводной лодки № 17, из мальчишеской шалости, вместо того, чтобы обойти стоящий в порту пароход, нырнул под него и, не успев подняться, сел на липкий грунт, чем и погубил 13 человек экипажа. Для спасения пытался…». Затем шло описание попыток раскачать лодку и замечание, что команда вела себя геройски, не упрекнув его ни словом и не выйдя из повиновения.
«4 ч. 17 мин., написал мичман, принял журнал от лейтенанта Я. Команда лежит по койкам».
«4 ч. 29 мин. над нами быстро прошел винтовой пароход».
«4 ч. 40 мин. застрелился лейтенант Я. в своей каюте. Прилагаю его записку:
„Я не имею права дышать этим воздухом“.»
«5 ч. 10 мин. задохся машинист Семенов. Не могу писать и передаю журнал минному…»
«5 ч. 12 мин., писал минер, что-то скребнуло по корпусу судна. Команда задыхается, не могу встать. Что-то…».
Но тут запись прервалась неровным росчерком внизу; очевидно, перо вывалилось из рук писавшего.
А наверху два миноносца тащили по дну проволочный канат, концы которого были привязаны к их кормам. Железная петля тянулась по дну и шарила подводную лодку. С торгового парохода сказали, что видели перископ справа, потом он исчез и снова не показался. Сказали, когда уж по всему порту разнеслась весть, что № 17 с маневров не вернулся.
Миноносцы быстро шарили по всему порту, другая партия искала в море по пути эскадры, пока не дали знать с торгового парохода. Миноносцы бросились в указанное место, все знали, что каждая минута может стоит жизни людей.
На миноносце закричали, когда увидали, как натянулся проволочный канат, задев за лодку. На берегу толпа с напряжением следила за работой миноносцев и радостно загудела, услышав крик. Канат вывернул лодку из ее липкого гнезда, и она всплыла на поверхность. Спешно заработали мастеровые, раскупоривая этот железный склеп. Врачи бросились спасать: все уже было приготовлено. Не привели в себя только троих, среди них и мичмана. Странно было слышать, как часы все тикали на мертвой руке.
Коржик Дмитрий
Вторую неделю уже странствовал парусный кутер[19] «Савватий» между льдов. Стояло лето, и в Ледовитом океане было круглые сутки светло. Лед ослепительно сиял на солнце днем и рдел кровавым отливом, когда солнце ночью спускалось к горизонту. Между огромными льдинами темнели озера свободной воды. По ним-то и пробирался кутер в поисках морского зверя: моржа, тюленя, белого медведя.
Команды было одиннадцать человек. Шкипер Титов вел судно, смотрел, чтобы его не затерло льдами. На верхушке мачты была устроена бочка, из которой далеко было видно. Там всегда кто-нибудь сидел и в подзорную трубу осматривал льды и воду: нет ли где какого-нибудь зверя. Спрятаться некуда в этой ледяной равнине.
Вот уже две недели, и ничего не промыслили. Старый промышленник Федор сердился. Титов последнее время молчал и все чаще и чаще бегал в каюту погреться спиртом. Но коржик[20] Дмитрий не унывал, шутил и возился с молодыми ребятами, которые от нечего делать боролись на палубе.
Местами проходы среди льдов были узкие, и приходилось идти между ледяных берегов, как в речке, местами эта речка расширялась, но надо было зорко следить, чтобы не попасть в тупик. Вот по такой-то речке, между двух ледяных полей, и пробирался сейчас «Савватий». Два дня уже дул этот свежий ветер и слева гнал льды. Но левый и правый ледяные берега шли одинаково, и пространство свободной воды между ними не изменялось, и сейчас кутер свободно бежал между льдами, пробираясь к огромному озеру свободной воды. Но вот правый берег остановился. Видно, лед где-нибудь уперся в далекую землю и стал. Но ледяное поле с левой стороны продолжало идти, и речка становилась уже. Все на судне знали, что ничто сейчас не остановит движения льда и оба берега сомкнутся, как лезвие гигантских ледяных ножниц. Они пополам разрежут судно, если оно не успет добежать до свободной воды. Эх, если б ветер дул немного покрепче!
Шкипер Титов стоял сам на руле. Поставили все паруса, сколько было можно. «Савватий» был хороший ходок, но всем казалось, что судно еле ползет, а лед все скорей и скорей двигается по мере того, как уменьшалось расстояние между ледяными берегами. Если не выскочить из этих ножниц, лед зажмет судно и поломает, как спичечную коробку. Теперь никто уж не баловался на палубе, а ребята прислушивались к ветру. То казалось, что он слабеет, то вот будто задул сильней.
Титов знал, что если и за полсажени до выхода затрет льдом, то все равно судно погибло. Подводную часть сплющит, а то, что над водой, поломается, и придется всем бродить по льду, пока не подберет их какое-нибудь промысловое судно.
Федор с мачты крикнул:
— Еще с полверсты!
Все понимали, что это значит: это до свободной воды осталось с полверсты.
— Ветер плохо держит! — сказал Титов стоявшему рядом коржику Дмитрию и крепко выругался.
— Так тому и быть, — весело сказал Дмитрий и закурил трубку.
— Подобрать, что ли, шкот?[21] — спросил он Титова.
— Подбери, — сказал Титов.
Шкипер не знал, будет ли лучше. Он выжал уже из судна всю его скорость и тут уж рассчитывал на легкую руку: знал, что Дмитрий удачлив.
Дмитрий подобрал. Показалось, что судно пошло немного ходче. Еще бы пять минут — и на свободной воде! А лед жмет и жмет, как будто нарочно дает судну еще бежать, чтоб за вершок до выхода зажать и размозжить.
Все смотрели, как все ближе подходило ледяное поле слева.
— Ну, ребята, — сказал кто-то, — выноси пожитки на палубу.
Но люди не оглянулись, не ответили, смотрели на лед, и говоривший не двинулся.
— Хоть дуй в паруса!
Федор слез сверху: боялся, не слетела бы мачта, как затрет льдом.
Оставалось сажени три до выхода, но лед был так близко, что можно было бы на него спрыгнуть.
Титов напряженно и зло смотрел вперед. Ему с кормы не видно было, сколько осталось. Но он знал, что пока не вышли на свободную воду — нечего радоваться.
Вдруг все оглянулись назад, за корму.
Титов понял, что проскочили. Он оглянулся: не верилось, что только что выскочило судно из этого узкого прохода.
— Возьми руль, Тишка, — крикнул он молодому парню, а сам спустился в каюту.
— Пошел старик выпить, — шепнул Дмитрий Тишке.
Теперь все ожили, заговорили. Федор снова полез на мачту.
Он внимательно осмотрел всю свободную ото льда поверхность воды.
Заметил вдали мачту судна. Рассмотрел в трубу все: судно норвежское. Норвежцы с машиной пробирались туда, куда не пролезет неуклюжий парусник. И когда по свободной воде «Савватий» приблизился к новому ледяному полю, с другой стороны его торчали две мачты норвежского кутера. А вон по краю льдины черные точки. Как мухи на скатерти. Федор хорошо видел, что это тюлени. С другой стороны льдины их было больше, и там со шлюпки работали норвежцы. «Савватий» опять лег в дрейф.
— Бери моржовки, ребята! — командовал Дмитрий.
Люди выносили из каюты короткие ружья. Они были новенькие, хорошо смазанные и красиво блестели.
— Эх! — сказал молодой парнишка Тихон, — вот здорово-то! — и приложился, хотелось пострелять.
— Ну, не балуй, в шлюпку лезь, — крикнул Федор.
Тюлени, как овцы: беззащитные и глупые. Они лежали по краю льдины, чтоб в случае опасности плюхнуть в воду. Но они, недоумевая, смотрели на шлюпку с людьми и не двигались.
Дмитрий начал и выстрелом сразу наповал убил крайнего тюленя. Тихон ударил второго. Тюлени оглядывались на выстрелы и с любопытством глядели, как опускал голову сосед. Но ни один не двигался.
С другой стороны льдины ясно стукали выстрелы норвежцев: сухо, как гвозди вколачивают.
— Ишь, черти, — сказал Дмитрий, — вон у них ряд-то какой! Лазят в наших берегах.
— Да ведь это какие уж берега, тут сама голомень[22], - ответил Федор.
— Им хорошо, — не унимался Дмитрий, — судно моторное, куда хочешь, анафемы, пролезут; вон, так и чистят.
Ряд кончался.
— Ну, я им сейчас вклею! Стоп, Тишка, не стреляй! Последнего я сам.
— Брось, не надо, — сказал Федор, — знаю ведь…
Молодые ребята не понимали, что затевает коржик, и с любопытством глядели то на стрелка, то на тюленя. Тюлень важно и тупо смотрел, повернув вбок голову.
Щелкнул выстрел, и в ту же минуту раздался пронзительный визг тюленя. Он бился с раздробленной ластой[23].
Дмитрий встал в шлюпке и смотрел на ту сторону льдины.
Тюлени с норвежской стороны, как лягушки с берега, прыгали со льда в море.
— Вот, вон, — хохотал Дмитрий, — штук сорок не добили. Вот игра!
Ребята тоже смеялись. Тишка добил раненого тюленя.
С норвежской стороны щелкнул выстрел, и пуля прожужжала совсем близко. Вслед за ним второй. Дмитрий сел.
Ребята нагнулись.
— Видишь, дурак, что теперь, — проворчал Федор.
— Подгреби ко льду, — крикнул Дмитрий. Злым и веселым стало его лицо. Он быстро зарядил моржовку и, прикрываясь обрывом льда, стал стрелять в норвежцев, как из окопа.
Тишка не отставал.
— Да брось, побойтесь бога! — кричал Федор. — Андели — беда, ведь в живых людей бьете!
Раз!.. раз!.. били поморы[24].
Тук!.. тук!.. отвечали норвежцы.
Пулей задело и раскровило ухо гребцу.
Он схватил третью моржовку, забил патрон и стал палить.
Федор быстро выпростал руки из рукавов малицы[25] в пазуху, оторвал клок рубахи, наткнул на багор и выскочил на лед.
Он побежал с этим флагом, скользя по льду, навстречу норвежским выстрелам.
Норвежцы замолкли. Но Дмитрий поднял моржовку.
Ребята схватили его за руку:
— Оставь!
— Да ну вас! Пусти! — вырывался Дмитрий.
Но все уже опомнились и отняли у Дмитрия ружье. Со стороны норвежцев шли навстречу Федору два человека.
Тишка выскочил на лед и побежал догонять Федора.
Скоро один человек только остался в шлюпке. Норвежцы и поморы сошлись на середине льдины.
Норвежцы ругались. Они знали, что нарочно, назло поморы испортили им охоту. Все говорили, кричали и спорили. Федор извинялся, предлагал на мировую десяток тюленей. Почти всякий моряк-помор знает по-норвежски. Кое-как уладил. Норвежцы даже выпить звали.
— Экой ты, Митька, кипяток, — выговаривал ему Федор, когда возвращались к шлюпке, — хорошо еще, никого из них не подбили. Когда-нибудь и сам пропадешь и других, дурак, погубишь.
— Пусть знают, черти! — кричал Дмитрий.
— Да знать-то они лучше нашего знают, а вон что выходит…
— Чего ты-то полез?
— Да ведь зря всё!..
— Баба ты в портках, вот я тебе что скажу. Тьфу!
Он зло плюнул в сторону Федора и пошел вперед.
— Эх, не плюй, парень, в колодец, гляди, пригодится…
— Это кто? Ты-то? — обернулся на ходу Дмитрий. — Тьфу! Видать что баба: кто за ружье, а он за тряпку.
— Гляди, самовар какой, — усмехнулся Федор, — уж немилым глазом на меня глядит.
Когда убирали тюленей, Дмитрий все злился и не говорил с Федором. Дмитрий сам смотрел из бочки с верхушки мачты. Вон далеко на льду что-то черное. Глянул в трубу и сейчас же бросился вниз, чуть не слетел.
— Шлюпку, шлюпку! — кричал он, горячась, и стал надевать свой тяжелый пояс с патронами.
— Ну чего там? — спросил Федор.
Дмитрий только зло глянул.
— Что? — спросил Титов.
— Морж и два медведя.
— Да врешь?
Шлюпка изо всех сил шла к льдине. Простым глазом можно было уже увидеть зверей.
Огромный морж, поднявшись на ласты, вертелся, сколько позволяло ему его огромное тучное тело. Два медведя, один молодой, старались обойти его и напасть сзади. Морж — лев северных морей, он сильный и храбрый зверь. Бывали случаи, что рассвирепеет и бросится на шлюпку с людьми. Доски клыками выламывал. В воде он никого не боится. Но на льду ему плохо. Грузно движется он на своих неуклюжих ластах. А все-таки один на один медведь боится с ним связаться.
Морж старался подвинуться ближе к воде, оставалось уж недалеко. Медведи боялись, что вот-вот уйдет он от них, но все не решались наброситься.
Дмитрий не спускал с них глаз. Заметят его медведи, убегут еще, а морж тогда живо доберется до воды, и поминай как звали.
Солнце ярко освещало блестящий лед, и его сияние ударяло снизу и слепило глаза. Дмитрий вылез на лед и, держа в руках заряженную моржовку, побежал к зверям. Он хотел подбежать как можно ближе, пока они его не замечают, чтобы без промаха стрелять. Старый медведь забежал со стороны воды и преграждал путь моржу. Морж резко повернулся в его сторону, и медведь попятился, молодой не решался схватить моржа за хвост.
Дмитрий боялся, чтобы медведи не попортили моржовой шкуры раньше, чем он добежит, и боялся, чтоб не упустили моржа в воду.
Со шлюпки с напряжением следили за приближением коржика и за борьбой зверей.
Но вдруг Тишка крикнул:
— Майна, майна[26], не видит! Митька!
Все сразу увидали темневшее впереди коржика затянутое тонким льдом пространство.
Кричали, но Дмитрий ничего не слышал и видел только, что еще сажени три — и морж уйдет.
— Давай багор, бежим! — крикнул Федор и пустился вслед за Дмитрием.
Кляцнул, звякнул лед, и Дмитрий провалился с разбегу в воду. Тяжелые патроны тянули вниз, он на секунду вынырнул и опять скрылся. Снова показались руки.
Никто не решался пойти по тонкому льду. Все смотрели на Федора. Он лег на лед и пополз на животе к краю майны.
Тишка не выдержал и тем же порядком пополз следом и схватил его за ноги. Федор подвел багор как раз под руки, которые показывались из воды и беспомощно хватали воздух. Руки схватили багор. Показалась голова Дмитрия. Испуганные, сумасшедшие глаза глядели на Федора. Вдруг Дмитрий пустил багор. Нарочно ли, или сознание оставило его? Но Федор острым крюком багра уцепил его за малицу и потянул. Тишку тянули ребята за ноги, а он не отпускал Федора. Вытащили Дмитрия. Он был без сознания. Откачали, привели в себя, уложили в койку и напоили мертвецки спиртом.
Когда Дмитрий пришел в себя, позвал к себе Федора.
— Прости, брат, что плюнул, твоя правда…
— Ну, ну, ладно. Ты вот опохмелись, гляди, дрожишь весь.
И налил ему спирту.
19
Кутер — небольшое двухмачтовое судно.
20
Коржик — главный охотник.
21
Шкот — веревка, которой притягивается парус; «подобрать шкот» — больше натянуть его.
22
Голомень — по-поморски — открытое море.
23
Ноги у моржей и тюленей называются ластами — не то лапы, не то плавники.
24
Поморы — приморские жители русского Севера.
25
Малица — меховая рубаха с широко вшитыми рукавами.
26
Майна — полынья.
Компас
Было это давно, лет, пожалуй, тридцать тому назад. Порт был пароходами набит — стать негде.
Придет пароход — вся команда высыпет на берег, и остается на пароходе один капитан с помощником, механики.
Это моряки забастовали: требовали устройства союза и чтоб жалованья прибавили.
А пароходчики не сдавались — посидите голодом, так небось назад запроситесь!
Вот уже тридцать дней бастовали моряки. Комитет выбрали. Комитет бегал, доставал поддержку: деньги собирал. Вполголода сидели моряки, а не сдавались.
Мы были молодые ребята, лет по двадцать каждому, и нам черт был не брат.
Вот сидели мы как-то, чай пили без сахара и спорили: чья возьмет?
Алешка Тищенко говорит:
— Нет. Не сдадутся пароходчики, ничто их не возьмет. У них денег мешки наворочены. Мы вот чай пустой пьем, а они…
Подумал и говорит:
— А они — лимонад.
А Сережка-Горилла рычит:
— Кабы у них с этого лимонаду пузо не вспучило. Тридцать дней хлопцы держатся, пять тысяч народу на бульваре всю траву задами вытерли.
А Тищенко свое:
— А им что? Коров на твоем бульваре пасти? Напугал чем!
И ковыряет со злости стол ножиком.
Тут влетает парнишка.
Вспотелый, всклокоченный.

Плюнул в пол, хлопнул туда фуражкой, кричит:
— Они здесь чай пьют!..
— Лимонад нам пить, что ли? — говорит Тищенко и волком на него глянул.
А тот кричит бабьим голосом:
— Они чай пьют, а с «Юпитера» дым идет!
Тищенко:
— Нехай он сгорит, «Юпитер», тебе жалко?
— С трубы, — кричит, — с трубы дым пошел!
Тут мы все встали, и Сережка-Горилла говорит:
— Это не дым идет, а провокация.
Парнишка плачет:
— Черный! Там дворники под котлами шевелят. Пошли!
Выскочили мы, пошли к «Юпитеру».
Верно, из пароходной трубы шел черный дым, а кругом — и на сходне, и на пристани, и на палубе — кавалеры в черных тужурках. Рукава русским флагом обшиты, и на поясе револьверы. Не подойти.
— Союзники русского народа, — объясняет парнишка.
Будто мы не знаем, что такое «союз русского народа» — полицейская порода.
Когда мы на бульвар пришли, только и разговору, что про «Юпитер». Стоит народ, и все на дым смотрят.
Взялся капитан с дворниками в рейс пойти, сорвать матросскую забастовку. Капитан — из «русского народу», и охрану ему дали: двадцать пять человек. Дворники не дворники, а уголь шевелят здорово. На руль помощников капитан поставит, в машину — механиков…
— Очень просто, что снимутся, — говорит Тищенко, — а в Варне заграничную команду возьмут — и пошел.
Сережка вдруг оскалился, говорит:
— Не пустим!
— Ты ему соли на корму насыпь, — смеется Тищенко.
— Знаем, как насолить, — говорит Сережка. — Пойдем… — И толкает меня под бок.
Вышли мы из толпы.
Сережка мне говорит:
— Ты не трус?
— Трус, — говорю.
Он помолчал и говорит:
— Так вот, приходи ты сегодня в одиннадцать часов на Угольную, я около трапа тебя ждать буду. И никому — ничего.
Пальцем помахал и пошел прочь.
Чудак!

Прихожу в одиннадцать на Угольную пристань. Фонари электрические горят, и от пристани на воду густая тень ложится — ничего не видать под стенкой. Дошел до трапа, на ступеньках сидит Сережка-Горилла. Сел я рядом.
— Что, — спрашиваю, — ты, дурак, надумал?
— Полезай, — говорит, — в тузик вон у плота, дорогой обмозгуем.
Рассмотрелся, вижу плот и тузик.
Пошел я по плоту, — не видать, где плот кончается. Ступил на воду, как на доску, и полетел в воду. Самому смешно: шинель вокруг меня венчиком плавает, и я — как в розетке.
А вода весенняя, холодная.
Я в туз. Пока вылез, хорошо намок.
Разделся я до белья — и холодно и смешно. Стал грести, согрелся.
— Ну, — говорит Серега, — начало хорошее. А сделаем мы вот что: я на «Юпитере» путевой компас из нактоуза выверну и тебе в мешке спущу.
— А как подойдем? Трап ты спросишь у охранников?
— Нет, — говорит, — там угольная баржа о борт с ним стоит, какого-нибудь дурака сваляем.
— Сваляем, — говорю.
И весело мне стало. Гребу я и все думаю, какого там дурака будем валять. Как-то забыл, что «союзники» там с револьверами.
А Сережка мешок скручивает и веревку приготавливает.
Обогнули мол. Вот он, «Юпитер», вот и баржонка деревянная прикорнула с ним рядом. Угольщица.
Гребу смело к пароходу.
Вдруг оттуда голос:
— Кто едет?
Ну, думаю, это береговой, — флотский крикнул бы: «Кто гребет?»
И отвечаю грубым голосом:
— Та не до вас, до деда.
— Какого деда там? — уж другой голос спрашивает.
А на такой барже никакого жилья не бывает, никаких дедов, и всякий гаванский человек это знает.

А я гребу и кричу ворчливо:
— Какого деда? До Опанаса, на баржу, — и протискиваю туз между баржой и пароходом.
Сережка окликает:
— Опанас! Опанас!
С парохода помогают:
— Дедушка, к вам приехали!
Залез я на баржу, с борта прыгнул на уголь и пошел в нос. А нос палубой прикрыт.
И говорю громко:
— Дедушка, дедушка, это мы. Какой вы, к черту, сторож! Вас палкой не поднять, — и шевелю уголь ногой.
Смотрю — и Сережка лезет ко мне.
Чиркнул спичку. А я стариковским голосом шамкаю:
— Та не жгите огня, пожару наделаете, шут с вами.
Сережка, дурак, смеется. А с парохода говорят:
— Да, да, не зажигайте спичек, мы вам фонарь сейчас дадим.
И затопали по палубе.
Сережка говорит мне:
— А дурак ты, дедушка, ей-богу, дурак!
Я выглянул из-под палубы. Смотрю, уже фонарь волокут.
Я скорей к ним.
К мокрому белью уголь пристал — самый подходящий вид у меня сделался, это я уже при фонаре заметил.
Сидим мы с фонарем под палубой и вполголоса беседуем.
Я все шамкаю.
— Лезь, — шепчет Серега, — в туз, а как уйдут с борта — стукни чуть веслом в борт.
Я полез в туз.
Вдруг Серега громко говорит:
— Так вода, говоришь, у тебя в носу оставлена, дедушка?
А я знаю, что он один там, и отвечаю из туза:
— В носу, в носу вода!
— Так заткни, чтоб не вытекла! Не тебя спрашивают, — говорит Серега.
На борту засмеялись. А Серега зашагал по углю в корму. Потом вернулся. Опять прошел на корму, и все смолкло.
Смотрю — один только человек остался у борта.
— Эй, — говорит, — фонарь-то потом верните.
И отошел. Стало тихо.
Я подождал минут пять и стукнул веслом в баржу.
Бережно, но четко: стук!
И тут заколотилось у меня сердце.
Я прислушивался во все уши, но, кроме сердца своего, ничего не слыхал.
Глянул вверх — через щели в барже светит фонарь.
Прошел человек по палубе.
Перегнулся через борт и спрашивает, как начальник:
— Это что за лодка?
А я чувствую, что скажу слово — голос сорвется. Молчу.
Он опять. Крикнул уже:
— Что это за лодка? Эй, ты!
Тут ему кто-то из ихних ответил:
— Это сюда, на баржу, к старику, свои приехали.
— Ага, — говорит и отошел.
Опять стало тихо. Я уж вверх не гляжу, смотрю по борту парохода.
Вдруг что-то вниз ползет серое по черному борту.
Я замер. Дошло до воды — стало.
Мешок.
Вся сила ко мне вернулась.
Не брякнул я, не стукнул. Протянулся тузом по борту вперед, ухватил мешок — здорово тяжелый — и осторожно опустил в туз.
В это время туз качнуло; глянул — Сережка уже стоит на корме.
Он по той же веревке слез, на которой и мешок опустил.
Я взялся за весла и стал потихоньку прогребаться вперед.
В это время с парохода кто-то крикнул:
— Эй, дед, фонарь давай! Заснул?
И мы слыхали, как кто-то спрыгнул на баржу.
Я чуть приналег посильнее.
Фонарь стал метаться по барже.
На пароходе закричали, заголосили.
Бах, бах! — щелкнули два выстрела.
— Эх, навались!
Мы уже огибали мол.
Сережка оглянулся и сказал:
— Шлюпка за нами — навались!
Я рванул раз, два — и правое весло треснуло, я повалился с банки.
Вскочил, смотрю — Сережка гребет по-индейски обломком весла; как он успел на таком ходу ухватить обезьяньей хваткой обломок весла — до сих пор не пойму.
Мы завернули за мол в темную полосу под стенкой и забились между большим пароходом и пристанью, как таракан в щель.
Мы видели, как из-за мола вылетела белая шлюпка.
Гребли четверо. Гребли вразброд, бестолково.
Орали и стреляли.
Через полчаса мы прокрались под стенкой к своей пристани.
Наутро пришли мы с Серегой на бульвар.
Еще пуще раздымился «Юпитер».
— Снимается, снимается анафема, — говорит Тищенко. — Капитан там аккуратист — все уж в порядке.
А тут сбоку подбавляют:
— Лиха беда начать — все пароходы вылезут. Наберут арапов, охрану поставят — и айда. Завязывай!
Тут какой-то вскочил на скамейку и начал:
— Товарищи! Не надо паники. Сотня арапов весны не делает, — и пошел и пошел.
А мы с Сережкой переглядываемся.
Снялся «Юпитер». Вышел из порта.
Ну, думаю, через полчаса пойдет капитан курс давать, глянет в путевой компас…
Погудел народ и приуныл. Сели на землю и трут затылки шапками. Всем досада.
Мы с Сережкой ушли, так никому и слова не сказали.
Зашли в трактир, чаем пополоскались.
Дружина прошла строем, что на охране парохода была.
Серьезно идут, волками по сторонам смотрят.
Часа три прошло.
Вдруг вой с бульвара, да какой! Ну, думаем, полиция орудует на бульваре.
Бросились бегом.
Смотрим — все стоят, в море смотрят и орут.
А это «Юпитер» идет назад в порт. Увидал его народ, вой поднял.
А Серега мне говорит:
— Смотри же, ни бум-бум, чтоб никто ничего!
Я так до сего времени и молчал.
Ну, теперь уж и сказать можно…
