автордың кітабын онлайн тегін оқу Хозяин тайги

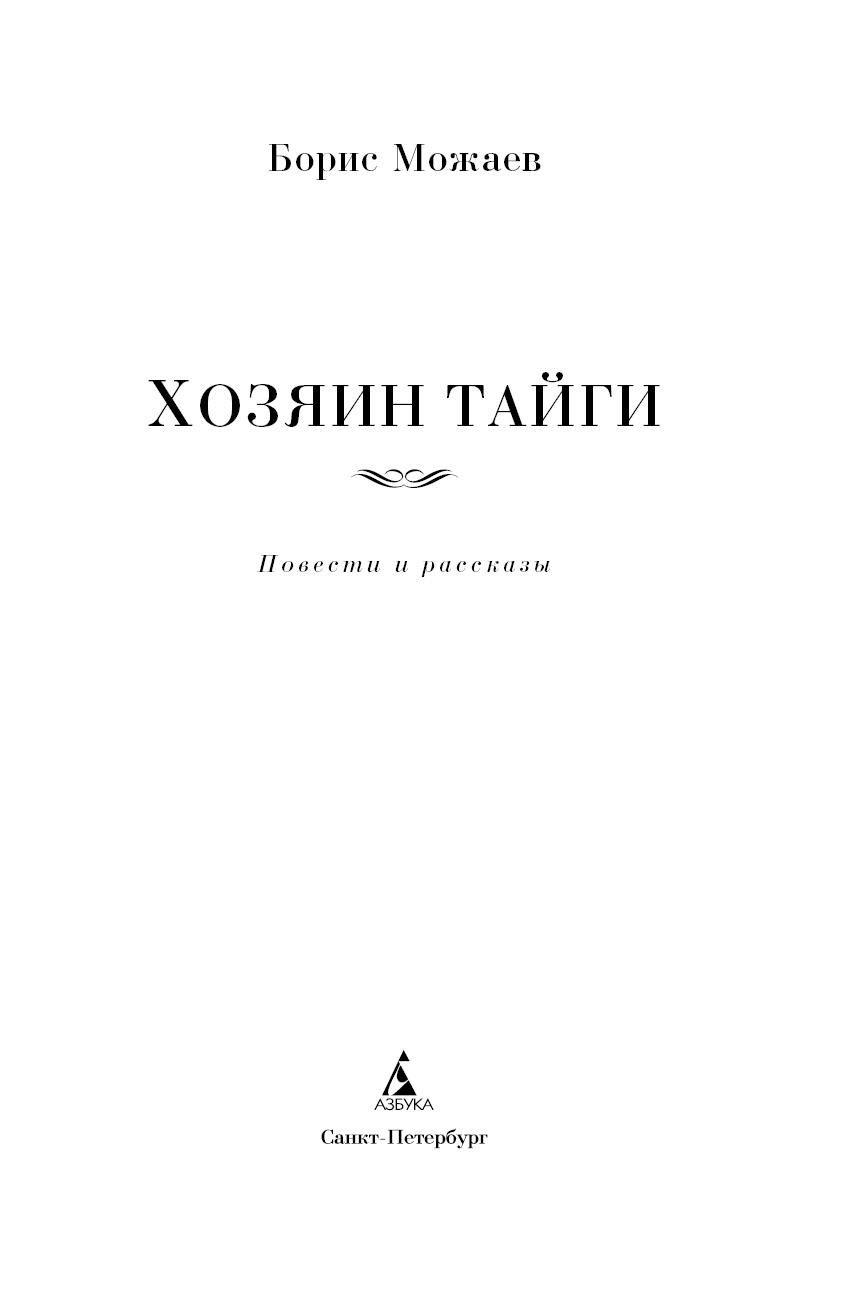
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Можаев Б.
Хозяин тайги : повести и рассказы / Борис Можаев. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Русская литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-31479-5
16+
Честная проза Бориса Можаева, пронизанная любовью к русской деревне и людям, чьим тяжелым трудом страна поднималась из руин войн и революций, всегда находила благодарный отклик в сердцах соотечественников. Выходец из крестьянской семьи, писатель остро чувствовал и понимал и боль, и радость деревенской жизни. Мужество, нравственная стойкость, ответственность перед землей и стремление к справедливости — эти черты российского крестьянства Борис Можаев высоко ценил и умел разглядеть за наивностью или простотой, балагурством или грубоватой прямотой.
Представленные в настоящей книге повести и рассказы написаны в разные годы, многие из них получили экранное воплощение, самым известным из которых стал фильм «Хозяин тайги» о молодом участковом милиционере Василии Сережкине (главные роли исполнили Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин). Повести «Живой» и «Полтора квадратных метра», по которым были поставлены знаменитые спектакли Театра на Таганке, «История села Брехова…» стали знаковыми произведениями советской эпохи. Написанные в разные годы, эти истории позволяют увидеть развернутую во времени панораму жизни огромной страны через судьбы простых людей, неразрывно связанных с ней.
© Б. А. Можаев (наследники), 2025
© Оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
ХОЗЯИН ТАЙГИ

ВЛАСТЬ ТАЙГИ
1
Поздно ночью сильно постучали в окно избы участкового милиционера.
Сережкины спали прямо на полу; широкую деревянную кровать вынесли во двор и пересыпали дустом — от клопов спасенья не было. Татьяна, приподнявшись на локте, будила мужа:
— Вася! Слышь, Вась! Да очнись ты, не маку же напился!
— А! — тревожно вскрикнул Сережкин и, сбросив теплое одеяло с лоскутным верхом, быстро вскочил на ноги. — Что случилось, Тань?
— Да ничего, — спокойно ответила жена. — Вон стучит кто-то. Опять, видно, по твою душу.
В окно снова настойчиво постучали.
— А-а, — равнодушно отозвался Сережкин, почесывая широкую волосатую грудь, и потянулся так, что захрустели суставы. — А я уж думал, не пожар ли?
В одних кальсонах и ночной рубахе он пошел в сени, шлепая по полу босыми ногами. В сенях Сережкин наскочил на ведро, чертыхнулся в темноту, обозвав Татьяну раскидухой, и на ощупь отыскал дверную задвижку.
— Кто там? — хрипло спросил он, выглядывая наружу из-за приотворенной двери.
— Василий Фокич! — метнулась от окна к Сережкину темная фигура. — Беда, Василий Фокич. Сплавщики у нас бузят. Из ружьев так и палят, так и палят...
— Постой, говори толком, — оборвал его Сережкин. — Где это — у вас!
— Да ты что, ай не признал меня? Я ж Усков из Переваловского сельпо.
— Николай! — удивленно воскликнул Сережкин. — Фу ты, дьявол! Спросонья-то никак не очухаюсь. Здорово! — Сережкин вышел на крыльцо и подал Ускову руку. — Откуда ты? Неужто в такую пору из Переваловского?
— А я на моторке... Еле утек. Так из ружьев и палят, варнаки.
— А что, задели кого-нибудь?
— Да нет, этого не было...
— Кто же сплавщиками верховодит, Рябой, что ли?
— Вроде его не видал. Больше этот, Варлашкин, шумит. Этот, что в картинках весь. — Усков показал рукой на грудь и живот.
— А, татуированный! — протянул Сережкин. — Известно. Ну, пошли в избу Я в момент соберусь, и поедем.
На кухне, или, как Сережкины говорили, в чулане, отгороженном невысокой дощатой перегородкой от остальной избы, Василий зажег лампу. Круглолицый толстогубый Николай с непривычки к свету сильно сощурился.
— Садись, — пригласил его к столу Сережкин и сунул табуретку.
— Вася, едешь? — спросила Татьяна.
— Да. — Сережкин ушел в темную комнату собираться.
— Поесть чего-нибудь собрать?
— Не надо.
— Куда ж ты теперь?
— В Переваловское. Опять сплавщики поднялись, — ответил Сережкин и закряхтел, с трудом натягивая волглые сапоги.
— Из ружьев так и палят, так и палят, — донеслось из чулана.
На пол, на постель, на стол падал от двери длинный прямоугольник света. Татьяна лежала, все так же опираясь на локоть. Ладонью другой руки она прикрывала лицо от света. Одеяло сползло на грудь, обнажая острые худые плечи и выпуклую ключицу.
— Ты бы погодил до свету, Вася, — упрашивала она тихим глухим голосом. — А то ведь, не ровен час, того и гляди... — Она не сказала, что убьют, но он понял.
— Чудная ты, Татьяна, — нехотя ответил он. — А если бы, к примеру, в бою меня командир послал ночью в разведку, я бы ему что сказал? А? Молчишь? То-то и оно. А здесь я сам командир и солдат. Сам себе приказываю и выполняю, понятно? Если я не пойду, кто пойдет? В одну сторону на полсотни километров нет милиционера, а в другую, может, на пятьсот, а может, на тыщу... Аж до самого океана. Я один тут. А порядок все равно должен быть. Власть и в тайге власть, — заканчивал Сережкин всегда этой внушительной фразой, за что получил в округе прозвище «Власть тайги».
И Татьяна смирялась, затихала.
— Подай-ка мой портупей, — попросил он жену. — А то куда мне в грязных сапогах через постель?
— Папань, я подам! — неожиданно раздался из темного угла детский голос, и парнишка лет десяти, опережая мать, бросился к столу, где лежала отцовская портупея.
— Ах ты, кочедык! — ласково обругал отец сына. — Не спишь, мерзавец!
— Может, молочка попьешь, — предложила Татьяна.
— Это можно.
Сережкин уже в чулане, на свету, проверил пистолет — заряжен ли? Затем надел снаряжение. Приземистый, туго затянутый ремнями, он производил внушительное впечатление. У него все подалось вширь: скуластое, с широкой переносицей лицо, угловатые тугие плечи и даже ступня была широкой, почти квадратной. Крупные черты его лица выражали степенное миролюбие, и только маленькие светлые глаза задорно поблескивали и хитровато щурились. Ему шел сороковой год, но выглядел он лет на десять моложе. Впрочем, молодила его короткая стрижка жестких рыжеватых волос.
Он выпил литровый горшок молока, предварительно предложив Ускову, который отказался, и, повернувшись к Татьяне, сказал на прощание:
— Ну, я поехал.
— Поезжай, поезжай, — ответила она, и это прозвучало и как прощание, и как доброе напутствие.
Сережкин с Усковым вышли на улицу. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома Хохловки, за ними похожие на кочки стога сена, а еще дальше матово поблескивал плес Бурлита... Сережкин и Усков быстро шли по луговой тропинке к реке.
— Как думаешь, доберемся к утру до Переваловского? — спрашивал Ускова Сережкин.
— Сейчас два часа, светает в пятом... Думаю, доедем.
— Ну, давай, рассказывай по порядку.
— Пришли они, значится, с вечера, засветло еще, вроде как бы на танцы... — начал торопливо Усков, катя свое полное круглое тело по тропинке за размашисто шагающим Сережкиным. — Ну и как водится, зашли ко мне в магазин, взяли водки. Человек пять их было. Я еще предупредил их: «Не много ли, ребята, будет три литра-то?» Не твое, говорят, дело. Ты знай продавай да посапывай. Меня, конечно, задела такая непочтительность, но я смолчал. Ладно, думаю, что будет дальше? Ушли они. Да, Варлашкин-то завернулся, скорчил рожу и говорит мне: приготовь, мол, нам местечко, дружок, мы погулять решили. Я думаю: тебе тот дружок, который на цепи сидит. Но смолчал. Ушли. А через час, в сумерках, закрываю это я магазин, слышу, возле клуба кричат. Я туда. Смотрю, дерутся на танцах. Девки с криком врассыпную, как горох. А потом и ребята наши разбежались. А что они сделают? Их меньше. К сплавщикам еще со станов подошли, да двое с ружьями. Ну, они как пальнут, пальнут! Куда тут деваться? У председателя Волгина собаку убили, а сам он в сопки чесанул, а за ним и мужики. Изобьют ведь! И пошли они по селу охальничать, заборы ломают, собак бьют. В избу ко мне вломились. Так я успел во дворе на сушилах спрятаться. В сено зарылся. Часа два пролежал там. А потом задами пробрался к реке, завел моторку и вот к вам приехал.
— А когда уезжал ты, они еще в деревне были? — спросил Сережкин.
— Да все там колобродили. А вот и лодочка моя, прошу!
Они подошли к реке. Усков вытащил кол, за который лодка была привязана на цепь. Вдвоем они столкнули лодку с мели, сели в нее и стали выгребать на быстрину. Течение подхватило лодку и медленно понесло ее вдоль темных лесных берегов. Вскоре заработал мотор, стало веселее. По реке Бурлиту от Хохловки до Переваловского было километров двадцать, и они надеялись добраться на место происшествия к рассвету. Мотор выбивал ровную пистолетную дробь, лодку, покачивая, легко несло по течению. На перекатах волны заливали выхлопную трубу, тогда от кормы веером разлетались брызги, а трескотня мотора становилась глуше. Усков сидел в корме, навалившись боком на изогнутый руль, и без конца говорил о том, как «палят из ружьев» сплавщики. Вдруг мотор несколько раз сильно выстрелил и заглох.
— Свечи замочило, — сказал авторитетно Усков. — Это мы сейчас.
Он засветил фонарик и начал копаться в моторе.
Лодка еще несколько минут с тихим плеском летела по инерции и наконец застыла. Река в этом месте была широкая, течения не ощущалось. После грохота мотора стало неестественно тихо, и лишь через некоторое время Сережкин услышал стрекот кузнечиков, доносившийся с берега, и даже шелест крыльев и попискивание летучих мышей, которые ловили над рекой невидимую мошкару. Медленно шли минуты ожидания. Звенел и кусался гнус. Сережкин хлопал себя широкой ладонью по шее, по лицу, отфыркивался, словно умывался, и говорил сердито:
— Ну скоро ли ты? Что, в самом деле, вывез на съедение, что ли?
— Обождите минуточку... Я скоренько... отсырели, проклятые, — отвечал виновато Усков и что-то брал на зуб, на язык, на что-то плевал и кряхтел.
А минуты, долгие, тягучие, все шли и шли. Сережкин уже стал проявлять заметное недовольство:
— Да ты что, смеешься надо мной? Может, за это время преступление случилось, а у тебя — свечи... Смотри, головой отвечать будешь!
— Ну что же мне теперь делать? — в отчаянии восклицал Усков. — Кажись, все на месте: искра, свечи, магнето... а не ревет, проклятый!..
Уже полнеба зарделось, заиграло зарей, уже верхушки деревьев стали ловить красноватые отблески восхода, когда наконец Усков понял причину отказа мотора: он повернул к Сережкину свое мокрое от пота одутловатое лицо и сказал жалобно и тихо:
— Бензин весь кончился.
— А, чтоб тебя рыбы съели! Тюфяк с мякиной, — обругал его в сердцах Сережкин. — К берегу давай. Пешком дойдем!
2
К Переваловскому подходили часам к одиннадцати пополудни. Вдоль по берегу Бурлита упорно месил глинистые отмели массивными сапогами Сережкин; шел погибисто, наклонив лобастую голову, и тянул на длинной веревке моторную лодку. По его следам устало и тупо переставлял коротенькие ноги Усков. Возле сельского водопоя на Бурлите их встретил конюх Лубников. Этого человека не обходила стороной ни одна новость. У него был удивительный нюх на всякого рода происшествия; он страсть как любил все пересказывать, причем каждый случай в его устах получал необычную окраску и уходил от него по миру на самых фантастических ходулях. Вот и теперь, придерживая одной рукой вороного жеребца, он второй приветливо махал Сережкину. На нем, словно на колу, трепалась синяя рубаха и выпущенные поверх сапог серые штаны.
— Поймал его, голубчика! Ну, молодец ты, старшина! — восторженно изливался Лубников, подходя к Сережкину и с любопытством поглядывая на Ускова. — А ведь я так и сказал следователю: насчет побега Ускова не беспокойтесь... Его Сережкин из-под земли достанет. У него, говорю, у вас то есть, не сорвется. Поймал, поймал. Ну-к, подержи-ка жеребца-то, я на него полюбуюсь, на красавчика! — Лубников ткнул повод в руки Сережкину.
— Пошел ты к черту со своим жеребцом! — сердито оборвал конюха Сережкин. — Чего мелешь! Кто поймал Ускова? Я? С какой стати?
Лубников в крайнем удивлении отступил на шаг от Сережкина.
— Да ты что, старшина? — всплеснул он руками. — Дак он же магазин собственный обокрал... Его четыре часа ищут везде. А ты, можно сказать, с государственным преступником прогулки гуляешь...
— Какой магазин? — испуганно спросил Усков. — Мой?
— Да, твой, — передразнил его Лубников. — Держи карман шире. Был твой...
— Ты это правду говоришь? — снова спросил Усков, бледнея.
— Да брось ломаться! Старшина, арестуй его, а то убежит.
У завмага затряслась челюсть.
— Василь Фокич, ты привяжи лодку-то, а я уж побегу, — взмолился он и, не дожидаясь ответа, катышем покатился по лугу к селу.
— Держи его! — гаркнул было Лубников и, закинув поводья на холку жеребца, хотел броситься вдогонку.
— Легче! — придержал его за локоть Сережкин. — Что у вас тут стряслось?
— Нет, уйдет, ей-богу уйдет!.. — сокрушался готовый сорваться в погоню Лубников, глядя, как бежит Усков.
— Успокойся, никуда он не денется. Рассказывай, что обокрали?
— Сельповский магазин и обокрали. Когда драку устроили сплавщики, наши-то все убежали в сопки. Я-то, конечно, остался на своем посту, в конюшне, значит. Думаю, нагрянут — живым не дамся. А к утру стихло все. Иду домой из тайги, то есть из конюшни, вижу: сквозь щели в ставнях магазина будто огонь светит. Кто такой, думаю, там? Одному-то мне нельзя: ну-ка, что не в порядке? Протокол надо составить при свидетелях. Я к председателю. Пошли мы с ним к магазину, а там дверь-то не заперта. Смотрим — все три замка открыты честь по чести — ключами, а закрыть-то, видно, не успел вор. Наверно, я его и спугнул. Мы, конечно, тоже не вошли в магазин, а по телефону в район сообщили. И оттуда оперуполномоченный со следователем в момент прикатили к переправе, а с переправы мы их на машине сюда доставили. Как следователь-то посмотрел, так и сказал: мол, известное дело, кража сделана лицом причастным. И ключи у вора оказались: открыли-то ключами, а замки для видимости чуть помяли. Но это уж опосля.
А оперуполномоченный говорит: использование ворами отвлекающих обстоятельств, то есть драки. Это я уж точно запомнил. Ну-ка, позвать сюда Ускова, говорит! Хвать-похвать, а Ускова и след простыл. Но вещей-то много украдено. Следователь говорит, тут не один работал. А я так полагаю: Усков, должно быть, навел воров, а потом глаза отводил.
— Кому? — спросил Сережкин.
— Известное дело, вам, — ответил Лубников.
— Чепуху говоришь, — пробасил старшина, но рассказ Лубникова заставил его задуматься. Загадочно теперь выглядела история Ускова с мотором и с бензином. «Странно, — твердил про себя Сережкин, — и подозрительно. Но не будем торопиться».
Возле магазина сельпо в огороженном неошкуренными жердями травянистом палисадничке толпился народ. В центре палисадника за непокрытым столом сидел мрачный седовласый районный следователь Перебейнос и писал протокол. Возле него стоял, переминаясь с ноги на ногу, Усков. На нем висел тот же брезентовый плащ. Он вытирал тыльной стороной ладони пот с лица, но только размазывал грязь и часто шмыгал носом. Худенький, светловолосый лейтенант милиции Коньков, поблескивая очками, говорил, осаждая толпу:
— Граждане, прошу податься! Назад, назад, еще немного...
Народ, увидев Сережкина, загомонил:
— А вот и Власть тайги!
— Эк, бедняга, уморился. Смотри, какой грязный!
— Говорят, его в болото Усков затянул ночью-то.
— Хитер... А прикинулся божьей коровкой.
— От закона не уйдет.
Сережкин медленно прошел мимо толпы, поздоровался с оперуполномоченным и следователем, посмотрел в упор на Ускова. Усков кашлянул в кулак и, разведя руками, сказал упавшим голосом:
— Вот оно как все обернулось-то.
— Что украдено? — спросил Сережкин следователя.
— Вот список, смотри. Пока предварительный, уточняем еще.
Перебейнос сунул в руки Сережкину лист с длинным перечнем украденных вещей. Старшина отметил несколько кусков крепдешина и драпа, беличью шубу, костюмы...
— В магазине не убрано еще? — спросил он Конькова.
— Нет еще, все так оставлено, — ответил лейтенант.
Сережкин вошел в магазин.
Там был относительный порядок. На прилавке стояла керосиновая лампа, чуть поодаль распитая бутылка коньяку, а рядом банка недоеденных рыбных консервов. Видно было, что воры действовали наверняка и не торопились, даже за успех выпили и нагло выставили напоказ пустую бутылку и консервы. Сережкин осмотрел бутылку и банку: нет ли следов пальцев? Нет, все было тщательно обтерто. «Опытные», — отметил про себя старшина. Затем он осмотрел замки. Было ясно, что они открыты ключами, а потом для виду помяты. Теперь эти ключи лежали на столе перед следователем как вещественное доказательство. Усков вынул их из кармана. Это были единственные ключи, других таких не было, по крайней мере в селе.
Усков отрицал всякую причастность к воровству. На вопрос, откуда же у воров ключи взялись, ответил:
— Не могу знать.
«Кто же мог обокрасть магазин? — ломал голову Сережкин. — Неужели Усков? Неужели он меня так ловко обманул?» — «Да нет, не может быть», — возражал он сам себе. Чутье человека, привыкшего разгадывать повадки преступника, отрицало эту возможность. «Ну кто же? Если Рябой с Варлашкиным, то откуда у них ключи? А может, кто еще в сговоре с Усковым? — снова сомневался он. — Вот и разберись тут...»
Но разбираться надо. С особой силой почуял это Сережкин, когда следователь Перебейнос, закончив составлять протокол, сказал Ускову:
— Ну-с, а вас, дорогой-хороший, придется взять с собой... Расскажете нам, что и как, и поподробнее.
— Чтоб сговору не было с сообщниками — шепнул Сережкину Коньков.
Усков робко посмотрел в смоляные выпуклые глаза Перебейноса и, ссутулившись, покорно сказал:
— Ну что ж, раз надо — я пойду. Ты уж, Василь Фокич, извини, но я тебя попрошу, окромя некого... Не дай пропасть задаром!.. — растерянно и жалобно глядя на Сережкина, попросил Усков.
— Да ты что, чудак? Ты не того... тебя держать не станут. Допрос только снимут. Сам понимаешь, без этого нельзя, — утешал старшина Ускова.
— Да, да, как же, понимаю, — тупо глядя в землю, отвечал Усков.
Пока поджидали колхозный грузовик, чтобы доехать до переправы, оперуполномоченный Коньков говорил Сережкину с плохо скрываемой иронией о том, как они с Перебейносом определили возможного вора. Рассказывая, Коньков поминутно поднимался на носки и покачивался, словно от дуновения ветра: тоненький, аккуратно затянутый в темно-синий китель, с мягкими белокурыми волосами, выбившимися из-под фуражки, он рядом с массивным и прочно стоящим на земле Сережкиным казался хрупкой фарфоровой статуэткой.
— Неспокойно у тебя, Василь Фокич, неспокойно, — говорил, покачиваясь на носках, Коньков. — Сплавщики хулиганят на селе, по собакам стреляют. Этим шумом пользуются ловкачи и лезут в магазин, а ты, мой друг, в это время по тайге разгуливаешь с вероятным сообщником вора!
— Кто украл — это еще вопрос, — угрюмо сказал Сережкин.
— «Вопрос, которого не разрешите вы!» — продекламировал Коньков, любивший щеголять цитатами.
— А у сплавщиков были?
— Да, милый Вася. Ну и что же?
— Как что же? Они же скандал здесь учинили!
— А последствия? Одна убитая собака? За это, мой дорогой законник, не привлечешь. Так-то!
— Ну присматривались хоть к ним? — настойчиво басил Сережкин.
— Мы ко всем должны присматриваться, — наставительно заметил Коньков. — Если и есть кто из них заодно с этим, — он кивнул в сторону Ускова, — то вряд ли расколется. Нет, смотреть надо за Усковым. Здесь верное дело. Вернется из района — ты с него глаз не спускай.
Наконец, разбрасывая подсыхающую дорожную грязь, подъехал грузовик. Следователь сел в кабину, Коньков с Усковым в кузов.
— Ну, действуй тут, — сказал Коньков на прощание Сережкину. — Адью!
Сережкин долго провожал глазами грузовик, пока он не скрылся за мелкой придорожной порослью. «Приехали, нашумели, взяли, что поближе лежит, и прощай, — думал старшина. — А ты возись тут».
Толпа после проводов Ускова быстро угомонилась, стала угрюмее, серьезнее — расходились молча.
— Что ж ты стоишь, Власть тайги? — сказал Сережкин сам себе. — Надо действовать, брат.
3
Сережкин давно знал Ускова. Лет пять назад он, возвращаясь из районного отделения милиции, был захвачен в Переваловском вечерней грозой. Тащиться двадцать километров по таежной дороге в темень да в грозу — не большое удовольствие. Он зашел в магазин переждать дождь. Разговорились с Усковым, тот и предложил заночевать у себя. Сережкин согласился. С тех пор они познакомились. Усков был холост, недавно возвратился из армии, где прослужил года три на сверхсрочной. Здесь поселился он на квартире, в незнакомом селе.
— А чего мне одному-то не жить, — говорил он, оглаживая себя по начинающему полнеть животу. — Девок много, а баб и того больше.
— Я это холостяцкое баловство не одобряю, — степенно возражал ему Сережкин. — Через это дело, может, и в историю какую попадешь.
— Да брось ты, чудак-человек! — весело возражал Усков. — Она, баба-то, в воде не тонет и в огне не горит, а я как-нибудь за подол ухвачусь, и меня, глядишь, вытянет...
Вспомнив эту фразу, Сережкин грустно улыбнулся:
— Вот теперь и ухватись за подол-то... Он те вытянет из реки в болото.
Старшина знал, что последнее время Усков путался с Нюркой, поварихой сплавщиков. «А может, у нее рыльце в пуху? — думал Сережкин. — Уж больно баба-то разбитная. Чего она ластилась к этому увальню?» Он решил зайти на квартиру к Ускову.
Домик бабки Семенихи стоял на отшибе, возле ручья, под развесистым серебристым бархатом. Впрочем, здесь про каждый дом можно сказать, что он стоит на отшибе, потому что улиц в привычном понятии в Переваловском не было. Бабка Семениха, или, как ее звали в селе за гнусавый говор, Гундосая, встретила Сережкина у калитки палисадника.
— Заходи, родимый, заходи, — гнусаво приглашала она Сережкина. — Чай, забрали его, кормильца. А уж смирен-то он, смирен, батюшка! Ну чистое дите. Теленка не обидит... А поди ты, вот как вышло, — приговаривала она, идя в избу за Сережкиным.
В избе, усадив гостя на скамью, она тараторила без устали:
— Поверишь ли, как прибежал он, грешный, когда сплавщики-то буянили, так с перепугу-то на сушила в сено зарылся! Там и пролежал до полуночи. А потом сказал, мол, к милиционеру поеду... Вот те крест, никуда и не ходил он.
— Верю, верю, — остановил ее Сережкин. — Ты лучше вот что скажи мне: давно Нюрка не была у него?
— Да уж давненько, дён десять, почитай, как не было. И чтой-то она на него осерчала? Все с ним покончила, как отрезала. Он-то места не находил себе: за что, говорит, она на меня осердилась. Раза два к ней на стан норовил сходить, да будто и там не подпустила.
— Интересно, мать! — воскликнул Сережкин.
— Не говори! — взмахнула Семениха своими сухими желтыми руками. — Уж так интересно, что впору хоть самой сходить разузнать. А ты сходи, сходи, родимый.
— Ладно уж, схожу.
— Так-то, так-то. А его-то, сердешного, помоги ослобонить. Уж смирен — теленка не тронет.
— Ладно, ладно, ты уж сиди, — осадил он жестом Семениху, готовую проводить гостя. — Я сам тут похожу да на твои сушила загляну.
Тщательный осмотр двора ничего не дал Сережкину, и он возвращался от Семенихи в раздумье. Рассказ бабки о разрыве Ускова с Нюркой был загадочен. «Почему она порвала с ним так неожиданно? — спрашивал Сережкин. — Кабы любовь была, уж тут ясно было бы. А что, если она от него добивалась чего-то. Допустим, ей нужны были ключи. А?»
Для Сережкина ясно одно, что кража магазина не дело рук Ускова. Конечно, он мог быть сообщником, но...
«Но ведь надо доказать, кто украл. Надо найти воров. А если не найду я, Сережкин, кто же их найдет? Кто же тогда поверит Ускову, что он честен? — думал Сережкин. — И, ясное дело, воры будут посмеиваться надо мной. Да и не успокоятся. Еще чего-нибудь украдут».
«А может, Нюрка с Усковым маскировку разыгрывали на людях? Мол, мы не знаем друг друга, а сами договаривались потихоньку насчет кражи... Как бы там ни было, а следы надо искать на стане сплавщиков».
Сережкин давно знал бригаду сплавщиков, кочевавшую в этих местах по Бурлиту. Ребята в ней были хоть и чудаковатые — половина из них бороды поотпустила, — но смирные, баловства раньше за ними никакого не замечалось. Однако в прошлом году пришел к ним на работу Чувалов Иван. Сильный, сухопарый, широкий в кости, он быстро выдвинулся среди них и стал бригадиром. У него густо усеянное рябинами лицо, за что ему дали кличку Рябой, и он получил известность в округе больше по кличке, чем по имени.
Сережкина предупредили, что за Рябым водились раньше грешки по части воровства. Старшина присматривался к нему, но Рябой вел себя безупречно. Однако бригаду сплавщиков словно подменили в последний сезон. Появились драки, набеги на село и даже одна крупная кража: двое сплавщиков обокрали рабочую кассу в леспромхозе. Сережкин нашел преступников, но у самих воров в стане выкрали четыре тысячи рублей — и никаких следов. Сережкин тогда сразу обыскал вещи Рябого, стал допрашивать его и... провалился.
Вот и теперь, чтобы не конфузиться, прежде чем пойти на стан, на сближение с Рябым, нужно самому точно убедиться, что воры скрылись в стане сплавщиков. Нужно было найти хоть маленькую, но явную улику, чтобы действовать наверняка. И Сережкин искал ее полдня. Он исходил тропинку, ведущую из села в стан, долго кружил поодаль от стана и обследовал каждый кустик. И уже под вечер, когда упорство его почти иссякло, он вдруг нашел под кустом жимолости, недалеко от тропинки, свежую, только что сорванную этикетку с черного куска крепдешина.
— Вот она, тикетка от крендэшеля, — ласково говорил Сережкин, с усмешкой разглаживая радужный бумажный лоскут на своей широкой ладони. — Ну теперь мы посмотрим, кто кого одолеет!
Сережкин бережно положил этикетку в планшет и пошел на стан сплавщиков.
4
Километрах в двух от Переваловского на излучине Бурлита расположилась палаточным лагерем бригада сплавщиков. Здесь в жаркие дни сплава они ворочали баграми бревенчатые заторы, разводили по протокам легкие стайки бревен, а в большую воду вязали плоты. У них не было постоянного пристанища: в теплые времена бригада кочевала по берегам Бурлита, а с наступлением холодов размещалась обычно в поселках лесорубов.
Оторванная на многие месяцы от запани, бригада была предоставлена самой себе. Рябой по прибытии в нее сколотил вокруг себя звено из крепких парней. «Кто хочет заработать, становись в сторону, — говорил он, подбирая напарников. — Только не хныкать — кости трещать будут...»
И они двинулись по реке, работая по шестнадцать часов в сутки, нередко и ночевали на бревнах, там, где темень застанет.
Звено прогремело на всю запань, и Рябого избрали бригадиром. Он встретил это выдвижение просто, с такой внутренней уверенностью, с какой встречают наступление дня после ночи: мол, так и должно быть.
Рябой относился к тем властным и крутым натурам, которые не могут жить, чтобы не подчинять других, не распоряжаться ими.
Всех людей он делил на два разряда: на тех, которых надо заставлять подчиняться грубо, вплоть до применения кулаков, и на тех, которых надо убеждать подчиняться.
Первым столкнулся с Рябым Варлашкин, когда они еще работали в одном звене. Напившись однажды, Варлашкин лег на плоту животом кверху и объявил, что больше не работает и Рябой ему не указ. Время было горячее, даже уход одного человека грозил провалить работу всего звена. «Ничего, — успокоил Рябой сплавщиков, — я его вылечу». Он прыгнул на плот к Варлашкину и, оттолкнувшись от затора, уплыл с ним по реке за кривун. Возвратились они на другой день пешком молчаливые и хмурые. Татуировка на голом торсе Варлашкина была подкрашена лиловыми кровоподтеками. Никто не знал, что произошло между ними, только с этого дня Варлашкин стал правой рукой Рябого и преданным ему по-собачьи.
Рябой действовал по своему неписаному закону: он думал, что самое важное — подчинить до раболепия хотя бы одного человека на глазах у всех, остальные станут либо заискивать перед тобой, либо почитать тебя, либо, в худшем случае, держаться в стороне. Таким сторонним в звене оставался один Ипатов, белобрысый детина, могучий, как сохатый. Но, сделавшись бригадиром, Рябой назначил Ипатова и Варлашкина звеньевыми. Ипатов поддался, стал послушным, но Рябой не доверял ему, хотя относился почтительно. Вообще Рябой не ругался, не кричал ни на кого в бригаде; эту «черную» работу, как выражался он, выполняли звеньевые. Но боялись его как огня: он мог непослушного рабочего лишить прогрессивки — в бригаде Рябого всегда поддержит большинство; по его указанию компания Варлашкина могла избить провинившегося, тихо, без свидетелей и синяков. Как бы там ни было, но трудовая дисциплина соблюдалась и бригада была не на последнем счету.
Сережкин хоть и не знал всех тонкостей жизни сплавщиков, но чувствовал волю Рябого в бригаде и понимал, что дело предстоит ему нелегкое.
Стоял тихий августовский вечер. Солнце, отяжелевшее за день, лениво опускалось на дальние, в голубичном, бледно-синем налете сопки. Его темные клюквенные отсветы разбросаны были повсюду: на засыпающей переливчатой воде, на бронзовых кедровых бревнах, лежащих в завалах, на серых палатках, задравших высоко свои полы. Сплавщики, кончив работу, готовились к ужину. Одни купались, другие лежали возле костра, где в котлах на треногах варилась уха и каша. Дым струился жидким сизым столбом, а над костром летала, толклась мошкара, смешиваясь с гаснущими пепельными искрами.
Первым Сережкина заметил малорослый мужичок в линялой гимнастерке и в кирзовых сапогах. Он с готовностью пошел навстречу старшине, улыбаясь всем своим морщинистым лицом, словно старому приятелю.
— Фомкин! — крикнул кто-то от костра. — Бригадир зовет!
С лица Фомкина мгновенно исчезла улыбка, будто ветром сдуло; он сухо и деловито кашлянул в кулак и свернул к костру.
Сережкин подошел к группе купающихся.
— Ну как дела, ребята? — спросил он, присаживаясь.
Сидевший рядом широкогрудый светловолосый парень с маленькой кудрявой бородкой обернулся, молча посмотрел на Сережкина, затем, посвистывая, встал и пошел на другое место метров за десять. Это был Ипатов. За ним поднялись и остальные. Старшина остался один.
— Приемчик! — усмехнулся он и пошел к костру.
Увидев его, от костра повставали несколько человек и пошли к реке. Возле котлов остались только Нюрка и Рябой.
— А, Власть тайги! Здорово живешь! — воскликнул Рябой, кривя в приветливой усмешке тонкие губы.
Он лениво растянулся на траве. На нем была кремовая, с манжетными резинками модная курточка и зеленые непромокаемые брюки. Рядом, помешивая в котле деревянной ложкой, сидела Нюрка, широкобровая щекастая молодуха в пестрой шелковой кофточке, туго стянувшей высокую грудь.
Сережкин сел возле костра, неторопливо раскрыл портсигар, достал папироску.
— Нюрка, огня старшине! — приказал Рябой.
Нюрка выхватила горящую головешку и услужливо подала Сережкину.
— Привет передает тебе Усков, — сказал старшина Нюрке, принимая головешку.
— Я с преступниками не вожусь, — бойко ответила кухарка.
— И давно ли?
— Да уж месяца два, почитай...
«Врешь ты, чертовка!» — хотелось сказать Сережкину.
— А мне бабка Семениха сказывала, что ты еще десять дён назад миловалась с ним, — заметил он.
Нюрка насторожилась. «А еще что ты знаешь?» — написано было на ее бровастом лице. Но Сережкин умолк.
— Семениха сослепу козу с коровой перепутает! — Нюрка засмеялась тоненьким, притворным смешком, запрокинув лицо.
«В пуху рыльце-то у тебя, в пуху, — думал Сережкин, прикуривая. — Ишь какого лебедя шеей-то выгнула!»
— А где десятник? — спросил он у Рябого.
— На запани. Здесь я за него, а что?
— Да вот потолковать надо. Кое-кто из вашей бригады замешан кое в чем.
— Уж не в воровстве ли? — хохотнула Нюрка.
— В воровстве?! — с ленивой усмешкой протянул Рябой.
— Нет, зачем же в воровстве? — равнодушно заметил Сережкин. — Здесь ни следователь, ни оперуполномоченный никаких подозрений к вам не имели. А вот хулиганством занимались ваши ребята. Пришел узнать, как вы с ними поступите.
— Да не говори, старшина, — озабоченно заметил Рябой. — Просто от рук некоторые отбились. Оторванность, понимаешь. Начальства никакого. Даже десятник не каждый день бывает. Ну и, сам понимаешь, трудно одному с ними управляться. Но мы их на собрании пропесочим.
— А кто был в Переваловском? — спросил Сережкин.
— Сейчас выясним, — ответил Рябой и крикнул: — Варлашкин!
От группы купающихся отделился черноголовый парень в трусах. Рослый, отлично сложенный, он шел вразвалку. Когда-то перебитая и неровно сросшаяся переносица придавала его лицу свирепый вид. Весь торс, руки, ноги его были расписаны татуировкой. На спине выколота целая картина: собака воет на крест, а под этой картиной надпись: «И необмытого меня падлай собачий похоронят». Так и было написано: «падлай собачий». Грамотность Варлашкина плакала на его собственной спине. Даже на ступнях вытатуирована надпись: «Они устали».
Сережкин не без любопытства рассматривал эти диковинные надписи и картины.
— Что, интересно, старшина? — спросил Варлашкин, перехватывая взгляд Сережкина.
— Ты лучше расскажи, кто вчера с тобой был в Переваловском? — строго оборвал Рябой Варлашкина.
— А что он, не знает, что ли? — ответил Варлашкин. — Ему все известно, он же Власть тайги!
— А ты, может, перестанешь дурака валять? — спросил, недобро улыбнувшись, Рябой и показал рядом с собой на траву. — Садись.
Варлашкин сел.
— Ну?
— Ну-ну! Иван Косолапов, Костюков... Звено наше, все пятеро, да Ипатов с нами, — неохотно, поглядывая с опаской на Рябого, ответил Варлашкин.
— Запишите, товарищ старшина, и передайте в селе, что мы их строго накажем по общественной линии и прогрессивки лишим.
— А что мы, виноваты? — огрызнулся Варлашкин. — Они сами начали драку. Прогнать нас хотели.
— Ну, ваши объяснения пока не нужны, — прервал его Рябой и повернулся к старшине: — Еще что у вас есть к нам?
«Ах, хитрая бестия!» — думал Сережкин, глядя на Рябого, но вслух сказал:
— Я слышал, что ваша моторка сегодня пойдет на станцию?
— Да, пойдет, — ответил Рябой, немного помедлив. — А что?
— Да я хотел служебные письма с вами переслать. Мне самому-то нельзя отлучаться. Возись теперь с этой кражей.
— А что ж! Можно, конечно, — с веселым облегчением поспешно подхватил Рябой. — Я сам поеду. Можешь не беспокоиться, доставлю.
— Ну и хорошо! Я ночью занесу вам письма.
Сережкин, не прощаясь, встал и пошел от костра. За своей спиной он услышал подавленный смешок Нюрки.
— Заткнись! — цыкнул на нее Рябой.
«Смейся! — думал ехидно Сережкин. — Опосля плакать будешь. Крендешин у вас, но тикеточка у меня».
5
В хомутной пахло дегтем, конским потом и плесенью. Фонарь «летучая мышь» скупо освещал дощатые стенки, завешанные сбруей, земляной пол и сидевшего в углу на охапке сена за починкой недоуздка Лубникова. Сережкин тщательно прикрыл за собой дверь и сказал, присаживаясь к Лубникову:
— Запомни хорошенько: в час ночи ты выведешь двух заседланных лошадей, одну для меня, другую для себя... Выведешь их, значит, на Красный бугор к развилке, и ни гугу об этом.
Лубников слушал, раскрыв рот от удивления. Напряжение, любопытство и страх, написанные на его лице, придавали ему вид заговорщика.
— Понял? — строго спросил его Сережкин.
— А как жеть! — весело воскликнул тот, сдвигая на затылок фуражку. Следует заметить, что фуражка эта была предметом особой гордости Лубникова. Настоящая фуражка, какую носят пограничники, но Лубников за пять лет так замызгал ее, что она из зеленой превратилась в грязно-серую — Как не понять! Стало быть, мы с вами оперативную выполнять будем?
— Потише ори, оперативный! — строго одернул его Сережкин. — Смотри не проспи!
— Ну, Василь Фокич! Да в таком деле лучше как на меня не на кого положиться во всей округе. Я уж буду точно... Ходики свои настрою.
— Лошадей возьми получше, скакать долго придется.
— Да я вам самого Рубанка заседлаю. Вот оно, значит, как! Пригодился еще Лубников на оперативные дела! А ты знаешь, как я в тысяча девятьсот сорок пятом году шпиона поймал? Так вот, иду я, значит, по тайге. А Играй, пес мой, жмется и жмется ко мне. Уши навострил, да так отрывисто, не голосом, а чревом брешет: «Ав! ав!» А хвост промеж ног держит. Что такое, думаю? Не тигра ли?
— Будя врать-то, — перебил его Сережкин. — Слыхал я твою сказку не один раз. Смотри не усни! — бросил он на прощание.
— Ну что ты, право! Не первый раз на оперативной. Как-нибудь — люди привычные, — важно заверил Лубников Сережкина, провожая из конюшни.
Близилась полночь. Крупная белая луна пряталась в седловину черных сопок, и мрачные длинные тени все плотнее окутывали землю.
Сережкин неторопливо шел по знакомой тропинке в стан сплавщиков. Замысел его был прост: показаться Рябому за несколько минут до отхода моторки и уйти. Вор, будучи уверенным, что ему теперь никто не угрожает, обязательно прихватит с собой краденые вещи и отвезет на станцию. Вот тут-то и надо перехватить моторку. А перехватить ее можно только у переправы, километров за двадцать пять от Переваловского, где лодка причаливает к берегу. По тайге верхом до переправы можно проскакать часа за полтора-два, а моторной лодке петлять по извилистому Бурлиту вдвое больше и по времени, и по расстоянию.
Обычно моторка отходила от сплавщиков после полуночи, чтобы к началу работы попасть на станцию. На лодке они подвозили продукты, всякое оборудование и тросы, перевозили людей.
Сережкин, подходя к стану, увидел возле реки темные фигуры, освещенные фонарем. Кто-то размахивал фонарем, отчего огромные тени людей тревожно метались по земле, окружающим кустам и палаткам.
— Да свети лучше, дьявол! — услышал он голос Рябого, доносившийся из лодки.
Сережкин подошел к ним.
— А, старшина! — воскликнул Рябой. — Ну как, принес письма? — На нем была брезентовая куртка, высокие яловые сапоги, а на голове, спадая на плечи, словно бабий платок, трепался удэгейский накомарник. — Вот вожусь с мотором, да едят комары, черти!
Сережкин открыл планшетку и подал Рябому два конверта.
— Ну, будь спокоен, сегодня получат твои письма! А может, с нами прокатишься?
— Да нет, куда мне от своих дел, — ответил старшина.
— A-а, жаль. Ну ладно, будь здоров. А насчет наказания хулиганов не беспокойся. Завтра вернусь, и мы займемся этим отсталым элементом.
Не успел Сережкин далеко отойти от стана, как зачихала, затарахтела моторка.
— Торопится, — сказал Сережкин и пустился бежать.
«Только бы Лубников не подвел, — думал он на бегу. — До лошадей бы добраться. А уж там не уйдешь от меня, голубчик».
Бежать к Переваловскому было все время в гору. Сережкин грузно перепрыгивал через ручьи и шумно отдувался.
— Уф, черт, жарко! — восклицал он, отирая ладонью пот.
Расстегнул мундир, снял фуражку, но легче от этого не было. Чтобы сократить путь, он свернул с тропинки и по лугам бежал, огибая село, к Красному бугру, где должен ждать его Лубников.
Но никого на Красном бугре не оказалось. Сережкин, тяжело переводя дыхание, растерянно озирался по сторонам. Никого! В настороженной ночной тишине несмело пробовал свой голос одинокий перепел. «В путь пора!.. В путь пора!» — чудилось Сережкину. Злость, обида, отчаяние, словно пальцами, перехватили ему горло. Хотелось крикнуть, дать волю гневу, силе, но он только тихо выругался.
— Ах же ж ты, с-сукин сын! Прохвост проклятый! — и тяжело, размашисто побежал к конюшням.
Лубникова он застал в хомутной спящим; все так же тускло освещал его фонарь «летучая мышь» и мерно тикали над ним ходики. Взяв за шиворот обеими руками, Сережкин с силой тряхнул его.
— Что, что такое? Что такое? — забормотал спросонья Лубников и, увидев перед собой гневное лицо Сережкина, растерянно захлопал глазами.
— Ты что ж? Пособничать нарушителям решил! — кричал на него Сережкин. — Да я тебя под арест сейчас и в сельсовете запру. Понятно? До разбора дела, денька на два.
Лубников сидел перед Сережкиным неподвижно и ошалело смотрел на него.
— Да чего ж ты сидишь? Руки-ноги отнялись, что ли? Седлай коней скорее, тебе говорят!
Наконец Лубников сорвался с места и суетливо начал снимать седла и недоуздки.
— Я сейчас, сейчас... В момент...
Он сунул седла в руки Сережкину и выбежал из хомутной. Через несколько секунд в темной конюшне раздался его хриплый спросонья голос:
— Но, милок, но! Да ну же, дьявол! Чего уперся? — раздался удар кнута, и жеребец зафыркал, застучал о настил. Наконец Лубников вывел Рубанка на свет, падавший сквозь растворенную дверь хомутной, и начал седлать, одновременно разговаривая с Рубанком и Сережкиным.
— То-ой, черт! Чего мордой-то мотаешь? А то тресну вот по зубам. А насчет пособничества ворам, Василь Фокич, это ты напрасно. Тьфу, окаянная сила! Чего брыкаешься?.. Я, можно сказать, весь в ярости против них. А ты — пособник!
— Скорее, скорее ты седлай! — торопил его Сережкин. — Проспал, да еще копается.
— Проспал, — ворчал Лубников. — Вовсе и не проспал, а так, прилег только. Какой уж сон, когда ехать надо.
— Готово, что ли?
— Готово. А мне-то кого заседлать — Зорьку ай Буланца? — спрашивал, почесываясь, Лубников.
— Да хоть самого черта седлай! — крикнул, выйдя из терпения, Сережкин. — Если через пять минут не будешь готов, один поскачу и брошу в тайге твоего Рубанка.
Лубников побежал к соседнему стойлу и в темноте ворчал:
— «Брошу Рубанка». Смотри-ка, пробросаешься... Где это видано, чтобы такое добро бросали.
Но оседлал он на этот раз быстро. Сережкин вывел Рубанка из конюшни, осветил карманным фонарем часы.
— Почти час потеряли. Ну если не догоним!.. — Он не договорил и прыгнул в седло. Сытый жеребец отпрянул в сторону и пошел маховитой рысью.
Сережкин пустил лошадь галопом и долго, напрягаясь, прислушивался. Но, кроме глухого щелкающего стука копыт, ничего не слышал. Перед глазами бежала травянистая дорога, словно три параллельные тропы, где-то впереди совсем близко она пропадала и никак не могла пропасть. Изредка с боков набегали придорожные кусты так близко, что с непривычки Сережкину казалось, вот-вот смахнут они его своими черными мохнатыми шапками. Но кусты надвигались, вырастали до больших размеров и пропадали, и снова перед глазами были три тропы, коротко обрывающиеся впереди, и снова чмокающее щелканье копыт по грунту.
Так размеренным гулким галопом проскакал Сережкин, а за ним Лубников почти полпути до самой Каменушки, мелкой протоки Бурлита. И когда жеребец разбрызгивал на переезде речную воду, старшина уловил отчетливый стук мотора.
— Догнали! — крикнул он во все горло.
— Чегой-то? — переспросил, подскакивая, Лубников.
— Догнали, говорю! — Сережкин придержал жеребца и спросил Лубникова: — Слышишь?
— Мотор, — сказал Лубников.
— Ну теперь-то не уйдут, голубчики.
Сережкин знал, что от Каменушки Бурлит делает самую большую петлю, а дорога напрямую идет до переправы.
Дальше поехали медленнее. Несколько минут они слышали, как стучал мотор все тише и тише и наконец замер. Лодка ушла по кривуну.
Когда они подъехали к переправе, было уже совсем светло, хотя солнце не выкатилось еще из-за покрытых белой дымкой сопок. Вся переправа состояла из одного бата — длинной долбленой лодки. Батчик — сухонький пожилой нанаец Арсё, равнодушный и молчаливый. На противоположном берегу возле избы перевозчика сидели три человека. Двое поджидали оказию, третий был Арсё.
На переправу обычно заходят все лодки, идущие по Бурлиту, чтобы забрать или высадить пассажиров, заправиться горючим и просто порасспросить о таежных новостях.
Сережкин слез с лошади, передал повод Лубникову:
— Останься пока здесь, только в кусты уведи лошадей и сам спрячься.
Затем с высокого лесистого бугра стал махать фуражкой. Его заметили. Арсё неторопливо столкнул в воду бат и, работая двухлопастным веслом, переехал реку.
— Не проходила лодка сплавщиков? — спросил его Сережкин.
— Нет, — ответил Арсё, посасывая трубочку.
— Хорошо. Перевези-ка меня, друг Арсё. — Сережкин прыгнул в бат, лодка осела под его грузным телом.
Нанаец молча оттолкнулся и направил бат поперек реки. Вода курилась молочным туманом, чуть розоватым на стрежне, подкрашенным зарей.
— А что эти двое, — кивнул Сережкин в сторону сидевших возле избы, — на станцию ехать собрались?
Перевозчик утвердительно кивнул головой.
— Ягоду синюю торговать, — сказал он, помедлив.
— Хорошо, — заметил Сережкин. — А ты, друг Арсё, как сарыч, неразговорчив. Скажи, у тебя бывали когда-нибудь радости, чтоб смеяться захотелось?
— Берег подходит, — ответил Арсё и указал трубочкой на нос бата.
— Ах ты, какой деревянный, ей-богу! — воскликнул Сережкин и с ходу выпрыгнул на берег. Он подсел на бревно к двум женщинам с большими корзинами.
— Ну что, бабочки, божий дар везете продавать?
Одна, что помоложе, в пестрой косыночке, в синих резиновых тапочках, игриво прыснула в руку и спросила:
— А что — конфисковать хочешь?
— Будет тебе! Нашла с кем шутить! — укоризненно оборвала ее пожилая напарница в повязанном углом платке и в улах.
«Ишь ты какая баба-яга», — подумал про нее Сережкин и встал с бревна. Он подошел к реке, вода все так же кудрявилась парным дымком, но уже того легкого настроения у него не было. Он вдруг почувствовал, как звенит голова, гудят и ноют отяжелевшие ноги, от жажды пересыхает рот.
— Эх, напиться, что ли? — Он зачерпнул пригоршнями теплую речную воду и внезапно услышал отдаленный стрекот мотора.
— Бабочки, идет моторка. Тащите сюда корзины! — скомандовал им Сережкин и сам побежал навстречу, подхватил корзины и поволок их к самому приплеску.
— Да будет вам, — гудела пожилая женщина и шла покорно за старшиной.
— Вот здесь садитесь и машите, кричите. Они обязательно возьмут вас. — Сережкин подбодряюще улыбнулся и пошел к прибрежным кустам. Там он спрятался в развесистом кусту жимолости и стал наблюдать за рекой.
Вскоре из-за кривуна вышла черная моторка сплавщиков. В ней сидели четверо. Сережкин сразу узнал Рябого, тот развалился, откинувшись на борт. Положив голову на его колени, свернулась клубком Нюрка. Кроме них, в лодке сидели еще двое мужчин.
Ягодницы с берега замахали руками.
— Завернем? — спросил моторист Рябого.
— А чего ж, — ответил тот. — По десятке с носа — и то хорошо.
Лодка, разворачиваясь, заскользила к берегу. Мотор несколько раз булькнул, как бутыль, в которую наливают воду, и умолк. Затем лодка бесшумно ткнулась в песочную отмель.
— Заходи, пошевеливайся, — скомандовал Рябой ягодницам и осекся, увидев Сережкина, выходящего из кустов.
Если бы перед Рябым появился сейчас уссурийский тигр, он бы не растерялся так, как от появления Сережкина. Он так и застыл с открытым ртом и поднятой рукой, которой хотел принимать корзины.
— Не ждал? — спросил Сережкин, и его широкоскулое лицо расплылось в довольной улыбке.
— А, старшина! — наконец воскликнул Рябой. — Ты что, с неба свалился? Ну проходи, проходи... Тоже до станции?
— Да нет, подальше провожу вас, — ответил Сережкин и перешел на строгий начальнический тон. — Прошу всех разобрать свои вещи и вынести из лодки. Проверка.
В лодке лежало всего два объемистых рюкзака. Моторист и рабочий быстро выпрыгнули из лодки. Рябой и Нюрка замешкались на минуту, Нюрка взяла сначала один рюкзак, но Рябой выразительно посмотрел на нее, она потащила за лямку и другой.
— Товарищ старшина, эти вещи я везу начальнику районной милиции, — сказала Нюрка. — Поэтому вы их здесь не смотрите.
— А вот я есть здесь и начальник милиции, и участковый, вся власть тут... Давай, давай, — ответил Сережкин, подхватывая рюкзаки. — Смелее! Вот так.
Он рывком расстегнул первый рюкзак и воскликнул:
— Гляди-ка, хорошие отрезы вы начальнику милиции везете! Все из переваловского магазина. Вот он обрадуется. Это ты везешь такой подарок? — спросил он Рябого.
— Это ее вещи, — кивнул он на Нюрку. — Я к ним не имею никакого отношения.
Нюрка, заложив руки в карманы фуфайки, презрительно смерила Рябого взглядом:
— Проходимец ты, Рябой! Из воды сухим хочешь выйти? Думаешь, я такой же холуй тебе, как Варлашкин? Плевала я тебе в рожу!..
— Убью! — бросился на Нюрку Рябой, но перед ним встал с пистолетом Сережкин.
— Зачем же? Пусть живет, — сказал старшина. — Поехали, — пригласил он всех в лодку.
— Может, поинтересуешься своими письмами? — спросил Рябой.
— Возьми их себе на память, — ответил Сережкин.
Рябой бросил скомканные конверты и пошел первым в лодку.
— Нет, ты погоди, — остановил его Сережкин. — Ты ко мне поближе сядешь.
Сережкин пропустил на нос моториста и рабочего, затем подсадил Нюрку и ближе к себе Рябого. Сам старшина сел за руль, завел мотор, и тронулись.
Рябой молча смотрел в воду. Видно было по бугристым надбровьям, по сильно поджатым тонким губам, что он напряженно о чем-то думает. Наконец он повернулся к Сережкину и сказал:
— Не могу понять... как ты догадался?
Сережкин раскрыл планшетку, вынул этикетку, найденную под кустом жимолости, затем среди кусков крепдешина нашел один с белой меткой и, приложив к нему этикетку, спросил:
— Видишь? Тикеточку ты обронил на тропинке возле стана.
— Ну-ка, ну-ка! — Рябой ринулся к Сережкину, глаза его остро блеснули, словно вспыхнули, и увесистый кулак мелькнул в воздухе.
Старшина рывком уклонился.
— Еще одна попытка, — внушительно сказал Сережкин, — и ты приедешь на станцию дырявым. А я не хочу этого. Ведь тебе надо еще в тайгу съездить, показать, где остальные вещи спрятаны.
— Ничего я вам не покажу, — угрюмо и безнадежно ответил Рябой.
Лубников, привязав лошадей в кустах, побежал по берегу за лодкой.
— Василь Фокич! — крикнул он. — А мне-то какая задача дальнейшая?
— Домой поезжай, — ответил из лодки Сережкин.
Обратно конюх скакал с не меньшей скоростью, ведь он вез такую новость! А к вечеру уже все Переваловское знало, как он, Лубников, на самом юру на Бурлите настиг контрабандита Рябого и передал его из рук в руки самому Сережкину.
6
Через день в районной милиции Рябой все-таки согласился идти в тайгу и показать спрятанные вещи. Запираться дальше не было смысла. Нюрка все рассказала, и ее выпустили накануне. В кабинете начальника милиции Рябой сказал ей на прощание:
— Ты передай Варлашкину, что я завтра вечером приеду на стан с кем-нибудь. Пусть все приготовит...
— Может, не стоило бы ее туда пускать? — осторожно спросил Сережкин Конькова.
— А что?
— Варлашкин вещи может перепрятать.
Коньков засмеялся:
— Неужто ты знаешь, где они спрятаны? — Затем он снисходительно оправил погон у Сережкина и добавил озабоченно: — По совести говоря, милый Вася, не верю я Рябому. Прогуляемся мы с ним по тайге и ни с чем вернемся. А Нюрка убедить их сможет, она слово дала.
— Все-таки не надо было Нюрку выпускать, — с сожалением заметил старшина.
— Да что она тебе далась. Никуда она не денется до самого суда.
— Она-то не денется, да мы с тобой тайгой поедем, еще и вечером.
— Уж не боишься ли ты засады, доблестный лыцарь!
— Да ну тебя к черту! — выругался Сережкин.
Из показаний Нюрки, которые затем признал и Рябой, следовало, что Варлашкин по договоренности с ним устроил скандал на селе, а Нюрка недели за две принесла ему слепки с ключей Ускова. Прямого участия в грабеже она не принимала. Магазин обокрал один Рябой.
В коридоре милиции Нюрку поджидал Усков.
— Может, вместе поедем в Переваловское, а? Нюрка? — робко предложил он ей, когда она вышла из кабинета начальника. — Я и насчет подводы договорился.
Нюрка саркастически улыбнулась:
— Больше твои ключи не понадобятся... по крайней мере мне.
— Ну зачем ты об этом? — с мучительной гримасой сказал Усков. — Ну, был грех... Что ж теперь, через это и в душу плевать?
— Эх, грех! Мало бьют вас, дураков... Вот в чем грех-то, — сказала она с какой-то злобной горечью и пошла к выходу.
За ней посеменил Усков. Возле двери она обернулась к нему и процедила сквозь зубы:
— Не ходи за мной... Тошно мне, понимаешь, тыквенная голова.
Она быстро вышла, хлопнув дверью перед самым носом Ускова.
На следующий день Коньков и Сережкин сопровождали Рябого в тайгу на поиски вещей. До переправы они добрались уже в сумерках. На той стороне их поджидал грузовик из Переваловского. Шофер лежал на фуфайке под машиной, оттуда торчали его сапоги.
— Эй, шофер! — крикнул Коньков. — Машину готовь! — Но сапоги не пошевелились. — Спит, каналья, — беззлобно выругался Коньков.
Молчаливый и строгий, как бронзовый бог, Арсё усадил их в бат и оттолкнулся сначала шестом, потом взял весло.
Рябой, ехавший всю дорогу ссутулившись, в бату ожил и зорко посматривал на противоположный берег На середине реки он неожиданно навалился на один борт, ухватился за другой руками, и бат мгновенно перевернулся.
Первым вынырнул Арсё; маленький, с угловатым черепом и жиденькими белыми волосами, он был похож на старого водяного духа. Ухватившись за корму опрокинутого бата, он крутил головой, фыркал и никак не мог понять, что произошло. Коньков не умел плавать, он тоже держался за бат, высунув из воды свое острое лицо, и сокрушенно ахал:
— Ах, черт! Очки-то мои, очки! Как же я буду теперь без них?
К берегу, вымахивая черными рукавами рубахи, плыл Рябой. За ним в пяти метрах Сережкин. Поодаль мирно колыхались на волнах две милицейские фуражки. Течение уносило их от плывущих. Рябой первым достал дно. Разбрызгивая воду, он бежал к берегу. Вот он уже выпрыгнул на зеленый откос, а там в десяти шагах и тайга... Но в это время грохнул выстрел. Рябой обернулся и застыл. Сережкин стоял по грудь в воде с наведенным на него пистолетом.
— Правильно, — говорил, приближаясь к нему, старшина. — Зачем рисковать?
— Ну что ж, твоя взяла, — сказал Рябой.
— Моя всегда берет, — ответил Сережкин.
— М-да, — протянул Рябой и усмехнулся.
Выстрел разбудил шофера, он стоял теперь возле машины и тупо смотрел на происходящее. Это был молодой парень в облезлой сиреневой майке.
— Что смотришь? — окликнул его Сережкин. — Видишь, бат уплывает. Помочь людям надо.
— Это можно, помочь-то, — тихо сказал парень и стал неловко, будто стесняясь, раздеваться. Затем нагим забежал по берегу напротив бата и медленно пошел в воду, сводя лопатки.
Наконец бат вытащили. Коньков, весь мокрый, худенький, без очков, стал сразу меньше и теперь сильно смахивал на подростка в форме.
— Ты мне, сукин сын, ответишь за эту баню! — кричал он на Рябого. — Смотри, не вздумай еще чего учинить. Башку сниму!
Он сел с шофером в кабину. Сережкин с Рябым в кузов.
— Машину в тайге не останавливай, кто бы ни встретился, — наказал Сережкин шоферу. — Понял?
Тот согласно кивнул головой, включил зажигание, и поехали...
Из-за помутневших в белесой пелене вечернего тумана сопок выкатилась огромная красная луна. Она замелькала в ветвях придорожных деревьев, словно хотела заглянуть и получше рассмотреть, что же это за машина? Рябой сидел у кабинки и посматривал по сторонам. Сережкин подпрыгивал на корточках возле борта. Под каждым из них натекли и поблескивали черные лужицы.
— Держись крепче, старшина, а то, не ровен час, на ухабе выбросит, — мрачно сострил и усмехнулся Рябой.
Сережкин уловил в позе, в жестах Рябого какую-то настороженность, ожидание чего-то важного, внезапного. Эта настороженность передалась и Сережкину, взвинтила нервы, обострила внимание.
Когда переезжали мелкий серебристый поток Каменушки, Рябой вскочил на ноги и крикнул шоферу:
— Щука, щука на дороге!.. Останови!
Действительно, на каменистой дороге, возле самой воды, лежала огромная щука, будто сама выпрыгнувшая из воды.
Шофер притормозил машину. И Сережкин вдруг увидел, как в прибрежных кустах промелькнули тени, четко на луне холодным стеклышком блеснул ствол ружья.
— Гони! — гаркнул он на шофера и, выхватив пистолет, выстрелил поверх кустов.
Машина, взревев, рванулась прямо на кусты, в которых была засада. Сережкин осадил Рябого и, припав к борту, отчетливо крикнул:
— Уложу первого, кто двинется!
Машина стремительно шла на засаду, тени в кустах скрылись... Секунда, две, три... но впереди все еще маячит этот проклятый куст. Как медленно движется и время, и машина! Кровь в висках стучит так, что заглушает рев мотора, и Сережкину кажется, будто машина стоит на месте, а куст отдаляется и становится маленьким. «Когда-то я уже испытывал все это, — мелькнуло у него в сознании. — Но где?»
— Трусы! — прошипел Рябой. — Будьте вы прокляты!
Машина уже разбрасывала колесами последний галечник прибрежного откоса. Вот она выскочила на лесную травянистую дорогу и понеслась. Засада осталась позади.
7
Всю ночь Сережкин просидел в стане сплавщиков, охраняя Рябого. Коньков, потеряв очки в Бурлите, сказал: «Я теперь все равно что обезоружен» — и ушел еще с вечера спать в палатку.
На рассвете лениво подошла к костру закутанная в шаль Нюрка. Присела.
— Что, не спится? — спросил ее Сережкин.
— Вот посмотреть пришла на вожачка, — усмехнувшись, сказала она в сторону Рябого. Тот отвернулся.
— Кто ж его избрал вожаком-то?
— Глупость наша да трусость, — ответила она, глядя в костер широко раскрытыми глазами. — А подлость поддержала... Как же! Каждому хотелось поближе быть к вожачку-то, позаметнее. — Она горько усмехнулась, встала и поплелась в палатку.
Варлашкин с компанией появились только утром. Они шли гуськом хмурые, молчаливые. Видно было по лицам, что они перебранились и были сильно не в духе.
— Сложите ружья! — приказал им Сережкин.
Они равнодушно положили ружья, даже не посмотрев ни на Рябого, ни на Сережкина. Старшина указал им место у костра рядом с Рябым, сам сел напротив.
Приятели Варлашкина были крупные как на подбор детины. Особенно выделялся светлобородый Ипатов, с лицом упрямым, но добродушным. Когда он запрокидывал от дыма лицо, шея троилась — такие бугристые сильные мышцы были у него.
Сережкин вдруг начал испытывать чувство крутой, горячей злости. Он вспомнил свой приход сюда, их равнодушные уклончивые лица. Представил себе, как они с ружьями протопали за ночь двадцать с лишним километров. Ради чего? Ради мести ему, старшине? Нет, к Сережкину они не питали никакой злобы. Это видно было и по их лицам, и по тому, что они не стали стрелять. Ведь легко могли бы застрелить его из кустов, оставаясь сами невредимыми. Значит, у них не было к нему злобы. Но что же тогда заставило их идти скандалить в село, чтобы помочь Рябому обворовать магазин и теперь вот пытаться освободить его? Что?
— Ну как, неудачной охота на Сережкина оказалась? — спросил старшина Ипатова.
— Какая там охота! — ответил тот. — Просто попугать хотели, да сами испугались.
— А рыбу где такую крупную взяли? Ту, что на дороге положили.
— Вон, Варлашкин достал, — ответил второй парень и усмехнулся. — Приманочка, говорит, клюнет, мол, Сережкин — тут мы его и накроем.
— Что ж вы, Ипатов, друзья с ним, что ли? — указал старшина на Рябого.
— У меня среди трусов нет друзей, — ответил за него Рябой, презрительно сплевывая.
Ипатов молчал, но Сережкин заметил, как заходили его узловатые желваки. «Эге, брат, ты как бык — грозен, да ленив», — подумал Сережкин и решил расшевелить парня:
— Ну, может, были с ним друзьями?
— Нет, — угрюмо ответил Ипатов.
— Может, он тебе платил за помощь? — допытывался Сережкин.
— Он те заплатит! — криво усмехнулся Ипатов. — Да и не нужна мне его плата.
— Так что же ты, из интересу пошел скандалить на село?
— Пошел... просто так... — Ипатов помолчал и добавил: — Как все, так и я.
— Эх!.. — воскликнул Сережкин и выругался, скорее от удивления, чем по злобе. — И ты тоже пошел на село, как все? — спросил он Варлашкина.
— А то что ж, — ответил тот. — Приказано было... Ну мы и палили по верхам.
— Да кто же приказал-то?
— Рябой.
— Зачем же слушался?
— А как же не слушаться? У него сила...
— А у вас? Вот у него, у него, — показывал Сережкин на сидящих. — Разве у вас нет силы? Неужто послабее Рябого будете?
Рябой грыз ветку и смотрел на них, прищурившись. Ипатов по-бычьи, исподлобья смерил его ответным взглядом и сказал, больше обращаясь к Рябому, чем к Сережкину:
— Наша-то сила немерена...
Помолчали.
— Он вас гнул, а вы терпели, — снова заговорил Сережкин. — Так неужто ж вам нравилось его самоуправство?
— Не нравилось, — ответил Ипатов. — А если терпели, значит свернуть ему шею время не подошло... не накипело.
— Под защитой старшины-то все вы смелые, — сказал Рябой, поджимая тонкие губы.
Ипатов снова исподлобья посмотрел на Рябого, но только глубоко вздохнул.
— Так что ж, он сам расправлялся с теми, кто не подчиняется? — спросил Сережкин.
— Нет, больше все вот этот, Варлашкин, — раздался голос сзади Сережкина.
Он обернулся. За ним стояли еще человек семь сплавщиков, незаметно подошедших к костру.
— Этот холуй продался Рябому, — пояснили из толпы.
— Нет, постой, постой, я скажу, — расталкивая людей, вырвался вперед узкоплечий мужичок в расстегнутой фуфайке. Сережкин признал в нем Фомкина. — Он же, паразит, по отдельности нам бока мял. Дай-кась я ему в ломаную переносицу хрясну! Хоть разок! — рванулся он к Варлашкину.
— А что, и стоит пощупать их с Рябым-то, — поддержал его кто-то.
Толпа загудела и стала обступать Рябого и Варлашкина.
Варлашкин беспокойно заерзал, бросая из-под лохматых нависших бровей опасливые взгляды. Рябой не шелохнулся, все так же покусывал веточку, словно никого и не было.
— Вот паразит! Он еще и не замечает нас! Бей его, ребята!
— Стой! — крикнул Сережкин и поднял руку. — Осади назад! Храбрецы!
— Как же так получается? — обратился к ним старшина. — Вас много, и ничего сделать с Рябым не могли, а я один — и вот обезвредил его...
— Так на то вы и власть!
— Вам положено.
— Мы что? Мы — посторонние, — раздались возгласы из толпы.
— Значит, не накипело, — снова угрюмо пробасил Ипатов.
— Эх вы, люди-головы! — воскликнул Сережкин и почесал затылок.
8
Поздно ночью сильно постучали в окно избы милиционера Сережкина.
Татьяна вскочила с постели в одной рубашке, подошла к окну и, приложив ладони козырьком к щекам, стала всматриваться через стекло.
— Никак Вася! — радостно воскликнула она и пошла открывать дверь. — Ну слава богу! — лепетала она сонным голосом через минуту, зажигая в чулане лампу. — Неделю не был дома. Ну, что там у тебя?
— Обыкновенно, порядок наводил, — ответил Сережкин, с трудом стягивая волглые сапоги. Он не любил расписывать дома о своих делах.
— Навел порядок-то? Ну и хорошо. Поужинаешь?
— Нет, молочка, пожалуй, выпью. Отнеси-ка мой портупей на стол, — сказал он, подавая Татьяне снаряжение. — Эх, хоть высплюсь! — Он аппетитно потянулся.
Татьяна поставила на стол глиняный горшок молока, сама ушла в соседнюю комнату.
Сережкин выпил залпом молоко, погасил лампу, постоял с минуту над кроватью сына.
— Спит, кочедык, — ласково пробасил он и положил на подушку мальчика горсть нешелушеных лесных орехов.
А через минуту всю избу заполнил громкий затяжной храп Сережкина, от которого тихо и жалобно тренькали оконные стекла.
1954
ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ
1
Они вылетели утром на вертолете из райцентра Воскресенского. Целый час летели над таежной извилистой рекой Вереей, заваленной всяким лесным хламом на бурных порогах; бревна с такой высоты казались спичками, а черные выворотни и коряги, окруженные шапками пухлой пены, похожи были на ломаные сучья в снегу. Река то бурлила на перекатах, заметных по извилистой череде белесых гребней постоянных волн, то растекалась на спокойные темные протоки, обросшие по берегам купами краснотала, черемухи и дикой амурской сирени-трескуна.
Тайга стояла еще однотонно-зеленой, и только кое-где, на косогорах, проступали опаловые пятна рано пожелтевших берез и осин да радужным оперением просвечивали порой сквозь мелколистные макушки ильмов плетни дикого винограда, обвившие эти могучие стволы и раскидистые ветви.
Рядом с пилотом сидел светловолосый и худой лейтенант милиции Коньков; у него было темное, словно продубленное лицо с аскетическими складками на впалых щеках. Такие лица бывают у людей, не знающих угомона ни днем ни ночью. Он пристально глядел на эти игравшие слюдяным переблеском речные перекаты, на затененные и длинные протоки, стараясь определить то самое место, где ждали их председатель промысловой артели Дункай с проводником убитого зоолога Калганова.
Река везде петляла, везде были заломы, перекаты, песчаные косы да протоки — попробуй определи с эдакой высоты, которая из них та самая протока, называемая местными жителями Теплой? Правда, Семен Хылович Дункай сказал по телефону, когда вызывал лейтенанта Конькова на место преступления, что на косе они разведут костер. Но из-за этого костра они чуть было не приземлились на другой косе, да вовремя спохватились — здесь, у костра, сидело не два человека, а четверо, валялись какие-то железные бочки, и у самого приплеска была черная развалистая лодка, совсем не похожая на длинный удэгейский бат.
Все это они заметили только при посадке, когда зависли на стометровой высоте над водой. Коньков толкнул пилота в бок и крикнул, прислонив ладонь к его уху:
— Это не они! Теплая протока километров за сто вверх по реке. Столько мы пролетели?
— Сейчас определим, — ответил пилот, глядя на приборы. — Примерно шестьдесят-семьдесят километров.
— Тогда крой дальше!
— А, чтоб тебя скосоротило! — выругался летчик, подымая вверх вертолет.
— А я виноват? И песчаная коса, и протока рядом, и костер... Попробуй разберись тут, — проворчал обиженно Коньков.
Помимо Конькова и пилота, в вертолете, в пассажирском отсеке, сидели два санитара в каких-то белесых застиранных халатах, похожих на робы грузчиков, врач в черном костюме при галстучке и в соломенной шляпе, да еще в форменной одежде плотный и благообразный, с широким добродушным лицом следователь из районной прокуратуры, по фамилии Косушка.
Наконец увидели они длинную песчаную косу, и костер, и двух человек возле него; те, заметив вертолет, встали и начали размахивать руками.
— Вот теперь они! — крикнул Коньков. — Узнаю Дункая по шляпе; он у нее поля обрезал, чтоб, говорит, ветер не сдувал. Вон, видишь? Как ведро на голове...
Пилот утвердительно кивнул головой и начал снижаться прямо на песчаную отмель.
2
Дункай с Кончугой встретили прилетевших у трапа вертолета, словно делегацию, — Дункай почтительно протягивал всем по очереди руку и представлялся:
— Председатель артели Семен Хылович.
Коренастый, широкоплечий Кончуга стоял чуть поодаль и сосал маленькую бронзовую трубочку с черным мундштуком. Его плоское скуластое лицо было безразлично-спокойным, полным сурового достоинства.
— Где Калганов? — спросил следователь.
— Идите за мной, — ответил Дункай.
Он повел их к лесной опушке по песчаной косе. Не доходя до кустарников, Коньков жестом остановил Дункая и спросил:
— Вы тут без нас следы не затоптали?
— Да вы ж не велели, — ответил Семен Хылович с некоторой досадой, как маленьким. — Ни я, ни Кончуга вплотную к Калганову не подходили.
— А есть следы? — спросил Косушка.
— Есть. В кедах кто-то был, — ответил Дункай со значением, словно по секрету. — Сейчас увидите.
Он свернул за ивовый куст и остановился.
— Ах ты, голова еловая! — воскликнул Косушка, увидев Калганова.
Тот лежал лицом вниз, неудобно подвернув голову. Пуля вошла в грудь и засела в теле — на спине никаких отметин, расстегнутая кожаная куртка с распластанными вразлет по песку бортами, точно крылья подбитой птицы, была чистой от крови. По всему было видно, что человек убит наповал — упал и не трепыхнулся. От лесной опушки вел к нему размашистый след: его массивные сапоги с рифленой подошвой были в песке.
Косушка, даже не замеряя следов, сказал:
— Дело ясное — следы его.
А чуть поодаль, также из лесу, вели к нему другие следы, мельче, с частой рифленкой в елочку. Следы эти уводили обратно в лес.
Косушка снял с плеча фотоаппарат и стал фотографировать и убитого, и эти мелкие следы.
— Кажется, кеды, — сказал Коньков.
— Да! — кивнул головой Косушка.
— Женские, что ли? — спросил Коньков.
— По-видимому... тридцать седьмой — тридцать восьмой размер. Впрочем, у местных жителей вообще ноги маленькие.
Коньков невольно покосился на ноги Кончуги, но тот был обут в олочи.
— Семен Хылович, — спросил Коньков Дункая. — Вы не интересовались — куда ведут эти мелкие следы?
— Интересовались, такое дело, — ответил за Дункая Кончуга. — Следы ведут к ручью.
— А потом? — спросил Косушка.
— Потом пропадай, — ответил Кончуга.
— Надо поискать, — сказал Коньков.
— Бесполезно. Я сам искал вместе с Кончугой. Наверно, человек разулся и пошел по ручью, — ответил Дункай.
Косушка раскрыл свой черный чемоданчик, вынул оттуда флакон, встряхнул его, насыпал порошку и стал заливать след, оставленный кедом, белым раствором гипса.
— Странно! — сказал Коньков, разглядывая те и другие следы. — Вроде бы они шли вместе, но стреляли не сбоку, а в грудь.
— А может, замешкался Калганов и обернулся на возглас, или там под руку взяли, — рассуждал Косушка. — Повернулся грудью, в упор и выстрелили.
— По следам не скажешь, — отрицательно покачал головой Коньков.
— Почему не скажешь? — спросил Кончуга, потом вынул изо рта трубочку и указал мундштуком на реку. — Стреляй оттуда. Наверно, с лодки.
— Откуда ты знаешь? — спросил его Косушка.
— Тебе смотри следы: Калганов шел быстро из тайги, от своей палатки, к реке. Падал на ходу, вперед лицом. С реки стреляли! Другой человек тихо шел, его мелкий след, неглубокий. Осторожно шел, тебе понимай? Когда увидал убитый, его стоял немножко, потом назад ходил совсем тихонько.
Меж тем доктор осматривал и прощупывал тело Калганова.
— Когда наступила смерть? — спросил его Косушка.
— Должно быть, вечером или ночью, — ответил доктор.
— А когда стреляли? — спросил Коньков Кончугу.
— Не знай, — невозмутимо ответил тот.
— То есть как не знаешь? Где ж ты был? — спросил Косушка с удивлением и даже на Дункая поглядел вопросительно.
Дункай только плечами пожал. А Кончуга пыхнул дымом и сказал как бы нехотя:
— Вечером на пантовка ходи. Ничего не находил, вот какое дело. Утром приходил сюда — начальник убит.
— И выстрела не слыхал?
— Нет. Далеко ходи. Тайга.
— Что за пантовка? Речка или распадок? — спросил Косушка, раскрывая блокнот с намерением записать ответ Кончуги.
Коньков чуть заметно усмехнулся, отворачивая лицо. Дункай глядел с удивлением на Конькова, а Кончуга сунул опять в рот трубочку и задымил.
— Вы почему не отвечаете? — сердито сказал Косушка.
— Я все отвечал, — с той же невозмутимостью отозвался Кончуга.
Косушка вопросительно поглядел на Дункая:
— Что это значит? Его спрашивают, а он и отвечать не хочет.
— Пантовка не река и не распадок. Это охота на изюбра с пантами. По-нашему так называется, — извинительно пояснил Семен Хылович.
— Ну хорошо! — строго сказал Косушка. — Тогда пусть ответит — где охотился?
— Река Татибе, — сказал Кончуга.
— Ладно, так и запишем. — Косушка сделал запись в блокнот.
— А ты когда сюда приехал, Семен Хылович? — спросил Коньков Дункая.
— Утром. Когда за мной Кончуга приехал, я тебе позвонил — и сразу сюда.
— Никого не встретил на реке?
— Нет.
Косушка поманил пальцем Конькова.
— Давай сходим в палатку Калганова! — И, обернувшись, спросил Кончугу: — Где его палатка?
— Там, — указал трубочкой на таежный берег Кончуга.
— Тело отнесите в вертолет, — приказал Косушка санитарам. — А пулю сохраните.
— Хорошо, — ответил доктор.
Потом дал сигнал санитарам, те уложили Калганова на носилки и двинулись к вертолету.
А следователь с Коньковым поднялись на берег. Палатка стояла под кедром. Ее передние полы были приподняты и привязаны к угловым крепежным веревкам. В палатке еще был натянут из пестрого ситца полог. Косушка приоткрыл его; там лежал спальный мешок на медвежьей шкуре, а возле надувной подушки валялась кожаная полевая сумка.
Сфотографировав и палатку, и все вещи Калганова, Косушка взял сумку и заглянул в нее: там была сложенная карта, альбом для зарисовок, две толстых тетради в черном переплете — дневники Калганова и еще лежало несколько блокнотов, исписанных, с вложенными в них газетными вырезками. Косушка раскрыл один из блокнотов и прочел вслух:
— «Речь идет о коренном пересмотре устаревшей точки зрения на лес как на нечто дармовое и бездонное...»
— М-да... А где же его карабин? — спросил Косушка.
— Его лежит под матрац, — крикнул Кончуга откуда-то сзади.
Косушка оглянулся: Дункай с Кончугой остановились возле кедра на почтительном расстоянии от начальства.
— Проверим! — Косушка откинул матрац.
Карабин лежал в изголовье.
— Странно, — сказал Косушка. — Ночью вышел из палатки и карабин не взял.
— Он, наверно, люди слыхал, — отозвался опять Кончуга. — Зачем брать карабин, если человек на реке?
— Уж больно много ты знаешь, — усмехнулся Косушка.
— Наши люди все знают, — невозмутимо ответил Кончуга. — Калганов был храбрый начальник. Все говорят, такое дело.
— Ну, тогда скажи: кто убил Калганова?
— Плохие люди убили.
— Оч-чень хорошо! — Косушка хлопнул себя по ляжкам. — А фамилия? Кто они такие?
— Не знай.
— Ну что ж, зато мы узнаем, — сказал Косушка, пристально глядя на Кончугу, потом, после выдержки, приказал Дункаю: — Сложите все вещи Калганова и отнесите их в вертолет.
А Конькова, взяв под локоток, отвел в сторону:
— Тебе придется здесь остаться. Установи, кто ездил вчера по реке. И вообще пошарь. А с Кончуги глаз не спускай.
3
Коньков решил первым делом сходить на лесной кордон, где жил лесник Зуев. Вытащив на берег бат, они с Дункаем и Кончугой пошли по еле заметной лесной тропинке.
Неподалеку, за приречным таежным заслоном, открылась обширная поляна с пожней, поросшей высокой, по щиколотку, салатного цвета отавой; посреди пожни возвышался внушительных размеров стог сена, побуревшего от долгого августовского солнца.
Изба лесника, окруженная хозяйственными пристройками — амбаром, сараем, погребом и сенником, стояла на дальнем краю у самого облесья...
И огород был на кордоне, засаженный картошкой, огурцами, помидорами и всякой иной овощной снедью, и все это было обнесено высоким тыном от лесных кабанов. Недурственно устроился лесник, подумал про себя Коньков.
На крыльце их встретила молодая хозяйка: миловидная, опрятно причесанная, с тугим пучком светлых волос, заколотым на затылке огромными черепаховыми шпильками. Ее большие серые глаза были в чуть заметных красных прожилках, и смотрела она как-то в сторону, будто кого-то ждала, и от нетерпения прикусывала пухлые губы. Одета она была в пушистую бурую кофту ручной вязки, синие брюки, заправленные в хромовые сапожки.
На руках у нее висели пестрые половики.
Поздоровавшись с Дункаем, она пригласила всех в дом.
— Проходите, пожалуйста! А я вот полы помыла только что, — указала она на половики и первой вошла в сени.
— Гостей ждете? — спросил Коньков.
— Какие тут гости! — не оборачиваясь, сказала хозяйка и стала раскатывать от порога половики. — Проходите и присаживайтесь.
В избе было чисто и уютно; по стенам развешаны ружья, чучела птиц и засушенные, связанные пучками тра́вы. Хозяйка поставила на стол глазурованную поставку желтоватой медовухи, потом соленые грибы, вяленую рыбу, огурцы:
— Кушайте на здоровье! Небось проголодались с дороги.
Дункай налил в стаканы мутноватой медовухи, а Коньков, заметив на левом виске у хозяйки синяк и сообразив — почему она на крыльце все смотрела в сторону, подворачивая правую щеку, спросил с улыбкой:
— Кто же вам эту отметину на лице поставил? Или с лешим в жмурки играли?
— Да в погреб вечером спускалась за молоком, оступнулась и ударилась об косяк, — ответила она, слегка зардевшись.
— А где хозяин? — спросил Коньков.
— В городе. Третьего дня уехал в лесничество.
— Вы вчера вечером или ночью не слыхали выстрела?
— Нет, я спала, — поспешно ответила она.
— А недалеко от вас Калганова убили. На Теплой протоке.
— Мне Кончуга говорил... утром, — и глаза в пол.
— И мотора с реки не слыхали? — Коньков подался к ней всем корпусом, как бы желая расшевелить ее, приблизить в эту мужскую застолицу, говорить, глядя друг на друга глаза в глаза.
Она сидела поодаль от стола на табуретке, с лицом печальным и спокойным, и, как бы понимая этот тайный вызов Конькова, посмотрела на него безо всякой робости, в упор:
— Нет, не слыхала. А вы кушайте, пожалуйста, кушайте!
— Давайте горло прополощем! — сказал Дункай. — Потом поговорим.
Мужики чокнулись стаканами, и все выпили.
— Хорошая медовуха! — похвалил Коньков. — С хмелем?
— Самая малость, — ответила хозяйка.
— А вы что ж не пьете за компанию?
— У меня работы много, а с этой медовухи в сон клонит.
— Вы знали Калганова? — неожиданно спросил ее Коньков.
— Да. — Она опять опустила голову и стала разгонять руками складки на брюках.
— Когда его видели в последний раз?
— Третьего дня. Они с Кончугой останавливались у нас на ночь. Муж еще был дома. Они располагались там, на сеновале.
— А когда уехали?
— Тогда же, утром. Они на реку, муж в город.
На дворе закудахтали куры и залаяла собака. Хозяйка вышла из дому. Коньков встал из-за стола, прошелся по дому, остановился у подпечника, где хранилась обувь: ботинки, сапоги, туфли.
— Чего гуляешь от стола? — спросил его Дункай.
— Вы пейте, ешьте! — сказал он своим напарникам. — Я дома заправился.
Он закурил и вышел в сени; здесь в углу валялись старые шкуры, олочи, резиновые сапоги; на стенах висели искусно сплетенные связки новых корзин, липовые да вязовые туеса, берестяные лукошки.
Вернулась хозяйка с тарелкой красных помидоров.
— Ну, что там? — спросил ее Коньков.
— Ястреб кружит. Куры разбежались.
— У вас тут прямо настоящий промысел! — кивнул Коньков на лукошки и туеса.
— Сам занимается, любитель. Тайга.
— Сапожки у вас аккуратные. Какой размер?
— Тридцать восьмой.
— А я вот в бахилах топаю. Сорок третий! Тяжело в тайге в сапогах-то: ноги тоскуют, как говорят у нас в деревне. Но форма одежды, ничего не попишешь. А вы чего в сапогах? Олочи удобнее. А то кеды! С дырочками.
— Нет, я не ношу кеды, — поспешно сказала хозяйка, стараясь пройти в избу.
Но Коньков жестом задержал ее:
— А может быть, Кончуга в кедах ходил? Вы не заметили? В тот самый вечер, когда они ночевали у вас?
— Я не обратила внимания... Но вряд ли. Удэгейцы-охотники не любят кед.
— А где у вас обувь хранится?
— Старая вон в углу, то есть здесь, в сенях, да еще на кухне, в подпечнике. Тут рабочая обувь. Сподручно. А новая в шкафу. Хотите поглядеть?
— Спасибо. Я вам верю, Настя. — Коньков поглядел на нее пристально и спросил: — Кажется, вас так зовут?
— Да. — Настя отвела взгляд и потупилась.
4
— Батани, а чем занимался твой хозяин? — спросил Коньков Кончугу, когда они садились в лодку.
— Смотрел следы изюбра, записывал — какой трава ест изюбр, куда его ходил.
— А почему он выбрал для лагеря эту косу?
— Нерестилище рядом. Калганов рыбу считай. Смешной человек, понимаешь. Разве хватит ума столько рыбы считать?
— Ишь ты какой дотошный! Тогда давай на нерестилище! — приказал Коньков.
Кончуга завел мотор, и бат стремительно полетел вверх по реке.
— А ты чем занимался? — спросил опять Кончугу Коньков.
— Немножко рыбачил.
— Х-хе! Немножко? Вон, целый мешок навялил. — Коньков раскрыл лежащий на дне бата мешок. — И ленки, и кета... А ведь нерест начался!
— Мне максиму давали на нерест, сто пятьдесят штук.
— Максимум, — усмехнулся Коньков. — Ты уж, поди, три раза взял свою максиму.
Коньков поднял длинную острогу со дна лодки и спросил:
— Все острогой бьешь?
— Есть такое дело немножко.
— А вот лейтенант штрафанет тебя за такое дело, — сказал сердито Дункай. — Ты что, не знаешь, что острогой нельзя бить рыбу? Да еще во время нереста!
— Почему не знай? Знаем такое дело.
— Зачем же нарушаешь? — спросил Коньков.
— Я совсем не нарушаю. Я только на еду брал. Себе да собакам немножко.
Коньков рассмеялся:
— Уж больно большой аппетит у твоих собак!
— Он изюбра за неделю съедает со своими собаками, — сказал Дункай.
— За неделю нельзя, — покачал головой Кончуга. — За две недели можно съесть, такое дело.
— Быка за две недели? — удивился Коньков.
— Можно и корову, — отозвался невозмутимо Кончуга.
— Да у тебя просто талант! — опять засмеялся Коньков.
— Немножко есть такое дело.
Кончуга сбавил обороты и погнал бат к берегу. Впереди загородил реку огромный залом: свежие кедровые бревна вперемешку со старыми корягами торчали во все стороны и высились горой.
Коньков выпрыгнул на берег первым, Дункай и Кончуга вытащили на отмель лодку и пошли к залому за Коньковым.
— Здесь работал, говоришь, Калганов? — спросил Коньков Кончугу.
— Здесь сидел, — указал тот на обрывистый берег, — смотри и считай — сколько рыбы приходит сюда и подыхай.
Вся отмель перед заломом была усеяна трупами дохлой кеты; иные еще трепетали, били хвостами и, судорожно замирая, хватали жабрами воздух.
И вода перед заломом кишела кетой: одни с разлета выпрыгивали из воды и, сверкая радужным оперением, долетали до самой вершины залома, потом шмякались на бревна и, пружиня всем телом, изгибаясь и подпрыгивая, все в кровоподтеках и ссадинах, снова падали в воду; другие, обессилев от этой отчаянной таранной атаки, вяло разбивали хвостами бугорки прибрежной гальки и не в песок, а в воду выметывали икру, которую тотчас уносило течением, угоняло пустые икринки, не оплодотворенные молоками.
— Что ж это такое? Кто залом навалил? — со злым отчаянием спросил Коньков.
— Леспромхоз. Они ведут сплав, — ответил Дункай.
— Но это ж нерестовая река! — шумел Коньков. — По ней запрещено сплавлять лес, да еще молем.
— Калганов тоже говорил, запрещал такое дело, — отозвался Кончуга.
— Ну и что? — спросил Коньков.
— Сплавляют, — ответил Дункай.
— Хоть бы залом растащили. — Коньков покривился, как от зубной боли.
— Ого! — воскликнул Дункай. — Целой бригаде на неделю работенка.
— Калганов требовал. Растащили, такое дело, — сказал Кончуга. — Два дня проходил — новый залом, понимаешь.
— А что делать? — спросил Дункай. — Дороги нет. Остается одна эта река. Вот по ней и сплавляют.
— Почему же дорогу не строят? — зло спросил Коньков.
— Хлопот много. Без дороги легче план выполнять, — усмехнулся Дункай. — Берут только толстые кедры. Одно дерево повалят — сразу десять кубометров есть. А другие деревья заламывают — наплевать.
— Отчего другие деревья не берут? — спросил Коньков.
— Ильмы, ясень, бархат, лиственница — все тонет.
— И все молчат? — накалялся Коньков.
— Почему «молчат»? — спросил Кончуга. — Калганов шумел, понимаешь.
— А вы почему молчите, Семен Хылович? Вас же кормит эта река и тайга!
— Кому говорить? Кто нас послушает? — Дункай вяло махнул рукой на залом и пошел к лодке. — Мы уж привыкли.
— Ты привыкыл, а я не привыкыл, — ворчал Кончуга, идя вслед за Дункаем. — Тайга болеть будет, гнить. Плохое дело, привыкыл...
— Ладно, мужики! — сказал Коньков примирительно. — Давайте съездим на ту косу, где мы хотели приземлиться на вертолете. Что там за люди? Чем они занимаются?
— Это лесная экспедиция, — ответил Дункай. — Они определяют сортность леса.
— Каким образом?
— Берут полосу вдоль реки, метров на двести шириной, и считают — сколько и каких деревьев растет на этой полосе? Какой возраст? Что можно брать, что нельзя...
— А давно они здесь работают?
— Да, пожалуй, второй месяц.
— Тогда едем к ним! — приказал Коньков. — Они должны знать Калганова и видели, наверно, кто ночью по реке проезжал.
Не успел еще Кончуга завести мотор, как где-то за лесистым холмом раздался далекий, но зычный звериный рык.
— Вроде тигр? — сказал Коньков, прислушиваясь.
Но рык не повторился.
— Чужой приходил, — ответил Кончуга, запуская мотор.
— То есть как чужой? — удивился Коньков. — У вас что, свои тигры здесь пасутся?
Кончуга раскурил свою трубочку, вывел бат на стремнину и только тут ответил:
— Есть и свои, понимаешь. На Арму один, на Татибе два, где солонцы — тоже есть тигрица и два тигренка. Я все тигры знай. Этот чужой.
— Ты что, видел его?
— Не видел, такое дело.
— Как же ты определил, что он чужой? По рыку, что ли?
— Его собачек таскал.
— Твоих собак?
— Моих не трогал. Которые лес сортируют, у них утащил. Такой тигр человека может кушать.
— На то он и тигр, — сказал Коньков.
— Это не наш тигр. Его из Маньчжурии приходил. Старый тигр, охотиться на изюбрь не может. Только собачек таскай. Корову может, овечку, человека.
— Это кто ж тебе говорил, Калганов?
— Я сам знай.
— М-да... — многозначительно покачал головой Коньков и вспомнил давешнюю фразу Косушки: «Уж больно много ты знаешь».
5
Лесотехническую экспедицию они застали на косе. Тут горел костер, на перекладине над костром висели закопченные чайник и котел. Рабочие, вернувшиеся из тайги на обед, успели разуться, скинуть защитного цвета куртки с капюшонами и сетками от комаров; трое блаженно растянулись возле огня, четвертый лежал в палатке, высунув наружу ноги в шерстяных носках.
Коньков, сидевший в носу бата, махнул Кончуге рукой, тот резко вырулил и с разгона направил бат на песчаную отмель. Лодка, скрежеща брюхом о песок и гальку, почти всем корпусом выскочила на сухое.
Коньков выпрыгнул первым из бата и подошел к костру:
— Здорово, ребята!
— Здорово, начальник! — иронично отозвался бородатый детина в черной рубахе с расстегнутым воротом.
Видно было по тому, как остальные рабочие помалкивали, этот детина и был бригадиром.
— Какой я начальник? — сказал Коньков, присаживаясь на корточки и вынимая из костра головешку, чтобы прикурить. — Я из тех, которые следы потерянные ищут, вроде гончих на охоте.
— Их вроде бы легавыми зовут, — подмигнул Конькову беловолосый парень с облупленным от загара носом и прыснул в кулак.
— А ну, заткнись! — цыкнул на него бригадир.
— Да я это к слову... Насчет чего иного вы не подумайте, — оправдывался тот, разводя извинительно руками.
— Легавые — это те, которые хвостом виляют, — сказал Коньков, таким же озорным манером подмигивая беловолосому парню.
Все дружно рассмеялись.
— Я из района, участковый уполномоченный; звать меня Леонидом Семеновичем. — Коньков протянул руку бригадиру.
— Павел Степанович, — отрекомендовался тот.
— Вот и гоже! — сказал Коньков. — Вы давненько на этом месте?
— Четырнадцатый день. А что? — спросил бригадир.
— Чем занимаетесь?
— Тайгу сортируем.
— Слыхали, Калганова убили? — сказал Коньков, глядя поочередно на рабочих.
— Какого Калганова? Ученого, что ли? — аж привстал бригадир.
— Его...
— Когда?
— Где? — допытывался каждый.
— Нынче ночью. На Теплой протоке, — ответил Коньков.
— А может, вечером, понимаешь, — сказал Кончуга, подходя и присаживаясь к костру.
— Какая сволочь? — процедил сквозь зубы бригадир и заковыристо выругался.
— Кто сволочь? — спросил Коньков.
— Да тот, кто убил.
— Во был мужик! Настоящий таежник, — сказал третий рабочий, пожилой лысоватый мужчина, заросший седой щетиной. — Травы нам привез для подстилки в сапоги. И что за трава такая? И пружинит, мягкость придает, и в труху не перетирается.
Подошел к костру и Дункай; в наступившей тишине неторопливо раскурил сигарету от головешки и сказал:
— Забо-отливый был мужик, это правда. Обо всем заботился: и о людях, и о лесе, и о воде. Да не всем это нравилось. У одних забота на словах, другие же с кулаками лезут доказывать свою заботу. В драку лезут. Таких у нас не жалуют.
— Значит, видишь безобразие — и посапывай себе в кулак? — спросил, недобро смерив Дункая взглядом изжелта-смоляных глаз, Павел Степанович.
— Да я не про то, — покривился Дункай. — За порядок переживай, но и себя не бросай, как затычку, в любую дыру. Прорех у нас много. Всех прорех своим телом не закроешь.
— Рассуждать мы научились, а делаем все — через пень колоду валим, — сказал более для себя Павел Степанович и уставился долгим взглядом в костер.
А пожилой мужичок с лысиной подтянул свои сапоги, вытащил из них травяную прокладку и положил просушить ее поодаль от костра.
— Травки подарил нам, — говорил он ласково. — Раньше про таких говорили — божий человек. Мир праху его!
— Такой трава хайкта называется, — отозвался Кончуга. — Я сам доставал ее.
— Ты лучше расскажи, как стадо кабанов съел? — сказал беловолосый парень, посмеиваясь и подмигивая Кончуге.
Павел Степанович грустно усмехнулся и встряхнулся как бы из забытья.
— Это нам Калганов рассказывал, — пояснил бригадир Конькову. — Зимой, говорит, охотились с Кончугой. Стадо кабанов подняли. Я, говорит, убил трех, а Кончуга шесть штук. Снег лежал глубокий. Как вывозить кабанов? Прямо беда. Я, говорит, пошел в деревню за лошадью. Пятьдесят верст просквозил на лыжах. Нет лошадей — все в извоз ушли. Я в райцентр, говорит, подался. А Кончуга посадил всю свою семью на нарты и на четырех собаках привез к убитым кабанам. Раскинул палатку и пошел пировать. Пока, говорит, я лошадь нашел, пока приехал — он уже пятую свинью доедал.
Все засмеялись, и только Кончуга невозмутимо посасывал свою трубочку и смотрел в огонь, будто и не слушал никого.
— У кого ж это рука поднялась? — опять с горечью, покачав головой, спросил пожилой рабочий.
— Кто-нибудь из вас видел вчера вечером мотор на реке? Никто не проезжал тут? — спросил Коньков.
— Вроде бы тарахтел мотор, — сказал бригадир. — Да мы спали в палатке.
— А Николай с Иваном? — воскликнул пожилой рабочий. — Они же долго у костра возились, картошку чистили, рыбу.
— Николай! — крикнул бригадир, обернувшись к палатке.
Но высунутые из палатки ноги в шерстяных носках и не шелохнулись.
— Во зараза! Уже успел заснуть, — удивился бригадир.
— Сейчас я его подыму, — сказал парень с облупленным носом и, схватив дымарь, строя всем уморительные рожи, стал на цыпочках подкрадываться к палатке.
Перегнувшись через лежащего и просунув дымарь в палатку, парень начал качать ручку дымаря. Через минуту из палатки во все дыры повалил густой дым, как из худой печной трубы. Потом оттуда раздался протягновенный мат, прерываемый чихом и кашлем, и здоровенный верзила, протирая глаза, высунул из палатки взлохмаченную голову. Увидев беловолосого с дымарем, крикнул:
— Ты чего, спятил?!
— Это ж я паразитов выкуривал, — ответил тот и, кривляясь, стал отступать к костру.
— Ах ты, химик! — заревел верзила. — Я те самого раздавлю сейчас, как паразита.
Не успел разбуженный встать на ноги, как беловолосый бросил дымарь и дал стрекача в таежные заросли.
— Ладно тебе ругаться, Николай! — сказал бригадир, едва скрывая улыбку. — Дело есть к тебе. Вон лейтенант поговорить с тобой хочет.
Заметив Конькова, Николай заправил рубаху и подошел к костру.
— Вы вчера вечером не видели моторной лодки на реке? — спросил опять Коньков. — Или ночью, под утро.
— Слыхал мотор... И вроде бы не один. Да уж в палатку залез. — Он силился что-то вспомнить, морщил лоб, шевелил бровями и вдруг воскликнул: — Стой! А Иван-то еще на берегу сидел. Рыбу разделывал.
— Что за Иван? — спросил Коньков.
— Это кашевар наш, Слегин.
— А где он?
— Черт его знает! Вот сами ждем, — сказал бригадир. — Пришли на обед, а его нет. Утром пошел на Слюдянку хариусов ловить.
— А где эта Слюдянка? — спросил Коньков.
— Да километра два отсюда будет до нее. Речка. Чистая такая. Форели в ней много.
— Когда же он придет?
— А кто знает? Он у нас заводной, — ответил бригадир и снова выругался. — Если рыба клюет, до вечера просидит. Зато уж без добычи не приходит. Тут с него хоть три шкуры дери. Улыбается, как дурачок: крючок, мол, зацепился за тайменя, чуть в горы не увел. А я вот хариусов по дороге подбирал. Все тайменя обещает принести. Мы уж привыкли к его выходкам и не ждем его. Сами вон обед варим, — кивнул бригадир на кипящий котел.
— Эх, работенка! — сказал Коньков, откидываясь на спину и закладывая ладони на затылок. — Устал, будто чертей гонял. С трех часов утра на ногах. Не везет!
— Зачем не везет? Можно найти кашевара, — сказал Кончуга.
— Где ты его найдешь?
— Я схожу, такое дело.
— Разминешься, — сказал бригадир. — Иван выбирает места укромные.
— Почему «разминешься»? — возразил Кончуга. — Тайга не город, здесь все, понимаешь, видно.
— Пусть сходит, — сказал пожилой рабочий. — Иван уж там засиделся.
— Ну, валяй! — отпустил Кончугу Коньков. — Только смотри сам не заблудись.
— Смешной человек, понимаешь. — Кончуга пыхнул трубочкой, встал, закинул карабин за спину и ушел.
— А вы отдохните, Леонид Семенович, — предложил Конькову Дункай. — В лодке у нас медвежья шкура.
— Зачем в лодке? Вон лезь в палатку. Там надувной матрац, — предложил бригадир. — А хочешь — лезь под полог.
— Я и в самом деле малость вздремну, — сказал Коньков и полез в палатку.
Заснул он быстро, как в яму провалился. Ему снился сон: будто он еще мальчишкой идет полем, по высоким оржам; чем дальше идет, тем все выше становится рожь, наконец он скрылся в этих колосках с головой, и ему стало жутко оттого, что не видит и не знает, куда надо идти. И вдруг откуда ни возьмись налетают на него два лохматых черных кобеля, хватают его за штаны и начинают рвать их и стаскивать. Он смотрит по сторонам — чего бы найти и огреть этих кобелей, но нет ни камня, ни палки, одна рожь стоит вокруг него стеной. Он хочет ударить их кулаком, но не может: руки онемели от страха и не слушаются. Хочет крикнуть — язык не ворочается, и голоса нет.
— Да проснитесь же вы наконец! — услыхал он над самым ухом и открыл глаза.
Над ним склонился Дункай и теребил его за брюки и за китель.
— Что случилось? — тревожно спросил Коньков, вскакивая.
— Кончуга вернулся. Говорит — кашевара нет нигде.
— Что ж он, сквозь землю провалился? — сердито проворчал Коньков.
— Наверно, в другое место ушел. Сидит где-нибудь на протоке и рыбачит. Тайга велика. Чего делать будем?
Коньков наконец пришел в себя от сонной одури, вылез из палатки, подошел к костру. Тут вместе с рабочими сидел и Кончуга.
— Ты хорошо смотрел? — спросил его Коньков.
— Хорошо. Кричал много. На Слюдянка нет никого.
— Павел Степанович, куда же он делся? — обернулся Коньков к бригадиру.
— Где-нибудь рыбачит в другом месте. Да вы не беспокойтесь. Вечером придет, — отвечал тот, помешивая в котле деревянной ложкой. — Отдохните у нас. Вместе и пообедаем.
— Нам, брат, не до отдыха, — сказал Коньков, потом повел носом. — А что у вас на обед варится? — и бесцеремонно заглянул в котел.
— Нынче варим рыбные консервы, — ответил бригадир, вылавливая огромной ложкой хлопья разваренной лапши и нечто розоватое, похожее на раздерганные и расплывшиеся клочья розовой туалетной бумаги.
— Значит, нынче консервы! А вообще что варите? — спросил Коньков.
— Уха бывает. Изюбрятину варим.
— А что, изюбрятина кончилась?
— Есть. Да Иван куда-то схоронил. Искали, искали... Где-то у воды прикапывает, в холодке. Или в реку опускает. В кастрюле она у него хранится, веревкой обвязана, да еще в целлофановом мешке. Так она сохраннее.
— А где достали изюбрятину? — спросил Коньков, все более оживляясь.
— У охотников Иван покупает.
— Вы ему продавали, Семен Хылович? — спросил Коньков у Дункая.
— Нет, — ответил тот твердо. — К нам за мясом он не приезжал. Да и пантовка кончилась.
— У вас кончилась, у других нет, — усмехнулся бригадир. — До сих пор бьют. Тут эти охотники шныряют, как барыки на базаре. Вот приедет Иван — он вам все расскажет.
— Ладно, — сказал Коньков. — Мы завтра приедем. Только вы предупредите его, чтобы он никуда не уходил.
— Будет сделано, — сказал бригадир.
— Кончуга, заводи мотор! — приказал Коньков, вставая. — Поехали к вам в село.
6
Село Красное стояло на высоком берегу укромной протоки. Сотни полторы новеньких домов, рубленных в лапу, то есть с аккуратно обрезанными да обструганными углами, крытые серым шифером и щепой, вольготно раскинулись по лесному косогору. Каждый поселянин норовил повернуть свой дом окнами на реку, то есть на протоку, широкий и спокойный рукав, отделенный песчаным наносным островом от протекавшей неподалеку шумной и порожистой реки Вереи.
Тут не было ни улиц, ни переулков, отчего все село смахивало на огромное стойбище; каждая изба, казалось, стоит на отшибе, в окружении зарослей лещины, жимолости да дикой виноградной лозы. Между отдельными группами домов стояли даже нетронутые раскоряченные ильмы, голенастые деревья маньчжурского ореха да густые иссиня-зеленые шапки кедрача. Жили здесь и удэгейцы, и нанайцы, и орочи, и русские, и татары. Дункай, посмеиваясь, называл свое таежное село лесным интернационалом.
Они подъехали к песчаному берегу, где на приколе стояли такие же, как у них, длинные долбленые баты, похожие на африканские пироги. Дункай цепью привязал бат к столбу, врытому у самого приплеска, и сказал Конькову:
— Я схожу домой, прикажу хозяйке, чтобы обед приготовила.
— Спасибо, Семен Хылович! А может, у вас столовая есть? Неудобно, право, — засмеялся Коньков.
— Столовая только вечером откроется. А до вечера живот к спине подведет. Как допрашивать будешь? — засмеялся Дункай. — Пошли со мной!
— Я через часик приду. Пока вон со стариками поговорю.
Старики сидели тут же на берегу на бревнах, поглядывали на приезжих, покуривали.
— Ну, давай! Тебе виднее.
Дункай взял весла и ушел домой, а Коньков с Кончугой поднялись на высокий берег, к бревнам. Здесь же один старик с редкой седой бороденкой и жидкими усами, засучив рукава клетчатой рубашки, заканчивал работу над долбленной из цельного ствола тополя остроконечной лодкой-оморочкой. На бревнах, в синих и черных халатах — тегу, расшитых ярким орнаментом по бортам и по стоячему вороту, сидело пять стариков, каждый с трубочкой во рту Возле бревен кипел черный большой казан со смолой.
— Багды фи! [1] — приветствовал их Коньков по-удэгейски.
— Багды фи! Багды! — оживленно отозвались старики.
— Хорошая будет оморочка! — похвалил Коньков плотника. — На такой до большого перевала доберешься, легонькая, как скорлупка. — Коньков хлопнул ладонью по корпусу новой оморочки, и гулкое эхо шлепка отдалось на дальнем берегу. — Во! Звенит, как бубен. Шаманить можно.
Старики опять, довольные, заулыбались.
— Одо! [2] — обратился Коньков к самому ветхому старику с желтым морщинистым и безусым лицом, в меховой шапочке с кисточкой на макушке. — Ты знал ученого Калганова?
— Калганова все село наше знай, — ответил тот. — Хороший человек был. Кто его убивал, свой век не проживет. Сангия-Мамá [3] накажет того человека.
— A у вас на селе не знают, кто это сделал?
— Не знают.
— Когда у вас последний раз был Калганов?
— Неделя, наверное, проходила.
— Почему «наверное»? А точнее?
Собеседник Конькова посасывал трубочку и молчал, словно и не слыхал вопроса Конькова.
Коньков допытывался у других стариков:
— А может, две недели прошло? Никто не помнит?
— Может быть, две, понимаешь, — ответил лодочник.
— Так две или одна?
— Зачем тебе считай? Две, одна — все равно, — сказал старик в шапочке.
— Нет, не все равно, — сказал Коньков, несколько обескураженный таким безразличием.
Потоптался, подошел опять к плотнику, тесавшему лодку.
— Не продашь?
— Для себя делай, — ответил тот.
— Н-да... А кто из вас хорошо знал Калганова?
— Сольда, — ответил лодочник.
— Который это Сольда? — спросил Коньков.
— Я, понимаешь, — ответил старик в шапочке.
— Ты с ним в тайге бывал?
— Бывал, такое дело. Проводником брал один раз.
— Ты ничего не замечал за ним? Может быть, он ругался с кем? Враги у него были?
— Может, были. А почему нет?
— Да не «может быть», а точно надо знать.
— Не знай.
— Ну, как он относился к вашим людям и вы к нему? Не обижал?
— Его смешной, понимаешь, — ответил Сольда, выпуская клубы дыма. — Немножко обижал.
— Каким образом? — оживился Коньков.
— Его говорил: человек произошел от обезьянка.
Старики засмеялись, а иные стали плеваться.
— А чего тут смешного или обидного? — удивился Коньков.
Сольда поглядел на него, как на неразумного младенца, вынул трубочку и мундштуком ткнул себя в голову.
— Разве я обезьянка? Тебе чего, ребенок, что ли? — и, скривив губы в саркастической усмешке, стал говорить горячо и яростно: — Мы видали, такое дело, обезьянку. В Хабаровске было совещание охотников. Потом в цирк возили, обезьянки показывать. Маленький зверь вертится туда-сюда. Как может человек произойти от такой зверь? Разве я, понимаешь, туда-сюда голова верти? Детей за такое дело наказывать надо.
Коньков едва заметно улыбнулся и спросил:
— А как ты думаешь, Сольда, от кого произошел человек?
— Наши люди так говорят: удэ произошел от медведя. Его зовут Одо, старший рода, понимаешь. Это правильно. Медведь ходит важно, никого в тайге не боись. На двух ногах может ходить, одинаково человек.
Старики закивали головами:
— Так, так...
— Ну ладно! Удэ произошел от медведя, — согласился Коньков, поблескивая хитровато глазами. — А русский от кого? Или, допустим, татарин?
— Я не знай. Ты, может, от обезьянка. Чего стоишь, вертишься? Садись!
Старики опять засмеялись. Коньков, тоже посмеиваясь, сел на бревнышко, закурил.
— Все ты знаешь, Сольда.
— Конечно, — согласно кивнул тот.
— А вот скажи, что это за тигр тут появился? Говорят, из Маньчжурии пришел? Собак таскает.
— Э-э, Куты-Мафá [4] собачку любит кушать. И наш, и маньчжур одинаково.
— Но этот бродит везде, людей пугает?
— Э-э, тигр нельзя говорить. Сондо! [5] — сказал Сольда и пальцем покрутил вокруг себя. — Его все слышит. Потом пойдешь на охоту — его мешать будет. Сондо!
— Ну ты прямо профессор, — опять усмехнулся Коньков.
— А почему нет?
С невидимой за лесным заслоном реки послышался отдаленный стрекот мотора. Коньков мгновенно встал и прислушался.
— Ровно гудит. Значит, издалека. Кто-то со станции едет, из райцентра. Кончуга, а ну-ка, сбегай на реку, погляди!
— Зачем бежать? — спросил Сольда. — Это Зуев едет. Его мотор. Самый сильный. Такой больше нет у нас.
— Зуев! Тогда я сам сбегаю. Он мне нужен, — сказал Коньков, выплевывая папироску и собираясь бежать на реку.
— Опять не надо бежать, — невозмутимо сказал Сольда. — Его сам сюда поворачивает.
Коньков влез на бревна и стал поглядывать на протоку — свернет сюда Зуев или нет?
— Слушай, Сольда, — спросил Коньков. — А ты не слыхал вчера вечером мотора на реке?
— Слыхал.
— Не Зуева? Не узнал?
— Нет, не Зуева. Проходили два мотора «Москва».
— Чьи?
— Не знай.
Зуев и в самом деле завернул в протоку; его новая длинная лодка, крашенная в голубой цвет, стремительно вылетела из-за кривуна и, обдавая волной стоявшие на приколе удэгейские и нанайские баты, лихо пришвартовалась к причальной тумбе. Зуев, сильный, рослый мужчина средних лет, с коротко подстриженными рыжими усиками, в кожаной тужурке и в высоких яловых сапогах, пружинисто выпрыгнул из лодки и быстро пошел вверх по песчаному откосу, остро и резко выбрасывая перед собой колени.
— Здорово, лейтенант! — подошел он к Конькову, протягивая руку. — Я уж в курсе. В городе слыхал о несчастье. Хочу поговорить с тобой.
— Вот как! — удивился Коньков. — И я тоже хочу с тобой поговорить. — Потом крикнул Кончуге: — Батани, сбегай к Дункаю, принеси ключ от конторы!
— Зачем бегай? Контора о
