Лилия Шевченко
Имена
Часть первая
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Художник Ксения Кобина
© Лилия Шевченко, 2020
Роман с посвящением честным людям, стоятелям за Добро и Справедливость. Не политический, не исторический, не любовный, просто «маразматический» роман, как наша жизнь. Вне политики в политике, вне истории в истории, с любовью к злости и злостью в любви. Похождения «академика именных наук» в поисках честного заработка. Учёный на крючке у спецслужб, у жён, у домработницы, у отца с матерью. Все ждут и требуют от него новых имён, от которых зависит жизнь и процветание бывшей державы.
Он бежит.
ISBN 978-5-4498-2628-2 (т. 1)
ISBN 978-5-4498-2629-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Имена
- Посвящение
- Глава первая. Начало.
- Глава вторая. Консультации. Платные.
- Глава третья. Домработница Эроса
- Глава четвертая. Жена профессора. Ева Колготкина
- Глава пятая. Доска
- Глава шестая. Работа. Опять тяжелая работа.
- Глава седьмая. Мадам Шкуродерова.
- Глава восьмая. Будни и не будни
- Глава девятая. Интервью
- Глава десятая. Плен. Допрос
- Глава одиннадцатая. Важное задание. Ученики Эроса. Академик на крючке
- Глава двенадцатая. Степнов-Бескрайний.
- Глава тринадцатая. На балу. Богема
- Глава четырнадцатая. Болезнь Эроса
- Глава пятнадцатая. Сны Эроса.
- Глава шестнадцатая. Про Эроса. Детство, учёба, женитьбы и мечты о пенсии.
- Глава семнадцатая. Разведка орудует. Сбор учеников Эроса
- Глава восемнадцатая. Сбор продолжается
- Глава девятнадцатая. Несусветие.
- Глава двадцатая. Посленесусветие
- Глава двадцать первая. Эрос на заседаниях
- Глава двадцать вторая. Будни санатория.
- Глава двадцать третья. Правильные бабки
- Глава двадцать четвертая. Гости
- Глава двадцать пятая. Здравоохранители.
- Глава двадцать шестая. Трудный день. Сон в руку, а лучше в ногу
- Глава двадцать седьмая. Поиски академика
- Глава двадцать восьмая. Ищите женщину. Аполлинария Коромыслова
- Глава двадцать девятая. Начало бурь. Заветная тетрадь.
- Глава тридцатая. Пробуждение во сне
- Глава тридцать первая. Новехонькая ституция. Эх, кваквасцы, заживём!
- Глава тридцать вторая. Замужество Звездины и её отъезд
- Глава тридцать третья. Сцари-почасовики воссевшие на престол, на час
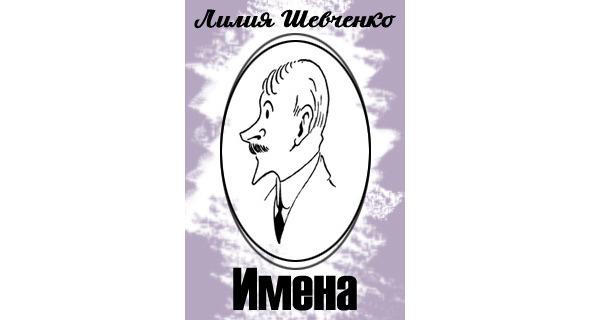
Посвящение
Этот роман посвящается всем добрым, честным и порядочным людям от Бога, живущим на Земле.
Некоторым людям лично, так же их коллегам и соратникам, единомышленникам, родственникам и друзьям, я посвящаю свой роман «Имена».
Александру Шестуну и его семье, Кантемиру Карамзину и всем его домашним, Марине Мелеховой и всем, кто рядом с ней, Габышеву Александру, Асхабу Алибекову, Ольге Ли, Светлане Герасимовой и «Народной газете», Лехе Кочегару, Ольге Чередниченко. Надеюсь на озвучку своего романа именно ею. Она, правда, еще об этом пока не знает. И многим, многим другим. Список будет пополняться.
Томящимся в застенках, силы и духа, противостоять злу, которое в любом случае и при всех условиях проиграет и будет уничтожено Добром.
Защитникам Севера и родной земли, несдающимся врагам, и держащим мирную оборону, сильным духом Человекам Шиеса! Люди Добра и Чести с вами всем сердцем, и душой.
Глава первая. Начало.
— Собачка у вас такая миленькая! Такая интересная!
— Да, я и сам…
— А зовут как?
— Меня зовут…
— Да — нет же, собачку вашу, как зовут?
— Да, очень просто зовут. Совсем по — простецки её зовут, мою собачку… А вот меня…
— Миленький собачонок, да как же тебя всё-таки зовут? Или это тайна? Но я вас так понимаю, при нынешнем цветущем воровстве собак.
— О-о-о, да просто собачку зовут. Владимир Ильич — его зовут. Кобелёк.
— Да, вы что?!
— Да-а! Мы его так назвали в честь Владимира Ильича Ленина! А его подружку — сучечку, в честь Надежды Константиновны. У нас малышка — Крупская. Я всегда боготворил и боготворю чету Лениных! Очень редкая порода!
Женщина была настолько поражена, что даже не стала уточнять, кто именно и из какой породы.
— Да-а-а, я вам скажу! У вас необычайно оригинальный подход к чествованию людей. Совсем как-то совсем, называть собак в честь людей. Хотя, если разобраться… Не людей же, в конце концов, называть в честь собак.
— По мне, как бы, не называться и именоваться, лишь бы это было оригинально, свежо и интересно! А то вокруг нас только и слышны в именах и фамилиях одни шаблоны. Сплошная рутина звуков. Всё серо и монотонно, у всех одно и тоже. У людей в именах нет полёта фантазии, разгула мысли и разнузданности страстей! Простите, жить в звуках имени шаблонном совсем неинтересно и для меня не занимательно. Да-с! — с жаром, с пылом седой профессор хотел было уже закончить свой монолог.
— Но, подождите! Причём здесь имена? Совсем не понимаю вас, — его случайная собеседница явно не хотела обрывать разговор и даже резко схватила мужчину за галстук, чтобы удержать.
— Вы, мне просто обязаны сейчас же всё объяснить! Прошу же вас!
И тут же пустила в ход конём всё очарование своих маленьких, подведенных черным карандашом глазок, подкрашенных и ощипанных бровей, подслипшихся ресниц, завитого чубчика и ярко-размазанных губ.
И их сила со страшной силой подействовала на академика, уже почти, вознамерившегося бежать, но он вдруг внезапно остановился. Остановился, чтобы угодить симпатичной даме и дать ей разъяснения.
— Для примеру возьмём вас, голубушка! — произнёс он, беря её под локоток своей ледяной, костлявою рукой.
— Берите, берите, голубчик! — тут же растаяла дама.
— Вот, вы простите, какова по батюшке, позвольте вас спросить? — засопел мужчина ей прямо в ухо. И хоть он был уже немолодой, седеющий и слегка лысеющий, но вполне ещё полноценный для серьёзного разговора, кандидат в лауреаты. Мужчина был подтянут, сухощав, слегка сутуловат и чуть выше среднего роста.
Дама почти неприлично и уже прямо на глазах растаивающая от мужского внимания, слегка поплывшая на алых парусах своих многочисленных, вычитанных в романах «мечт», тут же опомнилась и недовольно вздёрнула своим химическим способом завитым хохолком:
— Что это, вообще значит, какова по батюшке?
От удивления у неё один глаз выпучился сильнее второго и необычней, чем всегда.
Профессор тут же присел, успокаивающе погладил свою собачку, затем вторую. И глядя на свою спутницу снизу вверх, как ему всегда казалось, неотразимо — мужественно, и шумно вздыхая, и томно придыхая, прошипел сквозь свои новые вставные челюсти:
— Да-да, матушка! Каковы вы по батюшке? Как зовут вашего отца? Ваше отчество? Я хочу знать это!
— Да, чтоб вас! Напугали. Отец у меня — Иван! А я Марья. Марь Иванна, значица я!
Профессор так и запрыгал на одном месте.
— Вот, вот, что я про вас и говорил, драгоценная моя! Сплошная серость, убогость мысли, шаблон имён. У всех одно и то же. Жили всю жизнь в деревне, работали, не разгибая спин с рассвета до заката, день и ночь — сутки прочь. Света белого в конце туннеля никогда не видели. Вот вам и доказательство!
Марь Иванна так и онемела. Не зная, что сказать, невнятно вопросила:
— Откуда, это вы всё знаете про меня?
— Да, в имени всё есть твоём? А звали бы вас иначе и жили бы вы, милочка, гораздо, по-другому!
— Откуда же вы это всё знаете, голубчик мой?
И профессор, и академик, и лауреат — один в трёх лицах, и все и всё в одном лице, гордо выставив вперёд свою профессорскую академическую ногу, не менее гордо произнёс в свой иногда сизоватый и всегда, здоровенный нос:
— Имею честь доложить, медам, я знаю всё! Я есть академик, профессор и лауреат всех именных наук. Основатель школы правильного подбора настоящих, правильных имён. Ко мне только по записи или через собак, как с нами сегодня и случилось.
— Да, вы что?! Какие люди завелись в наших краях! Никогда бы на вас такое не подумала.
— Представьте, себе Мария, что это, так и есть. Ответьте мне милая, не замечали ли вы, что всех породистых собак и особенно людей, всегда зовут по-особенному, по-породистому?! Я, вот всегда поражался, какие всё-таки породистые имена были и есть у всех импортных королей! Так вот они, практически все, за счёт своих имён и восседают до сих пор на своих тронах! А наши Николашки — Алексашки все с трона послетали. И я вам, честно скажу, это всё из-за своих неправильно подобранных имен.
— Точно — точно, все так и говорят, как назовёшь корабль, так он и поплывёт.
— Именно, Марь Иванна, именно! А у вас, фамилия, скорее всего Петрова? Угадал?
— А вот и нет.
— Сидорова?
— Мимо.
— Попова!
— Опять мимо.
— Неужели, всё-таки Иванова?
— Нет, нет и нет.
— Заинтригован вами, мадам, до бесконечности. Ну, не томите же вы меня, признайтесь чистосердечно, какова же ваша фамилия?
— А вот и не скажу, вам пан профессор! Вы же акадэмик АкадэмИи околовсяческих наук, так догадайтесь же сами! Вы же великий учёный именных наук! — резвилась и дразнилась, как юная школьница, совсем еще юная пенсионерка.
— Учёный-то я учёный, и огромный учёный, должен вам доложить, но не ясновидящий же, должен вас предупредить, — произнёс учёный. Напустив на себя пара «академической учёной» серьёзности, вступил и принял игру наш герой и игриво предложил даме:
— Пзвольте, вашу ручку, медам! Ваш слуга сейчас….
— Эрос Скупярдомыч! Эрос Скупярдомыч! — неожиданно раздался истошный крик какой-то визгливой бабы. Он нёсся из окна с последнего этажа небольшого трёхэтажного дома, с надстроенной над ним четырёхэтажной мансарды.
— Да, что такое? Сколько вас можно поправлять? — заорал профессор ей в ответ, ни мало не уступая в силе звуков. Для лучшего звучания он сложил ладони рупором и, что есть силы, продолжал орать:
— Прошу вас произносите моё отчество правильно! Я — Ску-пи-до-мыч! Тьфу, ведьма, опять запутала меня. Я — Эрос! Эрос — я! Ку-пи-до-но-вич! Вам ясно? Ответьте, вам ясно? Я вам…
— Да, заткнитесь же, вы, наконец-то! Дадите сказать человеку, али нет? — перебила его женщина с самого верха, окончательно переорав академика.
— Всё, всё. Молчу и слушаю внимательно.
— Вас тут женщины хочут, Эрос Скупярдомыч! Они уже давно хочут и уже больше не могут.
— По каким вопросам их интерес?
— По самым, по вашим! Бегите сюда шибче.
— Передайте им, сейчас буду! Один момент!
— Позвольте с вами, уважаемая, откланяться. Совсем забыл, у меня же консультация. Платная, доложу вам, консультация! Сорок копеек минута!
Академик расшаркался перед женщиной своей костлявой ножкой, и уже было приготовился бежать, но был крепко ухвачен твёрдою марьивановской рукой.
— А как же я?! И фамилия моя?! Вы, чё? — обиженно надула тонкие, морщинистые губки Марь Иванна, продолжая крепко удерживать лауреата за лацкан пиджака, а он, как скользкий угорь, старательно выверчивался и выкручивался из её цепких лапок.
— Ах, как же вы меня сударыня заинтриговали своей фамилией, что я даже не в состоянии отбыть на платную консультацию. Но, не прощаемся, же мы с вами до конца! — прошипел старый интриган, освобождаясь от её царапок.
Он со своей стороны, также сильно вцепился в её руки, и с большим усилием оторвал их от своего пиджака, и неотрывно глядя женщине прямо в глаза, сквозь зубы сипло просипел:
— Где и когда? А главное во сколько? Быстро мне отвечайте. У меня время деньги. Минута — сорок копеек! Так! Я вас понял. Я сам сообщу вам план при следующем выгуле собак, перед вечерним собачьим туалетом. Владимир с Надей писаются в девять. Тогда и обговорим с вами все детали. Уговор? Да? Я полетел, — сказав быстро все эти слова, он быстро и резко ломанулся от растерянной Маши, как ломится на встречу со своей лосихой в вожделении сохатый, так же на всех парах понесся и наш профессор, уже вовсю предчувствуя, и ощущая зовущий запах денег.
А так же его с бешеною дурью, сорвали с места и потянули за поводки, совсем продрогшие собаки. И неслабый северный ветер, дующий попутно в спину, помчали все мужчину, как небрежно скомканную бумажку.
И он понёсся, как сухой лист, гонимый ветерком. Он мчался, высоко закидывая ноги, выше кистей сверкали его пятки. И всё это вбежало без оглядки в распахнутые настежь двери и пропало. И только долго раздавались звуки и кое-где в подъездных окнах мелькали ноги-руки, хвосты и лапы.
А Марь Иванна, как всегда одна осталась. Рот у неё был открыт, в глазах читалась растерянность и обида на всё человечество.
Глава вторая. Консультации. Платные.
— Так, что? Кто, где, когда? А главное насколько и за сколько? — вбежал в комнату с расспросами, запыхавшийся лауреат, бросив собачек на пороге.
— Две штуки. Все бабы. Им надоть новы имена. Сговоритесь на деньги, дак и хвамилию себе нову у вас возьмут. Но очень сложно. Очень. Еле досюдова их допёрла. И в плане оплаты, поддаются не сразу, но при умелом закручивании дела, плотют по полной деньгами. И личное вам протеже по другим дуррам — тёткам.
— Так-с, крекс — пекс, дуримекс, оч-чень всё распрекрасно! Я сей момент готов, только помою руки после прогулки.
Профессор вприпрыжку понёсся в ванную. Оттуда донеслось его радостное пение, под звуки, льющейся воды.
Этот редкий, изумительный в своём желании — мыть руки после туалета и прогулок, человек, всегда именно этим восхищал свою домоправительницу.
Она ещё в глубокой молодости перенесла через мужчин тяжелейшую психологическую травму. Будучи всегда, девушкой, чрезмерно наблюдательной, она и пронаблюдала страшные для её неокрепшего рассудка вещи. А именно, как категорически не моют руки, особи мужского пола после посещения ими туалета.
Женщины не мыли своих рук за малым исключением, а эти, мужские единичные экземпляры, мыли руки только в порядке исключения из правил. А ведь если разобраться, женщинам и не приходится, простите за сравнение, при посещении туалета, как мужчинам держаться за свои «телескопы».
— И как жить после этого?! Как здороваться с ними за руку?! Браться после них за дверные ручки?! Как?! — терзалась женщина.
Звездина, как ни старалась, никогда не могла этого понять, а тем более простить всё это мужчинам.
Звездина Ивановна, уже только за одно, это, простила Эросу Купидоновичу и всех его непутёвых жён, и всех его клиенток, этих припадошных баб, и всех его сыкливых собак и все его ей непомерные долги, накопившиеся за годы. Она кормила, поила, убирала, носила и тащила в дом всё, включая клиентов. Она, сама лично отыскивала их во всевозможных местах и заведениях.
Учитывая специфичность профессорских консультаций, это было и — эх, как не просто. Но куда ей было деваться, ведь без неё профессор никогда бы не выжил. А она никогда бы не увидела от него расплаты всё увеличивающихся ей долгов!
Эрос предстал, пред ясны очи Звездины умывшимся, причесавшимся и вполголоса напевающим свой любимый фашистский марш «Дольче зольдатен, унтер официрен».
— Фу-у-у! Вы опять взялись за старое, хвашист проклятый? Зашибу счас, сволочь немецкую! — гневно вскричала Звездина, не выдержав пыток фашизмом. Она всегда была истинным ленинцем, преданным идеям коммунизма.
— Не немецкая сволочь, а фашистская. И это абсолютно разные вещи, которые прошу не путать. А этот вальс, пардон, марш, он шикарен и я не подумаю отказываться от него.
— Счас, как дам вам тряпкой по лысине, а ну, марш вальсом на работу, — размашистыми движениями с мокрой тряпкой в руках она стала, как истинный коммунист-антифашист загонять профессора на работу в его кабинет.
А он не сильно-то и сопротивлялся, уклоняясь от взмахов мокрого полотенца, пританцовывая и напевая всё тот же марш, он ужом проскользнул в «консультационную». Через мгновение он выглянул оттуда со словами:
— И всё-таки для работы нужен марш, Звездина!
И захлопнул дверь.
После двухчасового жаркого спора о цене вопроса в сорок копеек минута, цена была снижена до 39 копеек за минуту. Сама консультация продлилась 6 минут 27 секунд, не набрав семь минут. Эрос, как истинный джентльмен уступил дамам эти 27 секунд без оплаты в обмен на привод к нему еще двух клиенток не менее, чем на полчаса каждая консультация. На том и уговорились.
Честным, усердным трудом, заработанные академиком, два рубля тридцать четыре копейки были тут же отобраны Звездиной. В этот раз ей не пришлось, ни душить, ни выламывать профессорских рук, он все деньги сразу же отдал ей сам и добровольно. Потому что сегодня он был очень радостен и доволен жизнью.
Он был счастлив, сопутствующей, ему весь сегодняшний день, большой удаче, в виде таких «жирных» клиентов.
Он чувствовал, что и это еще не всё. Ниточка потянется, и клубочек прикатится и приведет его в денежный Клондайк, где он наконец-то забьётся в приятных конвульсиях «золотой лихорадки».
И он, вполне разбогатев, сможет наконец-то выгнать из своего дома эту наглую домработницу, которой задолжал немыслимое количество денег, и эту очередную внезапно опостылевшую жену, и наконец-то зажить счастливой, обеспеченной жизнью с новой молодой женой и новой молодой домработницей — настоящей балериной.
— Иди, жрать, профэссор. Сегодня вы заслужили, — вернул его с облаков на землю окрик нелюбезной простолюдинки.
Невыносимая пошлость эти простолюдины. До самых до краев последней стадии невыносимости.
Едва успев перекусить, он не успел испить чашечку черного, цейлонского чаю без добавок (на добавки денег катастрофически не хватало), как в дверь позвонили.
Пенсия у домработницы была маленькая, а профессор был еще в предпенсионном состоянии. Да и толком долгое время нигде официально нетрудоустроенный, он тоже не мог рассчитывать на приличную пенсию. Но он в своем предпенсионном состоянии был уже согласен на любую, даже и на неприличную пенсию, лишь бы поскорее достигнуть этого заветного, счастливого возраста.
Во время юности с большим удовольствием прибавляешь года к своим годочкам, после середины жизни отнимаешь годочки от годов, а потом, как в буйной юности, только и мечтаешь, когда бы стать уже постарше и получить!
А потом! Потом можно уже не считать года, а только деньги в кошелечке.
Я, кажется, на чём-то остановилась? Ну, так вот!
В дверь позвонили. На пороге стояла очередная жертва неправильно подобранного в детстве и не вовремя данного ей имени. Она пришла, чтобы всё в своей жизни исправить. И как почти всегда это были женщины, никому не важно, какого возраста. Хотя иногда и сквозь них проскальзывали молодые особи, пардон, особы.
А всё почему? Да, потому что женский пол, более думающий над проблемами своего бытия и ищущий всевозможные ходы и выходы, для облегчения своего жития, рыскающий в поисках ответов по страницам всевозможных глянцевых журналов, участвующий в сплетнях-разговорах, просматривающий телепередачи и сериалы.
Этот поиск выводит их на разные пути-дороги. И некоторых, по следам других, приводит к двери нашего ценителя женских душ и скромного целителя их кошельков.
— Однако забрались! Седьмой без лифта! Где тут можно видеть, как его… Имя такое дурацкое на «э» начинается…. Вот! Вспомнила! Эскулап Ондонович! Вы что ли? Мне девки счас ваш адресок дали, сказали, что беги к нему быстрей, он тебе за полчаса одним новым именем всю твою гадкую жисть одним махом, сразу на новую перекуёт. Сто рублей всего за час с двоих. Я пока одна. Пондравится, значица, завтра втроем прибегём. Скидка будет? Вот держи. Полтинник. Пошли. Только быстро. Я с работы смылась.
Во время тирады она успела скинуть с себя на руки профессору свой видавший виды, как она его называла «счастливый лапсердак». Не разувая свои, как она их называла «не трущие мозоли чоботы» она молниеносно проскочила на кухню.
Успела там хлопнуть в радостном приветствии прислугу, ладонь в ладонь, как родственную размером тела, душу. Вернуться назад в прихожую, чтобы потрепать за ухо, стоящего столбом с её «лапсердаком» академика. Взять из его рук свою вещицу и подвесить на свободный крючок, и в это же, время, скинув свои «чоботы», вытряхнуть профессора из его шлепанцев и тут же нарядиться в них, и не умолкая проследовать обратно на кухню.
Выловить опять там же, на кухне, под ногами вьющихся собак, поочередно сюсюкая подкинуть их до потолка, потрепав за ушами всех, включая и подоспевшего к ним на помощь хозяина. Из недр грязного, окровавленного фартука, вытащить кусок свежего мяса и попытаться бросить собакам на пол, но на лету, перехваченном ловкою, левою рукой Звездины и раздавшимся из её утробы возгласом:
— Ещё бы не хватало…

Через мгновение тетка-ракета-космос уже восседала на профессорском столе в его кабинете и болтала толстыми ногами, при этом показывая и объясняя профессору, как правильно делать упражнения, когда болят колени.
Еще через пару минут они лежали с Эросом Купидоновичем на полу и делали дыхательные упражнения.
Академик в это время уже был счастливым обладателем правильно вправленного позвонка в его неправильно искривленном позвоночнике.
Когда в кабинет без дела с любопытством заглянула Звездина, ей в тот же момент были вправлены все шейные позвонки. После вправлений последовал приказ, всем залечь на пол и не двигаться, а по ходу лечения, не тратя лишнего времени, консультировать женщину-космос.
Звездина мгновенно захрапела. Профессор консультировал, вперившись взглядом в белый потолок. Консультируемая дама в основном возлежала, молча, но иногда повизгивала от удовольствия и щекотки, и потом заливалась визгливым смехом:
— Ой, ой, ой-ё-ёй!
По ней бегали собаки и слизывали с её лица и рук, молекулы запаха свежего мяса. Мадам работала рубщицей мяса на рынке.
Предоставленным ей новым именем она осталась, абсолютно недовольна, а услугами собак по разглаживанию морщин на лице была очень приятно удивлена и попросила сделать ей запись на собачьи процедуры через два дня. За 100 рублей. Для неотразимой красоты ей ничего не было жалко. Даже денег.
Профессор еле-еле приподнялся с пола. Звездина храпела. Собаки, наевшись молекул запаха мяса, заснули на груди консультируемой.
— Собаки, значица, то же лечат, как кошки, — решила она, и, доплатив, за лечение еще 20 рублей осталась лежать на полу до полного окончания лечебного сеанса.
Пока прислуга храпела, Эрос решил незаметно потихонечку отползти, чтобы припрятать неучтенный барыш, но в последний момент был пойман за костлявую ногу, крепкой домработнической рукой и притащен на своё прежнее место. Подняться с пола, он смог только после того, как отдал домработнице все 20 рублей.
Провожать клиентку он не вышел, он в это время в ванной застирывал свою рубашку, недовольно бурча себе под нос:
— Сколь раз говорил, мой полы, мой полы, в доме собаки. Так, нет, же мы все умные. Все из балета. А эти все балетные громилы, только, что и могут, как отбирать деньги у людей. Дождёшься, ты когда-нибудь у меня. Ух, дождёшься.
Глава третья. Домработница Эроса
Домработница Эроса была грузной мужиковатой женщиной с зализанными и собранными в тугой узел жиденькими волосьями. Иногда она их выпускала на волю. Слегка порезвится на ветру.

Вначале её звали совсем не Звездиной, а просто Марией.
Волосы у неё были, не разбери, поймешь, какого цвета, ранее бывшими не то рыжими, не то каштановыми. Но о балете Мария мечтала всегда. Даже и тогда, когда уже не оставалось ни малейшей надежды на её появление, на театральном помосте в балетной пачке. Ну, хоть когда-нибудь и хоть на какой-нибудь сцене, хоть какого захудалого театра любой страны.
И тогда она стала всем говорить вслух о своей «голубой» мечте. Всем и каждому, имеющему уши, и, к сожалению, не имеющим слуха. Она услышала об этом когда-то от кого-то. И узнала она эту тайну от серьезных людей, что для исполнения своих «мечт» надо говорить о них вслух. И обязательно громким голосом. И тогда они непременно исполнятся. И ей повезло.
Приметливо — подметливый академик в какой-то солнечный день приполз домой в радостном подпитии и еле-еле объявил:
— Ну, что звезда балета, будем-с, что ли и тебе ставить сценическое имя? А там посмотрим, что будет? А что будет, то и будет, как Бог даст.
И расстелился после этих душу греющих слов беспомощным и бездыханным ковриком посреди прихожей. И жутко захрапел.
Мария тут же так и почти села, то есть слегка присела, чуть не придавив академика, но вида радости не подавала. Изо всех сил стараясь быть, как прежде непрошибаемой скалой и мумией в двух лицах.
— А ну-ка, ирод научный, скидавай свои боты. Я тебе сказала быстро скидавай, — пыхтя, боролось грузная Мария с пьяной храпящей «научной мыслью», как иногда она прозывала своего благодетеля.
Академик в ответ только похрюкивал. А Мария не унималась:
— Угадили мне опять весь коридор, гадость вы умная. Вот, чё, за ноги у тебя, Скупирдомыч? Прямо пендецит какой-то, а не ноги, не рассандалить никак. Вот, чё, ты их загугливаешь одну за другую? А? Чё, загугливаешь? Как я с тебя сщиблеты-то твои сымать буду, а?
Вытряхнув наконец-то храпящего академика из его полуботинок с кожаным верхом и с некожаным низом, она, не сумев поднять, вкатила его, как рукасто — ногастый — головастый шарик в супружескую опочивальню и с натужным криком: «И-и-эх! Тяжелый сундук какенный», зашвырнула этот шарик на заброшенное женой, супружеское ложе. И пригрозила:
— А имя ты мне поставишь. Тока проснись.
— Имя… имя… имя…, — метался во сне головой по цветастой подушке Эрос. Через какое-то время он сполз с неё, а потом и вовсе очутился на полу. Там под воздействием прохладного воздуха процесс вытрезвления" научной мысли» пошёл активнее.
Академик стал выкрикивать своим петушиным фальцетом женские, мужские и другие имена.
Мария тут же прибежала из кухни с мокрыми от крови руками, с кухонным разделочным топориком.
Перед этим она сноровисто разделывала тушку небольшой хрюшки.
Тушка хрюшки была получена в качестве богатого наследства от тридесятого двоюродного мужа бездетной тётки, и честно поделенного на всех племянников его сестры.
Если до конца быть краткими, то на самом деле огромное наследство было огромной свиньёй. То есть свиноматкой в живом виде. Оно, это наследство, по два раза в год приносило потомство, которое потом честным образом распределялось между наследниками кому и что.
На сестру бездетной тётки двоюродного мужа была возложена почётная обязанность по поению, кормлению и выгребанию продуктов жизнедеятельности этой очень деятельной свиньи.
В уплату за свои труды праведные сестра получала все эти продукты жизнедеятельности, а в случае старости и плохого самочувствия объекта наследования, сам объект.
Для контроля над ситуацией в положенном месте всегда висел огромный тесак. Его было бы выгоднее задействовать в работу, но в таком случае, женщина оставалась бы без навоза. На такие жертвы она пока не решалась, её огород требовал: «Навозу! Навозу!»
Поэтому свинища пока была свежа и хороша и радовалась жизни, чего нельзя было сказать о счастливице, без конца одариваемой навозом. Такова есть поэзия прозы жизни в нашей жизни!
Богатая наследница Мария, бросив на кухонном столе своё, не до конца разделанное наследство, в немом ожидании буквально нависла с топором над академиком, вытянув вперёд свою шею до упора, внимательно прислушивалась, вздрагивая при каждом новом имени.
Она ждала. Ждала. Надеялась и верила. И верила, что дождётся. И дождалась. Но не сразу.
Кровь на руках пообсохла. Топор она отложила, но шею не втянула. И уши, как были навострены, так и остались навострёнными.
А Эрос то дико орал, то громко бормотал, то вдруг утихал, то вновь принимался вопеть и лишь изредка попискивать.
Вначале женщине было смешно. Потом грешно. Затем пакостно и даже противно от предложенных Эросом в его «полной несознанке» имен. Собственно он их никому и не предлагал, а просто бредил и бездумно бессвязно бормотал. А Марья Ивановна всё это усердно слушала.
— Да, да, так меня и назови. Я так на это тебе и согласилась. Да, я удавлю вас сейчас злосчастник несчастный. А потом удавлюсь сама, так что только посмейтесь надсмеять надо мной.
Она путала слова. Она негодовала. Угрожала и обзывала. Молчала. Пыхтела. Наливалась злостью, но терпеливо терпела все мучительные изыскания профессора.
И, наконец, в тяжёлых муках имя родилось. Правда, и рожалось-то оно не сразу. Имя появлялось на свет с большим трудом и в творческих метаниях и муках.
Имя. Прекрасное. Желанное. А главное, дающее Марии надежду на светлое балетное будущее на огромной сцене.
Для этих дел у неё всё давным-давно было наготовлено. И белая повязка на голову, и белая мужская майка, и белая пачка, и эти балетные тапки, в которых они все бегают. Не было только белых колгот такого размера, но, в крайнем случае, в крайнем, можно было использовать белые кальсоны академика. И еще, надо было конечно немного похудеть.
Итак, вначале было первое слово. Оно было ею не расслышано. Затем выкрикнуто другое. Оно не понравилось. Затем прошепелявлено третье, но и оно было отвергнуто Марией. Затем был храп и тишина. Звенящая тишина и только редкое взволнованное сопение зорко наблюдавшей Марией за наблюдаемым, полутрезвым, полусонным профессором.
И вдруг откуда-то из откудава (есть, наверное, такое слово? а нет, так теперь будет) вырвалось почти то, что было ей нужно:
— Звездулька…
Мария вздрогнула и замерла…
— Вообще-то вроде ничего имечко. Но, нет, как-то не для меня. Всё-штаки не мой размерчик будет! — заключила Марьиванна, победоносно тряханув тяжелой грудью, замурованной в лифчик десятого размера. Грудью, резко переходящей в не менее тяжелые плечи, шею и руки. Одним словом плакал балет по таким фигурам горючими слезами.
— Звез-ди-на-а-а…
— Что? Что, родненький? Что вы сказали, дорогой?!
— Звездиночка…
Так Марию не звал никто и никогда. Да и кому бы пришла такая мысль в не пробитую, трезвую голову? Так назвать сей монумент! Настолько крепко стоящий на своих столбах, пардон, ногах, что не было никакой возможности обойти и объехать сей постамент и на нем монумент, если обрисовать его точнее, случись столкнуться с ним на узкой дорожке.
Да, никто бы даже не посмел догадаться повздорить с ним, например. Или просто глянуть на него косеньким взглядом. Ну, не было таковых! Или их потом бы сразу не стало!
— Зайчик, вы наш! Скупирдомичек, сладенький! Намаялась, тут, Звездиночка, с вами. (Мария, не раздумывая, приняла это имя и тут же облеклась в него, то есть резко нареклась им.)
— Да, как же я намаялась с вами, полудрагоценненький вы наш Эросик! Залазьте, маленький, умненький поросеночек на кроватушку! И сразу баиньки! И сразу спатеньки! Сокровище вы наше, сокровищенское! Всё, всё, все уже дома! И все баиньки по своим кроваткам. Носики, курносики сопят!
Интересно, сколько бы еще пришлось пролежать курносику на полу, если бы он не придумал, угодное для мадемуазели имя!?
— Гений! Я всегда говорила, что Скупирдомыч — гений, хоть и дурак. Но надо же, какое имя! Он мне всё-штаки поставил великое имя! Вот и как же теперь повернется моя судьба? Неужели мне всё-штаки придётся блистать на сцене?!
Новоиспечённая Звездина, бывшая Мария, тяжелой поступью забегала по квартире, якобы нежно пританцовывая и якобы с легкостью кружась, на скулящем от невыносимой тяжести паркете, резко покачнувшись, она улетела на балкон.
Этот «яркий сценический образ» с громом и с треском расколошматил там, все наготовленные для сдачи в стеклотару по 50 копеек, пивные и водочные бутылки, и банки по 10 копеек.
Глава четвертая. Жена профессора. Ева Колготкина
Через несколько минут после погрома, в дверях квартиры, бронированных шпоном под металл, возникла из «неоткуда», перепуганная насмерть, изредка присутствующая дома, последняя супруга академика — неуловимая Ева Колготкина.
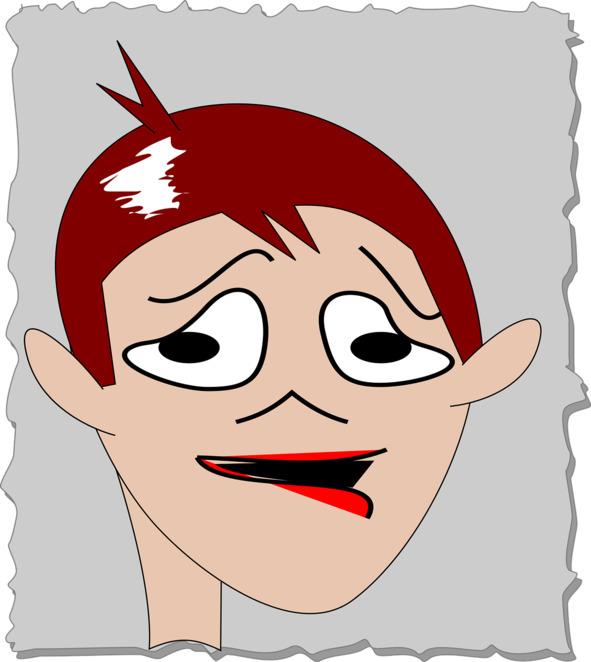
— А что у вас тут? А-а? Кто у вас тут?
Звездина незамедлительно ответила ей, как рубанула топором по свинячьей тушке:
— У нас тут- Гитлер капут!
— Нет, я не пОняла, что у вас всё-таки тут, а?
— А у нас тута — Марфута! Вот так-то, Эвочка Безроговна.
Бывшая Мария можно сказать впервые в жизни была довольна этой самой жизнью и заулыбалась во весь свой скуластый рот.
Нет, про её рот, я думаю, было бы правильнее написать губастый рот. Так и запишем. А что у Звездины могло быть скуластым? Правильно, скулы. Так сейчас и запишем, что Звездина улыбалась во все свои скуластые скулы. Так и записали. А Ева, глядя на неё, обомлела.
— Мария! Впервые вижу. Вы и улыбка?! Вот это глобализм! Неисчерпаемо! Улыбка на лице, у вас?! Да, что такое могло произойти на этом континенте? Я вас, милочка, сейчас же допытаю. Обязательно вскройте сей секрет. Не скрывайте ничего от меня! — усердно допытывалась, пытливая жена Ева Колготкина у несостоявшейся пока и засмущавшейся, балерины.
— Да, бес с вами, Эвочка! О чем тут произносить? Отстаньте от меня, я в печали на самом деле.
Но Еве было не угомониться, разительные перемены в толстой, всегда угрюмой домработнице были на её лице и заставляли сомневаться и подозревать. Но вопрос в чём? — не закрывался.
В тёмной голове Колготкиной вдруг сверкнула мысль. Сверкнула, как молния, озаряющая весь склон и весь небосклон:
— Неужели!? Неужели, он?
— Что, он?
— Не что, а кто… Неужели, он…
— Что, кто неужели, вы чё?
— Ну, он? Почил?! Или не почил? — не смея надеяться, наконец-то выдавила из себя, некогда — горячо, в течение, нескольких дней, любимая жена профессора.
— Да, плевать мне на ваше почил — не почил, он мне имя великое поставил. Такое имя! Такое, что боюсь даже теперь вам сказать, что со мной будет и как дальше всё покатится под фанфары.
Мадам Звездина, хотя вполне может быть даже еще и мадмуазель гордо выставила вперед свою огроменную грудь, перекрыв ею все проходы и подходы к другим проходам по квартире.
Худющая женщина Ева, как дикая кошка металась, рвалась вперед, подпрыгивала выше лампочки, ни на минуту не оставляя своих безуспешных попыток, чтобы просочиться хоть в какую-нибудь щель.
Хотя для неё было желательнее и предпочтительнее, что бы это была всё-таки информационная щель, чтобы как можно быстрее выяснить, что же произошло, смертельно «позитивненького» на небосклоне её несчастливо-нелюбимой семейной «жизнёшки» и, увы, еще пока не её «квартирёшки».
Это были любимые слова Колготкинского репертуара — лексикона, а не, то, что мы там себе чего-то надумали, чтобы новое «чё» надумать. Я имела в виду, это — придумку нами новых слов.
Нет, мы совсем не такие. Мы просто часто подслушиваем, но очень редко подглядываем.
Колготкина не сдавалась и задавала всё те же вопросы:
— Мария, да плевать мне на ваше великое, дурацкое имя, ответьте мне лучше про него. Расскажите мне всю правду, он того или не того?
— Да, кого того? Или не того? Кто кого? Чё, вы мне голову задуряете? — занедовольничала новоиспеченная Звездина, явно ничего не понимающая.
Но, на всякий случай домоуправительница быстренько закрыла все двери на ключ.
Ключ спрятала в надежном месте, в свой лифчик. Закрыла она и дверь в туалет, подперев её костылем забытым, кем-то из посетителей. А кто знает, здоровая, ли она эта Колготкина? И есть ли у неё справка из ветлечебницы? А тут в доме благородные собаки! А знаете, сколь денег их лечить-то надо?
— Да, я про мужа, Маша! Он почил наконец-то или не почил, этот старый кобель? — всё ещё не теряя драгоценной надежды на драгоценный подарок от судьбы, дрожащим голосочком вопрошала, лучше к худшему, одним словом ко всему, наготовленная Ева.
— Посмейте только, ненаглядная жена, его почить. Этого великого учёного по именам и хвамилиям. Да я сама на руках снесу его к Владимиру Иличу.
— Это к этому еще одному такому же похабнику, Кокоткину? Это еще на кой ляд вы его туда потащите? Он и без вас не вылезает из этого омута науки.
— Эй, на барже, как вы выражаетесь, мадамка? Всё-штаки некрасиво выходит, что вы здеся плетёте, а еще жена великого ученого…
— Всё, простите, меня, простите… Больше ни за что…
— К Ленину я его снесу! В мамзолей! И заставлю их всех, нашего великого Скупирдомыча, то же забазамировать, еслив чё…
— Как забазамировать?! — Ева выпучила глаза на Марию, и в очередной раз потеряла свой наичудеснейший дар своей расчудеснейшей речи и в очередной раз скатилась до уровня Звездины.
А та, вытирая слезы краешком своего фартука, натужным баритоном запричитала на всю квартиру:
— Просто взять и набазамировать, чтобы до мумии Владимира Илича! Вы, же сами, Эва, знаете, какося он его любил! Какося, же он его любил! С какой зверской силой он его любил! Ленина и его Надьку. И мать Ленинскую тоже так любил, что чуть, что и к ним с цветами на могилку. Он же всех своих собак называл в его честь. А вы же сама знаете, Колготкина, что для вашего мужа приставляют его собаки?! Вот, ежлик он Сталина не очень любил, значица, ни одной собаки в его честь и не назвал. Пущай дажить и не просют его. Правильна, я говорю?
Уже уставшая и переставшая надеяться на чудо и светлое будущее в академической квартире, Колготкина неожиданно воспряла духом после последних слов Звездины и в безутешном горе с горючими слезами, бросилась на домработницкую грудь.
— Где, он? Где лежит, мой сокол сизокрылый? Я хочу его видеть.., — рыдала безутешная Ева.
— Вот так-то лучше, а то взяли моду шарашиться, незнамо где, и даже посуду не мыть, — довольная управительница Звездина открыла Еве душу и все, запертые от неё двери.
— Где? Где он лежит?
— Да, где? Да, там, на кровати лежит, если опять не упал.
— Марьюшка, так его же надо было сразу связать, и ручки ему связать и ножки. Ведь он же всегда был такой неугомонный. Возьмите, голубушка, верёвочку покрепче и свяжите его. На кровать его затаскивать не надо, так пусть лежит.
Ева прошла на кухню и как любящая, страдающая от горя жена села плакать, и в нервном расстройстве есть макароны со сковородки, и пить чай с вареньем и бубликами.
— Идите, вы сами…
— Куда идите, Марьюшка?
— К нему идите и связывайтесь там сами, как хотите…
— Нет, знаете, Мария, это ваше дело. Я сама боюсь, я — жена, чтобы сама его связывать.
— С каких это пор, оно стало наше дело, вязать чужих мужиков?!
— Да, как, же так? Я что ли, по-вашему, должна, что ли?
— Вы жена, вы его и вяжите. А мне он кто? Он мне угадился четыре раза.
— Мария, вы, вы не последовательны в словах! Вы только, что сами говорили, что на своих руках снесёте его к Ленину…
— Так, тож когда он преставится, тогда и снесу…
— А он, что, по-вашему, разве не преставился?
— Когда?
— Что когда?
— Да, не дурите мине, Эвочка, голову! Вот, до чего же вы любите голову людЯм задурять. Вот сами не знаете чё ото всех хочете…
— Вот, я-то очень хорошо знаю, чего я хочу. А вы, Мария, или как вас там называют, информируете меня наконец-то о кончине моего мужа?
— Это, которого?
— Я говорю о последнем.
— Почём мне знать про всех ваших последних добровольно помёрших супругов? Я — Звездина! А не кака та не понять кака сплетница.
Ева начала злиться.
— Я говорю, о последнем. О пос-лед-нем, — сквозь зубы прошипела Ева.
Закончив «трапезьдничить» (еще одно из слов Колготкинского лексикона), она поднялась со своего места и двинулась в прихожую, чтобы найти там крепкую веревку.
Звездина — Мария двинулась за ней, чтобы охранять хозяйское имущество. Мария — Звездина так ничего и не желала понимать. Но сильно желала немного поиздеваться над безутешной Колготкиной.
— Ой, ли, люли! Люли-люли, нате вам ваши пилюли. Да, кто про вас знат, кто у вас тут будет последний? При вашей — то ужасной разборчивости, — зудела, не унимаясь домработница.
Колготкина постаралась взять себя в руки и продолжить одновременно и поиски веревок и выяснение всех обстоятельств.
— Хватит юродствовать, дорогая. Конечно, же, я говорю про моего любимого Эроса.
— Да, говорите вы про него скока хочете, а вот кто мне посуду мыть будет? С вашими разговорами бы только бездельничать…
Звездина гордо развернулась и не менее гордо снесла свое грузное тело на кухню, мыть посуду.
Якобы вдова академика осталась в прихожей одна. Нервничая, она трясущимися руками, начала быстро шарить по полочкам и ящичкам в поисках прочных веревок для связывания своего любимого. Она добралась до самого нижнего ящичка, и, согнувшись в три, нет, в четыре погибели, усердно рылась там, как вдруг над её ухом возник «огнедышащий тройным перегаром» безвинно усопший — живой и невредимый Эрос и чмокнул её в ушко побагровевшими губищами.
— Эвочка! Ты?!
Эвочка так и упала навзничь на пол, слетев со своих, согнутых в коленках, затёкших от неудобной позы, кривеньких и худеньких ножек, а в руках она крепко держала два мотка веревок.
— Это вы? — только и смогла прошептать, уже чуть было не новоиспеченная молодая вдова.
И закрыла глаза. Больше ей мечтать было не зачем…
Эрос, как закоренелый интеллигент, тут же на крыльях любви бросился на помощь даме. Не просчитав верно траекторию полёта, он упал и улегся рядом с любимой, на том же придверном коврике.
Его распухшие от усердных винных возлияний, уже не губы, а губищи продолжали свое дело, и нащупав ими в очередной раз следующее ухо своей жены, он, сладострастно причмокивая, вожделенно сопел и шептал, упавшей в обморок Колготкиной:
— Эвочка! Я это! Я! А кто же боле? Родная моя, как я соскучился! Проследуем же, солнце моё, радость моя, в покровах темноты на наше супружеское ложе. И займёмся там утехами любви.
Во время его заключительных фраз, Колготкина уже стояла в проёме бронированных шпоном дверях, хотя академик всё еще лежал, с закрытыми глазами на полу и соблазнял молодую женщину. Глядя, на соблазнителя сверху вниз, она ему в ответ не только ухмылялась.
— Ага, утехи любви! Если бы вы ими также занимались, как красочно говорите. А то кроме разговоров об утехах, до самих утех дело никогда не доходит.
— Эвочка, вы неправы. В абсолюте, вы неправы. Во всех энциклопедиях мира, вы найдете сообщения о том, что женщины любят ушами…
— Ага, а мужчины желудком с глазами, — перебила его Колготкина.
— Ну, Эвочка! Радость моя! — канючил лежащий на полу профессор, не находя в себе сил, чтобы подняться. А руку помощи ему не протягивал никто.
— Ладно. Вставайте уже, идите, ждите меня в опочивальне, я приду. Когда — нибудь.
Расстроенная Ева открыла входную дверь и ушла туда, откуда пришла.
Воодушевленный её словами, профессор кое-как переполз в спальню и прождал там супругу до глубокой ночи.
Не потеряв надежды, полюбить в этот день хоть что-нибудь, хотя бы желудком, научный деятель пришлёпал на кухню, где громко и звонко гремела кастрюльками, страшно счастливая балерина. На её голове уже красовалась белая повязка.
Вот тут-то и отвел душу, изголодавшийся профессор, под самую завязку насладившись утехами «желудочной любви».
Он так обожрался, что до самого утра из опочивальни раздавались его громкие стенания, шумные охи-вздохи, вскрикивания и всхлипывания.
Уже под утро, вконец измученный обжорством академик, вывел черным фломастером на стене, прямо, по поверхности обоев, воззвание к себе.
«Эрос! Не отягощайтесь, раб Божий, объедением и пьянством! И всё у вас будет…
Он хотел дописать ещё одно слово" в порядке!», но не сумел. Обессиленный, он сполз по стеночке, и, свернувшись в клубочек, прямо на полу сладостно уснул сном праведного в своих глазах праведника.
Все его соседи и соседушки по дому, живущие снизу, сверху и по бокам не смогли от зависти заснуть ни на секунду. Они тихо, без единого слова, лежали по своим кроваткам. Кто-то делал вид, что спал, и лежал с крепко зажмуренными глазками, а кто-то и не думал притворяться и лежал с вытаращенными. И все молча, при этом рассуждали об одном и том же.
— До чего силён, поганец! А ведь сразу на эту вошку и не подумаешь, на что она способна! Червь червём, а погляди ты, чего вытворяет. Надо присмотреться, что он там жрёт. А может, что пьет, а? Проконсультироваться у него надо что ли, может действительно чего и от имени зависит, а?
Никому до самого утра не было ни сна, ни покоя.
Да, наш человек умеет и любит ненавидеть другого человека, и завидовать умеет еще хлеще, чем ненавидеть. А орать друг на друга-то как все громко умеют! Благо в стране на всех телевизионных каналах позаботились об этом! Обо всех позаботились! По всей стране!
Вдруг кто в обед истошные вопли пропустил, так вечером свою изрядную порцию децибел получит. На этом не экономят. Как нашему человеку без злости и криков то быть?
Совсем никак, судя по телеку! И называется такой ор — беседой, дебатами, разговорами. Так, наверное, и мечтают, чтобы вся страна всей страной орала во всё своё орало, не затыкаясь, как все они орут в своем телевизоре.
И в интернете тоже, желающие надорвать свои кишки от крика, обзывательств и оскорблений, а не от работы, от телека ни сколько, не отстают.
Я представляю, как истошно они орут, когда всякое дерьмо пишут!? Так, в письменном виде орут на все просторы интернета, оглохнуть можно!
А может эта одна психбольница, и все они там под одним номером живут-666, а? И телек, и этот интернет!? Куда им до любви со своей вселенской ненавистью?!
А Звездина пела и ликовала. Она любила. Себя и своё громкое, гордое имя.
Глава пятая. Доска

— Скупирдомыч, я чё вам сказать-то хочу…
— Чё? Тьфу, ведьма, заразила и меня своим чё, — возмутился академик, но тут, же поправился.
— Что, изволите, сказать мне дорогая?
— Ни чё не хочу вам сказать, но я вчерась Надьку сикаться во двор выводила, а Владимир Ильич ваш дома сидел, потому как он, не дожидаясь часов, наделал делов опять на мытом полу, гад хвостатый. Так я Надьку одну повела, а этого сыкуна…
— Ну, сколько раз я просил вас, наделал кто делов, не наделал, всё равно гуляют все. Порядок есть порядок.
— Вот и гуляйте вы сами со своим порядком по холодку, пьяный барин с крепостными и борзыми. Мы тоже пить и книжки перечитывать умеем….
— Время! Звездина, дорогая, время! Что вы мне хотели доложить? — опять перебил её любитель изящной словесности.
— Да, ни чё. Опять вас на нашем подъезде каката бабьёса каравулит. И всё спрашивает и спрашивает, где вы где? И когда и когда? Чё ей в ответ-то рассказать, есть вы, али вас нет?
— Доложите подробно все детали разговора.
— Да, каки там детали? Докладаю без деталей, всё как было.
— Я её поначалу к нам затаскувала, думала, что она на платную косультацию метит, что она по этим делам, но стесняется. Она в отказ. Потом грит, что у вас с ей договор был, что в девять встреча, когда собаки гадить схотят и она вас на подъезде встренит. Ну, думаю, опять наш похабник жениться схотел…
— Фу-у-у! Вы опять за старое?
— За новое! Пардон, мусё. Исправлюсь.
— Это лучше. Я ведь совсем запамятовал — это же Мария Ивановна. Я ей просто обещал фамилию её угадать. Извинитесь за меня перед дамочкой, объясните ей ситуацию полной загрузкой работой. Но,
