автордың кітабын онлайн тегін оқу Первый советник короля
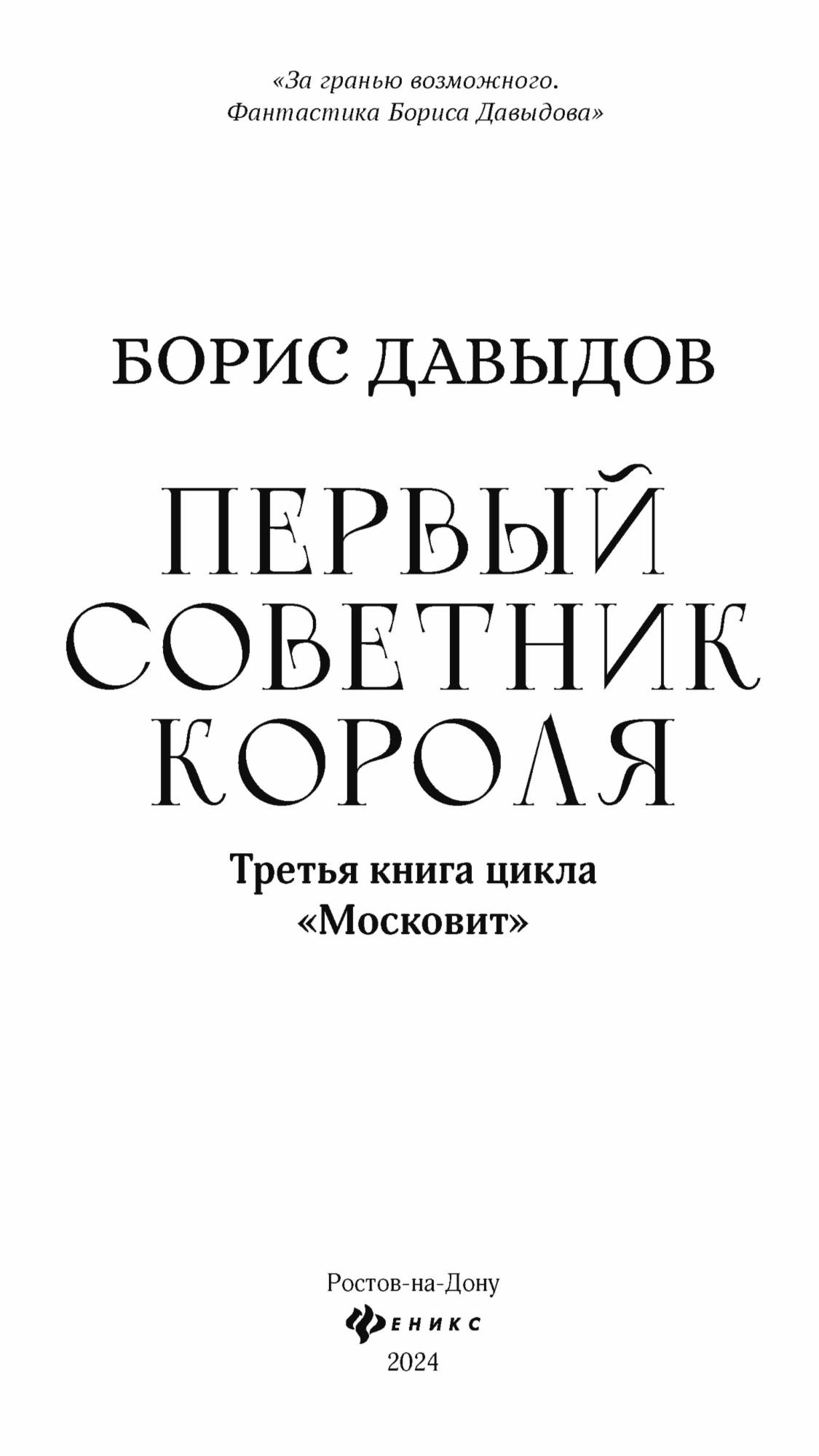
Пролог
Пот заливал лицо Степки Олсуфьева, и не только потому, что в покоях было душно... Больше всего жалел новик, что не может сделаться невидимым.
В носу отчаянно щекотало, новехонькие сапоги жали немилосердно, рубаха прилипла к взмокшей спине, насквозь пропитавшись влагой. Хоть выкручивай... Ох, тяжка ты, служба царская! И не моргнуть, с ноги на ногу не переступить, а уж про то, чтобы почесать ноздрю, — сохрани боже, и подумать-то страшно! Перед Государем всея Руси-то...
— Понял, что от тебя требуется? — спросил Алексей Михайлович, уставившись прямо в глаза новику. И хотя вовсе не суровым был тот взгляд, у бедного Степки сердце замерло, а потом забухало с удвоенной силой и частотой.
— П-понял, в-великий г-государь... — еле заставил себя ответить.
— Будешь усерден и проворен — награжу по заслугам. А окажешься нерадивым или, упаси господи, изменишь... — царь выдержал зловещую паузу, и у новика перед глазами чуть все не поплыло. — Суровой кары тогда не миновать! Помни это.
— Верен он, государь, исполнителен и умен, хоть и млад годами! — вступился глава Посольского приказа, видимо от естественной жалости, глядя на душевные Степкины муки. — Я сам видел, с каким тщанием он в бумагах рылся, следы подлеца Андрюшки выискивая!
— Все так и есть! — поддержал Львова дьяк Астафьев.
— Вот это хорошо! — кивнул царь. — А предупредить все же нелишне. Ведь слабы люди, искусу подвержены... — Он со вздохом перекрестился, обернувшись к иконе. Вид у самодержца был такой, будто мысли его витали где-то совсем в другом месте и что-то тревожило не на шутку.
Часть первая
Глава 1
Дул холодный октябрьский ветер, неся ворох пожелтевших листьев вперемешку с пылью и мелким сором. Подступающая зима все более властно напоминала о себе.
А здесь, в натопленной мыльне царского дворца, стояла такая жара и духота, будто в далеких заморских странах, населенных чернокожими язычниками... Все давно взмокли. Пот прошибал не только от духоты, но и от страха: больно уж велика ответственность! Мокрой была и роженица, корчившаяся в муках. Только она уже ничего не боялась, поглощенная одной-единственной мыслью: поскорее бы все закончилось!
— А-а-аа!!! — дикий животный крик снова сорвался с искусанных, распухших губ Марии Ильиничны, когда очередной приступ боли опоясал низ живота.
— Терпи, терпи, матушка государыня... — захлопотала повивальная бабка. — Ты ножками-то упирайся да стисни полотенце покрепче — полегчает. И дыши глубже, глубже!
– А-а-а, сил больше нет... Умру я, умру! Господи-и-иии... Прими душу мою-у-у...
— Да что ты такое говоришь, окстись! — вскинулась перепуганная бабка, творя крестное знамение. Ее помощницы тоже закрестились. — И не думай! Все мы рожали, да не по одному разу, и живы, хвала Создателю! Уже скоро... Совсем скоро! Терпи, дыши глубже. А вот теперь — тужься, государыня! Ну же, постарайся! Давай-давай, матушка! Головка уже показалась...
— Не могу-ууу... А-а-а! Больно-о-о!..
— Да ради Христа, тужься же! Прикрикнуть на тебя, что ли?! — бабка испуганно осеклась, побледнев. Хоть лишних ушей вроде нет, а все же... — Прошу, матушка-царица! Наберись сил — да на счет «три»... Раз, два, три! Тужься!
Молодая «матушка», годящаяся повивалке если не во внучки, то в дочери — наверняка, всхлипывая и тонко подвывая, послушно собрала последние силы, напряглась...
— А-а-а!!!
Ее крик, задребезжав, внезапно оборвался, сменившись протяжным стоном... Мария Ильинична бессильно откинула голову, всхлипнула. По распухшему побагровевшему лицу потекли слезы.
К бабке торопливо подскочили помощницы, захлопотали вокруг комочка, покрытого кровавой слизью.
— Ну, вот и все! А ты так боялась... С сыном тебя, государыня! Мальчик родился! Лежи, лежи спокойно, не двигайся. Сейчас все сделаем, что надо... С первенцем, с наследником престола Всея Руси! А уж как государь обрадуется... Счастье-то какое!
* * *
Государь обрадовался очень сильно и непритворно.
Над Москвою плыл колокольный звон, причудливо мешаясь с грохотом пушечной пальбы. На площади выкатили бочки хлебного вина и хмельного меда, поставили длинные столы, заваленные всяческой снедью, угощая всех желающих. Такое же угощение раздали колодникам1 и нищим, дабы молились за здравие наследника престола русского.
— Токмо не упивайтесь-то, меру знайте, по одному разу подходите... — твердили виночерпии, приставленные к бочкам, проворно орудуя ковшами. Лишь для порядку говорили эти слова, ибо так было велено. И сами понимали: тщетно! Чтобы по такой радости да не напиться? Тем более что сам государь-батюшка от щедрот своих угощает.
Выпившие тут же снова становились в очередь к вожделенной бочке, а в ответ на укоры — мол, получил уже свою порцию! — делали круглые честные глаза. А кто-то и крестным знамением себя осенял, божась, что напраслину возводят али с кем-то путают...
На радостях Алексей Михайлович задумался даже, не простить ли воров, осужденных за Соляной бунт, но потом решил, что незачем подавать дурной пример подлому люду. И без того от веревки избавили, жизни сохранили! Распорядился лишь вернуть из Сибири и развезти по монастырям, где надлежало им по-прежнему выполнять самые тяжкие работы.
Младенца, как подобает, окрестили и нарекли Дмитрием — в честь святого великомученика Димитрия Солунского, казненного по приказу императора Диоклетиана. Так, во всяком случае, объявили народу и с Красного крыльца, и с Лобного места. Нашлись люди (особенно из тех, кто хорошо успел «угоститься»), твердившие, что в честь святого благоверного князя Димитрия Донского. На них косились, но не трогали. А вот дурачка, вякнувшего, что не к добру, мол, называть царского первенца именем убиенного в Угличе царевича, как бы худого не вышло, — тут же схватили, заломили руки и прямиком доставили в Разбойный приказ на свидание с государевым катом Мартынкой Сусловым.
И то верно: ежели каждый начнет болтать что хочет, чем дело закончится?! Память о бунте, начатом после подстрекательских слов подлеца Андрюшки Русакова, была еще слишком свежа...
Кстати, государевы люди перетрясли всех дворян, носивших эту фамилию, допытываясь, из какой же семьи вышел вор и заводчик. Допрашивали, просматривали церковные книги, где были записи о крещении... Нашли лишь двух Андреев, но один из них давно постригся в монахи и стал иноком Панкратием, а другой, как оказалось, отдал богу душу еще в детском возрасте.
На всякий случай усердно сравнили облик Панкратия со словесным описанием заводчика. Никакого сходства не обнаружили, за исключением того, что оба были мужеского полу. Да и настоятель монастыря божился, крестясь, что сей инок давно не покидал святой обители, а уж в Москву с того момента, как принял постриг, и вовсе ни разу не ездил. То же самое подтвердила и прочая братия.

Выходило, что подлец Андрюшка еще коварнее, чем думали: назвался чужим именем!
— Ах, мерзавец! — покачал головой Алексей Михайлович, когда ему доложили о результатах розыска. — Ну, пусть только попадется! А что слышно про ляха этого, Беджиховского, о коем мы гетману-самозванцу писали? Он ведь может многое о воре рассказать! Ответа еще не было?
— Пришло письмо, государь! — поклонился дьяк Астафьев. — Мне его список тотчас из Посольского приказа доставили... Хмельницкий сердечно благодарит твою царскую милость за ласковые слова да похвалу и все так же уповает на помощь и защиту. А что до ляха — пообещал прислать его в Москву тотчас же, как только в крае установится спокойствие и на дорогах будет безопасно.
— Что же, он не мог его до наших рубежей с сильною охраною довезти? — недоверчиво поднял брови молодой самодержец. — Чует сердце, не так все просто! Наверняка обиделся, что мы от прямой помощи пока воздержались. Как думаешь, Петр Афанасьич?
— Может, и обиделся, государь! Да только стерпит, деваться-то ему некуда. Не в подданство же к турецкому султану проситься! — Астафьев позволил себе рассмеяться — разумеется, сдержанно, как и подобало в присутствии помазанника Божьего.
Царь, не сдержавшись, тоже прыснул со смеху, деликатно прикрыв рот ладонью.
Глава 2
— Ведь дождутся, что попрошусь под протекцию повелителя Блистательной Порты! — сурово сдвинув брови, проворчал Хмельницкий.
У генерального писаря чуть не выпало перо из руки. Выговский растерянно захлопал округлившимися глазами, гадая: то ли гетман шутит, то ли ему просто померещилось... А главное, как ему отреагировать?!
— Э-э-э... — протянул он, лихорадочно перебирая в голове разные варианты. Но на ум, как назло, приходила какая-то совсем уж невообразимая нелепица. Неужели пан гетман решил перейти в магометанство?! Это же страшно даже подумать, как поведет себя войско и народ! Такое начнется, что прошедшая смута покажется детской шалостью!
— Да не надо пучить глаза, Иване! — досадливо махнул рукой Богдан. — Прямо как у рака сделались... То лишь на самый крайний случай, если помощи ни от русского государя, ни от шведского короля не дождусь.
— Под протекцию к нечестивым туркам! — чуть не простонал побледневший Выговский.
— Иной раз бывает так, что и под протекцию самого сатаны пойдешь... — вздохнул Хмельницкий и тут же поспешно перекрестился, шепча: «Свят, свят!». — Ежели к стене припрут, а выхода нету, то нужен хоть какой-то покровитель и защитник. Султан хоть и магометанин, а человек разумный, выгоду свою блюдет. Да и кто откажется заполучить такой лакомый кусок, как наша земля? Пусть и не в полновластное пользование, а с оговорками.
Генеральный писарь со стоном стиснул виски. Перо все-таки выскользнуло из пальцев, упало на лист, украсив его россыпью мелких клякс, но Выговский даже не заметил этого.
— Пане гетмане... Но как же... Все войско на дыбы встанет! А что сделает поспольство2 — боязно даже подумать! И что будет с верой нашей... Господи помилуй!
Хмельницкий улыбнулся.
— Не бойся, я уже много раз о сем думал и все просчитал. Султан будет править нами лишь для вида. Вытребую, чтобы православие никакого урона не понесло — раз. Чтобы на всех важных постах были только мои люди — два. Чтобы налоги и подати стали меньше, чем при старых порядках, — три. Чтобы я имел право отправлять послов к иноземным государям и вести с ними переписку — четыре...
— Неужто твоя гетманская милость верит, что султан согласится на такие условия? — не выдержав, перебил Выговский.
— Не согласится — не видать ему вилайета3 Украйны как своих ушей, — отрезал Хмельницкий. — Ты вот что, Иване... Приди-ка в себя, а то вид — краше в гроб кладут! Еще раз говорю: то лишь на самый крайний случай. Бог даст, до такого не дойдет... И никому ни полслова! Повторяю: никому! Даже Тимошу.
Генеральный писарь усердно закивал, осенил себя крестным знамением.
— Покуда ступай отдохни! — распорядился гетман. — Вижу, слишком сильно потрясли тебя слова мои. Вон, даже лист испортил, а с тобой такого сроду не случалось! — Хмельницкий беззлобно рассмеялся. — Кстати, Вовчур прибыл, как я распорядился?
— Прибыл, пане гетмане! — подтвердил Выговский, ошарашенно глядя на запачканную бумагу. На его лице огромными буквами было написано: «Как же меня угораздило?!» — Ждет вызова твоей милости!
— Так пришли его сюда, а сам приляг почивать или прогуляйся, как хочешь.
Лысенко появился сразу же, как только Выговский открыл дверь и сделал приглашающий знак рукою. «Подслушивал, что ли?!» — мелькнула шальная мысль у гетмана, но Хмельницкий быстро прогнал ее.
«Совсем нервным стал, мерещится всякая чертовщина... Уж вернее Вовчура еще поискать! Да, жесток, порою буен, но верный, как собака!»
— Ясновельможному гетману! — уважительно поклонился полковник. (После назидательной кары, когда Лысенко три дня просидел прикованным к пушке на виду у всего воинства, гетман внял-таки мольбам казаков, велел освободить его и снова назначил командиром полка, строго предупредив, чтобы впредь на поводу у людей покойного Кривоноса не шел и соблюдал дисциплину).
— Входи, входи, Вовчуре! Рад видеть тебя! — дождавшись, пока за генеральным писарем плотно закроется дверь, Богдан указал на скамью у стены: садись, мол. И сам присел к столу, собираясь с мыслями. Предстоял непростой разговор.
— Ты звал меня — я пришел, батьку! Чтобы услышать волю твою.
— То не воля... — поморщился Хмельницкий. Ему было неловко, и от этого гетман испытывал раздражение. Прославленный герой, повелитель над десятками тысяч бесстрашных воинов, а смущается, как глупый мальчишка! — Скорее просьба.
Брови Вовчура на какое-то мгновение изумленно взметнулись. Но полковник быстро овладел собой, приняв прежний бесстрастный вид.
— Просьба пана гетмана все равно что приказ. Говори, батьку, а я уж постараюсь исполнить!
— Тебе ведомо, как жестоко оскорбил меня негодяй Чаплинский, — осторожно начал Богдан, подбирая слова. — Хутор мой, доставшийся от покойного родителя, разорил, сына засек канчуками4...
— То всему войску и православному люду ведомо, пане гетмане! — нахмурившись, воскликнул Лысенко. — Велишь разыскать этого песьего сына и на твой суд привезти? Аль на месте шкуру с него содрать?
— Нет! То есть да... Тьфу, с мысли сбил! Ты дослушай сперва, не перебивай.
— Прости, батьку. Более не встряну.
— Ну, словом... — Хмельницкий смущенно понизил голос, будто опасался, что кто-то может подслушать их беседу. — Речь идет о женщине. О той пани Елене, с которой я жил... Она была дорога мне. Очень дорога! — Переведя дух, гетман продолжил: — Чаплинский, этот выродок и злодей, силой увез ее, хоть она рыдала, умоляла оставить ее в покое. Затем, тоже силой и угрозами, принудил выйти за него замуж. Она сама все мне поведала в листе, присланном с верной жинкой, которая ей прислуживала еще в Субботове. Умоляет спасти ее, вызволить из заточения... — Хмельницкий с нарастающим смущением и злостью вдруг почувствовал, как жарко начали гореть щеки и уши. — Ты понимаешь, Вовчуре? Я должен ее спасти! Я люблю Елену, люблю всем сердцем, хоть мы и не венчаны...
«Тьфу, черт! Да что же такое? От стыда сгораю, как юный щенок! Господи, смилуйся, избавь от позора перед своим же казаком!»
— Понимаю, батьку! — кивнул Лысенко. — Что ж, так самим Богом заведено! Если бы мужчины не любили жинок, род людской давно бы пресекся. В том ничего стыдного нет. А что не венчаны — так любой человек грешен. Бог милостив, простит!
— Спасибо, что понимаешь. Так вот, прошу тебя: разыщи ее, вызволи и привези ко мне! Ты казак храбрый, но и осторожный, терпеливый, такое дело как раз для тебя. Возьмешь с собой столько людей, сколько сам сочтешь нужным. Выбери самых умелых, чтобы не подвели. Да возьми с собой Дануську — ту жинку, которая мне ее лист принесла. Она покажет дорогу... то есть надеюсь, что сможет показать! — уточнил гетман. — Хоть Дануська с перепугу многое забыла, а все ж лучше такой проводник, чем никакого. Надеюсь на тебя, Вовчуре! Обещаю, что большую награду дам, коли поручение мое выполнишь. А что до Чаплинского, змея этого... — в глазах Богдана полыхнуло свирепое пламя. — Сможешь ко мне доставить — отлично! Не сможешь — прикончи, да так, чтобы помучился как следует! На кол посади, или кожу спусти полосами, или на костре спали, как сам захочешь! Этот грех я на себя возьму, — Хмельницкий усмехнулся. — Надеюсь, Бог простит. Он же и вправду милостив!
* * *
Генеральный писарь отодвинулся от двери, направился к выходу, стараясь ступать как можно тише. Едва слышный скрип рассохшейся половицы заставил его нервно вздрогнуть и бесшумно выругаться.
«Решил-таки разыскать эту змею... Что же, следовало ожидать: он ведь упрям, как вол! Тьфу ты, я столько красивых жинок старался с ним свести, лишь бы забыл ее... Крепко его эта гадюка околдовала! Значит, придется действовать, как было задумано. Не велел Тимошу про турок говорить? И не скажу. А вот про женский пол — запрета не было... Гетманенок-то в самом возрасте, когда дивчины снятся, — клюнет, как голодная щука на живца. Непременно клюнет! Снова начну ему про дочку господаря рассказывать, какая она красавица, чтобы распалился, будто железо в горне у коваля. А тут вдруг — на тебе! Отцова полюбовница явится! Молодая. Красивая... Такой соблазн! Много отдал бы, чтобы узнать: сох он по ней в Субботове или нет? Может, потому и не принимал, дичился, что втайне любил, да боялся отцовского гнева?»
Глава 3
— Пан готов? — спросил Тадеуш, сделав приветственный взмах саблей.
— Готов! — без особого энтузиазма откликнулся я, повторив этот жест и приняв такую же стойку: вполоборота к противнику, с левой согнутой рукой, кулак которой упирался в поясницу, и с немного выставленной вперед правой ногой. Вытянутая правая рука сжимала эфес «карабелы»; клинок был направлен почти вертикально, с едва заметным наклоном «от себя».
— Начинаем!
Сабля наставника и первого помощника, сверкнув в скупых лучах ноябрьского солнца, описала полукруг и метнулась к моей голове. Развернув кисть, я парировал удар. Раздался звон, чуть заныли пальцы и запястье.
— Неплохо, пане, весьма неплохо, но лучше делать круговое движение всем предплечьем, а не только кистью! — прокомментировал Тадеуш. — Иначе можно вывихнуть ее, если удар будет очень сильным. — Попробуем еще!
Снова раздался звон — пронзительный, чистый. Я добросовестно старался делать все так, как советовал полковник. Судя по его довольному лицу, на этот раз получилось лучше. Хотя я, честно говоря, этого не ощутил.
Последовало несколько быстрых ударов с одной и другой стороны. Я лихорадочно парировал их, мысленно проклиная тот день и час, когда мне взбрело в голову обучиться фехтованию на саблях. Ну, что стоило выдумать, будто дал обет вообще не прикасаться к такому оружию до конца дней своих?! И все было бы в порядке... А теперь отступать уже поздно.
— О, пан первый советник делает успехи! — улыбнулся поляк. — Но это, конечно, еще самое начало... Надо будет много работать. Ну-с, прошу пана снова в позицию!
* * *
— Опять машут саблями! — прокомментировала Анжела с заметным ехидством в голосе, отодвигаясь от окна. — Ну, словно больше делать нечего! Как дети!
Пани Пшекшивильская-Подопригорская, которая осторожно поглаживала заметно набухший живот, отозвалась с равнодушно-покорным видом:
— Они мужчины, это естественно и понятно. Шляхтич без сабли что без порток! А коли пану Анджею пришлось так долго соблюдать обет, то теперь он должен наверстывать упущенное.
— А жены, значит, побоку! — начала закипать блондинка.
— Ну, не могут же мужья все время быть дома! — рассудительно заявила Агнешка. — Для шляхтичей на первом месте служба отчизне. Проше пани, я даже удивляюсь, что приходится объяснять столь элементарные вещи...
— Натуральное Средневековье! — не выдержав, рявкнула Анжела и тут же осеклась, зажав ладонью рот.
Агнешка встрепенулась, приподнялась со стульчика:
— Пани Анна начала заговариваться! Все в порядке?
— В полнейшем! — торопливо заверила блондинка, мысленно ругая себя последними словами. Опять чуть не проболталась, дурочка... А ведь Андрей просил следить за каждым словом!
* * *
— За здравие пышного панства! — в который уже раз провозгласил Чаплинский, подняв кубок. Рука тряслась так, что вино лишь чудом не пролилось на белоснежную скатерть.
— За здравие пана подстаросты чигиринского и его прекрасной супруги! — подхватили хмельные гости.
Пирушка затянулась, в жарко натопленной комнате дышать уже было тяжело. Елена натужно, через силу улыбалась, стараясь не показывать своего отвращения. О Езус, как же опротивели эти вечно пьяные рожи! Эти хвастливые, спесивые речи! А особенно — угрозы, как будут расправляться со «взбесившимся быдлом», когда, милостью Матки Бозки, вернутся старые времена и порядки, а панство снова окажется в покинутых маетках5... Послушать их — храбрец на храбреце, вот только почему же сбежали в Литву, трясясь как зайцы? И ведь сами это понимают, а хвастаются без зазрения совести... И пьют, чтобы заглушить стыд и страх. И муженек, век бы его не видеть, уже напился, как последний хлоп6... Хоть бы не приставал ночью... Тьфу!
Невероятным усилием воли Елена подавила желание вскочить и выбежать из комнаты. Нельзя. Надо терпеть. Хватит и того, что перед слугами от позора сгораешь... Они же все знают! Незачем еще панству давать пищу для сплетен да кривых усмешек.
Она случайно на какое-то мгновение поймала взгляд молодого шляхтича, впервые оказавшегося у них в доме. Как там представлял его осточертевший супруг? Пан, бежавший от казаков и татар, желающий поступить на службу к польному7 гетману Литовскому, князю Янушу Радзивиллу... Имя его называл... вот только какое, дай Езус памяти... Кажется, что-то похожее на живот. Может, Пузановский? Или Пузинский? Нет, не то... Брюховецкий! Точно, Иван Брюховецкий. Ну, что он смотрит так странно, будто жалеет ее? Неужели дошли слухи, как обращается пан подстароста с законною супругою? О Езус, стыд-то какой!
— А когда злодей Хмель попадет к нам в руки!.. — пьяно хохоча, воскликнул Чаплинский. — О, что мы с ним сделаем!
Его слова будто прорвали плотину. Со всех концов стола посыпались описания пыток, которым надо подвергнуть предводителя подлых хлопов и самозванца. Редкие и робкие голоса менее пьяных гостей: «На бога8, не нужно, здесь же присутствует пани Чаплинская!» тонули в общем возбужденном гвалте.
— Осмелюсь заметить, панове, что для этого нужно сперва победить Хмельницкого. А потом пленить его. Что сделать не так-то просто! — вдруг сильным, звучным голосом произнес Брюховецкий, каким-то чудом перекрыв общий гомон. — Надо отдать ему должное, это отменный полководец и храбрый человек.
На пару секунд наступила тишина. Потом Чаплинский ехидно спросил:
— Уж не собирается ли пан равнять шляхту с этим выродком? Может, он еще назовет Хмельницкого благородным человеком?
Грянул хохот.
— Да, назову! — воскликнул Брюховецкий, гордо вскинув голову. На его лице не было даже тени робости, оно дышало спокойным достоинством и уверенностью в своей правоте. — Потому что имел возможность убедиться в его благородстве на личном примере!
— Расскажите, пане! — внезапно вскричала Елена, не удержавшись. Она в следующий миг испугалась своего порыва, но быстро убедилась, что он пришелся кстати, опередив гневную реакцию многих гостей. Галантность, впитанная каждым шляхтичем с молоком матери, не позволяла устроить скандал в присутствии дамы. Поэтому, хотя присутствующие буквально прожигали смельчака негодующе-презрительными взглядами (на что он, впрочем, не обращал никакого внимания) и недовольно ворчали, этим дело и ограничилось.
— Желание пресветлой пани — закон! — учтиво склонил голову Брюховецкий, и Елена вдруг почувствовала, как теплая волна прошла по сердцу. Матка Бозка, ну почему пан Данило совершенно не похож на этого человека — храброго и воспитанного? — Я, изволите знать, имел небольшой родовой маеток вблизи Львова. Увы, о нем теперь приходится говорить в прошедшем времени: его дочиста разграбили и сожгли татары Тугай-бея. Многих моих верных людей посекли саблями, меня же, несмотря на отчаянное сопротивление, все же одолели, связали и на аркане притащили к самому мурзе.
— Да чтобы земля под ними разверзлась, под нечестивцами гололобыми! — рявкнул кто-то из гостей. Остальные сочувственно зашумели. Описание беды, пережитой Брюховецким, невольно смягчило их гнев. Ну, ляпнул человек глупость, выпив лишку, с кем не случалось того греха...
— Продолжайте пане, прошу! — дрогнувшим голосом произнесла Елена.
— Я мысленно был готов к самому худшему. Увы, надеяться на то, что меня отпустят за выкуп, не приходилось. Хотя бы по той простой причине, что у меня нет богатой родни и друзей. Значит, меня ждала дорога в Крым, на невольничий рынок. Однако действительность превзошла самые худшие мои ожидания... — Брюховецкий сделал паузу, глотнул вина, освежая пересохшее от волнения горло.
Гости затаили дыхание.
— Ну же, пане! Что было потом? — нетерпеливо воскликнул кто-то.
— А потом Тугай-бей объявил мне, что отныне моим хозяином и полновластным властителем будет Хмельницкий, его союзник и побратим. И меня отвели в шатер к самозваному гетману! — продолжил рассказ молодой шляхтич.
Раздался общий потрясенный вздох.
— К этому дьяблову отродью?! — проскрежетал зубами Чаплинский.
— И как же пану удалось бежать?! Каким чудом он спасся?! — послышались голоса.
— Мне не пришлось бежать, панове! Хмельницкий даровал мне свободу.
Все дружно ахнули, уставившись на Брюховецкого, точно на привидение. Чаплинский инстинктивно отшатнулся, чуть не свалившись со стульчика.
— Да, панове! Не нужно на меня так смотреть, я в здравом уме, хвала Матке Бозке. Он так и сказал: сейчас пану дадут охранную грамоту, и он может идти куда угодно, на все четыре стороны. Я, не веря своим ушам, переспросил: безо всяких условий, без выкупа? И Хмельницкий ответил: да, безо всяких условий. Не скрою, я был потрясен до глубины души. Мне казалось, что это все происходит во сне. И тогда я сказал, что, если бы кто-то раньше попытался меня уверить, будто предводитель мятежников и подлых хлопов способен на такое благородство, я рассмеялся бы в лицо этому человеку! Вот тут Хмельницкий гневно нахмурился...
— О Езус! — не выдержав, Елена прижала ладони к щекам. Уж она-то хорошо знала, что Богдан, обычно спокойный и вежливый, страшен в гневе, если его разозлить по-настоящему.
— На бога, светлая пани, не нужно так волноваться! — улыбнулся Брюховецкий. — Все обошлось. Он всего лишь сказал мне: не подлых хлопов, а оскорбленных и униженных людей. Таких же людей, с такой же душой, как благородная шляхта!
Вот тут-то грянула настоящая буря. Пьяные паны, забыв о присутствии хозяйки, возбужденно зашумели, потрясая кулаками. Кто-то ударил по столешнице, да так, что подпрыгнула и жалобно зазвенела посуда.
— Хлопы — такие же люди?! Ишь чего выдумал!
— Подлый зрадник9 совсем свихнулся!
— Правду говорили, что никакой не шляхтич он! Быдло!
— Да чтобы этому Хмелю...
— Шкуру сдерем с собаки! Заживо!
— И пан не плюнул в лицо этому самозванцу за такое оскорбление? Не высказал ему все, что про него думал? — перекрыл общий гвалт побагровевший Чаплинский.
Брюховецкий, спокойно выждав, пока наступит хоть какая-то тишина, ответил — вежливо, но с различимым лязгом в голосе:
— Плевать, проше пана, есть показатель невоспитанности и дурных манер, а я, хвала Езусу, все-таки шляхтич с кости и крови. Кроме того, Хмельницкий во многом прав. Ведь все люди — дети Божьи, созданные по Его образу и подобию...
Договорить ему не дали.
— Трус! — возопил Чаплинский, брызгая слюной. — Не шляхтич, а жалкий слизняк!
Возбужденный гомон, вспыхнувший снова, почти сразу же прекратился, наступила тишина — нехорошая, зловещая. До одурманенных винными парами гостей дошло, что были произнесены слова, вслед за которыми должны зазвенеть сабли и пролиться кровь.
Лицо Брюховецкого будто окаменело, только с большой силой пульсировала набухшая жилка на виске.
— Гостю негоже вызывать на поединок хозяина, даже такого грубого, как пан подстароста чигиринский, — четко, размеренно произнес он, уставившись прямо в глаза Чаплинскому взглядом, полным ледяного презрения. — К тому же я не хочу делать прекрасную пани вдовой, — последовал учтивый кивок в сторону Елены.
«Я буду только рада этому!» — страстно хотелось закричать женщине.
— Поэтому, если пан Данило возьмет обратно свои слова и извинится, я забуду оскорбление, нанесенное моему гонору. В противном случае... — рука Брюховецкого легла на эфес сабли.
Глава 4
Тадеуш, тяжело дыша, поднялся и отряхнул снег с одежды, затем подобрал нож (пока еще затупленный), который отлетел в сторону.
— Як бога кохам, пан Анджей мстит мне за поражение на саблях! — В глазах поляка блестели озорные огоньки, совершенно не соответствующие его нарочито обиженному тону. — Ну, сколько можно валять своего первого помощника, как мальчишку какого-то? Перед подчиненными неловко...
— Пока пан Тадеуш не научится действовать так, как я ему много раз показывал и объяснял! Ну-ка, в исходную позицию! — мой суровый голос разительно не соответствовал озорной улыбке.
— Слушаюсь, пане первый советник! Ничего, завтра утром у нас снова будет урок фехтования...
* * *
— Он его покалечит, Матка Бозка! — ахнула Агнешка, прижав ладони к щекам. — Бросает, как тюк какой-то! Тадику же больно!
— Что поделать, такова служба... — с притворным сочувствием вздохнула Анжела. — Проше пани, мне даже странно, что приходится объяснять столь элементарные вещи!
* * *
Лоб Чаплинского покрылся крупными каплями пота, и отнюдь не от одной лишь духоты. До пьяного хозяина постепенно дошло, что он натворил.
— Итак? — слегка повысил голос Брюховецкий, подавшись вперед.
— О, пан разумен, как я погляжу! — внезапно воскликнула Елена, рассмеявшись и вложив в этот смех точно отмеренную порцию яда. — Он уже готов идти на попятную! Он уже сожалеет о своих словах, случайно вырвавшихся, и готов простить оскорбление, лишь бы сохранить внешнее достоинство. Скорее всего, до него дошли сведения, сколь храбр мой супруг и искусен в обращении с саблею...
— На бога, что такое говорит пани! — шляхтич усилием воли заставил себя произнести эти слова вежливо и спокойно. Но его глаза метали молнии, а лицо потемнело от прихлынувшей крови.
Елена торопливо, не давая никому вставить ни слова в разговор, продолжила:
— Ах, разве пан не знает этой истории? Так я сейчас расскажу! Пан Данило еще до смуты послал вызов Хмельницкому. Да-да, тому самому, благородством и храбростью которого пан только что так восторгался. Это был огромный риск, Матка Бозка, какой ужасный риск! Ведь Хмельницкий, хоть и немолод, очень силен, а что он вытворял с саблей — словами не описать! Один из лучших фехтовальщиков всей Речи Посполитой! Другой бы на месте пана Данила струсил бы, решил, что жизнь дороже урона чести шляхетской, но пан подстароста чигиринский был не из таких! Ведь правда же? — она перевела на мужа взгляд, полный трепетной любви и обожания.
— Почему же пан ничего нам не рассказывал раньше? — ахнул кто-то из гостей.
— Мой супруг скромен и не любит говорить о своих подвигах... — потупилась Елена.
Чаплинский издал какой-то неразборчивый горловой звук.
— Поединок был долгим и упорным. В конце концов пан Данило изловчился и рубанул Хмельницкого по голове! Того спасла лишь шапка, отделался раною. Пан подстароста не стал добивать упавшего, проявив благородство, присущее шляхте. Вот так-то! — Елена, вскинув голову, смотрела на Брюховецкого со снисходительно-торжествующим вызовом.
«Ну давай же, давай! Ты ведь уже готов, прямо закипаешь...»
— Пани полагает, что я буду испуган этим рассказом?! — в голосе молодого шляхтича зазвенел металл.
— Ах, ни в коем разе! Просто разумная осторожность — добродетель всякого почтенного мужа. К чему рисковать единственной жизнью, когда можно просто сделать вид, что ничего не слышал...
«Горячий, благородный, наивный... Так бы и влюбилась! Прости, Матка Бозка!»
— Э-э-э... Я готов принести извинения пану! — через силу выдавил Чаплинский, на которого жалко было смотреть: так нелепо и позорно он выглядел. — Вино бросилось в голову... Не подумал...
— Вот о чем я и говорила! Мой супруг не только храбр, он благороден и великодушен! — голос Елены можно было намазывать на ломти хлеба вместо масла или меда. — Пану дается возможность с достоинством выйти из трудного положения и избежать опасности.
«Ну, если ты и сейчас промолчишь...»
— Тысяча дьяблов! — взревел Брюховецкий, вскочив на ноги. — Избежать опасности?! Беру пышное панство в свидетели, что я был оскорблен паном подстаростой чигиринским и требую сатисфакции! Немедленно!
— Панове, панове... — растерянно забормотал один немолодой гость. — В столь тяжкую минуту, когда Отчизна проливает кровь и слезы... Одумайтесь!
— Если пан будет настаивать на вызове, ему придется забыть о службе польному гетману! — поддержал его сосед.
— Это отчего же, посмею спросить? — заносчиво воскликнул Брюховецкий.
— Князь Радзивилл строг в вопросах шляхетского гонора, но в военное время не жалует поединки!
— Совершенно верно! — послышались голоса. — Он тогда не примет пана к себе!
Брюховецкий на долю секунды замялся, и сердце Елены словно провалилось в ледяную полынью. Неужели пойдет на попятную?!
— Так что решит пан? Прислушается он к голосу благоразумия? — спросила она, многозначительно уставившись на молодого шляхтича. — А то, чего доброго, как бы не пришлось ему проситься на службу к тому же Хмельницкому! Ха-ха-ха! — женщина звонко рассмеялась, добавив едва различимую толику издевательской иронии.
Грянул общий громовой хохот. Лицо Брюховецкого пошло пятнами, рука стиснула эфес.
— Сатисфакции! — решительно повторил он, глядя прямо в глаза перепуганному Чаплинскому. — Тотчас же!
Бывший пан подстароста чигиринский затравленно огляделся по сторонам, будто ожидал помощи от гостей. Но они лишь смущенно кряхтели и отводили взгляд. С одной стороны, и впрямь негоже гостю ссориться с хозяином, тем паче вызывать на поединок, но оскорбление-то было, как ни крути! Все слышали, полна комната свидетелей. Не скверная шутка, которую можно было бы пустить мимо ушей, а именно оскорбление, и очень грубое. Пусть и нанесенное спьяну. Ни один уважающий себя шляхтич не стерпел бы такого урона гонору своему. А уж принимать извинения или не принимать — то его дело и право. Требует поединка — никто не смеет мешать.
Кто-то с укором смотрел на Елену: зачем только влезла! Промолчала бы — может, удалось бы уладить вопрос миром. Так нет же, понадобилось восхвалять отвагу мужа и его фехтовальное искусство. Неужели и впрямь думала, что Брюховецкий оробеет? Ох, не зря говорят про женщин: волос долог, да ум короток! Пыталась примирить, а лишь масла в огонь плеснула.
Чаплинский медленно повернулся к жене. Его глаза источали лютую ненависть вперемешку с каким-то благоговейным страхом.
— Дьяволица... — чуть слышно прошипел он.
— Пане Данило, остается лишь принять вызов этого не в меру горячего шляхтича... — вздохнула Елена, пожимая плечиками. — Езус свидетель: и я, и все пышное панство, — она широким взмахом руки обвела присутствующих, — пытались отговорить его из жалости к молодым годам и перенесенным бедам. Но пан Брюховецкий уперся и стоит на своем. Что же, он сам выбрал свою судьбу. Мне приказать, чтобы на дворе утоптали снег и посыпали золою? Или вы будете драться где-то в ином месте?
— Дьяволица! — повторил муж, на этот раз громоподобным ревом, вскакивая и занося кулак. Его руку едва успели перехватить.
Глава 5
К исходу первой недели пути Степка Олсуфьев готов уже был завыть волком от тоски и вынужденного безделья. А главное — от соседства дьяка Бескудникова, который назначен был главою посольства... Хотя нет, «посольство» — это громко сказано, ведь не к законному же правителю отправил их царь-батюшка, а всего лишь к самозваному гетману, хоть и удачливому. Скорее разведка. Думный дьяк Львов так и наставлял: «Бескудников будет свое дело делать, а ты смотри в оба глаза, слушай в оба уха, все запоминай, постарайся дружбу свести если не с самим Хмельницким, то с сыном его Тимофеем или еще с кем-то из ближних людей. И будто невзначай расспрашивай, выпытывай... Кто тебя заподозрит в чем? Годами совсем еще юнец, в небольших чинах, вроде как на побегушках у дьяка».
Именно что «вроде»! Но Бескудников всерьез возомнил себя не только полновластным Степкиным начальником, но и полномочным посланником Государя и Великого князя всея Руси, а потому и вел себя соответственно. В Серпухове, где остановились ночевать на вторые сутки пути, чуть не орал на воеводу, топая: мол, худые покои ему отвели и ужин подали скудный, не по чину! Хотя и помещение, и угощение были иному думному боярину впору... Тамошний воевода оказался не робкого десятка, сумел поставить на место. Так разозленный дьяк сорвал злость на Степке, а потом еще всю дорогу от Серпухова до Тулы ворчал и придирался. И много места, мол, новик занимает в возке, и луком да чесноком от него разит (уж чья бы корова мычала!), и вообще непонятно, зачем такого олуха ему на шею посадили... Да еще и негодовал, что дорога больно неровная: то в гору, то с горы, одни холмы, прости господи...
В Туле Бескудников, памятуя о полученном отпоре, держался не в пример скромнее и спокойнее. Не хаял ни покои, ни яства. Но Степке от этого легче не стало. Скорее наоборот: ведь после того, как покинули Тулу и направились к Орлу, дьяк будто с цепи сорвался. Плетемся, дескать, еле-еле! А как же иначе, ежели началась Большая засека?10 То и дело — лесные завалы с узкими дорожками, по которым едва проедешь, рвы с частоколами, сторожевые крепостицы, у которых приходилось останавливаться да себя называть... И так — на много верст! А куда денешься, это же для защиты от супостатов крымских устроено, понимать надо.
Но дьяк понимать ничего не желал. Все ему было не так, все раздражало и выводило из себя, а виноват тот, кто под рукою. Сиречь, новик Олсуфьев. И ведь не отругаешь занудливого придиру, не пошлешь по матушке, тем паче не поднесешь «леща»... С виду все должно быть чинно и понятно: дьяк — главный, а новик — чуть ли не в услужении.
«Ладно, погоди у меня, вот поедем обратно!» — стискивал зубы Степка, предвкушая, как рассчитается с обидчиком.
* * *
Брюховецкий уверенно побеждал в поединке, это было ясно даже самому хмельному гостю. Он был моложе, гораздо трезвее, а главное, куда более искусен в обращении с оружием. Его клинок с тонким пронзительным свистом рассекал воздух, выписывая всевозможные полукруги и «восьмерки», то обрушиваясь на противника сверху, то
