кітабын онлайн тегін оқу Осязаемая реальность. Том IV
Осязаемая реальность
Том IV
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Редактор Ольга Хомич-Журавлёва
Корректор Сергей Лёвин
Помощник редактора Алина Хомич
В сборник молодёжного литературно-художественного объединения «Авангард» (город Анапа) вошли произведенияи как маститых, так и ещё начинающих писателей. Главное, что присутствует в их произведениях — неравнодушие к окружающему миру и постоянный поиск новых форм, как в стихосложении, так и в прозе. Благодарим Алину Алексеевну Хомич за помощь в выпуске бумажного варианта сборника.
16+
ISBN 978-5-4496-0931-1 (т. 4)
ISBN 978-5-4496-0932-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Осязаемая реальность
- Слово редактора
- Василий Владимирович ДВОРЦОВ
- Светлана Николаевна МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО
- Андрей ТИМОФЕЕВ
- Марк АВДЮГИН
- Екатерина ГОДОВЫХ
- Павел ДЕВОЛЬД
- Татьяна ЕФИМОВА
- Наталья ИВАНОВА
- Ирина ИВАСЬКОВА
- Маргарита КАМОВИЧ
- Дарья ЛАКИЗА
- Иван ЛЕЕР
- Сергей ЛЁВИН
- Жанна ЛЬВОВА
- Екатерина МЕРКУРЬЕВА
- Дмитрий МЕЩЕРОВ
- Александр МИШИН
- Валерия МУРЗИНА
- Яна ОГАНОВА
- Анна РОМАНОВА
- Елена СУХАНОВА
- Алина ХОМИЧ
- Ольга ХОМИЧ-ЖУРАВЛЁВА
- Константин ЧИГАНОВ
- ПУБЛИЦИСТИКА
- АНОНСЫ КНИГ
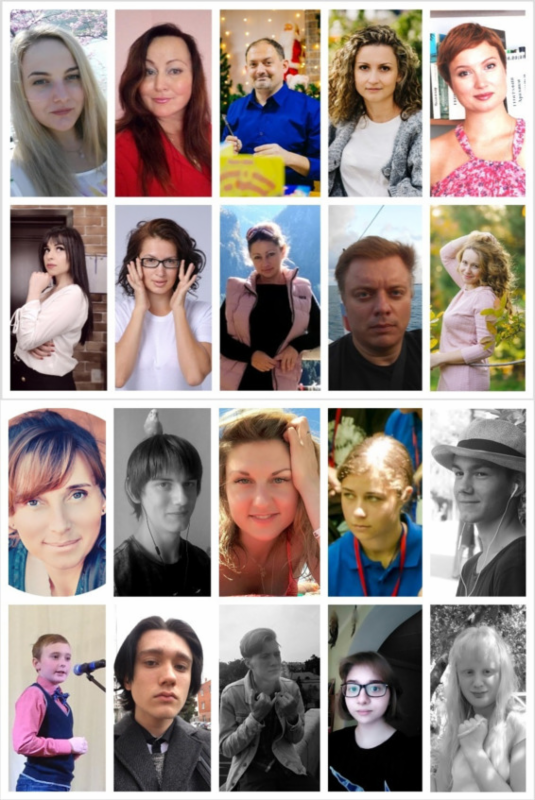
Слово редактора
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров,
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.
Детям вечно досаден их возраст и быт,
И дрались мы до ссадин, до смертных обид,
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьянея от строк.
Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас…Владимир Высоцкий
Дорогой читатель, ты держишь в руках очередной сборник произведений авторов народного молодёжного литературно-художественного объединения «Авангард» города-курорта Анапа.
Молодые писатели, художники и музыканты проходят свой жизненный путь, наполняя его энергией осмысленного созидания и самовыражения, даря свои произведения окружающему миру и активно участвуя в творческом процессе. В том и ценность объединения, что писатель выходит из замкнутого круга своих буксующих мыслеформ и делится выстраданными произведениями с такими же, как и он, авторами, фонтанирующими идеями и сюжетами, авторами, которые и примут творчество, и поймут, и помогут усовершенствовать произведения.
Практически всегда видно, как новый автор литобъединения после нескольких встреч с единомышленниками открывает для себя новые горизонты творчества, и происходит настоящий прорыв, рождаются глубокие стихи и проза, рисуются новые картины и создаются новые песни.
Минувшие два года со времени выпуска предыдущего сборника участники «Авангарда» прошли насыщенный творческий путь, активно участвуя в культурной жизни Анапы, выступая на всероссийских акциях и разных площадках города, популяризируя творчество молодых авторов курорта.
Писатели выступают в школах и библиотеках, в клубах и Домах культуры, в ВДЦ «Смена», проводят творческие вечера, театрализованные литературно-музыкальные постановки.
За прошедшие два года они выпустили несколько авторских книг, активно печатались и в различных российских литературных газетах, журналах и антологиях.
Литобъединение ставит перед собой самые важные цели — это качественная самореализация, рост писательского мастерства, работа над словом, участие в региональных и всероссийских литературных семинарах, которые проводит Союз писателей России.
Следствие непрерывной творческой работы — победы литераторов на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Писатели выступают и в роли членов жюри различных литературных и творческих конкурсов — городских, региональных и всероссийских. Очень важен для нас конкурс Центра творчества «Вдохновение», в котором участвуют школьники города и района — юные начинающие писатели. Именно здесь мы видим подрастающее поколение литераторов, наших будущих коллег, нашу смену. После каждого конкурса молодые литераторы вливаются в ряды «Авангарда».
Кульминация творческого процесса — признание наших авторов за пределами города, края и даже страны
Произведения Ирины Иваськовой печатались в известных литературных журналах «Наш современник» (Москва), «День и Ночь» (Красноярск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Север» (Петрозаводск) и других.
Произведение Елены Сухановой вошло в двухтомник «Были 90-х» (Москва, АСТ).
Произведения Сергея Лёвина печатались в сборниках «Крым романтический» (Симферополь), «Это русское слово — Победа» (Краснодар), «Моторы» (Волгоград), «Рассказ-газета» (Тамбов, 2018), в журнале «Полярная звезда» (Якутск) и других.
Рассказы Ольги Хомич-Журавлёвой вошли в сборники «Писатели Кубани. 21 век» (Краснодар), «Это русское слово — Победа» (Краснодар), а книга «Галерея неудачников» стала серебряным победителем в Международном Берлинском конкурсе «Лучшая книга года — 2017».
Дорогой читатель, надеемся, что наши произведения не оставят тебя равнодушным и вызовут в твоей душе эмоции, а ощущение реальности станет более осязаемым.
С уважением,
Член Союза писателей России
Рукововдитель НМЛХО «Авангард»
Ольга Хомич Журавлёва
ГИМН «АВАНГАРДА»
У самого края российской земли,
Где горы и Чёрное море,
Создать «Авангард» мы отважно смогли,
С рутиной и серостью споря.
И дружно сплотились на передовой
Поэты, творцы, музыканты.
И крепнет союз, расширяется строй
Таких многогранных талантов.
Наш творческий путь в прозе, песнях, стихах,
Анапа, мы твой «Авангард»!
И русское слово восславим в веках —
Россия, мы твой «Авангард»!
Познание нам раскрывает сердца
Мы мир отражаем в твореньях.
И будем за правду стоять до конца,
На помощь призвав вдохновенье!
Мы чтим достижения прошлых творцов,
И сами теперь созидаем!
На площади, в клубах, на сценах дворцов
Искусство бессмертное дарим!
Наш творческий путь в прозе, песнях, стихах,
Анапа, мы твой «Авангард»!
И русское слово восславим в веках —
Россия, мы твой «Авангард»!
Ольга Хомич-Журавлёва

Василий Владимирович ДВОРЦОВ
Секретарь, член Правления Союза писателей России.
Член Высшего творческого совета Союза писателей Союзного государства России и Беларуси
Василий Дворцов член жюри Всероссийских литературных премий, конкурсов и фестивалей, организатор и руководитель ежегодного Всероссийского Некрасовского семинара молодых литераторов. Президент Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Поэзия русского слова».
ТВОРЧЕСТВО КАЖДОГО ПИСАТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, НО СОСТОЯТЬСЯ ОН МОЖЕТ ТОЛЬКО В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ
В феврале 2018 года XV съезд писателей России решительным большинством избрал новым председателем Правления Союза 62-летнего прозаика и драматурга Николая Фёдоровича Иванова, офицера-журналиста, ветерана Афганской и Кавказской войн, до трагических событий ноября 1993 года — главного редактора журнала «Советский воин».
Эта смена лидера, прошедшая, к сожалению, на фоне публично вскрывшегося «конфликта поколений» 80-летних и 60-летних мастеров, означила начало принципиально нового этапа в жизни писательского сообщества. Прежде всего, был заявлены отказы от излишеств наследованной политизации при подтверждении незыблемости духовно-нравственных императивов, и возвращении приоритета творческого развития русской литературы на базе её классического наследия.
Февральский съезд, впрочем, так же, как и два предыдущих, продемонстрировал буквально поразившее наблюдателей и гостей единомыслие писателей России, казалось бы, разделённых её тысячекилометровыми расстояниями, в виденье и трактовке проблем современного литературного процесса и нацеленности на их преодоление. Эта вновь явленная способность организации с более чем 80 региональными отделениями — да к тому же объединяющей восемь с половиной тысяч самобытных талантов и уникально неповторимых индивидуальностей! — к волевой, решительной консолидации во имя едино воспринимаемой и принимаемой идеи, даёт право обновлённому руководству Союза на построение долговременной стратегии.
Так, важнейшей из стратегических разработок Союза писателей России определено системно-плановое преодоление сложившегося в последние годы разрыва писательских поколений. Осознавая критичность для литературного процесса — процесса национального самосознания — всё большего мировоззренческого расхождения «отцов и детей», уже обернувшегося для пишущей молодёжи снижением писательского профессионализма, потерей духа эпичности, повальным мелкотемьем в пошлой деэстетизации и дегуманизации, а встречно грозящего стареющему цеху мастеров неизбежным возрастным коллапсом, была начата разработка срочной и долгоперспективной деятельности. Ничего принципиально нового не предполагалось, предстояло восстановление традиции личной работы мэтров с начинающими — традиции, освещённой в русской литературе именами Ломоносова, Жуковского, Белинского, Некрасова… Анненского, Гумилёва… Кожинова, Проскурина, Лобанова…
Все мы понимаем, что, хотя творчество каждого писателя сугубо индивидуально, состояться, стать мастером писатель может только в литературной среде. Сегодня вершина организованности литературной среды — Союз писателей России.
И как замечательно, что опасность кризиса и необходимость его решительного преодоления равно и одномоментно осознали и «отцы», и «дети»: на Правление Союза писателей России вышла группа молодых поэтов, прозаиков и критиков с предложением создания подразделения, которое смогло бы объединить талантливую и нравственно здоровую литературную молодёжь целями профессионального и творческого роста, взаимопомощи в продвижении произведений к изданиям, с последующим вступлением достойных в члены СПР. Так появился Совет молодых литераторов Союза писателей России, первым шагом — нет, — первым деянием, первым актом которого стало проведение всероссийского совещания молодых писателей на базе Московского института культуры в Химках, где творческая молодёжь со всей России потрудилась плечо в плечо с ведущими прозаиками и поэтами. Подчёркиваю: совещание было организовано самими молодыми писателями! И прошло оно очень результативно: по рекомендациям наставников шесть человек были приняты в Союз и получили членские билеты прямо на съезде.
Семинары всероссийские и региональные, конкурсы, фестивали, литобъединения — а, главное, новые и новые имена в Воронеже и Якутске, Санкт-Петербурге и Анапе, Ульяновске и Челябинске, Самаре и Оренбурге. За кратчайшее время Совет молодых стал общепризнанным центром притяжения, световым фокусом лучших поэтических и прозаических начал — об уровне таланта и мастеровитости собираемых Советом молодых писателей вы можете составить личное мнение, ознакомившись с данным альманахом. Читайте: это наши новые имена через наши вечные темы. Читайте, знакомьтесь, запоминайте — это наши! При всех вкусовых разномнениях оптимистическое виденье перспектив нашей литературы обещаю!
Думаю, что созданный Союзом писателей России Совет молодых литераторов может и должен послужить примером для иных творческих союзов, для научного и технического сообществ, для ревнителей состояния отечественной медицины, педагогики и иных отраслей социального круга, послужить примером конструктивного преодоления не просто «старения» интеллектуальных национальных институтов, но, главное, поступательного, без взрывов и провалов, построения общенационального творческого будущего.

Светлана Николаевна МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО
Секретарь, член Правления Союза писателей России
Член Высшего творческого совета Союза писателей России и Белоруссии
Председатель правления Краснодарского регионального отделения Союза писателей России
Главный редактор газеты «Кубанский писатель»
Светлана Николаевна — секретарь Союза писателей России по Южному и Северо-Кавказскому Федеральным округам, заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат литературных премий, кавалер Золотого ордена «Служение искусству», участница Всемирных Русских Народных Соборов, а так же пленумов, выездных секретариатов Союза писателей России.
ГЛАШАТАИ ВЕЛИКИХ ИСТИН
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
Николай Гумилёв
В 2017 году наша страна отметила 100-летие Октябрьской революции. Некогда Иван Бунин заметил, что все процессы в России начинаются в литературе и потом уже реализуются в жизни. А Сергей Есенин вывел формулу: «Большое видится на расстоянии». Так что столетие революции даёт возможность проверить подтверждение этих слов. Литература, как процесс национального самосознания, создаёт интеллектуальную атмосферу общественного мнения, в которой кристаллизуются идеи, поднимающие массы для исторических свершений. И возникший ещё в середине девятнадцатого века критический реализм, подвергший тотальной переоценке патриархальные ценности феодальной России, во многом подготовил революционные события начала века двадцатого. А далее «Буревестник» Горького, «IV интернационал» Маяковского и «Победители» Багрицкого зажигали подготовленную протестную молодёжь восторгом разрушения «старого мира», пьянили правотой любых жертв ради «светлого будущего».
Да, можно смело утверждать, что литература — это менее всего изысканно-утончённое искусство для услаждения изощрённого слуха эстетов, что литература — поле невидимой войны, не затихающей ни на минуту. Ибо она главное средство управления массами, главное средство влияния на общество. И потому она всегда под контролем властителей мира. Ведь это управление и влияние, в отличие от журналистики, не ярко кратковременно, а глубинно основательно и имеет весьма долгосрочную перспективу. Именно поэтому многими даже не замечается.
В этом ракурсе трудно переоценить значение книг наших кубанских писателей, занявших достойное место в среде общероссийской художественной литературы XX — XXI века. Через все политические и социальные изменения наши писатели пронесли незыблемые нравственные опоры. Воспевая подвиги созидателей и защитников России, они находили самые чистые и сердечные слова, передающие тончайшие нюансы чувств и глубину мыслей своих героев. В двадцатом веке социалистический реализм, при определённом отжиме идеологических догм, ставивший себе целью описание идеального гражданина, породил настоящие шедевры.
К сожалению, ушедший социалистический реализм не нашёл достойного преемника в новом времени. И не потому, что писатели отказались от идеалов (мои коллеги и в XXI веке не осквернили алтарь русской словесности матерными словами и восхвалениями разврата), а потому, что искусственно ограниченные коррупционной системой распространения мизерные тиражи книг уступили своё влияние на нацию видеоряду. При этом киноэкраны заполоняют западные фильмы, ТВ — западные шоу, так что теперь и наши «мастера» штампуют мыльные оперы, уголовные фильмы и фэнтези-хорроры почти как иностранцы. И вот герои нового времени — …в лучшем случае наёмники-футболисты в окружении тысячных толп поклонников с пустыми, как у зомби, глазами.
«Все процессы в России начинаются в литературе, а потом уже реализуются в жизни». Продолжатели Джорджа О́руэлла, который так демонизировал СССР, программируют наше будущее. Но СССР больше нет на карте. А Старший Брат никуда не делся. Всё как-то очень точно получается по литературным текстам из романов «У чёрных рыцарей» Юрия Дольд-Михайлика, «Вечный зов» Анатолия Иванова и «Экспансия-1» Юлиана Семёнова, сложившимся во вроде несуществующий, но при этом весьма чётко реализуемый «План Даллеса»: «Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отчуждим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино, пресса — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности».
Так почему же эта «фальшивка» осуществляется на наших глазах? Заниженная лексика, отсутствующая мораль — на книжных прилавках великая русская литература старательно вымещается развлекательным чтивом, лишённым этики и эстетики. И это чтиво программирует наше будущее.
Однако давимый, блокируемый литературным рынком литературный процесс не пресекается. Не влияющая на массового читателя, настоящая литература продолжает влиять на читателя взыскательного.
С этих позиций я предлагаю взглянуть на 70-летний юбилей краевой писательской организации, также совпавший с 2017 годом, и произведения, созданные нашими прозаиками и поэтами: Анатолием Знаменским, Виктором Лихоносовым, Григорием Федосеевым, Иваном Вараввой, Виталием Бакалдиным, Николаем Красновым, Кронидом Обойщиковым, Вадимой Неподобой. Своим творчеством они утвердили и продолжают утверждать: назначение литературы — созидание в человеке человека! Литература — не разрушение, а именно созидание и программирование высокого и светлого в современной и будущей жизни. Нельзя забывать, что любой писатель — идеолог. Порождённые им мысли становятся частью мира и оказывают громадное влияние на всех нас.
Поэтому давайте помнить о завещанном нам нашими предшественниками. Н. А. Некрасов: «Литература не должна ни на шаг отступать от своей цели: возвысить общество до своего идеала — идеала добра, света и истины». Аполлон Майков: «На нас, писателях, лежит великий долг — увековечить то, что мы чувствовали со всеми. Нам следует уяснить и осязательно нарисовать тот идеал России, который ощутителен всякому». Аполлон Григорьев: «Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох — организмов во времени, и народов — организмов в пространстве».

Андрей ТИМОФЕЕВ
Секретарь, член Правления Союза писателей России
Председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России
Андрей Тимофеев — один из наиболее заметных писателей поколения, дебютировавшего в последние годы. С 2002 по 2008 гг. учился в Московском физико-техническом институте, но учёным-физиком не стал. Во время учёбы мечтал заниматься творчеством, стараясь выкроить время, чтобы писать Он окончил Литературный институт в семинаре М. П. Лобанова; публиковался во многих журналах, в том числе «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Роман газета»; лауреат премии им. Гончарова 2013 года и премии «В поисках правды и справедливости» 2015 года. В течение нескольких лет ведёт рубрику «Дневник читателя» на сайте Союза писателей России.
У МОРЯ
Молодая пара, приехавшая в Крым в свадебное путешествие, ждала маршрутку из Севастополя в Ялту, где должна была провести две недели. Молодожёны были знакомы всего полгода и ещё не успели привыкнуть ни друг к другу, ни к своему новому неожиданному состоянию, и потому каждое ласковое прикосновение значило для них слишком много. В ясном накалённом воздухе, как на яркой фотографии, виднелись и громоздкое здание вокзала, и непривычные разлапистые южные деревья.
Оля была в особенном восторженном настроении все последние дни. Ей казалось, что теперь, после свадьбы, жизнь станет совсем другой, ей представлялось что-то возвышенное, но твёрдое и важное одновременно.
Маленькие дети умиляли её, и при виде каждого она начинала теребить Максима, будто сама была ребёнком. Ей нравилось, что и он, обычно сдержанный и серьёзный, постепенно проникался её радостью, а сегодня утром сам указал ей на детскую коляску и, смягчая свой колючий голос, как-то тихо и нежно произнёс: «Смотри, девочка».
Они стояли на остановке, немного поодаль друг от друга, потому что сильно пекло, и не хотелось чувствовать жар другого тела. Оля устала. Целый день они ходили по Севастополю. Максим заранее продумал для них маршрут, так что они смогли осмотреть все главные достопримечательности, и она была благодарна ему за это. Приятно было, что теперь именно он должен продумывать и решать, куда им идти и что делать. Но всё-таки ей уже хотелось скорее сесть в маршрутку, чтобы немного побыть одной, углубиться в свои переживания и до конца разобраться в них.
В маршрутке пахло бензином. Оля наклонила голову к стеклу и чувствовала его нервное дрожание. Максим сидел рядом и иногда поглядывал на неё, будто желая убедиться, что его жена здесь, с ним. Люди вокруг, наклоняя голову, терпели жару. А на задних сиденьях трое молодых кавказцев громко и безобразно матерились пьяными голосами.
Оле было неуютно из-за них, как будто лёгкое беспокойство не давало погрузиться в свои мысли целиком, но постепенно мечтательная дремота охватила её. Разве имело значение, что делается во внешнем мире, когда внутри было так спокойно и хорошо. Оля представляла, как наступит вечер, и они пойдут на пляж, и как она войдёт в ясное тёплое море, ощущая его незыблемую мягкость.
Вдруг кто-то задел её руку, Оля вздрогнула.
— Ведите себя прилично, — услышала она чей-то надрывный голос и удивилась тому, что Максим поднялся с места, и тому, как дрожат его губы. Один из кавказцев дохнул из-за сиденья кислой спиртовой волной. — Хватит материться в присутствии моей жены, — с ненавистью закричал на него Максим.
Оля с удивлением смотрела на него, она никогда ещё не слышала, чтобы он так кричал, и только сильнее вжалась в кресло. Кто-то из мужчин вступился за Максима, спереди заголосила пожилая женщина. Но Оля различала только странный чужой голос мужа. Наконец, водитель остановился и пригрозил, что дальше не поедет. Кавказцы затихли, и только изредка раздавался их сиплый гортанный шёпот. Как-то сразу оборвалось всё, слышно было только, как, заводясь, фыркает, выплёвывает газ маршрутка.
Максим уселся рядом и, довольно обнимая Олю, сказал:
— Надо учить таких хорошим манерам.
От его прикосновения стало жарко. Оля отвернулась. Ей казалось, что она задыхается. Казалось, её нарочно заперли в этом душном пространстве, и теперь никогда в жизни ей уже не выбраться на свободу. Она подумала, что совсем не знает своего мужа, и от этого ей стало тоскливо, будто она заглянула в глубокий колодец.
Медленно, тяжело двигалось время, и постепенно она впала в долгое бессмысленное оцепенение. В Ялту они приехали к вечеру. Маршрутка остановилась на обочине дороги рядом с пляжем. Максим торопился, потому что дотемна нужно было ещё успеть найти подходящую комнату, но Оля не слышала его. У неё в ушах звенело, будто воздух вокруг дрожал, как оконное стекло.
Они двинулись по дороге вдоль пляжа. Повсюду виднелись пёстрые зонты, шезлонги, люди, беззаботно развалившиеся на берегу. Пахло шашлыком и гарью. И тогда Оле стало жутко от того, что она находится в каком-то неизвестном городе, за сотни километров от дома, с чужим, почти неизвестным ей человеком. Она рассеянно глядела по сторонам и в полусонном состоянии двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг представилась ей огромным пустым пространством, таким же бесконечным, как раскинувшееся перед ней тревожное вечернее море.


Марк АВДЮГИН
Родился в июне 2003 годау, во Владивостоке. В 2 года переехал в город-курорт Анапу, где и живу до сих пор. Сейчас мне 15 лет. Я очень люблю сладкое, баскетбол и интересные истории.
ОТКРОЙ ГЛАЗА
1 место в номинации «Фентези». Городской литературный конкурс «Вдохновение»
Часто ли вы просыпаетесь ночью в холодном поту и чувствуете чужое присутствие? Взгляд в панике мечется из угла в угол, но из-за кромешной тьмы не видно ничего, кроме зловещих фигур. Всё ваше естество кричит, что здесь кто-то есть, а воображение создаёт страшные образы, пугая ещё больше. Вы забираетесь под одеяло, думая, что это защитит вас. И вслушиваетесь… Каждый шорох, каждый скрип, каждый звук воображение принимает за появление демона. Любое движение или вздох, даже самый тихий, может выдать вас, и тогда ночной гость сорвёт одеяло и тут же перережет глотку своими острыми, как лезвие ножа, когтями.
Это была обычная ночь. Я вскочил от ужаса: очередной кошмар, мешающий спать уже несколько дней. Сейчас остатки сна как рукой сняло, и я решил сходить в ванную. Есть у меня привычка — во время таких ночных походов не открывать глаза. Свет не включишь, ибо родители проснутся и дадут по голове. А в темноте ничего не видно, хоть глаз выколи. Потому и глаза закрыты. Раньше я часто ударялся головой о стены, не попадая в дверной проем, или же просто спотыкался. Теперь все движения были на уровне рефлексов, я без труда ориентировался в пространстве. Ванная находилась напротив моей комнаты, поэтому путь туда не занимал много времени. Полторы минуты спустя я отправился обратно. Но так и застыл на пороге: что-то мешало войти. Внутренний голос бил тревогу и говорил: «Что-то здесь не так! Там кто-то есть!» Я прижался к стене и вслушался, но никаких необычных звуков не заметил. По коже пробежали мурашки. Из помещения словно тянуло холодом, хотя окна я оставил закрытыми. Потоптавшись на месте, я всё-таки решился зайти. И тут же проснулся животный страх, меня накрыла волна паники. В ужасе я прыгнул на кровать и закутался в одеяло. Страх набросил свои цепи на тело, сковал движения.
Я лежал и дрожал от ужаса. А потом услышал:
— Страшно? — нечеловеческий голос, больше похожий на вой, эхом пронёсся в голове. — Открой глаза и всё пройдет.
Крик застрял в горле, я не мог произнести ни слова.
— Ну что же, будем ждать? — Оно противно захихикало.
«Что это такое?! Что мне делать?! Как спастись?» Сотни мыслей мчались в голове. Может, это сон? Да, точно! Сон! Мне всё снится! Скоро я проснусь, и всё будет по-старому. Это лишь cон, лишь сон, лишь… Холодный ветерок пробежал по шее. Кажется, Оно склонило голову и теперь дышало мне в затылок.
— Ты можешь открыть глазки для меня? — неожиданно тональность изменилась, вместо утробного рёва я услышал нежный женский голос. — Пожалуйста, открой глаза.
Моё тело била крупная дрожь, слёзы текли по лицу. Из-за них подушка сделалась неприятно мокрой.
— Открой глаза, открой глаза, открой глаза, — повторяло Оно снова и снова. С каждым новым словом голос становился всё грубее и злее, пока опять не стал прежним.
— Быстро открыл глаза, пока я их не вырвал! — одним движением Оно сорвало одеяло, оцарапало мою руку когтями. Я вскрикнул. Чудовище взревело, словно ей отрезало конечность.
— Я тебя достану, — пообещало Оно и клацнуло зубами.
***
За эту ночь я два раза едва не открыл глаза. В первый раз монстр скопировал голос моей матери.
— Милый, — сказала она, — ты не спишь?
Я вскочил с кровати:
— Мама!
— Что случилось, дорогой? Успокойся, всё будет хорошо.
Она обняла меня, и сердце тут же ушло в пятки. Знакомый мне, теперь уже обжигающий холод дыхания… Дыхания чудовища…
Я отпрыгнул в сторону и больно ударился головой о полку. Не обращая внимания, залез под стол, забился в угол.
— Это не может продолжаться вечно, — страшный вой вернулся. — Рано или поздно ты откроешь глаза.
Склонив голову, я обнял колени руками и лишь сильнее сомкнул веки.
Во второй раз я услышал крик из спальни родителей. Мать кричала про пожар, а отец орал от боли. Испугавшись, я выскочил из укрытия. Тут же подбежала мама и схватила мою руку.
— Быстрее, вставай! Бежим!
В комнате стоял запах гари. Я чувствовал жар, исходящий отовсюду. Воображение рисовало страшную картину: вокруг нас пылает огонь, отрезая пути отступления, мать просит меня уйти, а я вырываюсь у неё из рук. Слёзы текли по щекам, но я стоял на месте.
Из другой комнаты отец позвал нас за собой.
— Это иллюзия, верно? — спросил я, но ответом была тишина. Через несколько мгновений мама начала истошно орать. На ватных ногах, под крики родителей я лёг на кровать. Они звали меня, молили спасти их. Но я игнорировал все просьбы. Что бы ни случилось, я не поддамся. Нужно продержаться до утра….
Следующие три иллюзии не произвели на меня большого впечатления. Сейчас мне было всё равно. Это всё ложь.
Казалось, что прошло несколько дней, так медленно тянулось время. Демон не оставил попыток убить меня. Страх прошёл, осталось только безразличие. Пока глаза закрыты, Оно не нападёт.
Как-то я спросил:
— Что будет, когда я открою глаза?
Раздался стук — Оно спрыгнуло со стола на пол.
— Поиграем, — снова противное хихиканье, — в гляделки!
— А если не открою?
— Тогда я расстроюсь. И умру от голода. Но ты же этого не хочешь, правда?
— Что случится, если придут родители? На мой крик, например?
— А ты глупее, чем кажешься, мальчишка, — Оно усмехнулось. — А раньше они почему не пришли, как считаешь? Эта комната — эдакий карман в другой реальности. Зови кого хочешь, никто не придёт… До утра. Солнечные лучи, знаешь ли, негативно отражаются на моём здоровье. Значит, теория подтвердилась. Нужно дождаться утра.
— Почему я? Из всех людей на Земле ты выбрало именно меня. Почему?
Оно задумчиво постучало когтями по подоконнику:
— Ты был ближе всех. Наверно, тебе просто не повезло.
Я отвернулся к стене, дав понять, что разговор окончен. А монстр вновь принялся устраивать ловушки, менять голоса, создавать фантомов…
***
Солнечные лучи, пробившиеся через занавеску, жгли кожу. Я потянулся, встал с кровати. И тут же лёг обратно. Едва не открыл глаза! Но сейчас светит солнце. Неужели я справился?! Или это очередной обман? Прежде Оно не создавало солнечных лучей.
Я вслушался: рёва и хихиканья чудовища не было слышно. Не ощущалось и его дыхания, пробирающего до костей. Дверь в спальню родителей открылась, и я услышал шаркающую походку отца. Шаги приближались, но шёл он не ко мне. Хлопнула дверь в ванную. Радости не было конца. Я всё-таки выжил после кошмарной ночи. Потирая глаза кулаками, я начал считать до трёх:
— Один… Два… Три!
Я открыл глаза. Комната была пуста. Только сейчас заметил, как сильно пересохло в горле. Опираясь о стену, я пошёл на кухню попить воды.
***
Мальчишка ушёл в другую комнату. Некоторое время ничего не происходило, затем раздался короткий смешок. Луна за окном осветила комнату. Тень от кровати заметно увеличилась и потянулась вслед за юношей.
ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ
На мгновение яркая вспышка ослепила меня. А потом я оказался здесь — в голове неизвестного мне толстяка. Даже забавно. Меньше всего я хотел бы оказаться в этом месте. Но такова моя участь — истреблять чужих демонов. Работа выматывающая и, бесспорно, опасная для жизни. Но чего только не сделаешь за деньги, без которых не прожить в реальном мире. Я положил руку на ятаган и неспешно пошёл вперед. Мужчина говорил, что кроме «лишних килограммов» ничем не страдает. Знаю я таких людей. На самом деле в их «шкафу» далеко не один демон. Лень, страх, обжорство, похоть… У каждого человека свои монстры. И они далеко не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Словно идя через болото, я высматривал демона обжорства. Не заметить его трудно, но я должен быть осторожен, ведь он может быть не один. Каждый шаг давался с трудом, ноги будто тянуло вниз. Где-то на дне, словно торф, покоятся воспоминания толстяка. Давно забытые, утерянные вследствие болезней… Я же нахожусь на поверхности, где плавают мысли мужчины, обрывки фраз или недавно пережитые моменты. Тут нужно быть осторожным: засмотришься на какую-нибудь картину из жизни, а тебя в этот момент затянет вниз. А из «донных» воспоминаний выкарабкаться невозможно.
Вскоре под моими ногами образовалась более-менее твёрдая поверхность, ноги перестали утопать под моим весом. Почва болталась туда-сюда, словно желе или плохо натянутый канат, отчего приходилось балансировать, вскинув руки. Вдали я увидел что-то, похожее на холм. Но вскоре стало ясно, что это не холм, а большое тело.
— Вот я тебя и нашёл, — пробурчал я, с трудом переставляя ноги, — далеко же ты забрался, скотина.
Сбоку показались толстые руки с пухлыми пальцами-сосисками. Жирный живот со множеством складок блестел на свету. Ноги у существа, похожие на два брёвнышка, не могли поднять грузное тело. Но это нисколько не мешало монстру. Демоны обжорства перекатываются с места на место, отталкиваясь от земли. И очень быстро, надо заметить. Не проявив лишний раз должную сноровку, рискуешь быть расплющенным. Демона это не огорчит, и вскоре ты пополнишь его рацион. Великан был во многом похож на человека, в котором поселился. Я остановился в паре десятков метров от чудовища, которое ещё не заметило меня, и увидел, как демон запустил руку в болото с воспоминаниями и, зачерпнув своей «лопатой» воду, стал пить.
— Я стал многое забывать, хотя раньше память была отличная, — вспомнились мне слова мужчины. Демоны обжорства питаются воспоминаниями своих носителей, поэтому к лишнему весу, одышке и постоянному голоду добавляется склероз.
Я достал ятаган из ножен, наложил на себя заклинание защиты и громко свистнул. Монстр лениво перевернулся, и по моей коже пробежал озноб. Демон улыбался, из его рта текла кровь. Я молниеносно бросился на него. Демон захохотал и попытался схватить меня. Толстые пальцы едва не сомкнулись на моей шее, но я резко отпрыгнул в сторону и уколол его лезвием в бок. Из пореза полилась чёрная жижа. Монстр лишь хрюкнул и оттолкнулся руками от земли, намереваясь раздавить мое тело.
Я сделал кувырок в сторону, увеличивая расстояние между нами. Он проскочил мимо, и я ещё раз всадил клинок в чудовище, которое недовольно замычало. Чёрные капли брызнули во все стороны, заляпав мой плащ. Демон, недоумевая, остановился, повернулся и снова попытался схватить меня, за что тут же лишился трех пальцев. Рассвирепев, он обрушил на меня тяжёлый удар, мгновенно выбивший весь воздух из моих лёгких. В глазах потемнело, а моё тело, болтаясь как тряпичная кукла, отлетело назад. Я пытался вдохнуть, беззвучно открывая рот, словно рыба, выброшенная на сушу. Краем глаза я увидел, что монстр приготовился к прыжку.
Неужели это конец?

Екатерина ГОДОВЫХ
Разгильдяйски веду себя в жёстко регламентированной системе, трудности с ориентацией с таких условиях. Со всем теплом, что живёт во мне обращаюсь к семье и друзьям, ими судьба одарила меня более чем щедро. К искусству же считаю нужно подходить с самоотдачей, если не готов своё эго подвинуть, что бы научиться, нечего и начинать.
ПРИКОСНОВЕНИЕ
2 место в номинации «Малая проза». Всероссийский литературный фестиваль конкурс «Поэзия русского слова»
В этот високосный год у Иванны всё было не слава Богу: мать умерла, муж ушел к лучшей подруге. И только растущий живот не давал будущей маме совсем упасть духом. Ближе к вечеру тринадцатого числа она разрешилась мальчиком. Спустя 6 часов после родов Иванна стояла у окна и вглядывалась в холод и ночь улицы. Тусклый жёлтый фонарь освещал огромный плакат Богоматери с младенцем. Щека к щеке прижимает мать родное дитя, а оно тянет к ней маленькие ручки. Недоступное после стольких мук счастье.
В палате мирно посапывали матушки с младенцами, около кровати Иванны бювета не было.
Раз за разом, прокручивая в голове моменты родов, силилась вспомнить каждую деталь, но мысли путались. Вот падает и разбивается аппарат КТГ в предродовой. Как они буду слушать сердечко? Малыш заплакал сразу, врачи сказали, что здоров, но куда-то понесли.
— Куда вы его относите? Куда вы его понесли? — всё переспрашивала.
— Да кровь сдавать! Три раза уже сказали. Глухая, что ли? — переходя на крик, раздражался персонал.
И Иванна перестала спрашивать, она всегда прекращала и отступалась, когда на неё кричали. Кто-то подсовывает ей бумагу на подпись — оказалось, согласие на прививки. «Зачем сейчас?» — только и успела она подумать, с трудом разжимая ладонь и отрывая её от поручней. Глаза всё ещё бегали, и Иванна отметила, что почему-то по часовой стрелке.
Из соседнего зала послышался рык, а за ним детский плач — Юля отрожалась. Понятно теперь, почему окситоцин поставили всем в одно время. Ещё удивлялась, как это утром девочки одна за другой за двадцать минут.
Спустя два часа две роженицы и один бювет поднимались на этаж выше. Акушерка объясняет:
— Он слаб, сосательный рефлекс слабый, а ты отдохни, выспись, силы ещё понадобятся.
Надо поспать, акушерка сказала, надо поспать! Иванна пошла в свою палату. Сетка на кровати скрипнула и провалилась чуть не до земли, простыня съехала, обнажив холодный дерматиновый матрац. Прижав голову к крашенной эмалевой краской стене, она боялась закрывать глаза. Сон не шёл.
— Не хочу видеть темень и пустоту, мне нужен хотя бы какой-то источник света.
Душ, надо сходить в душ, обязательно полегчает. С лестничных пролётов адски сквозило, подошвы, казалось, примёрзнут к стальным поддонам душевой, горячие струи из куцей пластиковой лейки не согревали, швы сковывали движения, и тело плохо слушалось.
Вернувшись в палату, Иванна опять скрипнула кроватью, колючее больничное одеяло никак не хотело греть. Уставившись на полосу света в коридоре, уговаривала себя: «Ну и что, я тоже маленькая родилась». «Господи, такой курёнок была!» — сокрушалась когда-то её мать.
Опять смотрела на мобильник: сколько ещё осталось до утра? Часы показывали только час ночи.
Мигрень усиливалась, невыкричанными стонами застряла в горле, распирала голову, выдавливая глаза. Сил находиться в таком состоянии не было, и Иванна решилась дойти до детского отделения.
— Ну чо ты пришла опять? Спит он, завтра принесут, — недовольно шипела разбуженная дежурная.
— Во сколько?
— В обход и принесут.
В обход, поставила себе цель Иванна, надо обхода дождаться.
Почему они все спят? Ей казалось, что все в больнице должны сейчас замереть в позе Богоматери с огромной иконы. А во сколько обход? Сколько ждать? Иванна поняла, что не спросила. Идти будить её снова? Замерла у окна. Опять будут ругаться. Встречая рассвет, подумала: «Ну, вот и сутки прошли, как я начала рожать».
Когда просветлело и деревья из тёмных очертаний прояснились красками, стало понятно, что магнолии, на которые так любовалась вчерашним утром в перерывах между схватками, почернели от мороза.
С наступлением утра Ивана закрыла глаза.
— Так, встали! Подъём, четырнадцатая! Обход!
Господи, как проспала? Уснула, ну ничего, сейчас я отдохнула, мне же сейчас силы понадобятся, да? Побитой собакой смотрела девушка на вошедший медперсонал.
— Откинули одеяла! — скомандовала бойкая женщина в белом.
— А когда мне принесут ребёнка?
— Не знаю, я за детьми не смотрю.
— Но мне обещали.
— Кто обещал, у тех и спрашивай, на обработку швов придёшь.
И опять одна. В палате начали ворчать и просыпаться. Иванна только озиралась. В детское отделение идти было страшно, а вдруг его уже там нет? А вдруг они мне ничего не говорят не просто так? Иванна, как могла, откладывала вынесение приговора. От своих волнений она была выдернута сумасшедшими криками из коридора.
— Мама! Мама! Мамочка! Забери меня отсюда! Он не ест, он всё время спит! Я не могу его разбудить! Я не знаю, что мне делать! Мамочка, забери! Они ничего мне не говорят! Мама, забери! — металась вдоль стены ещё одна неприкаянная душа.
И тут Иванна не выдержала и расплакалась, не из-за себя, конечно, из-за девушки, её жалко. А она-то сильная, она, конечно, так бы не плакала, ей же уже не двадцать.
Топот нескольких пар ног застучал по коридору. Через 10 минут ребёнок был разбужен и накормлен.
— А звонить никому не надо! Смотри-ка, сразу звонить! — всё так же бойко говорила женщина в белом.
Мимоходом заглянув в 14-ую, выкрикнула:
— Так, коханки помыли и ко мне!
— Какая она прикольная, — умилялась соседка Иванны по палате.
Пришёл детский обход.
— А мой где, когда забрать? — засуетилась в надежде молодая мать.
— Как врач скажет.
— А она когда будет?
— Как сможет, так придёт!
Пока малышам проводили осмотр, Иванна поплелась на обработку, где бойкая медсестра заключила:
— Будешь сношаться, будешь квакать!
Ковыляя обратно, Иванна с трудом держала свинцовые веки открытыми, немилосердно жгло в паху, затылок гнулся к земле, словно под тяжестью гири. Коридор кишел такими же хромыми-косыми, держащимися одной рукой за живот, другой за стену, роженицами. Навстречу шустро ковыляла Юля.
— Ты чо такая?
Иванна смотрела на неё и не могла произнести ни звука. При таком количестве людей рядом не оказалось ни одного близкого человека, ей некого было звать на помощь.
— У тебя что, послеродовая? Не спала, что ли? А у меня, представляешь, восемь внутренних. Ты в детское? — указывая в сторону отделения, Иванна кивнула и решилась идти к заветной двери.
Глубокий вдох, задержка дыхания, как учила вчера акушерка.
— Я пришла за сыном! — выпалила молодая мать.
От группы чаёвничающих оторвалась одна из работниц и вышла, остальные вперились взглядами в Иванну: мол, чего смотришь?
Из двери выкатили бювет, где мирно спал запелёнатый малыш.
— Он иногда срыгивает, но, я думаю, вас это не испугает.
Везя сыночка в палату, она смогла поднять распухшее лицо и видела уже не натруженные скрюченные тела, а улыбающиеся светлые лица.
Присаживаясь на скрипучую кровать, Иванна подумала, что родила она только что, и прижала руку сына к своей щеке.
— Теперь, малыш, мне ничего не страшно.
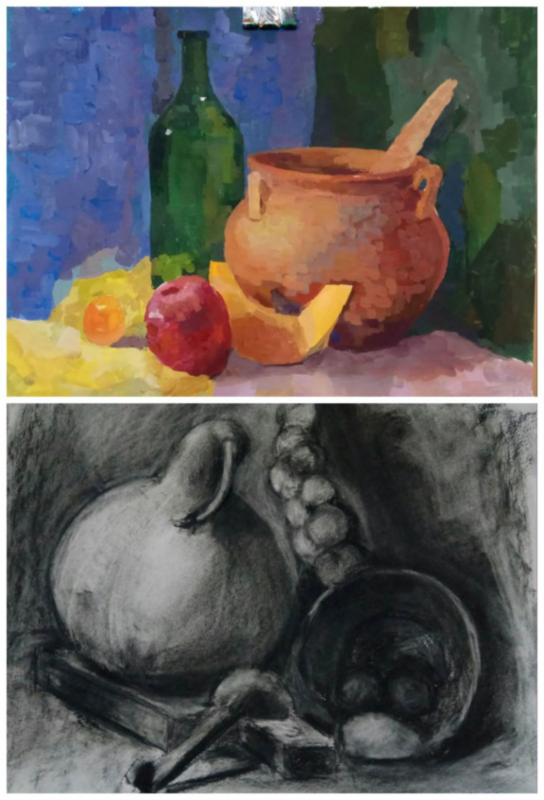


Павел ДЕВОЛЬД
Родился в 2001 году в Костроме. Прожил там недолго, но успел запомнить, что такое настоящие холода и сугробы. С детства любил не столько литературу, сколько истории: сначала это были русские народные сказки, затем мифы и легенды разных народов, больше всего греков и скандинавов, а после — более или менее серьёзная литература. Сколько себя помню, любил фантазировать, был любознательным и задавал много вопросов, даже очень, из-за чего получил от папы не одну энциклопедию и еще больше интересных историй. Стать писателем хотел давно и всегда восхищался этими полумифическими людьми. Подтолкнул же меня в мир собственных идей и историй замечательный автор Рик Риордан со своим «Перси Джексоном», а вдохновение черпаю у непревзойдённого мастера Дж. Р. Р. Толкиена. Серьёзно писать стал не так давно, в одно время с приходом в «Авангард» — пожалуй, один из лучших моментов в моей жизни. Умею ещё не так много, но стремлюсь к совершенству. Верю в то, что писатель способен изменить мир к лучшему, и хотел бы этого.
ПЕШКИ
3 место в номинации «Малая проза» Краевой литературный конкурс «Кубани слово золотое»
Поднималось алое солнце, освещая своим ликом поле. Поле, полное печали и страданья, место, полное оборвавшихся судеб и надежд. Целых четыре дня длилось здесь сражение, жестокое и кровопролитное. Всё вокруг усеяно мёртвыми телами и залито кровью, усыпано искорёженным оружием и обломками доспехов. Словом, картина походила на рабочий стол мясника.
И среди этой кучи трупов в предсмертных муках и грязи лежали два измождённых битвой воина, истекающие кровью, и было лишь вопросом времени, когда последние крупицы их жизненных сил выпадут из песочных часов без дна — песочных часов судьбы.
Доблестные рыцари знакомы друг с другом не были, так как сражались по разные стороны конфликта и в бою волей случая не встречались. Одного из них звали Ричардом по прозвищу Дубовал, а второго Герольдом — увы, прозвища своего он не успел заслужить. Первый был знатного рода и потому зачислен в рыцари своего герцогства. Доспехи его прочные, но тяжёлые (что и послужило причиной его поражения), на груди красовался герб, говорящий о принадлежности воина ко двору Вильяма, названного «Волчьим клыком». На гербе, как нетрудно догадаться, изображался волк, воющий на луну. Щит, который лежал рядом с беднягой, увенчивал тот же герб, но расколотый надвое, как и сам щит.
Во втором же юноше не было ничего примечательного: он служил обыкновенным солдатом в обычной броне, поверх которой надевалась льняная ткань с гербом его господина — герцога Роберта. В качестве герба — нарисован коронованный лев, стоящий на задних лапах. Оружие Герольда потерялось в пылу битвы, а шлема он не имел, так что можно было увидеть его юное лицо, выражающее страшные муки. Парню не исполнилось и шестнадцати.
В мгновения, когда конец был так близко, они думали о том, как прожили годы, отведённые им этим миром. Ричард вспоминал жену свою Элизу и троих детей. Пред ликом смерти сожалел он, что не посадит меньшого сына на коня, не научит старшего искусству держать оружие, а единственная его дочь пойдёт под венец без его благословения.
С неимоверным усилием рыцарь стянул с себя шлем. Стало возможным увидеть лицо человека в возрасте. Шел его тридцатый год от роду, хотя ему можно было дать и лишний десяток, глядя в лицо, полное печали. В лице выражалась такая душевная боль, что сама смерть отступила, дав ему лишние полчаса времени. И, хотя мысли его наполнены грустью, Дубовал считал, что пал не зря, ведь отстаивал он честь герцога своего, оскорблённого подлым Робертом. Рыцарь надеялся, что жертва его помогла свершиться правосудию и мерзавца уже обезглавили, — так сильна была верность Ричарда своему господину.
Герольд же не думал о прекрасной жене или прелестных детях, так как ни то, ни другое не успело прийти в его жизнь. Он думал о прекрасной Марии, бывшей его дамой сердца. Ему стало горько, что он больше никогда не прикоснется к её прекрасным огненным волосам, не услышит звонкого, как ручеёк, голоса и не заглянет в необъятные, как все видимые и невидимые просторы, глаза. Бедная девушка не переживет смерти юноши, пускай он и не знал этого.
А ещё парень вспомнил о родителях, и сердце его сжалось до размера горошины. Кто теперь вспашет им поле и поможет собрать урожай? Кто будет ухаживать за стариками? Ведь он являлся единственным сыном в небогатой фермерской семье, едва справлявшейся в эти тяжёлые времена. Но вера в то, что Вильям ответил за свои грубые слова в адрес его светлого господина Роберта «Львиное сердце», давала юноше гордую мысль, что жертва его не напрасна.
А что же случилось с господами доблестных воинов, спросите вы. После столь длительной, жестокой и кровопролитной битвы старые друзья порешили, что погорячились, выпив на балу слишком много вина и объявив друг другу войну из-за пьяных оскорблений. После чего пожали один другому руку, смахнув «пешек» со стола.
ПЯТНИЦА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО
3 место в номинации «Малая проза. Открытие» Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Поэзия русского слова»
— Молодой человек, не подскажете, какое сейчас число и день? — спросила милая старушка в красном платке, когда я проходил мимо.
— Да, конечно, сейчас, — я заглянул в телефон, чтобы сказать точно. — Сегодня понедельник, шестое число.
— Спасибо большое! — искренне поблагодарила она.
— Не за что, — ответил я и пошёл дальше домой, неся на спине школьный портфель.
От небольшого доброго поступка было бы куда приятнее, если бы я не знал, что, как только мимо будет проходить другой человек, Серафима Петровна непременно задаст ему тот же вопрос.
«Интересно, почему она каждый день вот так сидит рядом со своей калиткой и спрашивает про число и день? И почему она спрашивает это у всех? Может, у неё очень плохая память или она просто слегка спятила на старости лет? Не думаю, что когда-нибудь узнаю об этом».
Прошла ещё одна неделя в школе: скучные уроки один за другим, полное непонимание тригонометрии и тот бред, который нам зачем-то рассказывал учитель по обществу, помогли стать и без того скучным дням ещё унылее.
Наконец пятница. Немного постояв на остановке, я дождался автобуса и в терпимой тесноте доехал до своего посёлка. Уже подходя к дому, увидел на обыкновенном месте возле калитки Серафиму Петровну.
— Молодой человек, не подскажете, какое сейчас число и день? — спросила она тем же добрым, слегка дрожащим голосом, что и всегда.
— Сегодня пятница… — начал я уверенно, но число вспомнить никак не мог и полез за телефоном. Пока я доставал его, увидел, что лицо Серафимы Петровны странно изменилось и она смотрела на меня с… надеждой?
— Сегодня пятница, десятое, — уже уверенно сказал я.
— Спасибо большое! — искренне сказала бабушка, но надежда, с которой она на меня смотрела, как-то поблекла.
Это заставило меня задуматься. «Почему она так обрадовалась, услышав, что сегодня пятница? Может, она ждёт какую-нибудь особую пятницу? Например, пятницу тринадцатое», — неумело пошутил я у себя в голове, но получилось совсем не смешно.
Назавтра я об этом и думать забыл, предаваясь обыкновенному безделью, как и каждые выходные.
***
Всю следующую неделю я не видел Серафимы Петровны. Но сегодня, несмотря на сильный ветер, она вновь сидела у своей маленькой калитки на лавочке.
— Молодой человек, вы не подскажете, какое сейчас число и день? — как всегда спросила она, но теперь вид у неё стал нездоровый, да и голос отдавал хрипотой, будто она болела.
— Сегодня пятница, седьмое, — ответил я и добавил. — С вами всё хорошо?
— Да-да, всё хорошо, — безучастно ответила Серафима Петровна.
— Точно? — спросил я, но она уже высматривала следующего прохожего, не обращая на меня внимания. Пожав плечами, я пошёл домой, слыша, как Серафима Петровна расспрашивает кого-то за моей спиной.
Затем последовала такая же обычная неделя, как и все, и её скрашивали только музыка да фильмы, которых в Интернете, к счастью, предостаточно.
В следующую пятницу я увидел карету скорой помощи у калитки Серафимы Петровны, но не придал этому значения. Мне даже в голову не пришло, что это приехали к ней.
В эту же ночь мне приснился необычный сон:
Солнечным утром я сидел на облупившейся голубой лавочке, вокруг всё зеленело и цвело, а на орешнике рядом распевали птицы во главе с соловьем, в воздухе витал приятный цветочный аромат — словом, эталон хорошей погоды.
И вот посреди этой весенней красоты мой взгляд устремился через дорогу, где на своём обыкновенном месте сидела Серафима Петровна, только моложе лет на двадцать и улыбающаяся. Видно было, что ждёт кого-то.
Вдруг в границах сна появилась девочка с длиной косой, подвязанной большим белым бантом, она весело бежала вприпрыжку.
— Нурочка, — обратилась к ней женщина, отойдя от мечтательного оцепенения, — не подскажешь, какое сегодня число и день?
— Конечно, тётя Серафима! — задорно отозвалась та. — Сегодня пятница, четырнадцатое сентября!
«1996-го года» — про себя почему-то добавил я. Тётя Серафима, улыбаясь ещё ярче, кивнула, будто получила подтверждение, что день, который она считает хорошим, действительно очень хорош. Девочка поскакала дальше, пока не исчезла из виду, а мы с Серафимой Петровной остались на своих местах.
Сидели долго. Уже и солнце приближалось к полудню.
Погода начала портиться. Тучи медленно ползли по небосводу и окружали ещё яркое и дарящее тепло солнце. Заморосил дождик, но Серафима Петровна осталась сидеть, я тоже никуда не спешил, а прохожие, казалось, даже не замечали непогоды.
Тут мне в глаза бросился почтальон. Он единственный из окружающих, кто не разделял общее праздничное настроение, а, завидев женщину на скамейке, вдруг нахмурился. Ударил гром. Мужчина подошел к Серафиме Петровне, вздрогнул и, приняв сочувствующий вид, что-то тихо ей сказал. Потом протянул конверт. Хлынул ливень. Почтальон ещё секунду колебался и что-то хотел сказать, но потом просто поспешно удалился, теребя пальцами усы. Лицо его сделалось мокрым не то от дождя, не то от слёз. Серафима Петровна осталась сидеть. Лицо её побледнело. Нерешительно, дрожащими руками она развернула конверт. Поднесла поближе к близоруким глазам. И застыла. Внезапный порыв вырвал листок из рук. Серафима Петровна ахнула, упала, распластавшись на скамейке.
Опять возникла девочка с белым бантом. Казалось, дождь совсем не мешал её веселью. Увидев бедную женщину, она с испуганными глазами подбежала к ней.
— Тётя Серафима, вам плохо?! — не дожидаясь ответа, Нура стала осматриваться по сторонам, но все люди как назло пропали с улицы. — Тётя Серафима, я сейчас! Подождите немного! Я сбегаю за мамой в поликлинику, она вам поможет!
И девочка со всех ног понеслась в сторону местной поликлиники, а Серафима Петровна осталась лежать, тяжело дыша. Я уже не мог просто наблюдать за происходящим, но, едва попытался встать, почувствовал, будто приклеен к скамейке. Оставалось смотреть дальше.
Я и не заметил, как Нура вернулась, да не одна, а с машиной скорой помощи. Она закрыла от меня Серафиму Петровну. Вышли женщина-врач и два санитара с носилками и скрылись за машиной. Послышался торопливый говор врача и ответы Нуры, из которых я не мог разобрать ни слова. Спустя минуту санитары погрузили женщину в машину, следом в неё запрыгнула мама Нуры, и они все торопливо уехали. Осталась только испуганная девочка.
Тут сон поплыл, и картина изменилась.
Гроза прошла, но и от весенней благодати не осталось следа, теперь над головой повисла серая осень со своими тучами.
Ранним утром, когда дети ещё не торопились в школу, Серафима Петровна решила выйти на улицу подышать свежим воздухом. Вид у неё был слегка болезненный для Серафимы Петровны из начала сна, но абсолютно нормальный для хорошо знакомой мне старушки.
Опять появилась Нура, но на этот раз она торопилась, неся портфель на спине. На её голове болтался завязанный на скорую руку бант.
— Нурочка, — обратилась к ней женщина хорошо знакомой мне интонацией. — Не подскажешь, какое сейчас число и день?
— Сейчас, тётя Серафима, сегодня пятница… — девочка поморщилась, копаясь в памяти, а в глазах женщины что-то вспыхнуло, лицо переменилось. — Семнадцатое октября! — выпалила Нура.
— Спасибо большое! — поблагодарила старушка девочку, которая уже убежала.
Теперь я видел напротив себя ту самую, хорошо знакомую мне Серафиму Петровну. Тот самый пронзающий насквозь взгляд и то самое немного потерянное выражение лица. Единственное, что её отличало от настоящей, возраст.
Только я об этом подумал, как солнце будто сошло с ума и понеслось, как бешеная карусель. Но… только на моей стороне, а Серафима Петровна всё продолжала спрашивать у внезапно появляющихся людей, среди которых спустя время возник и я, какое сейчас число и день. Хмурая осень уступала место весне, но почти сразу все краски смывались тяжёлым дождем, топя мир в сером цвете.
Наконец, солнце стало постепенно замедлять ход, возвращаясь к обычной скорости. Стояла приятная утренняя погода, совсем как та, с которой начался сон. И, несмотря на то, что у нас с Серафимой Петровной, по-видимому, светили разные солнца, погода с обеих сторон стояла одинаково хорошая.
— Молодой человек, не подскажите, какое сейчас число и день? — спросила женщина проходящего мимо белобрысого парня. В ответ услышала, что сегодня пятница, четырнадцатое.
Радостно запели соловьи. Ещё много раз женщина спрашивала: «Какое сейчас число и день?» — и столько же раз радостно благодарила, слыша, что сегодня пятница, четырнадцатое.
Солнце засветило веселее и ярче. В какой-то момент я заметил, что люди больше не проходили мимо, и стало прохладней, подул лёгкий ветерок. Только сейчас я увидел, насколько бледна Серафима Петровна.
В поле сна появилась необычная фигура — солдат на костылях, он был хромой… Нет, одноногий. На оливковой шинели ярко блестел орден. Солдат уверенно, будто отсутствие ноги ему совсем не мешало, подошёл к женщине.
— Ну, здравствуй, мама, — тихо сказал он, улыбаясь. — Вот я и пришёл.
Серафима Петровна вскочила и обняла сына.
— Вот и ты, сынок, — прошептала женщина сквозь слёзы.
— Прости, мама, — парень говорил тоном, каким оправдываются провинившиеся дети. — Понимаешь, просто я не мог Витьке не помочь, а мина старая была, заржавела вся, вот ребята из саперов и не успели.
Тут Серафима Петровна вздрогнула.
— Мишенька… — голос женщины задрожал. — Мишенька, сынок, пойдём домой.
— Нет, мама, сегодня мы домой не пойдём. Да ты не бойся, там хорошо и там не нужно ждать, там мы будем вместе.
В ответ мать только робко кивнула сыну.
Солдат бодро развернулся на одной ноге, награда на его груди перевернулась, показав надпись «мужество» на серебряном кресте. Парень взял маму за руку, второй оперся на костыль, и они ушли туда, откуда пришёл солдат, далеко за границу сна.
«Пора и мне идти, а то так всю жизнь просплю», — неожиданно спокойно подумал я, встал со скамейки и тут же проснулся в холодном поту, как после кошмара, хотя точно помнил, что сон был вовсе не страшный. Но самое главное, я помнил его до мельчайших подробностей, чего со мной ещё никогда не бывало.
***
Вечером, гуляя с собакой, я случайно услышал, как седой усатый старичок говорил о Серафиме Петровне. Оказалось, она умерла в эту ночь в больнице.
— Бедная Серафима, — говорил дедушка. — Таким хорошим человеком она была.
— Да ведь она сумасшедшая, — сказал кто-то из собеседников помоложе. — Всё время приставала ко всем со своим числом и днём недели.
— Эх ты! — отмахнулся старик. — Много ли ты понимаешь?! Она сына потеряла… Да не просто потеряла — он ей успел написать, когда приедет, много радости тогда было у неё, да-а… А потом за пару дней до приезда на старой мине подорвался. Я Серафиме повестку об этом приносил, — дедушка достал платок и утёр слезу. — Её удар хватил, а потом она его все ждала — не выдержал разум… без поддержки. Вот так вот. А ты говоришь, сумасшедшая.
— Да ведь не знал я, — пристыженно промямлил молодой.
— Эх ты! — ещё раз отмахнулся старичок и ушёл, теребя пальцами усы.
«Неужели это не сон вовсе был, — ошарашенно думал я, смотря старику вслед. — Выходит, Серафима Петровна вовсе не несчастна, ведь она с сыном там, где царит счастье и где ей больше не нужно ждать».
КОГДА ЧАС РАВЕН ГОДУ
«Вот же чёрт! Неужели опять?» — взвыл голос, заглушаемый сиреной. Несясь так быстро, как это только позволяли узкий коридор и крутая лестница, ругаясь и задевая по пути все углы, парень двигался к источнику сирены.
Влетев в маленькую комнатку, он схватил странный, похожий на большой швейцарский нож инструмент и принялся ковыряться в стене. Спустя два часа напряжённой работы, чертыханий и злобных вскриков Вик протёр потный лоб рукавом красной кофты и аккуратно положил инструмент на место. Еле держась на ногах, он вышел из комнатки и поплёлся обратно по коридору. «Уже третий раз за неделю, а ведь сегодня только четверг», — печально подумал он.
Решив помыться после утомительной работы, по пути в столовый сектор он зашёл в просторную комнату с множеством кабинок. Зайдя в первую, скинул мокрую от пота одежду и покрутил краник. Из душа полилась еле тёплая вода. «Еще холоднее, чем два дня назад», — с грустью подметил парень.
Он наскоро помылся, вытерся и взял свежую одежду из шкафа, после чего закинул свою. «Простите, но в целях экономии энергии стиральные шкафы отключены», — раздался равнодушный электронный голос. Взвыв очередной раз, Вик всплеснул руками, вышел из душевой и двинулся в столовую.
— Анна, что сегодня в меню? — спросил он в пустоту большого зала.
— Овсяная каша консервированная, — ответил тот же электронный голос.
— Опять? — разозлился Вик. — Консервы были последние три дня! Сколько можно?
— Простите, но всё, что было в запасах, кроме консервов, либо съедено, либо испортилось.
— И сколько я смогу питаться этой дрянью?
— Один человек может прожить на запасах убежища около тридцати двух лет и девяти месяцев.
— Если не умру от восхитительного вкуса, — промямлил парень. — А что с энергией?
— В энергосберегающем режиме её хватит ровно на сорок лет.
— Замечательно! Умирая от голода, хоть музыку послушаю, — не скрывал он иронии.
— Вынуждена сообщить, что при тех же расходах, что сейчас, воды в убежище хватит не более чем на пятнадцать лет, три месяца и двадцать четыре дня.
— Благодарю, — издевательским тоном выдавил парень.
— Всегда пожалуйста, — ответил бесстрастный электронный голос.
Кое-как дожевав питательную жижу из банки, Вик решил побриться, а после почитать книгу. В зеркале на него смотрел человек, который, казалось, совсем не может быть Виком. Морщинистый, с пустотой в глазах и сединой в волосах, раскиданной по голове так, что непонятно, каких волос больше: белых или каштановых. Большие мешки под глазами свидетельствовали о систематических недосыпах — ему часто снились кошмары с тех пор, как он остался один, да и сирена не давала спать. А ведь ему было всего двадцать пять. Сбрив недельную щетину, он двинулся в жилой сектор, в котором витала пыль и звенящая тишина.
— Анна, включи что-нибудь из Паганини.
Заиграла музыка. Вик зашел в свою комнату, упал на кровать и взял любимую книгу, единственную, которая ему не надоедала. В ней описывалась природа. Природа для Вика была чем-то мифическим, невероятным. Выросший среди бетонных стен и пластиковой мебели, он видел только комнатные растения, да и те были жухлые, чуть живые, а теперь и их не осталось.
В книге загадочный А. Листовой описывал зелёные леса, лазурно-голубое небо, длинные реки и необъятные поля и океаны. Парень всю жизнь только и мечтал увидеть хоть кусочек этой красоты своими глазами, но всюду, куда не глянь, голый серый бетон и безжизненный пластик.
Зачитавшись, он уснул под убаюкивающие звуки скрипки, и ему опять приснилось, как некогда многолюдное убежище пустело от вируса с нижних уровней, как он вместе с группой из нескольких человек поднялся наверх, а потом старый управляющий забаррикадировал дверь и сказал, что от них нас отделяет лишь фильтр. А потом был вой сирены.
Вик вскочил, вой сирены ему не приснился. Опять он понёсся в ту маленькую комнатку, схватил инструмент и провозился целых четыре часа. «Да что это такое?! Сколько это ещё будет продолжаться?!» — упёршись лбом в стену, кричал парень.
— Важное сообщение для старшего управляющего. Пройдите в зал совещаний.
«Что за чёрт?» — опешил Вик. За всю его жизнь такое случалось лишь раз, и тогда старшим управляющим был старый Вестон, а после того, как он вернулся, всем урезали рацион. Так что инстинктивно парень не ожидал ничего хорошего, но всё же решил спросить.
— Что там такое, Анна?
— Для получения подробной информации пройдите в зал совещаний, пожалуйста.
Понятно, от неё ничего не добиться. Вик поднялся по широкой лестнице, побродил по жуткому до мурашек холлу и нашёл большую дверь с надписью «№6. Зал совещаний». Войдя, он увидел большой экран на всю стену и широкий стол на тридцать человек. Всё это находилось под таким слоем пыли, что, казалось, из неё и состоит.
Не успел парень оглядеться как следует, как вдруг неожиданно вспыхнул экран и раздался равнодушный электронный голос Анны: «По поручениям основателя убежища номер девять Майкла Смита с самого начала функционирования и до сегодняшнего дня, седьмого апреля две тысячи триста восемьдесят четвертого года, велось наблюдение за радиосигналами других убежищ, которые свидетельствовали об их функционировании. Но сегодня, седьмого апреля две тысячи триста восемьдесят четвертого года, прервался последний сигнал, исходящий от убежища номер двадцать три».
Вик посмотрел на экран. Там была большая карта мира, которую он раньше видел разве только на уроках географии. Под картой находилась дата, а под ней условные обозначения с подписями, какой цвет относится к какому убежищу. На дате «8.02.2266» по всей карте горело множество огней, но уже на «10.02.2266» осталась лишь треть из них, и с каждым годом огней становилось всё меньше и меньше, пока не остался один белый огонек, словно лучик надежды, но и он потух. «Это значит, что единственной надеждой на выживание человечества стало убежище номер девять. Пожалуйста, сообщите об этом всем жильцам убежища».
У Вика похолодело внутри, гигантский снежный ком медленно прошёл от горла до груди. Вот и произошло то, чего он больше всего боялся: шанса на спасение нет, он остался один во всём мире, обречённый на медленную смерть от обезвоживания или голода. А, может, в один день он не сможет починить воздухофильтр и просто задохнется, умрёт таким жалким в собственном поту.
Он рухнул на ближайший стул и схватился руками за голову, а Анна продолжала говорить: «Если вдруг датчики обнаружат, что на поверхности снова возможна жизнь…» Дальше Вик слушать не стал, он решил во что бы то ни стало не умирать жалким трясущимся человечком.
Решительными шагами он пошёл в служебные помещения, взял подходящий под свой размер защитный костюм и двинулся по самой высокой лестнице наверх. Раздалась до ужаса знакомая, так надоевшая сирена, но парень наконец-то мог просто проигнорировать её. Наслаждаясь каждой пройденной ступенькой, он больше не боялся. Он радовался, что спустя столько лет взаперти, спустя столько лет страха не успеть в маленькую комнатку по первому зову сирены, страха перед вечным одиночеством и ночными кошмарами он, наконец, свободен, и движется к своей мечте.
«Внимание! Датчики фиксируют смертельно опасный уровень радиации за пределами убежища. Выход разрешён только в костюмах замкнутого действия, время пребывания на поверхности, не влекущее за собой смерть, один час, время нахождения, не влекущее за собой лучевой болезни, одна минута. Открытие двери возможно только при общем согласии всех жильцов убежища».
«Вик Маралес согласен», — твёрдо ответил парень. «Согласие изъявил один житель, количество несогласных жителей — ноль, количество жителей убежища — один. Доступ разрешен. Будьте осторожны».
Толстая дверь открылась с жутким скрежетом и воем сирен. Шагнув за неё, Вик увидел следующую дверь, она открылась только после закрытия той, что была за спиной. За ней была ещё одна, а за той ещё две, каждая толще предыдущей, и каждая открывалась с всё более жутким скрежетом. И вот, наконец, последняя дверь. Не дожидаясь полного открытия, Вик протиснулся наружу и выбежал из ямы, как маленький ребенок, которому сказали, что там его ждёт что-то чудесное.
Перед его глазами расстилалось пепельно-серое полотно неба, строй полуразрушенных одноэтажных зданий, а вдалеке виднелась вода. Недолго думая, парень побежал к воде, но быстро понял, что бежать в этом костюме очень неудобно и тяжело.
Он кое-как доковылял до огромного озера, которое находилось в кратере. Когда Вик спустился к нему, в шлеме раздалось сильное потрескивание, будто кто-то ломал рядом с ухом карандаши или пластиковые вилки, но парню было всё равно. К разочарованию героя в воде он увидел лишь, словно в зеркале, серое небо и себя в нелепом костюме.
Вик расстроился и сел на землю, как вдруг жар, который он сначала списал на нагрузку при беге, начал усиливаться, но потом резко исчез вовсе. И перед Виком в земле появилось что-то зелёное. Оно становилось всё крупнее, пока не стало размером больше Вика. Недоумевая, парень встал на ноги и протянул руку к нечто в форме шара, но не успел его коснуться, как шар взорвался, повалив его на землю.
Когда через несколько мгновений Вик открыл глаза, он увидел лазурно-голубое небо с белыми пушистыми облаками, плывущими по нему, как большие корабли. Подняв голову, Вик увидел вокруг себя зелёный лес, а небольшое озерце заполнилось разной чудной рыбой. Посмотрев на эти краски, парень улыбнулся, встал, поднял руки к небу и рухнул на землю. Пускай ненадолго, но он стал счастлив.

Татьяна ЕФИМОВА
Член Международного Союза писателей и Мастеров искусств
Жил-был поэт…
***
В саду моём свинцовые шмели
Шныряют над свинцовыми цветами,
Которые средь пыли расцвели,
Ощерившись свинцовыми шипами.
В моём саду хрустальные мосты
Свинцовою полынью зарастали,
Огнём и пеплом прежние мечты
Под натиском металла догорали.
И ложный мёд свинцовою струёй
Наполнил чрево жадного бокала,
Я пью свинец, мне выданный войной,
И тело рвут шмелей свинцовых жвала.
Я не боюсь свинцовой суеты,
Ведь из груди, распаханной металлом,
Среди смертельной, серой пустоты
Надежда с новой силой прорастала.
***
Ах, как хотелось снегопада,
Чтоб в свете тусклых фонарей
Кружиться в вальсе до упаду
Среди заснеженных аллей.
Ах, как хотелось снегопада,
Ведь там, за белой тишиной,
Сменяя яркость листопада,
Бал снежный для меня одной.
Мне так хотелось снегопада,
И, глядя в сумрак за окном,
Мне чудилось, что за оградой
Метель метёт и снег кругом.
Я так хотела снегопада,
Но юг, тепло в краю моём,
Дожди гуляют в гуще сада
И не снежинки за окном.
***
— «Один билет до НИКУДА,
На поезд БЕСКОНЕЧНОСТЬ!».
Я брошу в чемодан года,
Свой опыт за билет отдам
До станции конечной.
И выйду на пустой перрон,
Где в сонной полудрёме
Ждёт старый призрачный вагон
И погрузился в полусон
Кондуктор в униформе.
Мой проводник неговорлив
И не предложит чаю.
Отбросив слабости порыв,
Так ни о чём и не спросив,
Я в ВЕЧНОСТЬ уезжаю.
Тада-тадам, тада-тадам,
Как кадры киноплёнки,
Мелькают месяца, года,
Что не прожить мне никогда,
В пути нет остановки.
Один билет до НИКУДА
Судьба мне прописала,
Я не стара, не молода,
Но, бросив в чемодан года,
Я в НИКУДА пропала.
***
Здравствуй, Осень, это снова Я —
Дочь твоя, сбежавшая от лета,
В платье новом золотого цвета
Я ждала прихода сентября.
Провожала стаи журавлей,
И, меняя зелень на багрянец,
Душных дней смывала пыль да глянец,
И ждала октябрьских дождей.
Я пришла, из августа сбежав,
Пить прохладу пасмурных рассветов,
Ведь в плену у жалящего лета
Нет туманов и усталых трав.
Здравствуй, Осень, это дочь твоя
В длинном платье золотого цвета.
Я пришла к тебе, оставив лето,
Осень, здравствуй, это снова Я!
***
Лист первый жёлтый пал под ноги,
Посланник осени грядущей.
Дней летних, томных жаль немного,
Но дождь из листьев всё же лучше.
Я жду костров и неба хмарость,
Жду запах спелой изабеллы,
Букеты астр, садов усталость…
И лист на память жёлтый, первый.
***
Дом ненаписанных стихов,
Обрывка фраз, осколки слов,
Фантомы строчек вместо стен —
Листы черновиков взамен.
Дом недодуманных стихов,
Сюжетов стон в плену оков,
Чернила призрачной строкой,
Тень рифмы в комнате пустой.
Недопридуманный рассказ
Не нами, да и не про нас…
Ямб эхом воздух всколыхнёт
И мимо призраком скользнёт.
Мной недописанный сюжет
Допишут через сотни лет,
Когда дом нерождённых слов
Заполнит сонм живых стихов.
***
Я замахивалась на грандиозное,
Но опять погрязала в мелочном,
Сотворить для других невозможное
Невозможно, коль души увечные.
Я старалась ходить на цыпочках,
Хоть на дюйм, но быть ближе к великому.
Но, ловя в спину злобное «выскочка»,
Я поникла, вновь ставши безликою.
Я хотела объять необъятное
И замахивалась на грандиозное,
Но в пятнистой толпе незапятнанной
Оставаться становится сложно мне.
***
Как тебя отыскать,
Моя бедная птица удачи?
Мои крылья, увы,
Неспособны поднять меня вверх.
Иногда по ночам
Слышу, как ты в терновнике плачешь,
И так часто вдали
Слышу твой затихающий смех.
Где тебя отыскать,
Моя глупая птица удачи?
Ты не здесь и не там,
От меня всё куда-то спешишь.
Истоптав сотни троп,
Я не ближе к тебе и не дальше,
Чем в тот день, когда я
Увидал, как ты в небе паришь.
Я тебя отыщу,
Моя странная птица удачи,
Подбирая в пыли
Твои перья для крыльев своих.
Я тебя отыщу,
Моя синяя птица, и, значит,
Прах небесных дорог
Мы разделим с тобой на двоих.
***
А где-то дожди идут
И тучи стеной стоят,
В горнилах небес салют
Из молний. Громов раскат.
И ветер в тоске глухой,
Как зверь у хозяйских ног,
Сорвётся на злобный вой,
Как будто бы занемог.
А я по земле иду,
Расплавленной от жары,
И тщетно который год жду
Дождя. Но здесь нет воды.
Деревьев скелеты в строй,
Мой мир — для зноя сосуд,
Лишь ветра всё тот же вой…
А где-то дожди идут.
***
Нажав на клавишу Delete,
Я для тебя себя стираю.
За байтом байт, за битом бит
Из твоей жизни удаляю.
Курсор — бесчувственный палач —
Команды слепо выполняет
И папки наших неудач
На дно корзины отправляет.
Вся наша жизнь — сплошной Caps Lock
Из прописных букв и заглавных.
Я заучила твой урок,
И ты со мной теперь на равных.
И бесполезно жать Escape.
Нам не вернуть былого счастья,
Alt + F4 и Backspace,
И Ctrl + Z не в нашей власти.
*Alt + F4 — закрытие текущего элемента или выход из активной программы.
*Alt + F4 и Backspace — перезагрузка, выключение компьютера, завершение сеанса.
*Ctrl + Z — отмена действия
***
По небесным тропам кони
Ходят-бродят взад-вперёд,
Белый чёрного догонит,
Чёрный белого ведёт.
Звёзды в небе колосятся,
Звёзды косят, как траву,
Кони на траву косятся,
Гривы вьются на ветру.
Эх, вы кони, мои кони —
Дни беспечные мои,
Белогривый солнцем всходит,
Чёрный месяцем глядит.
И всегда бредут за мною,
Оставляя за спиной
Жизнь, покрытую золою,
Белый конь да вороной.
***
Разноголосье соловьёв,
Скворцов заливистая трель,
Весна — задорный менестрель —
Берёт октаву в си-бемоль.
И в белопенных кружевах
Сады танцуют нежный вальс.
Как эхо, музыка лилась
И робко пряталась в ветвях.
Листвы зелёной акварель,
Как палантин, накинул лес.
Дождь-бисер рассыпал с небес
Игривый молодой апрель.
В долинах кисеёй туман,
Цветущих вишен хоровод
И птиц безудержный полёт
Навстречу молодым ветрам.
***
Не каждый рождается Бродским,
Но каждый в душе поэт,
Пусть рифмы просты и неброски,
А где-то их просто нет.
Пусть «розы — морозы — слёзы»,
Но всё ж тяготеет душа
К тому, чтоб как тот же Бродский
Уметь оживлять слова,
К тому, как писал прозу Чехов
О том, как страдают, живут.
И пусть не добиться успехов,
Но верить и знать, что поймут.
***
Чтобы воскреснуть, нужно умереть,
Познав предательство взращённого Иуды,
Чтоб век за веком в небесах гореть
Солнцеподобным Ра, великим Буддой.
И в книге Тота прочитать свой путь,
Расписанную до секунды вечность,
Чтобы когда-нибудь божественную суть
Сменить на плоть, поверив в человечность.
Спустя столетья, прошлое стерев,
Переписав историю трёхкратно,
Не став оракулом, быть преданным — взлететь,
Стать снова Богом, как и был когда-то.
***
В старой лавке часовщика
На развес продаётся время,
Кто-то купит год или два,
Поместив их в часы да на стену.
Кто-то сразу в кредит берёт
Детство, юность и сверх полвека,
А другой как в ломбард сдаёт
Срок, не прожитый человеком.
День за днём часовщик продаёт
Бытия ткань, на вес вымеряя
До секунд, сколько кто проживёт,
Должников в циферблат обращая.
Став мерилами хрономинут
И другим жизни срок отмеряя,
Люди-стрелки по кругу бегут,
Эфемерность в товар превращая.
И течёт людских судеб река,
Разнося ложь, желанную всеми:
Дескать, в лавке часовщика
Просто так раздаётся время.
***
Чернильные птицы кляксами из-под пера
Садились на белое поле вощёной бумаги,
Прерывистой линией чья-то рука провела
Завьюженный тракт заплутавшего ветра-бродяги.
Убористый почерк описывал снежный простор
И сосен зелёных иголки под белою шалью,
Чернильною вязью из букв создавался узор,
Слегка обозначив диск солнца блестящей поталью.
Слова на морозе застыли, как будто глазурь,
Покрывшая пряничный корж, а вдали за горами
Из чёрных чернил чьей-то волей рождалась лазурь,
Раскрасив полнеба, полнеба покрыв облаками.
Читая — рисую, листы как одно полотно,
Фантазии буйной полёт щедро дарят чернила,
И чья-то рука слова твёрдо выводит пером,
Но перед глазами не строчки, а в красках картина.
***
А в сказке всё наоборот,
И кажется, что счастье рядом,
Что Белоснежку принц спасёт,
В дремучий лес за ней придёт,
Ведь в сказке только так и надо.
Но в жизни всё совсем не так,
Другие действуют законы:
Циничным стал Иван-дурак,
И магу служат за медяк
Когда-то вольные драконы.
И Золушка, увы и ах, —
Конец истории печальной —
Стоит нетрезво на ногах,
Держа брезгливо в коготках
Осколки туфельки хрустальной.
Но в сказке всё наоборот:
Открыты в Зазеркалье двери,
Там Чудо, притаившись, ждёт,
И витязь девицу спасёт…
Нам просто нужно в сказку верить.
***
Не был никогда и не буду нормальным, как всем полагается,
Диагнозы ставят люди, а люди порой ошибаются.
И пусть говорят, что безумен, оторван от общей реальности.
Не верю! Ведь вы — просто люди, я нормальный в своей ненормальности.
Пусть хор голосов осуждающих беснует, хрипит от ярости,
Ведь каждый из вас ненормален с точки зрения чужой реальности.
***
Осень. Багряные листья и кисти рябины.
Осень — глинтвейна пора с привкусом сплина,
Сад, яблони в ряд, стол, веранда, чай в кружке,
Дождь, шепчущий сонно о чём-то на ушко.
Небо разрежет стрела журавлиного клина,
Астры, как красок мазки на осенней картине.
Филин, живущий в дупле, угукнет лениво,
Тучи, как флот кораблей, шквальным ветром гонимы.
Мокрые ветви, как пальцы, озябли немного,
Ветер сгоняет листву под скамью у порога.
Шаль, старая шаль согревает мне плечи.
Осень, спасибо за этот октябрьский вечер.
***
В моей хижине на скале поселились ветра,
В моём домике на краю приютились метели
И бормочут, и шепчут о чём-то во сне до утра,
А, проснувшись, простившись, куда-то опять полетели.
Домик мой на краю построен из тонкого льда,
В моей хижине окна из игл слепящего снега,
А в камине горит, но не греет ночная звезда,
Что попала в мой дом после дерзкого с неба побега.
Сто двенадцать ступеней ведут в мой приют на чердак,
Ещё десять — и можно попасть на покатую крышу.
Миражи заселили чердак, каждый день за пятак,
А в подвале гуляет сквозняк и поёт еле слышно.
Мою хижину на скале из снега и льда
Каждый день посещают друзья, угощаясь абсентом,
Только мне не попасть в замок мой никогда, никогда,
Потому что застрял там, где царствует вечное лето.
Не пускает жара, по пятам за мной призраком зной
Угрожает, что дом мой из снега на солнце растает,
Но однажды, влекомый мечтой вновь вернуться домой,
Отрастив два крыла, улечу с белоснежною стаей.
***
Постигать сумасшествие скучно, когда ты один,
Когда хор голосов в голове, а ответить не можешь,
Когда жаждою скрыться от глаз посторонних движим,
Ты снимаешь с себя этот мир впопыхах вместе с кожей.
Когда музыка сфер из бутылок в бокалы течёт,
А тебе по привычке кричат вслед «алкоголичка»,
И рисунки на стенах не бред! Но чужой не поймёт,
Лишь привычное буркнет: «дурак» или «шизофреничка».
Расставаться с умом интереснее всё же вдвоём,
Одному жутко так, да ещё когда заперт ты в доме,
Когда кажется дверью каждый оконный проём
И тебе подстилают ковёр на холодном бетоне.
Когда знаешь: твоя непохожесть созвучна с моей,
А ковры под балконом лишь повод для нас прогуляться,
И когда лунный лик затеряется среди ветвей,
Мы допьём сумасшествие так, чтобы не просыпаться.
Да, вдвоём веселей, кто в какое выйдет окно,
Кто в какое войдёт, кто останется спать на асфальте.
Ты накрасишь глаза, как актриса немого кино,
Я надену сюртук, папиросу в мундштук и… бывайте.
***
Волнами мегагерц в диапазон небес
Я шлю сигналы SOS кому-то и куда-то,
Мой сателлит исчез, звездою класса S
Я приближаюсь к точке невозврата.
В мерцании светил сигнал мой плыл и плыл,
Среди остывших звёзд — квазаров и пульсаров,
На стыке чёрных дыр ход времени застыл,
Ловя, как в сети, звёздных эмиссаров.
И тщетно в пустоту я за волной волну
Всё шлю сигналы SOS зачем-то и куда-то,
И, глядя в черноту, я что есть сил сверкну,
Пропав за горизонтом невозврата.
***
И, заблудившись в городских каньонах,
Мы ловим красный свет на светофорах,
Рабы высоток и микрорайонов,
Вся наша суть в трёх буквах на заборах.
Мы арестанты в зоне без запоров,
Тюремщики своих и чьих-то судеб.
Под шорох шин и злобный рык моторов
Живём, греша, и крылья себе рубим.
Развилки, переезды, перекрёстки,
Зелёный ждём, но СТОП на светофоре.
Взлететь бы, да паденье будет жёстким…
И как клеймо — три буквы на заборе.
***
В желаньи объять необъятное,
Принимая решенья поспешные,
Мы покрыли хитоны пятнами,
И мы больше уже не безгрешные.
И, грехом первородным заклятые,
Нас рожают земные женщины,
И мы больше уже не крылатые,
Наши жизни теперь уж не вечные.
Мы желали объять необъятное,
Стать подобными Богу-Создателю,
Но в гордыне души запятнали,
Свет божественный весь порастратили.
Из крылатых да в Хомо Сапиенс,
С небес ниц во земном воплощении —
Крест несём да, на жизнь свою жалуясь,
Всё молитвы творим о прощении.
ИСКАЖЕНИЯ
Что написано пером, не вырубишь топором.
Русская пословица
Мэтр судорожно строчил. Зачёркивал, опять строчил, опять зачёркивал и вновь что-то дописывал. Карандаш то носился по бумаге с бешеной скоростью, то замирал в нерешительности, словно просчитывая дальнейшие варианты развития событий. Вот только они не хотели развиваться в нужном Мэтру русле, поэтому очередной скомканный лист отправлялся к таким же изрядно помятым двойникам, которые внушительной горкой выделялись в тёмном углу кабинета.
Наконец, удовлетворённо откинувшись на спинку потёртого кресла, он смог расслабиться и полюбоваться результатом кропотливой работы — рукописью своего нового романа.
На написание очередного шедевра он потратил много душевных сил и внутренней энергии. Порой даже казалось, что придуманный мир обретает плоть и оживает вокруг автора. Всё чаще и чаще пугающе реальными миражами перед взором Мэтра проявлялись мостовые небольшого приморского города, которые брали начало у стен старинного замка, стоявшего на холме, и беспечно сбегали вниз, упираясь в тихую, закрытую от всех ветров бухту, где на рейде стояли быстроходные шхуны, прогулочные яхты, сновали туда-сюда рыбацкие лодки.
Вот и сегодня возникшие перед глазами Мэтра из ниоткуда извилистые и нарядные улочки постепенно заполнялись людьми — жителями этого уютного городка. Каждый спешил по своим, тщательно прописанным автором делам. Здесь был булочник, открывавший лавку, которая внешне напоминала сладкую миндальную коврижку, и аромат свежей выпечки плыл по воздуху, заставляя прохожих принюхиваться, предвкушая вкус свежеиспечённой сдобы. Не удержался и улыбчивый мальчишка-посыльный, пробегавший мимо. Купив плюшку, щедро сдобренную сахарной пудрой, он побежал дальше мимо часовщика, склонившегося над затейливым механизмом в мастерской, на витринах которой тикали, щёлкали и отсчитывали время уже исправленные хронометры; мимо башмачника, с утра пораньше постукивавшевого видавшим виды молоточком, ремонтируя очередную пару стоптанных сапог. Вот прошли юные служанки, над чем-то задорно смеясь и спеша на рыночную площадь, чтобы закупить свежих овощей к обеду. Постепенно город заполнялся и новыми персонажами. У пирсов сновали матросы, купцы и торговцы. Рыбаки прямо с лодок предлагали свой товар: свежевыловленную рыбу и морепродукты.
Громкий скрип и лязг возвестили о том, что восточные ворота города открыты. Вскоре по его каменным мостовым пойдут подводы и повозки селян, желающих выгодно продать товар на рыночных рядах.
На городских стенах примостились стайки юрких ящерок-летунок, которые после прохладной ночи грелись в ещё ласковых утренних лучах осеннего солнца…
***
Маг поёжился. Со смотровой площадки одной из башен замка он наблюдал за обычной утренней суетой. Казалось бы, идеальное начало дня в подведомственном ему городке. Мирная, пасторальная картина. Но на то он и Маг, чтобы видеть больше, чем доступно простым смертным. А он был очень хорошим мастером своего дела, плохой не дожил бы до его лет и не смог бы дослужить до статуса городского правителя. С тревогой он вглядывался в сторону Северного предела, где за Драконьим кряжем сгущались свинцовые тучи, предвещающие большую бурю. Нет-нет, да мелькали средь них всполохи от молний, однако настораживало то, что грома не было слышно. Это могло означать одно — там творилась худая волшба. Маг в очередной раз поёжился. Создавалось ощущение, словно чей-то злобный взгляд буравит затылок. Недобрый знак. Ох, недобрый. Чуял колдун перемены грядущие и безоговорочно доверял своему чутью.
К этому городку Маг был очень привязан, хотя тот и не был чем-то особо примечательным и от других поселений государства Островных земель не отличался. Устал Маг от битв и дворцовых интриг, поэтому, оказав очередную неоценимую помощь королю, он, получив заслуженные почести в виде статуса наместника территории под названием Южный Предел с удовольствием покинув дворцовую службу, обосновался здесь в городке, считавшемся негласной столицей Предела.
Мягкий климат даже зимой делал эту местность комфортной и уютной. Обилие зелени на улицах города создавало тень и прохладу в летний сезон. Яркие краски, добродушные местные жители, сытая спокойная жизнь — на всё это Маг рассчитывал, по крайней мере, до недавних пор. Ощущение свербящего спину взгляда всё не проходило, и он вновь задумчиво посмотрел в сторону горной гряды, напоминавшей гребень дракона, оттого и названной Драконьим кряжем.
Городок был особенным ещё и потому, что был последним на побережье Южного Предела. Так он и назывался — Последний Рубеж. Кто и почему дал ему это название, никто из местных уже не помнил. Многие события Долетописных времён канули в небытие, и в нынешнем втором Летописье упоминаний об этом не осталось. Возможно, в одном из древних фолиантов, хранящихся в удивительно обширной для провинциального города библиотеке, и найдётся ответ, но пока это было не так уж и важно для Мага. Важно лишь то, что он надеялся, что этот Рубеж для него действительно будет последним…
***
…Маг поёжился. Ему казалось, что чей-то внимательный, изучающий взгляд сверлит его, вгрызаясь в затылок. Он обратил взор в сторону Южного Предела, где за Драконьим кряжем занимался рассвет. Место это слыло гиблым для магов. В голове появилась неприятная мысль, словно пришедшая извне, что особенно опасна она для недомагов — недописанных, недодуманных, недосозданных. Неприятная и прилипчивая мысль…
Старожилы говорили, что за Южным обитает сам Пишущий — могущественный колдун старого Ковена. Дескать, он силой мысли способен оживлять созданные образы и написанным строкам заклинаний давать настоящую жизнь.
В подобные россказни Маг не верил. Наверняка бабы придумали, чтобы стращать непослушных мальцов. Но всё же он принимал тот факт, что ему становилось болезненно и неуютно от предположения, что это может быть правдой.
Стоя на смотровой площадке кособокой башни, ведун бросил взгляд на городские улицы, где начиналась утренняя суета. Скрип и лязг западных ворот возвестили, что вскоре по изломанным мостовым загромыхают повозки хмурых селян, которые устремятся на рыночную площадь в желании поскорее сбыть свой товар, зачастую далеко не первой свежести. Булочник открывал лавку, которая по цвету напоминала один из его неудавшихся шедевров. Запах пригоревшей выпечки разнёсся в воздухе.
«Опять», — с тоской подумал мальчишка-посыльный и, сгорбившись под тяжестью корзины с корнеплодами, побрёл дальше, мимо лавки часовщика, который склонился над механизмом, лишь отдалённо напоминающим часы, мимо сапожника, который даже не приступал к починке небрежно валявшейся рядом пары сапог.
Пара хмурых служанок, с утра пораньше получивших незаслуженный нагоняй от хозяйки, шла к рынку, который неудобно раскинулся у стен городской ратуши. Говорят, что раньше он располагался недалеко от замка, но затем, в Долетописные времена, произошло нечто, искривившее и изломавшее этот городок до неузнаваемости. Да и сам замок с когда-то стройными башенками напоминал скорее гротескное творение сумасшедшего, чем жилище великого Мага.
Стайки крикливых ящерок-летяг, нахохлившись, расположились на городской стене в тщетном ожидании ласковых осенних лучей утреннего солнца, надеясь согреться после долгой промозглой ночи. Вот только солнца почему-то не было. Давно уже не было. Лишь брюхатые тучи нависали над городом, портя и без того неприглядный пейзаж.
«Как будто создатель решил, что нам не нужно солнце… Но дожди через день и постоянная грязь нам тоже ни к чему», — Маг вздохнул. Кривые дома, размытые фигуры людей, изломанные линии улиц — всё это вызывало лишь раздражение и очередной прилив злобы, от которого в небе очередной раз полыхнула зарница.
«Проклятый …Рубеж, — подумал он. — И кто придумал назвать этот недогород …Рубежом? Причём именно так, с многозначительным многоточием впереди. Наверняка какой-нибудь недоучка!». И сам город, и обстоятельства, которые забросили его сюда, — всё это лишь усугубляло отвратительное состояние и без того необщительного Мага, ещё больше приводя в уныние серых и бесцветных жителей.
Пробормотав под нос пару замысловатых проклятий и вызвав очередную порцию молний и всполохов, мужчина обратил взор на запад…
***
…Маг поёжился. Создавалось впечатление, что кто-то или что-то внимательно осматривает, оценивает, изучает его, как насекомое. Словно сотни глаз сосредоточились на нём одном. Жуткое ощущение. Башня его гротескного замка только называлась башней, на деле же напоминая скорее присевшую в реверансе, причём весьма неуклюже, огромную бабу, поэтому видеть то, что происходило в городе, он не мог. Но и без этого было ясно, что с ним происходит нечто неладное.
Жители напоминали серые тени, неслышно скользящие по улицам и проулкам. Некоторых можно было угадать по звуку или запаху. Запах скисшей опары — это булочник. Если постукивание, то, возможно, непутёвый сапожник, не торопящийся с выполнением заказа; если звук бьющегося стекла, то мальчишка-посыльный, постоянно роняющий свою ношу, а если злой и раздражённый гул, напоминающий рассерженных ос, то наверняка служанки, идущие к рынку и костерившие деспотичную хозяйку.
Звуки погромче — возможно, пришло время открывать городские ворота, и горстка призрачных теней вереницей потянется в сторону того, что считалось городским рынком.
Большинство домов пустовало. Иногда в глубине тёмных окон можно было видеть быстрое, еле уловимое движение, но кто это или что, никого не интересовало. Улицы ничем не отличались друг от друга — одинаково пыльные, серые, заброшенные, словно окутанные вечным туманом. Некоторые заканчивались, толком не начавшись, другие напоминали карандашные наброски, перечёркнутые нервной рукой.
И всё же жизнь теплилась в этом несчастном городке, словно в насмешку названным Последний… Да-да, именно так, с многозначительным многоточием в конце, словно кто-то сомневался, дать ли название этому городу, а если дать, то какое. Вся эта недосказанность и недодуманность отразилась и на людях, которые призрачными тенями слепо скользили по мостовым, спотыкаясь о грани мятой бумаги, на которой они так толком и не были прописаны.
Маг в сердцах ругнулся. Сплести бы какое заклинание, но, кроме молний, создать ничего не получалось. А ведь были силы-то колдовские, были! Чуял он их вокруг себя, осязал кончиками пальцев, но сотворить ничего серьёзного не мог. Словно запретил кто, только на поддержание жалкого существования города и хватало.
«Эх, перейти бы этот… этот… Предел, — слово будто выплыло из глубин памяти на поверхность, — и жить полноценной жизнью, подвиги совершать, врагов повергать, но…»
Ощущая необъяснимое беспокойство и глухую злобу, Маг поднялся на изломанную каменную грань, условно называемую городской стеной, и долгим тяжёлым взглядом посмотрел на север…
***
Маг поёжился… Маг? Он Маг? А кто такой Маг? И… и… что он должен делать? А, кажется, магистрировать… или мажествовать… или магичить… или… а, неважно. Важно то, что он чувствовал себя неуютно. В голове укоренилась мысль, что он напрочь забыл о своей цели. В том, что цель есть, Маг не сомневался, ведь для чего-то он здесь, а вот для чего?
Колдун осмотрелся. Всё, что можно понять из увиденного, это нечто подобное городу. Или было им когда-то, или задумывалось как город, но дальше идеи и набросков дело не пошло. Или что-то пошло не так… или… опять сплошные домыслы.
Маг даже не знал, есть ли жизнь в этом… этом поселении. Да, кстати, а как оно называется? На этот счёт тоже никаких сведений и предположений.
Эх, встретиться бы лицом к лицу с тем, кто забросил его сюда. В том, что это было сделано преднамеренно, Маг ни на мгновение не сомневался. Только вот кем, почему и для каких целей?
Неторопливо пройдясь по пространству с полупрозрачным, гротескно изломанным абрисом, условно именуемому башней, Маг безнадёжно посмотрел в сторону вырисовывающихся на горизонте гор, напоминавших гребень некого чудовища, где разливался свет просыпающегося светила, чьи лучи никогда не освещали это гиблое место…
***
Он поёжился. В последнее время Мэтр чувствовал себя неважно. Перед ним на потёртой столешнице лежал результат его работы за последние полтора года в твёрдом красочном переплёте. Мир, который он выпестовал, словно фанатичная мать единственное дитя, сюжет, который он тщательно, до мелочей продумал, идеально прописанные диалоги, немного иронии, юмора, щепотка интриг и любовной линии, щедрая приправа из порции подвигов, предательства, опасностей, магии, героизма и бесстрашия — всё это уместилось на страницах его новой повести «Искажения».
Редактор издательства была довольна, хотя, как всегда, сдержана на эмоции.
«Хм, этот сатрап в юбке вообще способна проявлять хоть какие-то человеческие чувства, кроме как думать о сроках и количестве знаков? — пронеслось в голове. — И что ещё она говорила там об экранизации?»
Но это уже пусть его агент разбирается. А автору положен полноценный отдых, потому что он очень устал. Никогда он не чувствовал себя таким… таким… опустошённым, что ли? Было, конечно, когда он много, безудержно и безостановочно писал, но писал легко, быстро, непринуждённо, словно играючи, и не уставал так, как в этот раз.
В мире литераторов он давно был весьма известным и популярным писателем. Друзья и поклонники называли его Мэтром. Вот только с последним романом сразу что-то пошло не так. Он словно взял его в оборот и с первых строк зажил самостоятельной жизнью. Все попытки писать по первоначально задуманному плану теперь валялись скомканными в тёмном и пыльном углу кабинета, убрать их не поднималась рука. Пришлось положиться на свой писательский дар, интуицию и силы, которые управляли им. Боже, он так и не понял, это он написал роман или роман написал его самого — автора?
В любом случае, точка поставлена. Но всё же, всё же… почему роман не отпускал его? Каждый раз, заходя в кабинет, он физически ощущал на себе внимательные взгляды, словно сотни глаз буравили его, исполненные целым спектром эмоций: от горячей любви и благодарности до испепеляющей ненависти. А в последнее время ему вовсе мерещилось, что в кабинете происходит необъяснимое: его начали преследовать видения. Сначала это были лёгкие всполохи света, затем они становились ярче, и со временем из них формировались грани… много ярко сверкающих граней, в которых можно было рассмотреть фрагменты мира, того самого, из его романа. Часто пугавшие его галлюцинации сопровождались звуками и даже запахами. Порой эти ощущения были настолько сильны, что Мэтру казалось, будто он сходит с ума, но он обычно списывал всё на усталость, упадок сил и ухудшающееся самочувствие.
Близкие только покачивали головами, выслушивая его путаные объяснения по поводу видений и отводя встревоженные взгляды в сторону, повторяли: «Тебе просто нужно отдохнуть». Хорошо, что пока ещё к психиатру не потащили.
Взяться за новую вещь он не мог. В голове не было идей, не приходило вдохновение, которое до этого было его постоянным спутником. Только полное опустошение. Сам себе Мэтр напоминал мёртвую, безжизненную пустыню. Он выжал себя досуха, всё по капле отдав «Искажениям».
Сегодня ему было особенно нехорошо, он даже не помнил, как встал с постели и попал сюда, в кабинет…
— Ну вот! Вот! Опять! О Боже!
В сгустившихся сумерках в центре комнаты возникло неяркое пятно, которое по мере увеличения становилось всё ярче и чётче. Оно уплотнялось, надстраивая и беспрерывно перекраивая себя, и вот уже в воздухе парила конструкция, состоящая из множества пересекающих самих себя тысяч и тысяч сверкающих плоскостей и граней. Словно кто-то подбросил в воздух стопку прозрачной писчей бумаги. И на каждом из листов проступали очертания его книжного города. Одно… другое… третье…
Изображения, как призраки, возникали из светящегося хаоса и аккуратно наслаивались друг на друга, будто листы бумаги собирали обратно, в одну стопку. При этом образ города становился всё отчётливей, изображение углублялось, и, наконец, все искажения слились в одну яркую и вполне осязаемую картину. Мэтр хорошо различал улочки, укрытые утренним туманом и багряной листвой осенних деревьев, которые брали начало у стен замка и неторопливо спускались к закрытой от ветров бухте, где на рейде стояли корабли, а над водой проносились стайки юрких и разноцветных ящерок-летунов. В комнате отчётливо запахло морем, и Мэтр мог поклясться, что его волосы тронул порыв настоящего бриза.
Изображение постепенно приближалось, и вот уже можно было рассмотреть тщательно подогнанные друг к другу булыжники мостовой, по которой пробежал улыбчивый мальчишка-посыльный, кивнувший на бегу булочнику, открывавшему лавку. Запах моря смешался с ароматом свежей выпечки. И (он был уверен в этом!) проходившие мимо девушки подмигнули ему.
Сопротивляться этому безумию больше не было сил, и Мэтр, поколебавшись пару мгновений, сделал шаг вперёд, ощутив под ногами твёрдую реальность булыжной мостовой.
***
1 октября 2017 года
Газета «N-ские Вести», рубрика «Происшествия».
«… как стало известно нашему журналисту из надёжных источников, вечером 28 сентября из своей квартиры загадочным образом пропал известный писатель-фантаст Матвей Трофимов, известный широкой аудитории под псевдонимом «Мэтр». Оперативно-розыскные мероприятия по горячим следам результатов не дали.
Перу мастера принадлежит более 200 произведений, многие из которых были переведены и изданы на 9 иностранных языках. Последний шедевр Мэтра — роман «Искажения», разошедшийся миллионным тиражом, сразу же стал бестселлером, который было решено экранизировать. Съёмки фильма проходят на родине писателя, в городе N-ске, который многие жители в шутку называют Последним Рубежом по аналогии с городком, описанном автором в «Искажениях». Начало съёмок уже окружено чередой необъяснимых событий, среди которых внезапное исчезновение знаменитого писателя.
Мы будем внимательно следить за поисковыми работами и держать наших читателей в курсе событий».
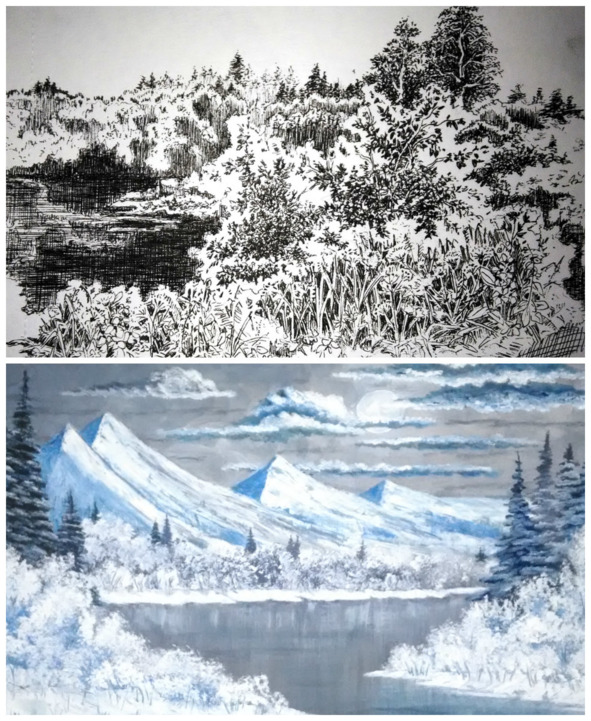

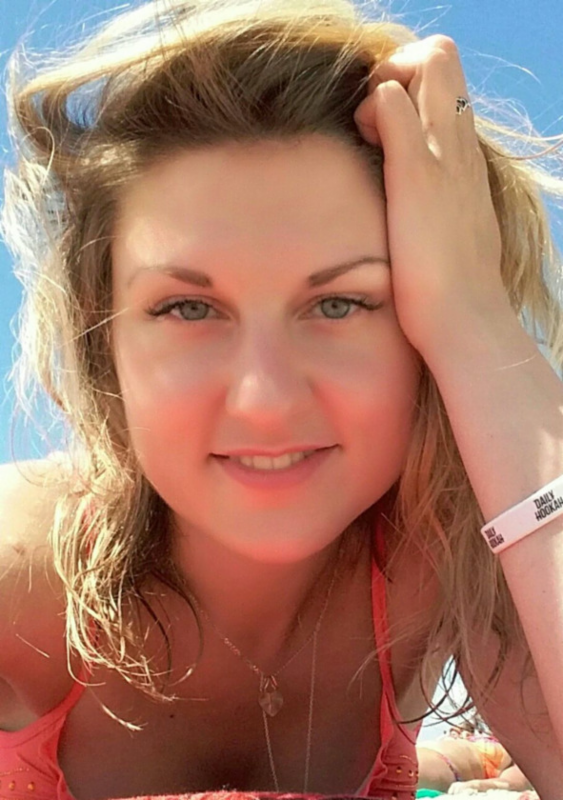
Наталья ИВАНОВА
Родилась 12 ноября 1988 года в республике Карелия, город Петрозаводск. В 2011 году окончила Петрозаводский государственный университет (кафедра туризма). С тех пор карьера складывается в сфере общественного питания. В Анапу переехала в ноябре 2014 года. Первое стихотворение написала в 10 лет в подарок маме на День рождения. А серьёзно начала писать уже на первом курсе, в 18 лет. Больше всего вдохновляют люди, поэтому большинство стихов на тему любви и отношений. Пишу принципиально только о том, что прочувствовала сама. Считаю, что любое творчество — это путь к себе, изучение и познание собственной души.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Я каждую осень так жду упрямо,
Чтоб вспыхивать и кружить.
Спасибо за этот подарок, мама,
Мне очень нравится жить.
ПО ОСКОЛКАМ
По осколкам седьмого неба,
За мою же несмелость — месть.
Я иду, и дойти мне бы,
Потому что ты где-то есть.
Своим счастьем, мечтой, свободой
Отдавая судьбе мзду,
Ты идёшь сквозь чужие годы,
Потому что я где-то жду.
Не укрыться нам, не свернуть,
Мы привязаны, будто к плугу.
И идём, бороня свой путь.
Но придём всё равно друг к другу.
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Бурлило небо рьяно, властно, равнодушно,
Холодным ветром нянча рук своих плоды.
Не замечало двух живучих, непослушных,
И долго путало упрямые следы.
Чтоб посмотреть, кто там так яростно перечит,
Спустилось небо с невозможностью внахлёст.
И ветер, нежно пеленая наши плечи,
Вдруг постелил под ноги кружево из звёзд.
Уснуло небо на руках под облаками,
Укрывшись ими, словно пенкой молоко.
И неуверенными верными шагами
Мы появились осторожно и легко.
БЕЗ ПРАВА СПАТЬ
Когда ночным пологом мир приглушен,
Когда луна открыть глаза не захотела,
Стихи витают в воздухе, как души,
И ждут словесно сотканное тело.
Порхают рядом, как фрагменты от мозаики,
«Вчера» и «завтра» неуёмные кусочки.
Я их раба, я наблюдатель и хозяйка
Без права спать, пока не вселишь души в строчки.
Дневных событий пробегает вереница,
А впереди опять ночное рандеву.
И очередь из душ во тьме клубится.
Я вижу их, а значит, я живу.
Я СДАЮСЬ
Душу резала на кусочки,
Суррогатом твоим поила,
Чтобы все запятые — в точки,
Чтобы имя твоё забыла.
По своим же осколкам счастья
Я тащила её, босую.
Убивала её со страстью,
Мелом контур вокруг рисуя.
Первосортным травила ядом
Отрицания, лжи, покоя.
И твоим прожигала взглядом,
На краю горделиво стоя.
Расколола её на части,
Чтобы выжить не смела даже.
Создавала я путь ко власти,
Оказалось — твои крестражи.
С мирозданием зло смирюсь.
Безмятежно оно, инертно.
Я люблю тебя, я сдаюсь.
Я — бессильна. Душа — бессмертна.
* (Крестраж — в книгах о Гарри Поттере предмет, в котором заключена часть души тёмного мага.)
EVERYTHING I AM
Ты мне жизнь подарил, как бог,
Словно счастья и тьмы нашествие.
И застать смог меня врасплох,
Как лавина и как пришествие.
Ты мне жизнь подарил, как бог.
Ты как финиш для марафонца.
И весь мир вдруг ослеп, оглох,
Только два тёмно-серых солнца.
Под цепочки метельный звон
В мою личную географию
Помещаешь, как в медальон,
Свою лучшую фотографию.
Для тебя и тобою вдох.
И теперь я немного трушу:
Ты мне жизнь подарил, как бог,
И, как дьявол, желаешь душу.
КАРТИНА
Прекрасно вышитая картина,
Где между нами навечно гладь.
И рамки-деспоты, как плотины,
Творцом сколочены, чтоб сдержать.
Сдержать намеченный кем-то курс
И море внутреннее сдержать.
И, чтобы дикий не выдал пульс,
Бояться руку твою пожать.
И чёрной мантией запахнуться,
Чтоб света больше не отражать.
И дымом к полночи затянуться,
Чтоб зубы изредка хоть разжать.
Погрязши в боли и никотине,
Друг другу выкрикнуть: «Обернись!»
В прекрасно вышитой той картине
С изнанки нити переплелись.
НИКОГДА
Выселяет чужих душа.
Нет в ней места для тех, кто «были».
Никогда не вернёт, реша.
Никогда не оставит пыли.
И, закрыв за чужими дверь,
Никогда не возьмёт за руку.
Не узнает, как верный зверь,
Ни по запаху, ни по звуку.
Выселяет чужих душа.
Никогда её не обманешь.
Сам ты выехал в ночь, спеша.
Но чужим никогда не станешь.
ДАВАЙ
Нельзя. Неправильно. Долг. И точка.
И сердце воет. Всю жизнь. Бастуя.
Давай помилуем эту строчку!
Давай исправим на запятую!
Давай пошлём наших судий к чёрту!
Пока мы любим, мы будем правы!
Ты для меня навсегда — аорта.
И на тебя не найти управы.
Давай сдадимся на волю счастью!
Пускай немыслимо и порочно.
Ты для меня всегда будешь частью,
Что на земле меня держит прочно.
Так, чтобы снова пустые трюмы,
И будь что будет в пути безвестном!
Давай побудем в земном раю мы,
Не суждено если нам в небесном…
МОЛЧАНИЕ
Если мечты, то беззвучные.
Вздохи — задушенно-тихие.
Мы единичные, штучные,
Но пленники собственной психики.
Если улыбки, то тайные.
Взгляды — украдкой, со страхом.
Поля ранних всходов бескрайние
Исступлённо топтали с размахом.
Слова, никогда не звучащие,
Нас в прошлом уже разлучали.
Если любовь, то кричащая!
Зачем мы так долго молчали?
КОСМОС
Гравитацию отменило
Безрассудное то признание.
Я планету свою дарила,
Ты мне — космос в одно касание.
Через тонны холодной пыли,
Через тернии прямо к звездам
По дорогам бесследным плыли,
Становясь будто выше ростом.
Я не стану ещё крылатей.
Удержи меня за запястья.
За орбитой твоих объятий
Не найти ни тепла, ни счастья.
НЕВЗАИМНОСТЬ
Невзаимность, ну что теперь,
Не трагедия, в самом деле.
Только в счастье закрыта дверь.
И зависимость на пределе.
Мы под небом с тобой одним.
Я могу тебя взять за руку.
Только сердце кричит «Горим!»
И не выдержать эту муку.
Я могу подойти, обнять,
Чтоб сердца наши стали ближе.
Только слёз подступивших рать,
Из-за них ничего не вижу.
Невзаимность, в конце концов,
Не трагедия априори.
Только в мыслях твоё лицо
Нескончаемо на повторе.
ВСЕГДА
Жаль, не стали никем друг другу.
Демоверсия счастья краткая.
Жизнь идёт, но теперь по кругу.
Равновесие очень шаткое.
Разделяет нас календарь
И молчанье, сухое, гладкое.
А я так же люблю январь.
И вино теперь только сладкое.
Мне во сне твои руки тёплые
Вновь и вновь согревают плечи.
За музейными спрячусь стёклами,
Если время и вправду лечит.
ТЫ СПИШЬ
Как же мир оказался мой крохотен,
Когда ночь показала в контрасте.
Над осадком из страсти и похоти —
Совершенное, чистое счастье,
У которого веки уставшие
Скрыли глаз цвет кофейно-коньячный.
И за жизнь целый день воевавшие
Руки сонно мнут хлопок невзрачный.
За ночь путь от любви и до нежности.
Я прижмусь в благодарность погоням
До семи, до утра неизбежности
Исступлённо губами к ладоням.
СИМВОЛ ЧУДА
Неспроста на небесном своде
Глубину не измерить светом.
Так угодно самой природе,
Чтобы счастье рождалось летом.
Чтобы зелень в глазах лукавых,
Чтобы родинок, как созвездий.
Ты — настой на волшебных травах,
Ты — букет из благих возмездий.
И, под кожу уйдя ростками,
Символ чуда со шлейфом листьев
Красно-жёлтыми лепестками
Расцветает на левой кисти.
ГЛАЗА
Рисовала июнь природа,
Подбирая с трудом тона,
Цветом твёрдого кислорода
И бутонов степного льна.
Цветом новых побегов туи
И намокшего хризолита,
Рисовала, смеясь, флиртуя,
Портрет месяца-фаворита.
Цветом верескового меда
И коры, что несёт лоза,
Рисовала июнь природа.
Получились твои глаза.


Ирина ИВАСЬКОВА
Член Союза писателей России
Я родилась в 1981 году в городе Красноярске.
Нет ничего важнее слов. Всё проходит, а слова остаются. Внимание и уважение к слову, ответственное к нему отношение помогут сотворить чудо и создать живую, тёплую историю.
ВРЕМЯ КРАСНЫХ ПТИЦ
— А ребёнка-то знаешь, как зовут? Сядь, если стоишь. Мирон! Вот и я говорю, идиотизм какой-то. Так я не поленилась, поискала, чтó имечко это значит. Ну-ну… Да ты что? А она?
Неведомый собеседник перебивает Марью Ивановну своей историей — из трубки доносится поквакивание и дребезжание. А вдруг Марья Ивановна и вправду говорит с большой лягушкой? А ну как лягушка прискачет сюда? Усядется рядом с кроватью, сама холодная, как зелёный лёд, и вся блестит. Мироша терпеть не может лягушек и змей. Вот птицы — другое дело. Они в пушистых перьях и умеют летать, ловко подобрав остренькие лапки.
— Кошмар… Кошмар! — возмущается Марья Ивановна чем-то услышанным и гнёт своё. — Так я ж тебе говорю, я не поленилась и узнала, чтó этот самый Мирон означает. Ляг, если сидишь. Бла-го-у-хан-ный! Представляешь?! Ну-ну… А ты что?
Мироше не спится. День на дворе в самом разгаре, но ровно в три часа Марья Ивановна задёргивает плотные занавески и велит уснуть. Мироша знает, что ей просто очень хочется поговорить, а в её толстеньком кнопочном телефоне прячутся самые разные голоса. Кто квакает, кто присвистывает. Голоса всё знают про Мирошу: и про имя, и про маму, и про высокую температуру.
— Да какой там отец, я тебя умоляю, бросил её давно, — говорит Марья Ивановна в трубку. — Я соседка, вроде чужой человек, так и то чаще ребёнка вижу. Жалею мальчишку: простыл, теперь дома сидит. А матери на работу надо, не дают ей больничный, уволить грозятся. Ну да, я тут не бесплатно, не бесплатно. Пенсии нынче сама знаешь какие.
Марья Ивановна принимается рассказывать, чтó видела сегодня в магазине, и куда ездила позавчера, и куда поедет завтра.
— Куры свежие, а вот сметану разбавляют! — твердит она квакающему голосу и слушает в ответ далёкие бульканья и переливы.
Мироше становится так скучно, что он и в самом деле засыпает — легко, на самой верхушке сна и, кажется, всего на несколько минут. А когда просыпается, занавески уже раздвинуты, окно из солнечного стало серым и ни следа Марьи Ивановны в комнате не осталось.
Он отбрасывает душное одеяло — вот так тебе, ногами тебя в комок! — несётся по скользкому полу на кухню, втыкается лохматой головой прямо в мамин живот и хохочет: нет никаких лягушек и скуки нет, потому что мама дома!
— Мирошкин, ну не плачь, — утешает его мама полчаса спустя. — Всего два дня осталось! Сегодня Марью Ивановну вытерпел? Вытерпел. Завтра тётя Марина придёт. А послезавтра… — мама подмигивает, — сюрприз будет! А потом выходные, и я буду дома, с тобой, никуда вообще не уйду ни на минутку! Ну, Мирошкин, ну два дня же! Потерпишь?
От мамы пахнет горьковатой прохладой: этот дождевой свежий запах каким-то чудом втиснут в пузатый флакон, стоящий в коридоре у зеркала. Мироша думает, что, если станет совсем невмоготу, можно будет этот флакон понюхать. А тётя Марина куда лучше Марьи Ивановны. А потом вообще — сюрприз.
— Ладно, — говорит он, — я потерплю.
***
Тётя Марина хоть и хорошая, но играть совсем не умеет, и Мироше уже в третий раз приходится объяснять, почему никак нельзя, чтобы красную птицу поколотила синяя.
— Красная — самая сильная, понимаешь? А синяя — слабенькая, она птенец еще. И вообще они дружат. У них домик вот здесь, под картонкой.
Тётя Марина берёт красную птицу и делает вид, будто та идет по дивану, переваливаясь с лапы на лапу.
— Я самая сильная и красная! — сердито басит она, и Мироша смеётся, потому что красная птица никогда не злится и уж тем более не ходит как пингвин.
— Не так! Дай покажу!
Он тянется за игрушкой, но тут у тёти Марины звенит телефон.
— Да! Алло! — кричит она, вскакивает и опять садится. — Ты где?
Телефон у тёти Марины широкий и плоский, как тоненькая книжка. Лягушек, похоже, в нём не водится, а сидит кто-то суровый, не говорящий, а гудящий в тёть-Маринино ухо. Мама говорила, что у тёти Марины есть муж и он странный. Наверное, это он и гудит на неё так, что даже Мироше не по себе.
Тётя Марина долго слушает, закрыв глаза и поджав губы, а потом начинает стрекотать быстро, как заводная машинка.
— Нельзя так, ты понимаешь, нельзя так со мной! Я ни в чём перед тобой не виновата, зачем ты меня мучаешь? Я звонила-звонила, а ты два дня недоступен, вдруг с тобой что-нибудь случилось? Я ведь спать не могла, волновалась! Да не слежу я за тобой, не слежу! Я же люблю тебя!
Голос гудит в ответ — что-то обидное, потому что тётя Марина плачет. Мироша удивляется: как можно так плакать, когда глаза закрыты, а лицо совсем спокойное, будто она и не расстроилась? Если Мироша ревёт, то всем телом, и рот открывает пошире, ведь так же куда удобнее.
Тётя Марина снова вскакивает и убегает в соседнюю комнату, плечом прижимая телефон к щеке. Через стенку Мироша слышит, как она говорит, но не слышит что, и это похоже на жалобную песню без слов.
Красная птица лежит на диване, а синяя так и прячется под картонкой. Мироша вздыхает и принимается за дело один: птицам нужно слетать за добычей, пообедать, а после навести порядок в своём домике. К маминому возвращению нужно всё успеть. А завтра будет сюрприз.
***
— Так полынью и поливаешься? Зачем тебе эта горечь? Женщина должна пахнуть сладким, съедобным чем-нибудь, а не тоской зеленой.
Мама смотрела на говорившего недоверчиво и как-то обречённо, но тут возмутилась:
— Без тебя разберусь, понял?
— Тогда я пошёл?
Улыбаясь, мужчина сделал шаг назад.
— Да стой. Хоть перед собственным сыном не придуривайся, ладно? Решил исправляться, так исправляйся. А я вообще опаздываю. Температура у него небольшая, хотя горло ещё побаливает. Лекарства на столе, если что — сразу звони.
Мужчина ничего не ответил, потому что увидел Мирошу: тот стоял в дверном проёме и смотрел на маму сонно и вопросительно.
— Мирошкин, доброе утро! — как-то слишком обрадовалась мама. — А вот и сюрприз! Папа твой приехал. Помнишь, я говорила тебе, что он отправился далеко-далеко в чужую страну, никто оттуда не может ни доплыть, ни долететь? А он смог: и доплыл, и долетел! И вам пора познакомиться и подружиться.
— Здорово, парень!
Мужчина шагнул к Мироше, подхватил его под мышки и закружил так быстро, что всё перед глазами смешалось: и мама, и зеркало, и вешалка, и розовый утренний свет, падающий из открытой кухонной двери…
— Ну, брат, рассказывай!
Мама уже ушла, а папа уселся в кресло, вытянув ноги почти до середины комнаты.
— Как живёшь? Чем занят?
Мироше очень хочется побежать вслед за мамой: может быть, она разрешит пойти с ней на работу? Или позвать Марью Ивановну. Или пусть плакучая тётя Марина придёт. Откуда он взялся — папа? И что, теперь прямо сразу его так можно называть? Мироша пробует произнести новое слово про себя. Папы всегда были у других, а чтобы вот так, собственный появился — это ещё привыкнуть надо… Однако мужчина глядит на него так весело и открыто синими-пресиними глазами, что от этого взгляда, и улыбки, и особенного, никогда не виданного Мирошей сочетания яркой чёрной бороды и белого свитера внутри становится светло и счастливо и хочется рассказать сразу всё: и про красную птицу, и про царапающие горло коготки простуды, и про кудрявую девочку Олю из старшей группы, и про то, что на самом деле пахнет от мамы замечательно — чистой холодной водой.
— Я… — начинает Мироша, но папа вдруг перестаёт улыбаться и хлопает себя по карманам брюк.
— Чёрт, — сквозь зубы бормочет он, — телефон опять потерял. Чёрт! Так, парень, быстренько собирайся, смотаемся в одно место и вернёмся. Где там твоя одёжка, показывай.
Он очень торопится, и Мироша не успевает ничего объяснить: ни того, что куртку обычно не надевают на пижаму, ни что жёлтая шапка куда теплее синей и что перчатки прячутся в нижнем ящике комода под мохнатым маминым шарфом.
***
В просторном зале тихо, холодно и темно. Мягкие кресла поджали сиденья, словно боясь пустоты вокруг. Свет горит лишь на высокой сцене, а в самой её серединке, прямо на досках сидит лысый старичок и крутит в руках длинные железные палки.
— Опа, — говорит он, увидев Мирошу, — и кто это у нас такой?
Папа легонько подталкивает Мирошу к ведущим наверх ступенькам.
— А это у нас сын. Мирон называется.
— Ух ты! — удивляется старичок. — Ну, здравствуй, здравствуй. Слушай, а стойки-то менять придётся.
Папа пожимает плечами — наверное, ему всё равно, — бродит по сцене туда-сюда и бормочет что-то ругательное, но не злое, а потом с ликованием хватает блестящий телефонный прямоугольник, валяющийся у складчатого занавеса.
— Нашёл! — кричит он. — Фу-у-ух… Вечно из кармана всё валится. Вот, брат, погляди, где у тебя родитель работает. Это тебе не просто так, а театр! — На этом слове папа поднимает брови и указательный палец.
— Храм искусства, — серьёзно кивает старичок. — Ты к завхозу, кстати, зайди, он тебя ещё вчера искал.
Папа опять чертыхается, берёт Мирошу на руки, выбегает из полутьмы зала в узкий, ярко освещённый коридор — не прямой, как в детском саду или у мамы на работе, а похожий на лабиринт, ведущий то в стороны, то вниз.
Добравшись до центра лабиринта и толкнув толстую дверь, папа, так и не отпуская Мирошу с рук, долго кричит усатому дядьке что-то непонятное, тот кричит на него в ответ, потом они хохочут и спешат в соседнюю комнатку, где пахнет пылью, а в разноцветных ворохах ткани возятся три женщины с огромными ножницами. Мирошу усаживают в угол на толстый рулон марли, суют печенье, шоколадку и сморщенное старое яблоко.
Он грызёт угощение не глядя — так много всего интересного кругом, только вот холодно очень. Высоко по стенам на длинных крюках развешаны чьи-то наряды: самые обыкновенные рубашки и пиджаки покачиваются рядом с бархатными плащами, стальными кольчугами, ковбойскими шляпами, звериными масками и пышно взбитыми, облачными платьями.
В комнатку заходят и заходят люди, и непонятно, как это они помещаются на крохотном, заставленном тряпичными колоннами пятачке. И каждый, кто заходит, видит Мирошу и спрашивает, кто это у нас такой, а после удивляется и здоровается.
Затем включают музыку, и она то льётся, то прыгает между полом и потолком, не оставляя ни единого пустого местечка в этом чуднóм и донельзя переполненном мирке. У Мироши кружится и немножко болит голова, но отвлекаться никак нельзя, нужно во все глаза смотреть, как папа смеётся, и слушать, как он говорит. Если бы ещё мама была здесь, если бы она пришла… И то душное одеяло с собой прихватила…
— Родитель, а родитель, — спохватывается одна из женщин с ножницами, — ребёнок-то у тебя не хворает? Гляди, куксится как.
Папа хлопает себя по лбу, снова хватает Мирошу на руки и бежит куда-то, но Мироша уже не видит куда, только чувствует движение воздуха вокруг себя на лабиринтовых поворотах коридора — то ли падение, то ли полёт.
Он пытается устроиться поудобнее, свернуться в калачик и согреться, и вскоре ему кажется, что на макушке у него сидит красная птица с перьями лёгкими и пушистыми, обнимает его, своего слабенького птенца, закрывает ему лицо мягкими крыльями, шепчет, что всё будет хорошо, и пахнет дождём — тем самым, что прячется в мамином пузатом флаконе у зеркала.
УЛИЦА КУДРЯВОГО
Новую брусчатку успели уложить лишь до середины тротуара. Затяжные дожди прогнали стучащих резиновыми молотками рабочих прочь, а старая, шатающаяся под ногами плитка смогла встретить ещё одну, последнюю свою весну.
Скорое обновление грозило слишком размахнувшимся ветвями тополям, выцветшим будочкам обувщиков, треснувшим круглым клумбам и широким ступенькам высокого крыльца, третье десятилетие подряд служащего открытой витриной для уличной торговли.
Когда дожди кончились, всё приготовилось к укорачиванию, свежеванию, покрытию чистым, прочным и блестящим. Но пока на улице Кудрявого ещё было спокойно, и оставалось немного времени до новой её жизни, бесспорно, необходимой кому-то, но пугающей того, кто к переменам не готов.
Торговки собираются у крыльца ранним утром, около семи. Первой приходит женщина в стёганой куртке и пушистой самовязаной шапочке. Ёжась под холодным ветром, справляющимся с уборкой окурков и пыли получше любого дворника, она раскладывает на газетных листах свой товар — книги в ярких бумажных обложках.
Спустя несколько минут уже устроившаяся на раскладном стуле торговка слышит скрип и отчаянную ругань, а после из-за угла выкатывается тележка, плотно уставленная цветочными горшками. Тележку толкает молодой мужчина в костюме, сидящем на его крупной фигуре с той ловкостью, что доступна лишь очень дорогим вещам, а рядом с ним шагает полная дама, ровно, на одной ноте бранящая и зыбкую плитку, и утренний холод, и разлетающиеся от её голоса голубиные стайки.
Мужчина молчит, и на лице его читается обречённость. Дотолкав груз до крыльца, он быстро расставляет горшки по ступенькам и уходит, так и не сказав ни слова, волоча за собой опустевшую тележку и стараясь не запачкать брюк о её пыльные колёса.
Со своей соседкой ворчунья не здоровается — они поссорились ещё год назад, по забытому уже поводу — и достаёт из кармана маленький пульверизатор. Мелкие водяные струйки падают на сочную зелень с весёлым шипением, а женщина, торгующая книгами, привычно разворачивает над обложками газетный лист.
Первые прохожие уже спешат по улице кто вверх, кто вниз, их глаза озабочены и равнодушны. Этот ранний люд разложенным по ступенькам товаром не интересуется — кому, спрашивается, нужны с утра книжка или цветочный горшок?
Покупатели обычно появляются ближе к девяти — молодые мамы, выводящие детей на обязательную прогулку; парочки пенсионеров-неразлучников; одинокие старики с лицами суровыми и справедливыми; прогуливающие первые уроки школьники; приезжие, узнаваемые по неуверенной походке и немного идиотической, счастливой улыбке.
***
Верочка Николаевна очень любила герань. Когда-то давно, на семейных праздниках родственники её всегда смеялись: мол, Верочка любит своих зелёных питомцев куда больше, чем родню. Верочка тоже смеялась, но не очень возражала. От тех домашних посиделок — с непременной скатертью, колбасно-сырными веерами, двумя горячими блюдами и множеством хитросоставных салатов — у Верочки осталось только ласкательное, девичье окончание имени, отчего-то следовавшее за ней всю жизнь, не потерявшееся даже с прибавлением отчества, и сейчас, много лет спустя, так неподходящее её грузному телу и сердитым глазам.
Никто не знал, что герань, стоящая сейчас на Кудрявого и заполонившая все подоконники и балконы Вериной квартиры, была та самая — то ли внучка, то ли правнучка цветка, посаженного когда-то на даче Верочкиной мамой. Дачу Верочка помнила до последней дощечки — этот дом, одноэтажный, но основательный, настоящий, был построен её отцом по соседству с модными тогда замысловатыми, обитыми с ног до головы мелкой вагонкой коттеджами. Верин отец по мелкому не работал — усмехаясь в усы, он возводил своё из толстых, смуглых брёвен, а внутри дома сложил печь, белёную и пышущую теплом. И Вере, маленькой дурочке, когда-то даже было стыдно того, что все вокруг в светлых теремах, а она, как чернавка, в избе какой-то.
Теперь уж это никому не интересно, и никто не помнит, как сушились у печки насквозь промокшие после гулянья рукавицы; как проваливалась Вера в сугробы с головой (а внутри, в снегу, светло: голубым таким, чудным светом); как пугалась она — не деревенская — понурой, печальной коровы, гуляющей за крепко справленным отцом забором. Нет этого ничего, только герань и осталась. Мама с отцом по глупости, по гордости разругались на старости лет и, на диво всем, развелись глубокими пенсионерами, да так некрасиво, с дележом и криком. Продали и дачу. Вера, занятая тогда собственной сложной личной жизнью, ничегошеньки не успела забрать: ни рубашек бабушкиных нежного ситца, ни шляпок-панам, видевших когда-то солнце Крыма и сосланных за город ещё пятьдесят лет назад в наказание за выцветание и потерю формы; ни склянок-пузырьков — матового стекла, эмалевых, медных; ни страдающего проказой зеркала; ни витого, изящно сработанного венского стула, неизвестно каким ветром занесённого в их далёкую от утончённости семью. Спохватившись, уже после продажи Вера приехала на дачу, но её новые владельцы и за калитку не пустили — увидела только, что деревянный настил заменили россыпью мелких камушков, а густейшую полосу смородинных кустов выдрали к чертям собачьим. Ругаться Вера не стала — чего уж теперь ругаться, но, держа в кармане фигу и пожелав новым хозяевам доброго урожая, выпросила кусток герани, росший возле кирпичной дорожки. Новая хозяйка протянула вырванный без жалости кусток прямо через забор, осыпав Верино пальто чёрной, тяжёлой, мамиными и отцовскими пальцами ощупанной землёй.
С этой геранью Вера уже не расставалась. Усаживала в горшки, стригла, размножала, а попутно хоронила мужа, женила на себе нового, рожала дочку, а потом сына. Девочка вышла непутёвая, всё рвалась куда-то: то на север, то за границу, так и уехала — то ли в Хорватию, то ли в Сербию, Вера всё путала страны и злилась, потому что никак не могла запомнить их имён. А вот сын получился хороший, сначала сам был при матери, а потом мать держал при себе. В поисках сыновнего карьерного пути им тоже, правда, пришлось уехать — так далеко от той самой дачи и выхоженных десятилетиями улиц, что страшно делалось. Всё оставили, даже родные могилы побросали, но вот герань Верочка с собой прихватила.
На новом месте климат благоприятствовал — теплота, влажность, свежесть. Буйно и лохмато курчавилась гераниевая зелень в длинных пластиковых горшках, и Вера, не в силах остановить это нахальное цветение, ни на секунду не прерывающийся наглый рост, взялась своей любимицей торговать.
Ей приятно было думать, что далёкий от здешних мест цветок, начавший свой путь с выдранного призаборного кустка, зазеленеет теперь на незнакомых подоконниках и будет жить, не кончаясь; может быть, и Верочка тогда не кончится никогда.
Герани покупали охотно. Но денег Вере не нужно было — сын работал хорошо, удачно, и матери ни в чём не отказывал, хоть и умолял с этим цветочным позорищем завязать, и всё вырученное от торговли она складывала на счёт, не тратила — берегла.
Возраст её перевалил за шестьдесят, и сделалась она придирчивой, сварливой — со смаком, удовольствием ругала всё вокруг: и умершего сразу после переезда второго мужа, и правительство, и богачей, и плодящуюся, по её выражению, нищету, и невежливых чужих детей, и мерзкую молодёжь, и магазинные товары, и даже уличных кошек, глядящих на неё со спокойствием храмовых статуэток. А самые нежные, самые лёгкие, самые мягкие слова шептала она лишь своим любимицам, дрожащим резными листками на утреннем прохладном ветру.
***
Глядите-ка, на этой обложке какая картинка: девушку обнимает мужчина, и так обнимает, что сразу видно, о чём книга. Заслоняет её собою от тучи на небе и от злодея с тонкими усами — вот мерзкий тип, всё хотел испортить, да не вышло. А она, девушка-то, непременно блондинка, тонкая вся — такую как разок обнимешь, так всю жизнь на шее и потащишь. Ну и на таких находятся любители, чего уж. Нравится, может, ему так, когда защищаешь всё время, объясняешь. Она, небось, и поварёшку в руках не держала, всё только норовила от злодея убегать да плакать, волосами этими белёсыми обвесится и ноет. Знаем таких, в двадцать пятом доме здесь, на Кудрявого, как раз такая жила бабёнка, Филимонова была её фамилия. Замуж вышла за армяна, так он плакал на свадьбе, говорили. От счастья, что можно теперь её спрятать и защищать целыми днями. Уехали потом, что с ними сделалось, никто не знает.
А вот эта, что вы в руки взяли, поинтересней будет книжечка. Видите, тут женщина рыжая? Я вам подскажу, как хорошую книгу выбрать: если рыжая на обложке, так не ошибётесь. Они с норовом, рыжие-то, и не ноют, и сами по себе обычно похитрее, и чем-нибудь диковинным заняты — то коней объезжают, то собак разводят. На этом весь сюжет и построен — вон, рядом с ней мужчина, смотрите какой, нос горбом. Ему надо, чтоб без нытья, чтоб характер был твёрдый и чтоб посмеяться можно было. Я вам сюжет-то не буду рассказывать, но я так хохотала, когда они оба в лужу шлёпнулись, с коней свалились, значит, и прямиком в грязь! А потом она ему от ворот поворот дала, потому что думала, что он папашку её подставил и до смерти довёл. А сама страдала, но не ныла, а злилась. Поживее книжка, говорю ж. С рыжими всегда так — не соскучишься. Мужиков только рыжих не люблю, уж простите-извините, но аж подташнивает. Это у меня потому что одноклассник был рыжий, всё в носу копал у доски — задумается и ну копать, как вспомню, так воротит. На всю жизнь такое в душе осталось омерзение. Ну, про такое в хороших книжках не пишут, правильно вы говорите… Это я о своём. Берите, берите про рыжую. Не хотите? А вот ещё брюнетка есть, глядите, на корабле плывёт! Брюнетки — те вообще роковые красавицы! Женщина! Ну куда вы? Ещё много у меня всякого! Ну вот, облапала только обложки и смылась… Тьфу, а ещё виду приличного! Лишь бы дождя не было… Дождь нам никак не нужен… Мало этой дуры со своей брызгалкой, глаз да глаз нужен, чтоб не залила мне книжки, так ещё облака вон ходят кругами, ходят. Затылок ломит. Давление…
А вообще женщине без любви никуда. Не жилец, если нет у неё любви. Трудно, правда, у нас с этим делом, мрачно. И некогда задуматься, отчего так. Всё круговерть какая-то: то учишься, то женишься, то рожаешь. А любовь внутри всё копится, копится, ждёт своего часа. Вы что ни говорите, а я так думаю, у нас здесь не может быть такого, как в книжках. Ну, какая это любовь, когда в шесть утра встала, на голове кочка, глаза опухли, а впереди день такой долгий, что и представить нельзя. До вечера доберёшься, ушатаешься, уляжешься, а тут муж. Вроде вот, и люби его, а куда там. Сто лет на одну рожу смотришь, всякого его увидишь, и забудешь уж, отчего именно за него вышла, и даже удивляешься, как это можно было так лопухнуться. А любовь, она другая должна быть. Мечтой должна быть. О ней можно кино посмотреть, книжку о ней можно прочитать, но как её к себе приложить — вот к такой, какая в зеркале отражается? Плечи вниз, руки плетью, зад как тумба, а хуже всего глаза — ни цвета, ни огонька в них нету. Я поэтому и говорю, что книжки мои — для каждой бабы спасенье. В них, как в воду, прыгнешь, и плывёшь, плывёшь, словно водолаз в ластах. А как вынырнешь, так и спать пора, а в голове не мужнина рожа и не завтрашние заботы, а счастье, сплошное счастье! Ведь если сочиняют писатели так, может быть, и взаправду, где-то от нас подальше, не на Кудрявого, конечно, и вообще не в нашем краю, а где-нибудь у моря, или в садах волшебных, или в городах с огнями-небоскрёбами, вот там люди любят! И красиво так друг друга обнимают, бережно, и никому в голову не придёт улечься спать в рваных носках.
Я о своих покупателях забочусь. Всегда самые интересные книжки беру в оптовке. По обложкам выбираю, и ни разу не ошиблась, все за душу берут, до слёз доводят, а заканчиваются непременно свадьбой. И я же вижу, кто ко мне подходит. Всё у них на лицах написано. Несчастные они, а я им вроде доктора. Нет, других книжек я не держу. Пришла, помню, как-то сюда одна алкашка, попросилась рядом свои книжки попродавать — от мамки, говорит, остались, место занимают. Ну я, добрая душа, пустила — глянула только на её книжонки, да и пустила. Обложки серые, тканевые, одинаковые, тускленько что-то выведено — собрание сочинений, что ли. Ну, фамилию и название не разобрать… Так ведь и пострадала я от своей доброты! Мимо пигалица какая-то стриженая бежала — со спины совсем девчонка, а по лицу видать, пожила уже. Так она это самое собрание алкашкино увидела, аж затряслась, сколько стоит, спрашивает? А алкашка ей — тыщу! Ну, видит, что не в себе мелкая эта, так и заломила цену. Я ей говорю, уймитесь, дамочка, зачем вам эта серость, вон, у меня гляньте-ка, какие обложки яркие, и всё про любовь, и каждая всего по пийсят рублей! А мелкая от меня только отмахнулась, мол, такое не читаю, ухватила это алкашкино добро и тыщу ей отвалила. Как унесла только, удивляюсь, больше неё сумка была, волоком, небось, тащила. Алкашку я прогнала, конечно, чтоб духу больше её здесь не было! Нечего здесь мне…
***
Торгующей книгами Людмиле скучно. Всё её кипучее существо требует действий — и если с ними туго, она с удовольствием принимается делиться с окружающими жизненными историями и наблюдениями. На всё у Людмилы есть твёрдое мнение, для каждого готов совет. Ещё год назад всё это словесное богатство доставалось соседке по крыльцу — и пересказы телепередач, и подробности фильмов, и содержание книг. После ссоры с Верой Людмила со скуки стала звонить подруге, вот и теперь, прижав телефон к уху, она заводит долгий рассказ о своей тётушке, маринующей грибки особым способом — да так, что как начнёшь есть, так не остановишься; подробно перечисляет всё, что входит в маринад, попутно описывая тёткины замужества и разводы. Верочка Николаевна ни словечка из рецепта не упускает, и очень сердится оттого, что никак не может перебить Людмилу и раз и навсегда объяснить ей, как нужно правильно обращаться с грибами.
Ближе к обеду торговки достают термосы и согреваются чаем, кляня про себя ветер и с обидой поглядывая в ледяное, ослепительно-синее небо с редкими облаками, смахивающими на белые скомканные салфетки.
— О, Ванюшка на проверку тащится, — сквозь полупрожёванный бутерброд бухтит себе под нос Людмила и смотрит влево: там, в начале улицы, мелькает круглая полицейская фуражка. Обладатель её — участковый полицейский, пухленький парнишка с очень серьёзным, но чрезвычайно веснушчатым лицом, шагает важно, поглядывая по сторонам и стараясь иметь хозяйский, рачительный вид, никак не вяжущийся ни с веснушками его, ни с юными пугливыми глазами, ни с подпирающими фуражку нежно-розовыми ракушками ушей.
Парнишка проходит мимо оставленных рабочими песочных везувиев, стопок старой плитки и досок, прижимающих к земле рваные крылья полиэтилена. Минует ларёк мясника, кондитерскую лавку и останавливается возле приютивших двух торговок ступенек. Разговаривает он тоже серьёзно, как большой.
— Добрый день, гражданки женщины, — здоровается он. — Как торгуется?
— Здра-а-а-вствуйте, Иван Владимирович, — дружно поют ему в ответ, — справляемся потихоньку.
Оглянувшись, участковый достаёт из-под форменной куртки ярко-синюю книжку — на её обложке изображена глазастая красавица, тянущая руки к мрачному брюнету с пышной копной кудрей.
— Людмила, благодарю, супруге очень понравилось. Захватывающее, сказала, произведение, особенно, где ограбили их и чуть со скалы не сбросили.
Торговка книгами смеётся и кивает:
— Ой, там наверчено, ууух! Вы ещё берите, у меня новых вон сколько! — говорит Людмила и снова смеётся. — Может, и сами ознакомитесь.
Иван Владимирович крутит головой, краснеет и поправляет фуражку.
— Я к вам, гражданки женщины, с новостями. Значит, после обеда, где-то в четыре, рабочие сюда вернутся. Плитку будут менять. И крыльцо вот это будут ремонтировать. Отменяется торговля.
— Ну, это ничего, Иван Владимирович, мы подождём, — отвечает Людмила, — а когда вернуться можно будет?
Уши участкового из красных становятся тёмно-фиолетовыми, и всё его лицо выражает настолько сильное смущение, что смотреть на него почти невыносимо.
— Никогда! — отрезает он. — Запретили тут любую уличную торговлю. И ларьки снесут. Будет супермаркет. Кустики кругом посадят. И тополя спилят. Мне поручено очистить улицу от несанкционированных элементов.
— Кустики? — не выдерживает Верочка Николаевна. — Ополоумели вы, что ли? Нам-то куда податься? Какие кустики? — зычный её голос несется по Кудрявого, заставляя редких прохожих обернуться в изумлении.
— Сирени кустики! — кричит в ответ участковый. — Всё, я сказал! Можете быть свободны, чтоб не видел вас тут больше! Спасибо за внимание!
Он снова оглядывается, вдруг замирает, хватаясь за фуражку, бормочет: «Ах ты, чёрт, и тут нашёл…», — и кидается под неверное прикрытие крохотной будочки обувщика, а после, пригнувшись, двумя длинными прыжками пересекает газон, перебегает дорогу и скрывается в узком проходе между магазином одежды и парикмахерской.
Торговки переглядываются в недоумении, и Верочка Николаевна, нарушив введённый ссорой обет молчания, бормочет:
— Ишь, как заяц, поскакал. Чего это он? Ну Ванюшка, ну даёт… А это вон тот мелкий мужчинка его напугал, вон идёт, с папочкой.
Человек, идущий под приговорёнными к скорой гибели, но упрямо набирающими весеннюю силу тополями, и вправду соответствует меткому выражению Верочки Николаевны: отличают его и невеликий рост, и узкие плечи, и слишком легкомысленный для холодного дня то ли плащик, то ли пиджак. Человек мёрзнет — нос у него красный, а пальцы, сжимающие папку, белые, но, по-видимому, этого и не замечает.
Поравнявшись с двумя торговками, мужчина останавливается и смотрит на них строго и вопросительно.
— Участковый тут не пробегал? — спрашивает он и вдруг улыбается по-мальчишечьи озорно и широко.
— Пробегал, пробегал, а как же, — мстительно отвечает Людмила, до сих пор не пришедшая в себя от неприятной новости — ну как же, книжками прикармливала Ваньку этого, терпела выпачканные чем-то жирным обложки и даже сигаретный пепел между страницами, а он вдруг погнал её в шею, — вон туда помчал, зараза.
— Опять ушёл, — вздыхает мужчина. — Никак его не поймаю. Кое-как один только раз на рабочем месте застал, а теперь всё убегает от меня. Хитрый, знает, где спрятаться, а я неповоротливый, пока соображу.
Он снова вздыхает и усаживается прямо на ступеньки.
— Хорошо тут у вас, уютно. Вы уже в курсе? Улочка-то наша пропала начисто. Всё пропало.
***
Лёгким дымком, тонкими водными струйками, запахами, звуками проникает в жизнь новое. Не скрыться от него, даже если ослепнуть и оглохнуть. И ведь только привыкнешь к одному порядку, приходится перестраивать себя — всё в себе — и плясать под чью-то свежую, пронзительную дудку. Кому-то в радость, а вот Алексею в муку. Не поспевал он жить в общем стройном ритме и только собирался посидеть в тишине, обдумать хорошенько настоящее, как ему уже — хоп! — и будущее под нос.
А меж тем желал для себя Алексей участи особой, непростой. На жизнь незаметную и бессмысленную никак не хотел он соглашаться и просил от судьбы всего лишь побольше времени и тишины, чтобы всё успевать и не запыхаться. С тоскою думал он о веках прошедших, когда скользили по бумаге неторопливые перья, лениво махал крылом почтовый голубь и мягко, приглушённо ступали по земле тяжёлые лошадиные копыта. Нынешнее же время, втискивающее в одно мгновение целый ворох слов, картинок и действий, Алексея оскорбляло полной своей обнажённостью, невозможностью уединения, совершенной беззастенчивостью в раскрытии не только тайных уголков тела, но и — что куда откровеннее — тайных уголков души.
Такая медлительность и основательность в мыслях позволяли Алексею уйти лишь в одну единственно возможную профессию — историка, документального исследователя, имеющего полное право останавливать мир, превращать давно минувшие секунды в часы и бродить внутри застывшего прошлого, разворачивающегося в холодных залах архивного хранилища.
Из-за боязни конкуренции (она ему представлялась скопищем мускулистых людей, пихающих друг друга локтями) Алексей изучал факты, никого другого не увлекавшие. Интересовали его те, кто появлялся в жизни значимых с точки зрения истории персон, а после пропадал, как и не было. И это полное исчезновение поражало Алексея своей неотменимостью: как же так, неужели судьбою иных является мгновенная вспышка отражённым, чужим светом, а потом уход в бесконечную темноту забвения и смерти?
Под прицел неспешных Алексеевых исследований попадали школьные приятели, первые учителя или тренеры, дальние родственники, врачи или мимолётные любови — кто угодно, но непременно заставивший некоего героя выйти на ту самую дорогу, что ведёт к славе и успеху. Робко строил Алексей планы написания книги с названием игривым, но многозначным: что-нибудь вроде «Тысяча безвестных в жизнях известных» или «Кто на деле делает историю?». Но все его замыслы вскоре были отложены, и сосредоточился он на одном.
Началось всё событием банальным, хоть и, безусловно, печальным — смертью Алексеевой бабушки. Старушка покинула мир в девяностолетнем почтенном возрасте, квартиру, как и положено, отписала наиболее нуждающейся в квадратных метрах родне, поэтому скорби, а уж тем более отчаяния, никто в семье не испытал. Аккуратная её смерть — дозвонилась до соседки и даже дверь изнутри успела открыть перед сердечным приступом — не доставила никому особенных неудобств: почти всё ей было предусмотрено и оплачено заранее. Квартиру выставили на продажу, вещи переглядели и выбросили, оставив лишь небольшую стеклянную баночку с никому не нужными золотыми побрякушками, собираемыми почившей в течение всей жизни, и пачку писем, упрятанных в полиэтиленовый пакет. Золотишко постановили сдать в ювелирный утиль, а письма, по виду ветхие и много раз читанные, отдали Алексею, любителю, по выражению его отца, «трясти древними бумажонками».
Так и оказалась в его руках переписка матери умершей бабушки, стало быть, приходившейся Алексею прабабушкой, с Александром Яковлевичем Кудрявым — актёром, блистающим на театральных подмостках столицы почти сто лет назад.
Прабабку Алексей не застал, родившись спустя несколько месяцев после её смерти. В семье о ней почти не говорили, то ли стесняясь, то ли боясь ворошить былое, надёжно прикрытое не только прошедшими десятилетиями, но даже и новым веком. Мало разговоров вёл Алексей и с бабушкой — сначала мал был, а потом занят — то учёбой, то сидением в архивах. Ах, как же теперь жалел он, что не расспросил хорошенько старуху и не узнал, когда её мать познакомилась с Кудрявым, что составило их роман, чем он начался и чем завершился, и при каких обстоятельствах она сбежала из столицы в ничем не примечательный городишко в самой середине России…
Замуж прабабка более не выходила, вскоре после переезда родила дочь — будущую бабушку Алексея, появившуюся на свет в тысяча девятьсот двадцатом. Больше никаких примечательных фактов в её биографии не обнаружилось, кроме, разве что, одного — где-то в начале пятидесятых так и не покинувшая город своей добровольной ссылки прабабушка переехала из общежития на окраине в двухкомнатную квартиру, расположенную на улице Кудрявого. Было ли это совпадением, случилось ли стараниями бывшей возлюбленной актёра, никто не знал. Алексею нравилось думать так: прабабушка романтических чувств не потеряла и с особым трепетом обрела новый адрес, хотя бы таким штампом в паспорте приблизившись к потерянному навсегда любимому.
Думая о времени любви прабабки и Кудрявого, пришедшейся, судя по всему, на тысяча девятьсот девятнадцатый, Алексей погружался в какую-то бесцветную дымку, смутную и холодную (так причудливо связывались в его сознании ушедшая реальность и оставшиеся от неё чёрно-белые кадры хроник). Но дымка эта была живою — двигались внутри неё фигуры, звучала музыка и вот, даже романы крутились. Обжигала Алексея надеждой вероятность собственного родства с Кудрявым — ну могла же, в конце концов, прабабка забеременеть от актёра ещё в Москве, перед самым отъездом в безвестность и бессмысленность провинции.
Сравнивая себя с возможным прадедом и разглядывая сохранившиеся фотографии Кудрявого, Алексей видел лицо благородное: тонкое, но мужественное, выражающее готовность справиться с любыми печалями без потери достоинства и артистизма. В лице же Алексея к его досаде, ни благородства, ни мужества не наблюдалось — самая обыкновенная себе физиономия: нос уточкой, подбородок слабый и брови несолидные, чуть видны.
Но как же мучила мысль о вполне возможной, иной жизни, потерявшейся где-то во времени и пространстве, не случившейся… Отчего же злая история не пожелала сделать прабабку Кудрявому женой и стёрла ни в чём не повинную, глуповатую — так считал правнук — девицу со всех своих скрижалей? Чуть больше милосердия от госпожи Клио, и не пришлось бы Алексею скучать над безвестными сопровождающими чьих-то великих жизней, и с полным правом мог бы он исследовать роли, судьбу, любови и трагическую кончину своего знаменитого прадеда.
Подумывал Алексей отправиться в Москву, разыскать оставшихся в живых родственников Кудрявого и выяснить-таки, имеет ли его медленно текущая, пугливая кровь какое-либо отношение к страстно бурлящим генам актёра. Но что-то унизительное, нечистоплотное мерещилось ему в таком поступке; и более всего не хотелось ему осуждения и враждебности: а ну как подумают, что привлекает его всего лишь наследство? Пугал и сам путь в столицу — поездом ли, самолётом? А если ограбят или крушение какое произойдёт?
Повздыхав и потосковав, Алексей решил включить прабабку в число героев будущей книги и тоску по несбывшемуся в себе почти унял. Но успокоиться не получилось, и вот холодным весенним днём он уселся на треснувшие ступеньки магазинного крыльца рядом с книгами и буйной гераниевой зеленью.
***
Ангел мой Надюша!
Благодарю вас за письмо, я так рад был получить его и, признаюсь вам, даже хотел всплакнуть от восторга. Думал целовать конверт, поскольку показалось мне, что он несёт на себе ваш слабый аромат — мёда и тёплого молока, но соображения гигиенические меня остановили: письмо чудом добралось до меня через тысячи вёрст, а кругом мор и нищета, всегда бывшая для меня чем-то вроде дурной болезни.
Очень мне, Наденька, тяжело сейчас. И силы мои кончаются. Подумываю уехать из столицы, поскольку играть в такой обстановке не имею ни желания, ни возможностей. Вообразите, только представьте, мне — почти нечего есть! Никогда не думал, что такое прозаическое, низменное отвратит меня от театра, но я не могу не вспоминать свою жизнь всего лишь пятилетней давности, когда у меня никогда не мёрзли ноги и я мог напиться чаю вдоволь. Да что там чай! Вспомните наши ужины, завтраки, обеды! Вера, я страдаю и измучен нехваткой самого необходимого, и только вам лишь могу признаться в этом, но, впрочем, попрошу вас немедленно уничтожить это письмо после прочтения. Мне не хотелось бы сохранять письменное свидетельство моей слабости — я даже лучшим друзьям объясняю своё дурное настроение любовными неудачами.
Уверен, вы разрешите мне быть откровенным: и любовные неудачи у меня сейчас имеются. Но греет мне душу мечта: вот сяду я в поезд (хотя, говорят, они страшны и грязны нынче), и уеду к вам, на север. И вы меня согреете и накормите, и будете любить, правда? Говорят, на севере не так голодно, а я так устал быть несчастным и мёрзнуть, Вера!
Но не буду утомлять вас своими слезами, хотя, поверьте, последние несколько недель мне ничего не хочется — только биться от отчаяния, право, как в самой трагической роли.
Будьте готовы, Надя, к моему появлению. Я уже забываю о славе и мечтаю лишь о вас.
Остаюсь всегда преданным вам,
Ваш Александр Кудрявый
Алексей читал с выражением, возвышая голос и взмахивая левою рукой в местах особенно патетических. Раскрытая папка лежала у него на коленях, и чуть ослабевший после утренней гонки ветер шевелил листки пожелтевшей от времени бумаги.
— В октябре девятнадцатого года писано, — пояснил он пригорюнившимся на своих раскладных стульчиках торговкам. — А вот что она ему ответила.
Сашенька, здравствуйте, родной!
Простите мне мою фамильярность, но я как прочитала ваше письмо, так до сих пор летаю! Вот не поверите, не хожу, как все, по дороге, а лечу над нею! И мне больше не хочется вас называть Александром Яковлевичем, зачем так долго-долго выговаривать, когда сердце моё поёт, и сама я лечу — Сашенька, Сашенька!
Вчера перемыла полы, книги перетёрла, всё-всё в комнате вытрясла и проветрила, и каждая вещичка меня радовала, потому как я представляла, что вы скоро на неё взглянете, к ней прикоснётесь!
Я всё очень славно придумала. Вы, главное, приезжайте, а здесь мы устроимся! У меня очень тёплая комната, не скажу, что просторная, но светлая, и окно большое, высокое! Я так чувствую, словно пропасть, что была между нами (помните, вы сами мне перечисляли — и возраст, и груз печалей, и разность взглядов), так вот эта пропасть словно исчезла, как и не было. И пусть на улице очень страшно сейчас, поздняя осень, и ещё снегом ничего не закрыто, и люди такие, Боже мой, такие страшные. Отчего-то лица у них чёрные, и вся одежда словно из-под земли вынута! И ночью кричат за окном на разные голоса — то будто ребёнок, то будто старик.
Но вы не пугайтесь, замки у меня крепкие, да и ходить вам никуда особенно не надо будет, я всё-всё уже решила! Мне много не нужно, а когда вы будете рядом, так вообще одного солнечного света хватит!
Одно печалит меня. Вы мне сами рассказывали, помните, как выражались? Что сцена для вас, как вода. Что вы плывёте на свободе, когда выходите к зрителю. Как же вы будете без сцены? Но у нас, Сашенька, поговаривают, самодеятельный театр будут открывать! Может, вам туда? Вот счастье-то, если вам захочется! Ведь вас же сразу примут! Вы гений, и никакая чернота, никакая грязная осень, никакой голод или холод этого не отменят.
Сашенька… Мне очень тяжело и неловко это писать, но я должна сказать вам. Я не смогу вас просто так принять, вот так, как сейчас. Я знаю, я глупая и ничего не понимаю о свободе, но и вы меня поймите. Простите меня, я бы никогда не решилась сказать вам это в лицо, сгорела бы от стыда, а писать как-то легче. Я знаю, что вы не любите этой пошлости, и мелко вам покажется то, что я думаю. Но после нашей единственной — помните? — единственно возможной встречи всё моё существование стало вами. Я стала вами. И быть с вами рядом, Сашенька, я смогу, только если вы будете весь — мной. Весь мой.
Я плачу сейчас. Не верю в такую судьбу, неужто Бог отвёл мне такую радость? Не верю, и никто не поверил бы, но мне и поделиться-то не с кем. А потом перечитываю ваше письмо, и такие слова вы мне пишете, вроде обыкновенные чернила на самой обычной бумаге, а столько радости, Сашенька, столько! Я смеюсь сейчас. Быть может, это моё письмо не застанет вас, быть может, вы уже спешите ко мне, и мне придётся стать храброй и самой всё-всё вам сказать, по-настоящему! И пусть! Я ничего не боюсь, и хоть знаю, что не успели бы вы так быстро добраться, но побегу сейчас на вокзал встречать вечерний поезд, и каждый день буду бегать, Господи, за что мне такое счастье, я ведь столько раз смогу представить, как вы спускаетесь ко мне из вагона!
Жду всем сердцем, всею душою,
Ваша Надя
— Эта Надя — прабабка моя, — в голосе Алексея слышалась нескрываемая гордость. Смутившись, он прибавил: — Я, быть может, правнуком Кудрявому прихожусь! Прабабушка из Москвы сюда приехала и тут уже мою бабушку родила.
— Мдааа… — неопределённо протянула Верочка Николаевна. — А я и не знала, что улица эта в честь актёра названа. Думала, как обычно, военный какой или писатель. А почему ты говоришь, что пропала улица? Снесут тут всё, что ли?
Алексей оживился:
— Почему снесут, нет, всего лишь отремонтируют. Что само по себе и неплохо! Но ведь название улицы тоже решили сменить, представляете? Я, как вероятный потомок и историк, протестую! Это же гордость города, культурное его достоинство! А они космонавта какого-то хотят вместо актёра обозначить. Нет, космонавты тоже, конечно, люди полезные, но в чём Кудрявый-то провинился? И всем наплевать, что жила в городе любимая актёром женщина, пусть и недолго любимая, но жила же? Вот, глядите, — Алексей достал из папки резко отличающуюся от старых писем ослепительной белизной бумагу и замахал ей, словно трепещущим флажком, — решение городского совета, месяц назад они тайком всё провернули, а я только неделю как узнал! Сочли, что театральный деятель к нашему городу отношения не имеет. Ну как будто космонавтов у нас здесь завались! К мэру меня не пустили, на звонки не отвечали, на письма тоже. Вечерами я бегал здесь, по улице, пробовал собрать подписи, потом заходил в дома, собирал народ, но равнодушные у нас люди нынче. Корней не знают, городом не интересуются. Даже побить грозили, подумайте-ка?
Торгующая любовными романами Людмила усмехнулась, представив, что бы она ответила подобному посетителю, потревожившему её вечерний покой.
— А Ванюшку чем так напугал? — спросила она.
— Ванюшку? А, участкового-то? — Алексей смущённо улыбнулся. — Да я думал, поможет… Правоохранительный орган как-никак. Но он от меня сбежал сразу, как я письма ему попытался почитать, и потом всё время прятался, ни разу не поговорили мы обстоятельно. Спасибо, хоть вы выслушали…
Верочка Николаевна хмыкнула.
— Знаешь, по мне хоть актёр, хоть космонавт, честно тебе скажу. Космонавты, пожалуй, поприятнее будут, хотя бы не кривляются. А вот то, что прогоняют нас, это плохо. Пока место новое найдём, пока пристроимся. А там свои порядки, и неизвестно ещё, как примут… Людк, давай вместе держаться, ладно? Я, если что, сына подключу.
Оставив обиду, плохие рецепты и атаки цветочного пульверизатора, торговки затараторили наперебой, обсуждая рынки, уличные базарчики и городские закоулки, на которых можно будет попробовать обрести кусочек торгового счастья. Об Алексее позабыли. Он бережно вложил прочитанные письма в конверты и теперь поглаживал бумагу самыми кончиками пальцев, аккуратно, словно прикасаясь к бабочкиным крыльям. Потом закрыл папку, щёлкнув тугими резинками по её краям, и встал.
— Эй, ты куда, погоди! — встрепенулась Людмила, любившая книги только со счастливым концом. — А дальше-то что было? Приехал Кудрявый к твоей прабабке? Или она к нему?
— Нет, — ответил Алексей. — Никто ни к кому не приехал. Кудрявый женился на режиссёрской дочке, стал хорошо питаться и больше Наде не писал. Играл всякое разное, и всегда удачно так, с блеском. На открытках его печатали, по всей стране они разлетались, он там то с усами, то в тюрбане со звездою — это лучшая его роль была — Красного мудреца, по мотивам восточных сказок спектакль поставили, но в революционной тематике. А потом над ним пошутили нехорошо: мол, арестовать его хотят. А он поверил и повесился. Народу, понятное дело, сказали, что заболел тяжело и не выздоровел. Тогда во многих городах улицы его именем назвали. А теперь вот и помнить не хотят.
Торговки молчали. Знать о чьей-то нелепой смерти, случившейся так давно, им не хотелось. Не трогала их и замена актёра на космонавта, ну помилуйте, какая нам разница, хоть как обзовите, только не трогайте, жить дайте спокойно, без сложностей. Мы люди маленькие, тихие, наш мир — крохотный мыльный пузырь, летящий невесть куда и невесть кем надутый. Продержаться чуток, не повредить глянцевую радужную кожицу, целыми добраться до конца и там уж исчезнуть беззвучно и бесследно, лишь бы без страха, лишь бы без боли.
— Ну, ты иди себе. Иди, — сказала Верочка Николаевна и сделала Людмиле страшные глаза, чтоб не вздумала больше этого чудака о чём-то спрашивать.
— До свидания, — вежливо попрощался Алексей и спустился с крыльца. — Так если участковый будет проходить, вы уж передайте, что я его искал…
***
Алексей шёл по улице, поглядывая на потрёпанные адресные таблички — вскоре их заменят новыми, с выписанными по светлому металлу завитушками и короткой, звонкой фамилией может быть, вполне хорошего, приличного человека, пусть и выходившего в открытый космос, но не любимого доверчивой девятнадцатилетней девчонкой с толстой светлой косой и нелепым бантом на макушке.
От ходьбы Алексей немного согрелся и шёл теперь бодрее, прислушиваясь к составленной ветром, людскими и автомобильными голосами музыке города. Вплетаясь в этот неумолкающий хор без протеста и надрыва, ровно, уверенно и легко зазвучали в его голове вытверженные наизусть слова последнего письма, написанного прабабкой в глубокой старости и не отправленного по причине полного отсутствия адресата.
Милый мой Сашенька!
Простите, что не писала так долго. И не думайте, что была обижена. Совсем нет, но не писалось мне отчего-то. Но теперь, думаю, нам придётся скоро свидеться, и я, как тогда, помните, лучше напишу, чем скажу в глаза.
Саша, всю мою жизнь каждый мой день был наполнен надеждой. Она была моим именем и заменила мне все другие чувства. И она была прекрасна. То, что оборвалось между нами на взлёте, осталось у меня. Всё, целиком, как я и хотела. Спасибо вам, родной. До встречи,
Ваша Надя.
В сотый раз перебрав в памяти слабые строчки, написанные уже не чернилами, а обыкновенной шариковой ручкой, Алексей стал думать о своём одиноком бунте, прикидывая, как бы ему выступить ловчее и полезнее. И по всему выходил ему один позор. Шли бы танки или тяжёлая строительная техника, можно было бы выразительно встать у них на пути. А что ты поделаешь с укладчиками тротуарной плитки — кинешься под их резиновые молотки? И драматичным ли будет противоборство с рабочими, скручивающими старые таблички с панельного панциря пятиэтажек? Что там у них будет, отвёртки, дрели? А у Алексея ветхие бумажки и диплом историка-архивиста?
Выхода никакого не было, и выход был один — идти, как идётся, и любить, как любится, греясь той самой бессмысленной надеждой, что передаётся от уходящих остающимся и делает даже неотправленные письма полученными. Время, как сердце, ровно билось в Алексеевой папке, и город на секунду притих, запоминая его шаги.


Маргарита КАМОВИЧ
Родилась 02.08.1999 в республике Адыгея, город Майкоп. В 8 лет приехала в Анапу. Учусь в АКСУ. Люблю рисовать, коллекционировать куклы и разные фигурки, люблю котиков и птиц (особенно сов и филинов). Характер: скромная, верная, немного интроверт, но, если надо, могу постоять за себя или за друга.
Поттероманка, брони и меломан.
НОВЫЙ ГОД С ДРУЗЬЯМИ
Зима, а вместе с ней и Новый год наступили в Адыгее, казалось бы, слишком рано. Снегом замело все улочки ещё за день до Нового года. В Майкопе всё было белым-бело, и смотрелось это так уютно, что, глядя из окна на шикарный зимний лес, хотелось выпить лишнюю кружку горячего шоколада.
В просторном доме шумно, тепло, очень много какао. В зале огнями сверкает пушистая большая ёлка, принося новогодний дух праздника в эти стены.
Пока висят только гирлянды, ибо украшать решили по приезду брата Лейлы. В камине иногда трещат дрова. Всё вокруг говорит о приближении чего-то волшебно-сказочного.
Утро 31 декабря, 10:30. Канун Нового года
Как только ласковые лучи солнца коснулись моего лица, я сначала открыла один зеленоватый глаз, а затем и другой. После освободила себя от мягкого и тёплого пухового одеяла, отбросив его правой рукой к стене. И оживлённо подбежала к окнам, раздвинула злосчастные шторы, которые так проклинала Лейла, раздосадованная тем, что её разбудили, и тем, что теперь у неё не осталось варианта, кроме как закрыть лицо подушкой и отложить идею мести для подруги на потом.
Я же расчесала свои золотистые волосы и, услышав голос Аслана, который, очевидно, только приехал, побежала на первый этаж. Однако Аслан смотрел на меня и проглядел порог в зал, из-за чего его лицу пришлось хорошенько познакомиться с дубовым паркетом.
— Как неприлично с твоей стороны целовать паркет, — с насмешкой сказала я, после улыбнувшись так, что злиться на меня стало невозможно.
— Ха-ха, очень смешно, — продолжал Аслан, почёсывая набитую шишку. — И всё же спасибо.
К этому времени Лейла смогла побороть сонливость и, приведя себя в порядок, спустилась. Её мама уже достала из чулана коробки с игрушками.
— А теперь вам нужно украсить ёлку, — сказала Ася и ушла помогать на кухню.
Лейла взяла меня за руку и подхватила коробку игрушек, лежащую на полу.
— Посмотри, — сказала она, доставая шар из коробки, — этот большой тёмно-синего цвета напоминает мне об океане, а этот зелёный, как летняя трава. Оу, а этот золотой, как…
— Как твои волосы, Марго, — сказал Аслан, который принёс табуретку, чтобы девочкам было удобнее вешать ёлочные игрушки.
Примерно через двадцать минут работа была завершена. Ася была довольна проделанной детьми работой: здесь не только отлично сочетались шары разных цветов и размеров, но и бело-радужная гирлянда и золотая звезда, которая красовалась на верхушке вечнозелёного дерева.
Из кухни запахло имбирным печеньем и мятно-малиновым чаем.
Вечер, 23:50
За большим столом умещается семья и гости, даже Сайд присоединяется к нам. Ему тоже не чужды эти чувства и семейные отношения. Их с Асей мама хлопочет над столом, ставит и проверяет, чтобы всё было на месте. На фоне работает Первый канал — идёт праздничный концерт.
Я смотрю на настенные часы. Осталось 3 минуты до нового 2010 года.
Наконец, все сели на свои места, я опустилась рядом с сестрой-подругой. И вот эта минута настала.
Часы пробивают 12 раз, и все, сорвавшись с места, идут на улицу смотреть красочный салют. В эту ночь он был особенно сказочный и волшебный.
А по возвращению мы в три часа ночи кинулись под ёлку рассматривать долгожданные подарки, которых было очень много. Схватив свои подарки, мы убежала наверх, чтобы как следует их рассмотреть.

Дарья ЛАКИЗА
Родилась 8 апреля 2002 года в городе Ноябрьске.
Раньше была наездницей — занималась конкуром. Писать стала сравнительно недавно. Я не идеально, но и не очень уж плохо рисую. Делаю это для себя и не стараюсь кому-либо угодить. Не люблю больших компаний, современной музыки и одежды.
СКАЗКА ДЛЯ ПАПЫ
3 место в номинации «Произведения для детей. Открытие» Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Поэзия русского слова»
В тот год зима выдалась не снежной. Впервые за весь декабрь облака не одарили промёрзшую землю ни единой снежинкой. Сами понимаете, что такую трагедию тяжелее нас переносят дети.
Колька грустил по прыжкам в сугробы, постройкам снежных крепостей, ледовым горкам… Садик закрыли на время — из-за морозов лопнула труба.
Мишка, друг сына, болел, и к нему Коля не мог сходить. Остальные друзья либо жили жутко далеко, либо были сражены коварным гриппом или ангиной. Во все игрушки и настольные игры сын ещё в начале неожиданных каникул переиграл, и теперь ему было тошно смотреть на них. Его лучшими друзьями стали телевизор и приставка Денди.
Наша мама Аня стала жаловаться:
— Ни книжки читать, ни играть он не хочет! Не оторвешь от телевизора! Сделай что-нибудь, пожалуйста!
И я сделал. Вечером, когда Коля, поковырявшись в тарелке, вылез из-за стола и собрался уйти, я придержал его за плечо.
— Куда это ты, дружок?
Сын захлопал ресницами. Испугался, должно быть, ведь я долго никак не реагировал на его «сбегалки» с ужина.
— Да там сейчас эти… «Утиные истории» начнутся… — как зажатый кошкой мышонок, пропищал он.
— Не-не-не, — покачал я головой. — Телевизора сегодня не будет. Иди-ка ты лучше собирайся.
— Куда? — удивился Коля.
— На улицу пойдём! — усмехнувшись, ответил я.
— Зачем? — скис мальчишка. Наверное, он надеялся, что я поведу его в кинотеатр или цирк. Перспектива обычной прогулки по собачьему холоду, укутанным в сто слоёв, его нисколько не устраивала. Тогда я проявил смекалку.
— А ананас хочешь?
Глаза у Кольки загорелись. Ещё бы! Лакомство, которое мы покупаем разве что только на праздники, вдруг просто так!
— Конечно! — и он унёсся быстрее вихря.
Мама вздохнула — она против. Но, видимо, Аня была готова на всё, лишь бы Колька хоть один вечер отдохнул от телевизора. Поэтому, помотав головой, она тихо попросила купить моркови и картофеля — завтра на суп.
Сын вылетел из подъезда, подгоняя меня криками:
— Папа, быстрей! Папа! Пап!
Пришлось наскоро запихнуть в себя котлету, быстро собраться и выбежать за ним. Коля прыгал впереди меня, но, когда началась череда дорог, я взял его за руку. Малыш шмыгал носом и поправлял большую ушанку, которая постоянно сползала ему на глаза. Ожидая, пока зажжётся зелёный человечек, сынок ковырял концом ботинка ледяную корку лужи. Пару минут он шёл, молча рассматривая чистое звёздное небо, а потом вдруг поинтересовался:
— Пап, а откуда берется мороз?
Я улыбнулся, брякнув:
— Дед Мороз приносит, конечно.
— А снег?
— А снег… Его тоже делает Дед Мороз.
— Он что, живёт на небе?
— Не-е-т… — вспотев, ответил я. — В Устюге…
— А кто тогда разносит его?
— Кого?
— Снег!
— Олени! — крикнул я. Ну и заврался, ну заврался…
Может, я и сказал бы ему, что пошутил, но Колькины глаза так засияли, а губы почти неслышно, но так ласково повторяли последнее сказанное мною слово, что я не осмелился испортить ребёнку сказку.
В магазине улыбчивая продавщица подала Коле пузатый ананас-богатырь, я купил овощей, а сынок посоветовал взять ещё хурмы, чтобы порадовать маму.
Этим вечером к ананасу никто не притронулся. Колька до ночи прыгал за мной и пытался разузнать как можно больше о волшебных оленях. Спасла меня Анечка — напоила сынишку тёплым молоком с мёдом, спела ему колыбельную, и маленький сорванец окунулся в мир грёз, прямо как его нос в молоко.
Следующее утро началось с громкого шёпота прямо в ухо:
— Пап… пап! Па, ты спишь?
Кряхтя, я сел в кровати и недовольно прогудел:
— Уже нет…
— Вот и хорошо! Тогда идём завтракать. Я есть хочу, а плиту вы мне включать не разрешаете. Ма-ма! — принялся он теребить плечо Ани.
Спасая жену от недосыпа, я подхватил сына на руки и утащил на кухню. Пожарив картошку с яйцом и накормив Колю, я поинтересовался у него, зачем он подскочил в такую рань.
— А я гулять хочу.
— С утра? — уточнил я.
— С утра. Чтобы оленей приманить.
— Чем собираешься приманивать? — с улыбкой уточнил я.
— Морковкой. Папа, ты что, не знаешь, что олени едят?
— А почему ты думаешь, что они её едят?
— Я в зоопарке их кормил прошлым летом.
Откуда он помнил, чем кормил оленей в прошлом году, осталось для меня неразгаданной загадкой.
С утра ярко светило солнце, но на улице всё равно было холодно. В этот прекрасный солнечный день мне было стыдно как никогда. Сын протащил меня по всем улицам города, подзывая:
— Олени! Оленешки! Оленята!
После лёгкого щелчка по носу и строгого замечания он притих и молчал вплоть до нашего прихода на детскую площадку. Обычно веселящийся здесь до изнеможения Колька сейчас один разок скатился с горки и сел на край скамейки, невесело болтая ногами и не поднимая глаза. Может быть, он разочаровался, что не нашёл волшебных созданий, а может, на меня обиделся.
В любом случае в его грусти был виноват я — дёрнуло меня вчера ляпнуть про Деда Мороза и оленей, вот уж дёрнуло.
Я стыдливо отвел от малыша взгляд — неприятное чувство вины окрасило мои уши, будто я не взрослый человек, а какой-нибудь мальчишка. Глупый бестолковый мальчишка, который сначала говорит, а потом думает.
Вздохнув, я решил рассказать сыну правду и уже обернулся, чтобы сделать это… Вот только не увидел я сына. Облазив все места на площадке, заглянув под каждую горку и скамью, я не на шутку перепугался — ребёнок исчез!
В отчаянии я стал звать:
— Коля! Коленька!
— Па, — услышал я родной голосок. Посмотрев назад, я увидел маленького сорванца. Он стоял у парка, который сам любил называть «лесом», из молодых ёлочек и…
Вот тут я действительно задумался: а не сошли ли вы, батенька, с ума со страху? Рядом с моим сыном, махая ушами и хрумкая морковку, гордо перебирал ногами олень. Белый олень. С рогами. Кажется, настоящий.
— Это что такое? — хотел спросить я, но не спросил. Мне вдруг подумалось, что, если я скажу эту сугубо взрослую, сухую фразу, вся детская сказка исчезнет, растает, как снег, который мы никак не дождёмся.
Поэтому, проглотив ещё не вырвавшиеся слова, я подошёл к сыну и оленю. Создание подняло на меня тёмные глаза, в которых отражалось ночное небо. Мотнув головой, он коротко гукнул.
— Погладь, — шепнул сынишка.
Я протянул руку к мордашке волшебного существа. Навострив уши, олень дотронулся до потной ладони мокрым холодным носом. Я вдруг почувствовал себя маленьким: и сосны неожиданно рванулись вверх, всё выше и выше к небу, и люди вокруг дружелюбно заулыбались, и на деревьях замерцали волшебные огоньки.
— Сказка… — выдохнул я, поглаживая спинку дарующего счастье.
— Сказка будет завтра. Он обещал принести снег. А ещё прокатить нас до дома!
— Не, спасибо, это без меня. Для меня он слишком мал.
Олень завыл, подхватил Колю на спину и замахал ушами.
— Ну хорошо!
Олень подпрыгнул и взмыл вверх, к ветвям. Колька засмеялся, а я испуганно огляделся — что люди подумают? Но все вели себя так, будто каждый день видят белоснежных оленей с прозрачными ледяными рогами и сияющими копытцами.
Через пару кварталов мы были у нашего подъезда. Сынишка спрыгнул с волшебного зверя, обнял его и скормил последнюю морковку. Гукнув, олень будто поклонился, а потом направился к «лесу» из сосенок и в нём же исчез. Только белоснежный хвостик долго мелькал вдали.
Колька с радостным визгом перепрыгивал через три ступеньки сразу. Забежав в квартиру, он прижался к маме и поцеловал её в щёку.
— Вот это вы долго, я уже стала волноваться. Голодные, наверное? — немного укоризненно улыбнулась она.
— Очень! — за двоих ответил сын.
Съев всю свою порцию и попросив добавки, Колька сделал нам чай, заваривая который, успел незаметно стащить пару кусков сахару. Открыв окно, он положил их на подоконник со стороны улицы, а потом убежал в свою комнату. Он сидел там долго и очень тихо. Я заглянул к нему ближе к девяти. Сын уснул прямо за столом, уткнувшись носиком в книжку. Уложив мальчишку в постель, я собрался уйти, но перед этим посмотрел книжицу, которую так увлечённо читал Коля. «Серебряное копытце и другие повести» гласила обложка.
Утром наша квартира проснулась от топота детских ножек и радостного громкого шёпота. Хлопнула входная дверь. Я поднялся с кровати, заботливо укрыл Аню одеялом и выглянул в окно. Улицу засыпало снегом, сугробы украшали каждую лавочку, а ребята уже вовсю обливали снежную горку водой.
Я улыбнулся — заметил среди них Кольку.
Сделав себе кофе, я задумался: а не приснилось ли мне вчерашнее? Надо будет спросить у сына, когда он вернётся. Открыв окно и вдохнув морозный воздух, я вдруг вспомнил кое-что и осторожно пощупал снег на подоконнике.
Сахара в нём не было…

Иван ЛЕЕР
Леер Иван Эдуардович родился 01.01.2008. С детства — сочинитель и сказочник, читатель и философ. Учится в школе №4
***
Хочу желание загадать.
Считаем мы секунды,
гремят фейерверки за окном,
сверкает мантия ночи,
блистают звёздные лучи,
и вот осталось раз, два, три —
всё радость наполняет.
Снежинка тает за окном,
и грусть вся исчезает,
уходит грусть со старым годом,
а счастье будет в Новом…
***
2 место в номинации «Поэзия от 8 до 10 лет», городской литературный конкурс «Вдохновение»
Зима ну просто загляденье!
Фристайл, лыжи и коньки,
среди поляны — толстый, снежный,
красивый барин-снеговик.
Весна — хорошая погода,
и распускается природа,
и звук весёленькой капели.
Ты посмотри, какие ели!
И наступило время лета:
каникулы — ура! Ура!
И веселится детвора,
А солнышко отлично греет,
и на душе так веселеет.
А осень — то ответственное время,
идут ребята с рюкзаками.
Родители гордятся нами,
Учитель наш стоит с цветами,
и заливается звонок,
ведь начинается урок.
ПРИТЧА
2 место в номинации «Проза от 8 до 10 лет» городской литературный конкурс «Вдохновение»
Случилось это давно.
Жил на свете человек, и звали его Разул. Разул был женат и имел детей, но он был бедным. Разул работал пахарем и каждый день пропадал в поле с утра до позднего вечера. Когда он уходил на работу, жена давала ему свёрток, в котором лежали две луковицы соль и кусок хлеба — деревенская лепёшка, которая пеклась на воде и муке. Разул с благодарностью воспринимал заботу жены о нём и понимал, что обед скуден, потому что невозможно заработать больше, чем он может.
Однажды в полдень Разул сел под дерево в тенёк, чтобы поесть. И вдруг услышал голос: «Хотел бы ты разбогатеть?» Разул, не думая, ответил: «Конечно, да!» «Тогда возьми этот браслет, надень его на руку, но помни: когда ты его наденешь, всё, к чему ты ни прикоснёшься, тут же превратится в золото».
Разул посмотрел: около его ног лежал красивый браслет, который сверкал и переливался всеми цветами радуги, он выглядел очень дорого и богато, и Разул смотрел на него завороженно. Он надел браслет и прикоснулся к камню, и тот тут же стал золотом…
Разул решил сначала поесть, а потом уже сделать золото из камней. Он взял в руки лук, и он стал золотом. Разул решил снять браслет и понял, что, если он прикоснётся к себе, тоже станет золотом. В ужасе он подумал, как он будет есть и пить…
И… вдруг он проснулся.
Он очень обрадовался, поднял руки к небу и сказал: «Как хорошо жить!»
Вечером дети наловят рыбы, жена её пожарит на костре, и мы все вместе будем ужинать.

Сергей ЛЁВИН
Член Союза писателей России
Член Союза журналистов России
Раньше считал себя автором, который сочиняет тексты исключительно для взрослых, но за последние пару лет внезапно почувствовал непреодолимое желание писать для детей и даже выпустил отдельными книгами две повести разной степени сказочности для девчонок и мальчишек. Впрочем, их родителям, бабушкам и дедушкам они тоже нравятся, и это согревает мне душу.
Нахожу для творчества время, когда того, кажется, совсем нет, ибо, помимо работы, много и с удовольствием выступаю, провожу творческие встречи, тружусь в жюри на конкурсах и фестивалях и, конечно, радуюсь общению со своими самыми близкими людьми. Они и есть мои первые и самые строгие читатели.
ВНЕЗАПНЫЙ ДОЖДЬ
А по прогнозу не было дождя,
но он пошёл, Гисметео игноря,
и город стал печально-мокрым вскоре.
Из-под колёс фонтаны брызг летят,
ломает ветер хлипкие зонты,
срывает кепки, шарфики и шляпы.
То рушится стеной воды, то каплет
дождь-интроверт — такой же, как и ты.
Синоптикам довериться? — Зачем?!
Сюрпризы и кунштюки так прекрасны.
Лишь город из бетона и пластмассы
рыдает у равнины на плече.
Он плачет не от горя и обид
на племя суетливое людское,
которое бездумно строит, строит.
Он плачет, потому что дождь убит
асфальтом, водостоками, стеклом,
ливнёвками он загнан в подземелья.
Взрывается! И плещет еле-еле.
С дождём и сердце улиц утекло.
НЕПОЭТ
Я не помню начало конца:
у меня девять дней нет лица,
у меня девять дней нет воды,
газа, света, тепла и еды,
и теперь уже не разберёшь,
человек я, тукан или вошь;
то ли крылья торчат из спины,
то ли я стал фрагментом стены.
Невозможно осмыслить итог,
если ты не какой-нибудь бог,
если ты не монах и не бес,
если с лестницы в небо не слез.
Я не помню начало конца,
у меня сорок лет нет лица,
стиля, такта и мудрости нет…
непоэт непоэт непоэт
ДЖОКЕР
Чёртов Джокер, пёсий Джокер,
криповатый, кособокий
из темницы, из ловушки
выбрался, и нам нескучно,
нам всем страшно,
стрёмно, жутко:
очень-очень злая шутка…
Гадкий Джокер, сучий Джокер
подорвал две новостройки
на окраине Готэма
без смущенья, без проблемы.
Клоун-психопат-политик
усмехается элите:
он не мрачный — суперржачный
по телеэкранам скачет.
Им ютубы, хайпы, чаты
переполнены стократно.
Страх крепчает, он вещает,
докучает да стращает.
Богомерзкий алчный Джокер
плоскобрюхий, кривоногий —
порождение геенны
и гиены, несомненно.
Убирайся!
Нам на радость
обращайся в пакость, гадость.
Пшёл отсюда,
шут-паскуда!
Только нет надежд на чудо…
Омерзительнейший Джокер
алоротый, черноокий
на пилонах и афишах
и в прямой эфир он вышел!
И планшеты, и смартфоны,
телевизоры, иконы
содрогаются от смеха.
Вот потеха так потеха!
Славный Джокер! Лидер Джокер!
Хором воем эти строки
и челом бьём лучше всех
под весёлый красный смех…
***
То ли июльская жуть, то ли августа нежить —
таю от зноя и капаю нервом в песок.
Так укрощается страсть. Жаль, мне веки не смежить,
не раствориться в потоке из вычурных слов,
не покорить Джомолунгму и Килиманджаро
и не пропеть как псалом Эйяфьятлайокудль.
Мне сорок лет, но себя я не чувствую старым,
хватке моей позавидует лютый питбуль.
Лето, жара, духота — с неба падает лава,
хлюпает жидкой подошвой голодный асфальт.
Скоро вскипит горизонт, и диск солнца кровавый
в море погрузится под стрёкот мерный цикад.
Я провожу его взглядом усталым и гордым —
ночь долгожданная ветер и сон принесёт.
Мякиш луны мне о главном сейчас же напомнит:
где-то прохладный есть край — там меня кто-то ждёт.
***
Прими меня таким, какой я есть:
неброским, угловатым, нелюдимым.
Не человек, а жесть, осколки, шерсть,
чернила, кости, кровь, бумага, глина.
Люби меня таким, какой я есть:
надменным, сомневающимся, слабым.
Я пешка, у которой идол — ферзь,
набросок, что стремится к идеалу.
Цени меня таким, какой я есть:
измученным, потерянным, всесильным.
Отважный трус, порядочный подлец,
я пуст и в то же время изобилен.
Дождись меня таким, какой я есть:
я с мельницами биться не закончил.
Вкушаю декаданс, фантазм, бурлеск,
не знающий покоя днём и ночью.
Встречай меня таким, какой я есть:
вернусь я из крестового похода
и буду, как и прежде, снова здесь
сутулиться под крики: «Мракобес!»,
макушкой тычась в брюхо небосвода…
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОНО
Пеннивайзу снова двадцать семь!
Дети дружно встали в хоровод.
Ничего, что целы не совсем
и до свадьбы вряд ли заживёт.
В городе главенствует Оно —
все его избрали на ура.
Ничего, что жутко да смурно —
хорошо уже не из «ЕдРа».
Нынче ночью будет карнавал,
приготовил местный житель фрак.
Помнит он, как клоун танцевал
много лет назад — и был теракт.
Всё циклично: новый смерти круг
замыкает цирковой урод.
Ничего, что очереди в люк —
там все полетят.
Всем повезёт.
ВЫПЛЕСК
Вы можете не верить но — ей-ей! —
пространство жизни стало холодней,
и стонут облетевшие осины.
Так стужа обретает высший смысл,
и судно дном испытывает мыс,
и пульс, воспрянув, снова обессилел.
Не веруя в осмысленность стиха,
строку выводит новую рука,
я дал зарок и сам его нарушил.
Вопрос жесток: поэт иль непоэт?
Скорее, нет, но чёркаю куплет,
чернилами исписывая душу.
Смятение. Сомнение. И боль.
А нужно-то всего-то быть собой,
с собой быть честным и прямолинейным.
Моя неискупимая вина:
когда душа отчаяньем полна,
выплёскиваю смерть стихотвореньем.
***
Не стоит, ибо ненормально
текст начинать частицей «не».
Так зреют зёрна урагана
в благословенной тишине,
так из глубин растёт цунами
прозрачной рябью на воде
и те, кто уважаем нами,
вдруг присягают пустоте
и хвалят то, что — нет, не надо, —
куплеты жалкие поют
и, вешая на грудь награды,
из дряни воздвигают культ.
Я сам такой. Ничуть не лучше.
Я даже хуже остальных —
всех тех, кто лезет вверх на кручу,
чтоб воцариться там на миг.
От лицемерия устал, но
доволен жизнью я вполне.
И кажется теперь нормальным
текст завершать частицей «не».
ПЕРЕД БОЕМ
…Знаете, мистер, а экзоскафандр мне жмёт:
в чём-то механик схалтурил иль напортачил.
Жаль, что исправить нельзя, ведь уже цейтнот —
воют сирены, вещая начало матча.
Я не хотел, между прочим, стремиться в бой,
ставил на ноут друга пиратский Windows.
Только не спрашивал тот, кто пришёл за мной,
что я считаю по поводу дула в спину.
Слушайте, босс, у меня есть серьёзный плюс:
бьюсь бесшабашно, хоть уязвим и смертен,
и до финального зуба с врагом дерусь,
рву его в клочья — совсем как вон тот берсеркер.
Полноте, шеф, жалеть на апгрейдинг средств,
стою недорого, ну а сражаюсь рьяно.
Что там противник?! Да он только с пальмы слез —
прямоходящая глупая обезьяна.
Скоро под гул и вой распахнётся шлюз,
и побегу в окруженье таких же парий.
Я умирать ну не так чтобы прям боюсь,
адреналина инъекция — и в ударе!
Вот и пора пришла, я рванул вперёд.
Сдохните, твари! Настала пора веселья!
Жаль только, экзоброня мне жмёт,
в ней не почешешь бок, как бы ни хотел я.
Небо черно от пуль, что густы, как дождь.
Ухает рядом. А это уже снаряды.
Милая, если меня ты ещё вдруг ждёшь,
попусту нервы свои ты не трать. Не надо…
МАТЧ
Бэтмен приходит на матч,
несёт он в перчатках мяч,
мимо чужих ворот
явно не попадёт.
Бэтмен готов по мячу
бить, не колеблясь ничуть.
Но на воротах стоит
Джокер. Он инвалид.
Справку держит злодей:
мол, пробивать не смей,
иначе тебя ждёт
суд, прокурор, МРОТ,
совесть тебя заест.
Что ты в футбол полез?!
А на трибунах — хэй!
А на трибунах — гул.
Бей, Тёмный рыцарь, бей!
Что ты, как сыч, уснул?!
Чёртова мышь, лупи!
Пусть этот шут умрёт!
А из сирены — гимн
тот или нет, не тот.
Бэтмен привык жить,
кодекс чести храня,
и он не хочет бить
в этого холуя.
Лучше пойдёт скорей
в свой пещерный чулан
водкой лечить мигрень
с перечнем психотравм.
Готэму нужен гол,
Готэму нужен крик,
чтоб город расколол
многоголосый рык,
тысячезёвный спазм
и миллионный вздох.
Нужен герой, чтоб спас
всех и в итоге сдох.
— Бэтмен, — кричит толпа. —
ну-ка давай шарашь!
Мячик заколупать
просто, как Отче наш.
Что ты застыл столбом?!
Супер же ты герой!
Только вот слышит он
не предложенья — вой.
Дразнит его вратарь,
матом покрыл фанат.
Ну же — ударь, ударь!
Вопли летят, летят.
Бэтмен решает бить —
публика хочет так.
В мяч что есть сил летит
крепкий его башмак.
Вспышка! Угар! Удар!
Джокер раззявил рот,
ведь чёрно-белый шар
в хлам его разорвёт.
Под миллиардный вой,
хохот, удушье, плач
прыгает по кривой
мимо ворот тот мяч.
И стадион орёт,
и стадион блажит:
— Бэтмен уже не тот!
Что ж ты за тварь, скажи?!
Маску тогда он снял
и на траву присел.
Бэтмен не идеал,
он же такой, как все.
И монотонный шум
выстрел вдруг расколол.
Готэму нужен штурм,
Готэму нужен гол.
КОЛОННА
Николаю Ивеншеву
Вот герой наших дней, он идёт налегке:
селфи-палка припаяна к правой руке
продолжением среднего пальца.
Он ютьюба дитя, инстраграма адепт,
в арлекинские шмотки небрежно одет
и похож он на неандертальца.
Рядом шествует дама его иль гёрла —
под него она в первый же раунд легла:
недотроги не в приоритете.
То ли хипстерша, то ль исповедница мод
тех, что гей-кутюрье обдолбавшийся ткёт.
Впрочем, выглядит лучше раздетой.
Это пара вполне объективный объект
поколения Х, поколения Z,
что не помнит и азбучных истин.
Ведь не так уж всесилен колосс-интернет,
не на каждый вопрос знает яндекс ответ,
кликов ждёт он от всех, кто зависим.
И просты, как детсадовские куличи,
от подобных попробуй-ка их отличи,
они прут, обновляя айфоны,
по обочине древних великих времён,
тьма число им, а имя им всем легион,
человек человеку зафренденный клон.
Извернулась удавкой колонна.
ВНУТРИ МЕНЯ МОРЕ
Это было сложное время. Пожалуй, самое сложное. Всё летело кубарем, и я тщетно пытался удержать равновесие в цепи непрекращающихся нервотрясений. Ссоры с женой, ставшие регулярными и всё чаще сопровождающиеся уничтожением посуды и сжиганием миллионов нервных клеток, постепенно переродились в бурные, показательно-сценические скандалы — доходило до вызова полиции, а однажды и «скорой». Через два месяца взаимного обгладывания до костей мы, наконец, решили расстаться. К обоюдному облегчению.
Квартиру я оставил Катерине — всё равно не смог бы существовать там, где каждый квадратный сантиметр обоев и любая царапина на линолеуме напоминали о волшебной поре, когда никто не мог даже предположить, какой истекающей ядовитой слюной химерой спустя восемь лет совместной жизни обернётся наш когда-то трепетный и невесомый, легче воздуха, союз. Так порой из комично перебирающего короткими лапками лупоглазого и лопоухого щенка вырастает огромная поджарая злобная псина, полная ненависти ко всем вокруг…
Я с трудом представлял, как жить после развода. К тому времени был так истрёпан переживаниями, переругиваниями и юридическими заморочками, что эмоций не осталось. Обезвоженный, обесчувственный — полый, как пересохший колодец с шершавыми стенками, которые осыпаются крошащимися земляными катышками, — таким я был.
Однако мне не хотелось пускаться во все тяжкие: названивать по номерам позаимствованных у таксистов специальных визиток или крутить романы с точно так же недавно расставшимися со своими пассиями разведёнками, жаждущими утешения или — чаще — мелкой мести бывшим. Я не хотел ничего и никого. Просто существовал, растворяясь в буднях, по инерции.
Однако однажды понял: дольше так продолжаться не может. Иначе насовсем утрачу своё я, стану типичным персонажем скучной антиутопии — призраком, бродящим на работу и обратно в окружении таких же полупрозрачных созданий с цифрами вместо имён и одинаковым цветом глаз.
Тогда-то я и решил отправиться в путешествие. Загранпаспорта не нажил, ждать оформления не оставалось сил, поэтому маршрут прокладывал по России. Где-то на окраине памяти замерцало огоньком далёкого маяка имя черноморского курорта — любимого с детства. Туда приезжал в пионерлагерь «Золотой берег», плавал в море, смеялся, играл с другими ребятишками. Там радовался жизни, не предполагая, по каким извилистым и ухабистым горкам она покатит меня после поворота во взрослость.
Долетел до Анапы самолётом: быстро, всего пару часов, и на месте. «Самый солнечный город России», как провозглашали раздражающе-цветастые рекламные проспекты, встретил низкими, похожими на потрёпанные половые тряпки и расползшимися вдоль горизонта тяжёлыми тучами, из которых лениво сочилась прохладная морось. Гостевой дом «Гермес» тоже не вдохновил — для сайта его, естественно, фотографировали в ясный летний день, и он певуче открывался солнечным лучам, купаясь в них подобно одноимённому древнегреческому богу, а сейчас приуныл и скукожился, будто уменьшился в размере и растерял львиную долю обаяния.
Хозяйка не торопилась демонстрировать хвалёное южное гостеприимство: невнятно бурчала о гадкой погоде, распугивающей и без того немногочисленных весной курортников, о высоких ценах на электричество и зажравшихся властях. Я, впрочем, не вникал. После внесения приличного аванса получил-таки ключ от номера, закрылся в нём, упал, не раздеваясь, только скинув туфли, на кровать и впервые за несколько недель почувствовал, что расслабляюсь. Из тела сочилась, пульсируя, тёмная тяжесть, стекала струйками по покрывалу и капала на дешёвый линолеум: шлёп-шлёп…
Нет, это просто начинался дождь. Под ритм вступивших в спарринг с подоконником капель я отключился, лихо зарулив в сон, словно в тоннель с обмазанными сажей стенами.
Утром за окном не лило, однако густые, сбившиеся в стаи облака не оставляли солнцу шансов. Наскоро позавтракав несъеденным в самолёте куском почти пластмассового чёрного хлеба и ломтиком мягкого сыра, я отправился осматривать окрестности.
Вокруг раскинулся отнюдь не тот посещавший меня в сновидениях город-сказка, сотканный из трепещущих на солнечном ветру лоскутков детских воспоминаний. Другой. Брюшины туч щекотали крыши высотных зданий, витрины подмигивали наименованиями мировых брендов, а в небольших магазинах, теснящихся по соседству, неопрятные мужчины со смуглыми лицами, хронически небритыми подбородками и непременными вонючими сигаретами в зубах предлагали вино то на «розлив», то на «разлив». В ассортименте также присутствовал «армянский сникерс» — в действительности грузинская чурчхелла, наборы специй по пятьдесят рублей и посвящением «любимой тёще», а также полуторалитровые баклажки с надписью «коньяк».
Я понял, что надолго здесь не задержусь.
Вдалеке между деревьями мелькнул, как мираж, уголочек моря, и я устремился к нему как к лучшему другу. Вперёд, вперёд! Вот уже зашумел прибой, загалдели чайки. Между остроугольных трещин в моей душе просочилась первая радостная эмоция, брызнула освежающе прохладным соком и оросила бескрайнюю, кажущуюся безнадёжно бесплодной пустошь.
Спустя три минуты я стоял у парапета набережной, любуясь им — бессмертным, ни от кого не зависящим, хмурым. Яхтенная марина внизу наводила на раздумья об объёмах кошельков владельцев плавсредств, по правую руку скучал в ожидании толп галдящих июньских отдыхающих песчаный пляж, а слева белело небольшое здание морвокзала, у пирса которого пришвартовалось судно неожиданной весёленькой жёлтой расцветки.
«Сегодня первый рейс из Анапы в Крым. Приглашаем, — ветер донёс слегка искажённый громкоговорителем женский голос. — Отправление до Феодосии через двадцать минут. Спешите! Билеты можно приобрести в кассах морского порта».
Я понял, что поеду, сразу. Не задумываясь. В основном нашей жизнью управляют безупречная логика и холодный рассудок, но кардинально изменить её в состоянии лишь импульс. Эффект внезапности, сиюминутное решение, взбрык, вспышка — непредсказуемость может быть прекрасной…
Моя влюблённость в Катю-Катеньку-Катерину вызревала постепенно, трансформируясь из нежного обожания букетно-конфетного периода в полновесную доброкачественную любовь. Побыв на пике умопомрачительных русских горок, она с каждым годом тускнела и теряла глубину оттенков — так постепенно выцветает на стене картина, не защищённая специальным музейным стеклом. Наши отношения развивались по традиционному сценарию: встречи, ухаживания, предложение руки и сердца, медовый месяц, бурный секс и — бытовуха, первая размолвка, расцарапанное лицо…
Я всегда стремился к упорядоченности жизни, её схематизации, упрощению, сглаживанию острых углов. И только сейчас начал сознавать, что, вероятно, ошибался, пытаясь натужно подогнать свою судьбу под тысячекратно испытанную и обкатанную другими парадигму, не оставляя даже шанса на импровизацию, шалость, эксперимент, попытку риска.
Когда менять мировоззрение, если не сейчас, постановил я и, едва услышав финальное «в кассах морского порта», поспешил по набережной. Почти побежал, ввергая в недоумение полусонных от гнетущей погоды утренних прохожих, ползущих по тротуарной плитке подобно улиткам — разве что не оставляющих липкий след.
— Билеты до Феодосии есть? — запыхавшись, спросил у кассира — недовольного вида возрастной женщины в голубой униформе.
— А вы, что, наблюдаете здесь ажиотаж? — процедила она почти с ненавистью.
— Тогда дайте мне один, пожалуйста, — я решил не отвечать на провокацию и сохранял спокойствие, проклиная отечественный сервис исключительно про себя.
Вскоре я шёл по пирсу, вдыхая насыщенный влагой воздух и ощущая, как морская вода, проникая сквозь поры в самую глубь тела, продолжает врачевать мою растрёпанную душу.
Лимонное судно с надписью «Сочи-2» (видимо, его сняли с одного из маршрутов бывшей олимпийской столицы, дабы поддержать недавнее вхождение Крыма в состав России и апробировать новый туристический маршрут) колыхалось на волнах, и первые шаги на борту получились пружинисто-лёгкими, почти танцевальными. Я вошёл в салон, ожидая увидеть переполненный зал и почти не надеясь отыскать местечко поуединённее.
Однако внутри оказалось всего пять человек: влюблённая пара (возможно, молодожёны), воркующая у иллюминатора, насупленный лысый господин лет пятидесяти в крупных старомодных очках и с толстенной книгой в руках (если не обманывает зрение, это был «Моби Дик»), а также приятная молодая женщина и сидящий рядом с ней щуплый паренёк. В ногах у него свернулась большая тёмная сумка с многочисленными пухлыми кармашками на молниях — в таких обычно носят аппаратуру телевизионщики. Они болтали, и время от времени девушка тихо и при этом очень заразительно смеялась — так и я, устроившись у окошка на одном из пустующих рядов, не смог сдержать улыбки.
Шли минуты, пассажиры так и не прибавлялись. Погода всех так перепугала или не слишком демократичная цена поездки, не знаю, но больше нашу скромную компанию никто так и не пополнил. Выждав минут пятнадцать свыше объявленного срока, «Сочи-2» отчалил и, стремительно набирая скорость, начал отдаляться от берега.
Ровно рокотал двигатель «Сифлайта» (приятный девичий голос сообщил через динамик, что модификация судна звучит именно так — «seaflight»), бурлили пенными завихрениями волны, а я прислонился лицом к прохладному стеклу и растворился в этом монотонно-убаюкивающем водном движении. Предусмотрительно выключенный телефон не вибрировал и не нервировал рингтоном — только море, корабль и иногда проникающие сквозь белый шум голоса попутчиков.
Часа два я продрых — выключился, как гаджет с севшей батареей. Слегка болезненное пробуждение напомнило состояние, когда ныряешь глубоко-преглубоко, насколько хватило смелости и крепости лёгких, достигаешь предела и скорее плывёшь рывками вверх глотнуть воздуха, а водная толща вокруг всё не кончается и будто даже становится плотней и агрессивней, ты начинаешь паниковать, отчего перехватывает дыхание до пронзительной боли в груди. Так и у меня после случайного дневного сна — словно из тела извлекли все мускулы и набили под кожу стекловату.
Чтобы поскорей прийти в себя, решил выйти на палубу — окунуться в свежий воздух. Там стояла она — девушка-корреспондент. Ветер полоскал её волосы цвета спелой пшеницы, лёгкое платье — пожалуй, даже слишком лёгкое для настолько промозглого дня — облегало тело, подчёркивая все выгодные нюансы практически модельной фигуры. Грудь, разве что, была великовата по меркам нынешних заполнивших подиумы анорексичек, однако я всегда тяготел к более крупным формам.
Увидев меня, журналистка заулыбалась. Внезапно очень приветливо и тепло, словно мы давно и близко знакомы.
— А вы когда-нибудь бывали в Крыму? — спросила она.
У большинства тэвэшных звёзд — неважно, на каких каналах, федеральных или региональных, они работают — приятные голоса. Требование кастинга и эстетика профессии в целом. Слушаешь диктора, а ощущение, словно медленно проводишь подушечками пальцев по бархатной бумаге. У моей попутчицы голос был именно такой — располагающий, с плохо скрываемой смешинкой, нежный. Хочется разговаривать долго, купаясь в нём. Только о чём?
— Первый раз, — задумавшись, я забылся и вспомнил о вопросе, лишь когда заметил нотку волнения в её глазах цвета летнего моря. — Спонтанно как-то решил. Помните, как в старой песне «Несчастного случая»: вышел из дома, пришёл на вокзал….
— Сел и поехал! Хорошая песня, люблю её, — рассмеялась она. — И группа замечательная, умная. А можно мы с вами небольшое интервью запишем как у первого пассажира этого исторического рейса? Впечатления, настроение, что больше всего хотите увидеть, где побывать?
— Ой, нет. Ни в коем случае! Я не фотогеничный. К тому же боюсь камеры. Как её увижу, сразу начинаю бекать и мекать, — замялся я. — Там в салоне пара молодая, пусть в кадре засветится.
— Может, передумаете? Не обязательно же с первого дубля записываться. Хотите, мы порепетируем?
— Вы меня простите, ради Бога, но я, честное слово, не в той форме. У меня в жизни, как сейчас модно говорить, «что-то пошло не так». В общем, не до съёмок, поверьте…
— Верю, почему же, — грустно сказала она. — Такое бывает. Сплошь и рядом. Иногда круглосуточно. Это вы меня простите за назойливость. Пойду и правда тем молодым предложу.
Она помахала ладошкой и спустилась по лестнице, а я, оставшись в компании бодрящего ветра, почему-то заволновался, взбудоражился — начал ходить по палубе, пытаясь взять себя в руки.
В её «почему же» явственно слышалась боль, причём тонально созвучная моей, родная. Будто мы черпали её из одной посудины разными ложками и наелись сполна. Тоже несчастная любовь? Потеря близкого человека? Расставание? Кто кого бросил? Растревоженные мысли суетились внутри черепной коробки, жужжали, как осы, вырвавшиеся из развороченного хулиганами гнезда.
И, тем не менее, я возвращался к жизни — медленно, но неотступно. И даже радовался этой тревоге, потому что чувствовал! Не оставался безучастным наблюдателем, ничем не отличающимся от прикреплённой к фонарному столбу видеокамере, которая фиксирует всё происходящее в зоне охвата своего окуляра лениво и безразлично, будь то пустынная улица, сцена спонтанной ночной страсти в романтичном полумраке или массовая драка с поножовщиной. Я оживал!
Ещё немного походил по палубе, неспособный надышаться и насмотреться морем, пьяный от его безалкогольного ионизированного коктейля. А потом зарядил дождь — плотный, косой, прохладный. Пришлось ретироваться.
В салоне оператор выставил неуклюжую чёрную треногу, журналистка весело переговаривалась с осчастливленной возможностью засветиться в кадре парочкой, очкастый господин намертво приклеился к книге. Путь продолжался…
Минут за двадцать до прибытия моя мимолётная собеседница затормошила провалившегося в сон, забавно похрапывающего и откинувшегося в кресле компаньона: «Сашка, вставай! Давай стендап запишем. На фоне крымских берегов!»
Не проявив энтузиазма — операторы, по моему наблюдению, сплошь и рядом законченные флегматики и интроверты, — парень вновь начал расчехлять технику, ворча, что дождь, сырость, он не взял защиту и вообще, шеф, всё пропало. В итоге камеру обернули белым пакетом из «Магнита», оставив снаружи лишь объектив, и пошли наверх.
Там тоже не заладилось: дождь не ослабел, а ветер, напротив, усилился. Недовольный человеческим вторжением в свои владения, он незамедлительно вывернул зонт в руках девушки, раздражённо сорвал паркет с аппаратуры и с ног до головы обдал брызгами обоих ребят, вынудив их срочно капитулировать и бесславно вернуться в салон.
Платье журналистки — и без того облегающее — намокло, и мне стало немного неловко от нечаянно выставленной напоказ и сражающей наповал красоты, сопоставимой с изгибами античной статуи. Затянувшийся целибат, видимо, не слишком устраивал организм, тотчас среагировавший на эту почти наготу так явно и энергично, что я забился на своём ряду поближе к иллюминатору, пытаясь перевести дыхание и успокоиться.
Вскоре «Сифлайт» пришвартовался. На берегу нашу скромную делегацию встречали местные чиновники в одинаковых светлых рубашках и чёрных брюках, а с ними — крымские СМИ. Фотовспышки, камеры, суета, реплики, вопросы. Я юркнул вбок, проскочил сквозь морпорт (меня обогнал будто убегающий от преследования лысый мужик — очевидно, тоже недолюбливающий прессу) и оказался на набережной, испытывая одновременно облегчение, что так технично ретировался, и сожаление от того, что, скорее всего, больше никогда не увижу свою очаровательную попутчицу. Её образ отпечатался в мыслях и то и дело мелькал как двадцать пятый кадр: мимолётно, неуловимо, волнующе.
Поинтересовавшись у первых попавшихся прохожих, какие главные достопримечательности стоит увидеть в Феодосии, не раздумывая, отправился в картинную галерею имени Айвазовского — благо, как пояснили, она в двух шагах от порта. От сменившего гнев на милость и пошедшего на убыль дождя укрывался зонтом, как мог боролся с нахальным прибрежным ветром и всё равно промочил ботинки.
Почтенный старинный дом со стенами песочного оттенка, классический памятник маринисту на входе. Типичный музей в здании двухвековой давности: отреставрированном, но хранящем шарм безвозвратно ушедшей прекрасной эпохи, когда создавались шедевры живописи и литературы на все времена. Я купил билет у миловидной пенсионерки на кассе и…
Всё то, чем подпитывалась моя мало-помалу вылезающая из тесного и неуютного кокона душа, все попытки вынырнуть из мутного потока, в котором я барахтался последние дни, месяцы или годы, — всё смешалось. И равнодушие (вот что в смертные грехи надо записывать!) отступило окончательно. Будто я сотни лет бродил неприкаянным полумертвецом по дну Чёрного моря в громоздких, тяжеленных, больно стискивающих и до мяса царапающих тело проржавевших доспехах: свыкся с этой обузой, сросся с ней плотью. А потом вдруг — рррраз! — скрепляющие кожаные ремни разорвались, разъеденные солью; древние латы обрушились, как застывшая поверх раны корка, меня перестало держать внизу, и я, преодолев сопротивление тонн воды, пронзив их счастливым дельфином, выплыл — как заново родился.
Вода сопровождала меня в этом путешествии всюду. Я только сейчас понял это со всей отчётливостью: когда с потоками дождя, встречавшего мой приезд в Анапу, и бурлением моря, плоть которого рассекал «Сифлайт» по пути в Крым, слились эти полотна, где безраздельно властвовала влага всех цветов и окрасов, бурлила и вздымалась агрессивными штормовыми гребнями и отражала умиротворённой вечерней медовой гладью нежное закатное солнце.
На картинах плыли юркие рыболовецкие лодочки и статные парусные корабли, разворачивались трагедии и суетилась бессонным муравейником мирная портовая жизнь. Море смеялось, ярилось, играло, уничтожало, ласкало, созидало — древняя, непредсказуемая, своенравная стихия. Люди уходили к праотцам поколение за поколением, на месте одного города, сожжённого и стёртого до последнего камня в фундаменте, выстраивался другой. Кипели баталии, погружались на дно напоровшиеся на мины линкоры и сбитые самолёты, развалившиеся от удара об воду, на окрашенный в алое песок и гальку выбрасывало тысячи трупов, а оно оставалось неизменно прекрасным в любой своей ипостаси…
Глядя на эти вневременные полотна одного из редчайших мастеров, умевшего гениально запечатлеть вес воды и её структуру, поймать блеск преломлённого луча и раствориться в пене буруна, я заплакал. Да так, словно хоронил любимого котейку, сбитого во дворе машиной. Слёзы текли и текли — жидкость к жидкости, вода к воде, печаль к печали, радость к радости.
— Вам плохо? Что с вами?
Знакомый голос. Я резко обернулся. Там стояла журналистка, встревоженно смотрящая на взрослого мужика с мокрым лицом.
— Вы?! — сказали мы одновременно. И я рассмеялся, вытирая щёки ладонью.
— Почему вы плачете? У вас всё нормально?
— Более чем. Нет! Точнее сказать, нормальнее не бывает!
— Уверены?
— Конечно! Спасибо вам большое за участие. И вообще — спасибо! Я и так не блещу красноречием, а сейчас что-то совсем стушевался… Давайте, может, вместе по галерее походим?
— С радостью.
Она встала рядом. Я слышал её дыхание, видел капли дождя на плечах, влажные густые волосы, поднимающуюся при вдохе грудь. Невозможно оторвать глаз, но пялиться дольше казалось неприличным.
Перед нами очаровывал, опрокидывал зрителя богатством красок холст «Башня на скале у Босфора»: массивные угловатые чёрные валуны, на которые накатывают суровые волны, борющийся с натиском шторма фрегат у самой береговой линии и башня старинной крепости в типичном генуэзском стиле: со стенами, сложенными из крупных камней, прямоугольными зубчиками и бойницами. Примерно так, видел я в проспекте, реконструкторы изображали и турецкую крепость Анапа. На горизонте — то ли горы, то ли гряды облаков, с такого расстояния не различишь. Зашкаливающая фотореалистичность! И поражающий воображение спектр оттенков воды: от нежно-изумрудного на фрагменте, где лучи заходящего солнца просвечивают сквозь вздыбленную волну, до малахитового, похожего на шкуру динозавра, и бутылочного (в детстве, обнаружив на берегу обточенную водой стекляшку, я искренне принимал её за драгоценный камень и хвастался бабушке, что нашёл алмаз!).
В этой картине, как и во многих других, развешанных вокруг прекрасным хороводом, хотелось остаться. Глаза не могли насытиться маринистическим великолепием, и казалось, что время замедлилось, а потом и вовсе застыло, зачарованное кистью мастера.
Но я всё же перевёл взгляд от полотна на девушку, которая именно сейчас со всей очевидностью представилась мне самым важным, краеугольным элементом этого стихийного анапско-крымского паломничества.
Она тоже обернулась, и я убедился: она и есть — моё море. В её глазах взвихрялись непокорные волны, там поселилась вечность. До сих пор не уверен, но, кажется, периферийным зрением я заметил, как оживают пейзажи каждой из окружающих нас картин: сухой кондиционированный воздух в экспозиционном зале наполняет свежее дуновение бриза, трепещут наполненные ветром паруса, скрипят мачты, и море поёт гимн свободе и радости.
— Наташ, нам пора! «Сифлайт» через двадцать минут отчаливает, а нам на перекус ещё купить чего-нибудь успеть надо!
Оператор возник как чёртик из табакерки. И разом нарушил магию. Моя попутчица тут же изменилась — так из воздушного шарика через невидимую щелочку просачивается гелий.
— Нам и правда пора, — как бы извиняясь, сказала она. — В вечерний выпуск, если быстро вернёмся, сюжет дать попробуем. Редактор уже звонила… Хорошего вам отдыха в Крыму!
И, не оборачиваясь, поспешила, зацокала каблучками по паркету коридоров, где успел скрыться её нетерпеливый худосочный коллега, на выход из галереи и моей жизни и на встречу с портом, «Сочи-2» и Анапой.
Я хотел броситься следом, догнать, упасть у её ног — да хоть в лужу, в грязь! — и умолять остаться здесь, в этом прибрежном южном городке, где дышится так легко и просто. Сходить в музей Грина, прогуляться по Карадагскому заповеднику и сравнить, насколько похожа крепость Кафа на ту, что мы видели на картине.
Я был готов упрашивать, клясться и плакать, раз уж снова обрёл эту способность. Пленять обаянием и завоёвывать руку и сердце. Стискивать в объятьях до боли и хруста, до спазмов в горле: никому, никогда, слышишь?! — никому и никогда тебя не отдам, ни за что, слышишь?!
Конечно, я не сдвинулся с места.
Не спеша обошёл выставочный зал, а потом побывал и в соседнем корпусе. Прогулялся по Набережной, посетил музей Грина и увидел крепость Кафа. Нашел приемлемый по цене гостевой дом и решил, что в Карадагский заповедник любоваться заставшим вулканом отправлюсь завтра, а пока… Пока я хотел лишь спать, спать, спать.
Поздним вечером погрузился в сон, словно сиганул в океан с высокого пирса. Нырнул поглубже и затаился на дне, в своей привычной ипостаси заросшего ракушками и клубками водорослей ископаемого краба.
***
Феодосией моё спонтанное странствие не завершилось.
Севастополь, Ливадия, Алупка, Яхта — их живописные пейзажи я пропускал сквозь себя, впитывал детали и достопримечательности подобно губке, пытаясь таким образом заполнить пустоту, оставленную Катериной, а теперь ещё и Наташей (теперь я знал, как её зовут) в моей прохудившейся душе. Однако всё проваливалось в ненасытную бездну, оставаясь в сознании набором стандартных туристических открыток из тех, что попроще. Везёшь их, купленные на развалах за копейки, в дар родне и друзьям вместе с магнитиками на холодильник — свидетельства твоего путешествия, которые, по большому счёту, совсем никому не нужны.
Через четыре дня я покинул Крым. Ещё через три вышел на работу. Спустя пару месяцев у меня случился служебный роман. Всё-таки что-то во мне переменилось во время поездки, и это тонким женским чутьём уловила Таня — тоже специалист по продажам, на год старше меня, в разводе. Я считал, что всегда был для неё, как и для большинства сосредоточенных на своих проблемах коллег, пустым местом, аналогом офисной техники вроде принтера или ксерокса, и тут она угощает меня кофе, мы вместе в обед идём в столовую, смеёмся, я шучу — оказывается, не разучился.
На следующий день мы ужинали у меня дома. Через полтора месяца поженились.
Внутри Тани — свой космос, по-своему комфортный. Там стоят на стеллажах редкие книги с пожелтевшими страницами, а вечерами в домашнем кинотеатре показывают артхаусные фильмы, там оставляют едва заметный след на стенках бокалов из богемского стекла элитные вина и шкворчит на сковороде ароматный бифштекс из индейки. Там пахнет дорогими индийскими специями и элитным французским парфюмом. Мне там уютно.
А внутри меня — море. Чаще спокойное, умиротворённо-штилевое.
Изредка оно штормит, и, когда это происходит в полную силу, я ненадолго ухожу из дома, объясняя, что надо срочно помочь починить ноутбук хорошему другу. Возвращаюсь очень поздно, когда Таня спит, чтобы её случайно не изранил бушующий поток. Весь период между уходом и возвращением я слоняюсь по городу и слушаю, как рокочут тяжёлые поднимающиеся и низвергающиеся волны, расшвыривающие многотонные осклизлые валуны, словно гальку.
Однажды осенью, в день, когда штормило особенно яростно, я добрёл до центрального парка, присел на лавочку и начал сёрфить в смартфоне. Случайно скользнул на сайт телекомпании «Анапа-Регион» и наткнулся в новостной ленте на портрет Наташи: те же спадающие по плечам волосы, тёплая улыбка и зелёные — морские — глаза. Она смотрела на меня в точности как там, в феодосийской галерее. Я видел заголовок над фото, но буквы никак не складывались в слова, рассыпались на частицы, как элементы кода в фильме «Матрица», падали, огибая изображение, и исчезали в пустоте.
Я всё же заставил себя прочитать «В автомобильной аварии погибла», «коллеги скорбят», «невосполнимая утрата», «соболезнования родным и близким»…
И тогда море внутри меня замерло. Застыли в стоп-кадре гигантские волны, затих лютующий северный бора, даже истошно орущие чайки зависли в небе нарисованными карандашом силуэтами.
Минуты сокрушительной тишины. Только слышно, как стучит сердце — медленно, слишком медленно…
Небо трескается, и из кривых, стремительно расползающихся по сторонам расщелин на недвижимый пейзаж падает снег. Крупными, похожими на крошечных парашютистов хлопьями, очень холодными.
«Снег идёт из дырки в небесах, все волчата закрывают свои серые глаза», — поёт «Несчастный случай» из стоящих вдоль берега динамиков, кое-как закреплённых на покосившихся столбах с провисшими проводами. Вскоре метель укрывает всё моё внутреннее море толстым слоем. Невозможно понять, где верх, а где низ этого микрокосмоса, всё вокруг белым-бело…
Я закрываю страничку анапского сайта, смотрю на часы — время приблизилось к полуночи — и иду домой. И хотя на дворе ласковый тёплый сентябрь, под моими ногами хрустит снег…

Жанна ЛЬВОВА
Львова Жанна Владимировна 15.08.72 родилась Алтайский край г Барнаул в семье хирурга-отца и мамы — дошкольного педагога. Мечтала с детства стать военным врачем- хирургом или режиссером. Жизненная позиция — учись всему, чему только можно- когда нибудь тебе это сможет пригодиться. Спорт, муз школа, военные кружки, казаки разбойники, пионерия, комсомол. Все как у всех только с большей энергией. Активная писательская деятельность начала проявляться со школьных лет-стен газеты доклады, школьные журналы. Но в те времена считалось нужно обзавестись профессией надежной и стабильной, как выяснилось- ничего стабильного в нашей жизни быть не может. И вот в Анапе в семье Авангарда снова возникло это желание и потребность писать.
НАТАЛИ
Немного о том, как случается то, что случается…
Я с детства занималась спортом, и моё увлечение стало ещё и профессией — одной из многих. И вот я работаю тренером в милом заведении одного милого курортного городка. Народ в этом городе разный, многонациональный, и, конечно же, очень много приезжих, которые по разным причинам оказались именно здесь. Кто-то сбежал от неурядиц и проблем с зарплатой в своих Богом забытых регионах. Кто-то по причине подходящего климата для жизни… Я тут, потому что в нашем далёком северном городке власти всё не могут наесться досыта, а рабочие не могут прокормить свои семьи, а морозы всё крепчают и крепчают, а улицы заметает снегом и заметает, и просвета, кажется, нет. И грусть и безысходность подкатывают к горлу удушающим комом. И вот — вуаля! — как по мановению волшебной палочки я тоже в милом курортном городке с надеждой на лучшее, а куда же в наше время без надежды?
Мои рабочие будни начинаются как у многих российских женщин. Всегда оказывается так, что ты только что лёг, буквально мгновение назад, а будильник под ухом уже трезвонит противную мелодию таким истеричным звонком, что ты подскакиваешь, как ужаленный, и несёшься в ванную. Все процедуры совершаешь, будто акробат в цирке, и при этом варишь кофе в кухне, ставишь чайник, мешаешь какао сыну, не забыв про два кусочка сахара, и идёшь будить мальчика…
Эта процедура самая тяжкая и выматывающая. Во-первых, тебе его жалко, ведь ребёночек же ещё, пусть бы поспал, но нельзя — дисциплина! Во-вторых, себя тоже немного жалко, могла бы двадцать минут ещё полежать, досмотреть половину сна. И, хотя на работу мне часом позже, всё равно встаёшь: я же мать, хорошая, надо соответствовать и так далее… Дальше всё по нарастающей: ты на него шипишь, потом децибелы повышаются, доходит чуть ли не до оперного пения, и сборы превращаются практически в армейские баталии, где раненым бойцом всегда оказываюсь я.
И в таком махрово цветущем состоянии я появляюсь на работе. Правда, всегда могу состроить хорошую мину, даже при плохом расположении духа. Забегаю, с размаху открыв дверь, — так, что она чудом остается на месте. Качок, особенно с утра, слабо может рассчитать собственные силы. Спускаюсь по лестнице отельчика в свой подвальчик и слышу приятное мягкое пение, больше похожее на мурлыкание довольной жизнью кошки… Это Натали, думаю я и мгновенно начинаю улыбаться. Эта улыбка заряжает меня необыкновенно, возникает состояние лёгкости, и я кричу:
— Привет, Натали!
Она, выглядывая из какого-то номера, отвечает мне:
— Жанусик, приветик…
Она с яркими рыжими кудрями, губами в перламутровой помаде, с подведёнными стрелками глазами, в белой униформе, облегающей её в меру упитанную фигуру, по поводу чего она вообще не волнуется. А ведь Натали уже за пятьдесят с большим хвостиком…
Я почти каждый день наблюдаю эту милую весёлую женщину и всегда поражаюсь её позитиву и оптимизму. Приходит она сюда наводить красоту. Так уж повелось у всех посетителей спортзалов, что всем девочкам без исключения надо обязательно взвеситься. Я как тренер наблюдаю за этим действом, всё время хихикая про себя в недоумении. Зачем взвешиваться, охать и ахать от увиденных цифр и продолжать делать то же самое?
А, ладно, не про это сейчас. Это во мне тренер говорит. А я про Натали. Так вот… Она встаёт на весы, втягивает живот и, с усмешкой обнимая себя за бока на выдохе, говорит:
— О Боже, как же я похорошела на целых триста граммов.
Понятно? Похорошела! И ничего: ни раскаяния по поводу прибавки к габаритам, ни печали. С улыбкой дальше начинает чего-то тереть, намывать и напевать… Иногда присядет на какой-нибудь тренажёр и попросит:
— Жанусик, сфотай меня на вот этом козлике или на вот этом велике.
Я, конечно же, её фотаю, а она при этом хохочет так, что хоть на рекламу стоматологии снимай. И пребывает в балдёжном настроении:
— Пошлю, — говорит, — Валеруну своему, пусть завидует…
Однажды я решила спросить, кто такой Валерун. Обычно я не лезу ни к кому с расспросами о личном. Девочки и так сами всё рассказывают, и я иногда перегружаюсь информацией и не сую свой нос. Но загадочное имя произвело на меня впечатление.
— А, — говорит Натали, — это мой теперешний мужчина, вроде как муж, я с ним живу. Придёшь на обед — поболтаем.
Прихожу на обед, все сидят за столом. «Приятного аппетита!» Все кивнули и скромно кушают, а Натали уплетает приготовленный нашими доблестными поварами борщ вприкуску с жаренным в тостере, хрустящим хлебом, да с таким аппетитом, что позавидуешь. Я присоединяюсь к трапезе, слушаю, а Натали кушает и нахваливает: «Ой, девочки, так вкусненько! Ой, я бы прям ещё тарелочку навернула! Ой, не могу!» — и хохочет. Тут я замечаю, что у Натали новые серёжки. Она и правда кокетка и воображуля, всё у неё как у девочек, я восхищаюсь и делаю ей комплимент:
— Какие у вас серёжки красивые!
— Ой, да это мой Валерун подарил, ему нравится, когда я выпендриваюсь.
Мы с девочками засмеялись, а она разошлась:
— Ой, девочки, я такую шляпку недавно присмотрела, такая беленькая, с большими полями, с цветочками вокруг всей головы!
Девочки подтрунивают над ней:
— Вокруг всей головы? Не много?
А она им:
— Красоты много не бывает.
И мы опять хохочем. И тут я выясняю, что Валерун — это четвёртый муж Натали. Четвёртый! История такая: она рано вышла замуж, родила двоих детей, чуть ли не погодок, а муж оказался пьющим. Ну, и со всеми вытекающими… Даже эту историю она рассказывала с присущей ей смешливостью и так, будто не были так страшны и побои, и смерть этого несчастного. Но самое главное, она с такой непринуждённостью и жаждой жизни про всё говорила, что я задумалась. Надо же… А дальше у неё было ещё двое мужей, и двое детей, и в итоге она — мать четырёх детей. И все, как выяснилось, в добром здравии: выросли и людьми стали.
А Натали всё про шляпку.
— Я, — говорит, — так её хочу. Я ведь как со всеми мужчинами знакомлюсь? Как похоронила третьего, думаю, так не пойдёт. Жизнь-то одна, они сами за себя решили, а мне детей растить, кормить… И я наряжаюсь как-нибудь необычно: то шляпку напялю, то платье с вуалью как у оперной певицы, то ещё какой-нибудь наряд как на сцену. И иду гулять. Иду в красной шляпе, в нарядном сарафане, вся такая воздушная, самой себе нравлюсь. И все женщины на меня пялятся, а мужчины тоже замечают, что я необычная, но они же стеснительные, на комплименты не нарвёшься. И вот один на меня уставился, я тоже на него смотрю и не мигаю, а он уже краснеет, и тут я ему говорю: «Что, вам моя шляпка нравится?» Он молча одними глазами кивает, сам сглатывает от напряжения. А я ему, чтобы он опомниться не успел, говорю: «А у вас ремень красивый». Он машинально рукой тянется к поясу на брюках, а там-то и нет ремня. Он засмеялся, засмущался: «Так я же без ремня». Я ему вовсю улыбаюсь и говорю: «Ну, зато вы сам симпатичный. И без ремня в этот раз». Он на меня ещё шире глаза: дескать, а что, будет другой раз? И я тут его тёпленького: «Меня Натали зовут». А он: «Меня Валера». Так и познакомились. Прогулялись мы с ним туда-сюда, он меня до дома проводил и назавтра с букетом пришел. Мы раза два или три в кино сходили, а потом сразу жить вместе, время-то не детское, некогда в пряники да конфеты играть. Он моих ребятишек принял, вот и живём с ним.
Я, если честно, удивилась не на шутку:
— Надо же! И всех вы так на шляпку ловите?
— Нет, конечно. Предыдущего на песню подхватила, но ему мои серёжки понравились.
— Да уж, — доедая борщ, покачала я головой. — А зачем новую шляпку? Вроде всё у вас сейчас нормально?
— Ой, девочки, так я же для себя. Мне просто наряжаться нравится. Я дочке сказала, чтобы она мне весь мой гардероб сюда прислала, у меня там такие наряды — королевы позавидуют!
— Не сомневаюсь, — усмехнулась я уголками губ, а она продолжала:
— Знаешь, Жанусик, жить надо с радостью. Ну, случилось у тебя горе — погоревала немного и всё, дальше жить. Часики тикают, а у женщин вообще век короткий, молодость убегает от нас — только пятки сверкают! Вот и надо её держать, и наряжаться, и вкусненьким баловаться, и серёжки, и шляпки…
И опять…
— Ой, какая шляпка! Я точно её куплю. Вот надену её, платьишко, сандалики присмотрела — там на один пальчик так надевается и сверху как перстень, весь сверкает. Ногти накрашу оранжевым и пойду по набережной.
— А как же Валерун?
— Знаешь, что? Мужчин надо в тонусе держать. Вот мы с ним идём, он же видит, что я как королева нарядная, на меня все заглядываются. Он гордится, тётки завидуют, мужики косятся, а я ему: «Смотри, какие мы с тобой красавцы, на нас все смотрят и думают — какой мужичок молодец, у него такая женщина красивая, он её как принцессу одевает». А ему приятно, и он на следующий день мне обязательно что-нибудь подарит. Он меня вообще балует, а я радуюсь как дурочка, прыгаю на него, целую. Он уворачивается, а сам балдеет. Так что, девочки, всё дело в шляпе!
Натали подмигивает, прихлёбывая чай, который обязательно должен быть вкусным, сладким и с конфеткой. А я допиваю чай, как всегда без сахара, и продумываю план. Он такой: пойду и тоже куплю себе шляпу. Выберу какую-нибудь пока не очень большую и без цветочков, но рискнуть стоит. Не знаю, как вы, а меня этот пример жизнелюбия и простого счастья быть женщиной просто заворожил и заразил. Начну распаковывать коробки и искать лучшие свои сандалии, платья и, да, шляпу — куплю шляпу.
Одна милая безделица, а сколько надежды, жажды жизни и приближающегося чуда она может подарить. Шляпу, куплю шляпу, и все песни про шляпы и панамы крутятся у меня в голове целый день, и настроение у меня весёлое, и задорное, несмотря ни на что.
Белая панама… Упала шляпа, упала на пол…

Екатерина МЕРКУРЬЕВА
Родилась 27 октября 1984 г. Меня всегда очаровывала музыка и ритм стихов, с само-го детства любила книги и часами проводила за чтением. Очень нравились рассказы о жи-вотных, такие как: «Белый Бим Черное ухо», «Белый клык», «Тарзан», «Маугли» и т. д. Вос-хищали поэты: Николай Гумилев, Сергей Есе-нин, Михаил Лермонтов. Писать стихи начала в школьные годы. С трепетом и восторгом до сих
пор смотрю на море, в любом его проявлении. Люблю свою Анапу… А еще люблю свой родной хутор, в котором я родилась и выросла — Чекон.
СО СВОИМ САМОВАРОМ
Анатолий возвращался домой в южный курортный город Анапу. Два года армии остались позади, и теперь можно спокойно устраивать свою жизнь. С собой он вёз девушку с внешностью фотомодели, блондинку с голубыми глазами, точёной фигуркой и восхитительной улыбкой — Анюту. Естественно, он был в неё влюблен. Анна согласилась на долгий переезд в плацкартном вагоне, скорее всего, тоже из большой любви к Толику. Все говорили, что он похож на Сергея Есенина. Возможно, в этом была доля истины. У Анатолия были выразительные голубые глаза, светлые волосы, чувственные полноватые губы и, конечно, несносный характер, вот только стихи он никогда не писал.
В Анапе Толю ждала девушка Настя. Он познакомился с ней, когда приезжал в отпуск к родным на курорт. Роман завязался быстро и развивался бурно, Настя обещала писать письма в армию и ждать любимого. Письма Анастасия отправляла регулярно, Толя ей отвечал, несмотря на то, что у него уже сложились отношения с Анной. Писать об этом категорически не хотелось. Толик тешил себя мыслью, что она нашла другого. Интуиция подсказывала, что Настёна не из таких девушек, она будет ждать. С ним всегда была её фотография, которую она подарила перед его отъездом. Милая, симпатичная девушка, сидящая на фоне Чёрного моря. Приятная улыбка, нежный взгляд согревали его полгода. Пока служил, фото стояло у него на тумбочке, возле кровати, что относилось к привилегии «дедов». Но потом он встретил Аню, и понеслось. Толик очень часто влюблялся. И всегда считал, что навсегда.
Чем ближе они приближались к конечному пункту, тем неспокойней было Толе. Он всё чаще злился и срывался. Анне не нравилось присутствие фотографии другой девушки. Она ревновала.
– Что с тобой происходит? Почему ты до сих пор не уберёшь эту чёртову фотографию?! Мне надоело существование третьего человека между нами. Если она тебе всё ещё дорога, зачем ты позвал меня с собой?! — возмутилась Аня.
— Я позвал тебя, потому что ты сама этого хотела. Если бы я не любил, то сейчас ты не ехала со мной в Анапу, — ответил Толик.
— Тогда убери эту фотку! Это невыносимо — каждый день смотреть на неё! Если не уберёшь, я выйду на первой станции и поеду обратно домой! — Анна расплакалась, уткнувшись лицом в подушку.
Толя вскочил, схватил фото, на котором ему нежно улыбалась Настя, и выбросил его в приоткрытую форточку. Мимолётный порыв, однако жалеть и раскаиваться в случившемся было поздно. Сейчас Толик почувствовал себя настоящим предателем. Что делать, когда встретит Настю? Как она отреагирует на его поступок? Проснувшаяся некстати совесть грызла и брюзжала, не давая наслаждаться жизнью.
На горизонте появился железнодорожный вокзал Анапы. Там их должен встречать младший брат Анатолия — Кирилл. В вагоне было душно, хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Поезд остановился. Выйдя на перрон, Толя увидел брата с букетом в руках. Кирилл подошёл к Ане, протягивая ей цветы.
— Привет! Рады видеть вас в нашем городке. Вы к нам насовсем или уедете вскоре? — с ухмылкой произнес Кирилл.
— Посмотрим. Спасибо за цветы, — ответила Анна.
Дома их ждал торжественно накрытый стол, мама с тёплыми объятьями, отец и бабушка. Однокомнатная квартирка родителей Толи не имела балкона. Несмотря на это, всегда находилось место для многочисленных родственников, которые приезжали летом. В тесноте да не в обиде, любила повторять мать Толика — Вера. После радостной встречи и застолья мама убрала со стола и спросила:
— Вам как постелить, Толь?
— Мам, стели вместе. Мы неделю в поезде ехали, у нас давно уже всё было.
Мама нахмурилась:
— Ох, уж мне теперешние нравы. Постелю ей в комнате на раскладушке, а тебе на кухне на полу. Поженитесь, тогда только вместе вам стелить стану. А безобразия такого ни я, ни моя мама терпеть не станем. Ты про бабушку Юлю подумал? Она так радовалась твоему приезду, думала, что ты с Настенькой будешь. А ты? Заморочил девочке голову и другую притащил. Кто так делает? Настя ждала тебя всё это время! Бабушке Юле стыдно теперь Настиной бабушке в глаза смотреть, ведь это она вас познакомила…
— Ну, ладно, мам, хватит. Я сам всё знаю. Это моя жизнь и мне решать, что с ней делать, — вспылил Анатолий и пошел курить на улицу.
Спустившись, он вдохнул просоленный морской воздух и затянул горький сигаретный дым в лёгкие. Ветерок качал кроны вишен, спелые плоды гроздьями свисали с деревьев. По небу летали ласточки, оглашая округу криками. К Толику подошёл брат.
— Ну ты, братан, даёшь! Кто ж в Тулу со своим самоваром ездит?
— В смысле? — удивился Толик.
— В Анапе сейчас столько таких Ань! Сами на шею вешаются. А ты свою с Забайкалья припёр! Не ожидал от тебя.
— Да, ладно тебе, Кир. Слушай, я тебя попросить хотел. Ты не мог бы мне денег занять? У Анютки купальника нет, я ей купить обещал, и вообще у неё лёгких вещей мало. В Забайкалье лето короткое. Займёшь?
— Займу. Может, правда любовь? — засмеялся Кирилл.
Поднявшись в квартиру, Толик подошёл к Ане и шепнул ей на ухо:
— Ночью придёшь. Я буду ждать.
— Хорошо, — улыбнулась Аня.
Бабушка Юля кинула в их сторону недовольный взгляд.
…Утром Толик с Анной пошли на рынок покупать ей вещи. Вернулись с сумками, она уже в новой мини-юбке, которая делала её стройные ноги ещё длиннее. Толик смотрел на Аню с восхищением, она сияла, улыбка не сходила с обворожительного лица.
— Ма, мы на море. Соберёшь нам чего-нибудь перекусить?
— Конечно, подождите пару минут.
Как только они вышли на улицу, Толик начал опасливо озираться по сторонам. Он не хотел увидеться с Настей, а так как она его соседка по дому, это могло произойти в любой момент. Знал Анатолий и то, что этого не избежать, но всё же хотел оттянуть момент как можно дольше.
Войдя в ореховую рощу, они пошли по узкой тропинке. В кустах трещали цикады, в листве играл ветерок. На солнце было жарко, а здесь, под тенью листвы, приятно и легко. Если бы его ещё покинули угрызения совести, он чувствовал бы себя абсолютно счастливым. Они вышли на высокий скалистый берег, и перед ними открылся потрясающий вид. Чёрное море раскинулось, слепя лазурью. Бескрайняя синь захватывала дух. Они подошли к краю обрыва, внизу купались люди, с высоты сквозь прозрачную воду виднелись гряды подводных камней.
— Красота! — восхитилась Аня. — Как мы спустимся?
— Здесь есть «козья тропа», по ней и спустимся.
Пройдя ещё немного, они увидели спуск. Толик шёл впереди, подавая в слишком крутых местах руку Анне.
В этом месте входить в море сложно, мешали большие, скользкие камни. Всё же здесь Толику нравилось больше, чем на песчаном пляже. Всегда меньше людей, да и море намного чище.
Раскинув плед, они разделись и медленно, осторожно ступая на камни, стали входить в море. Преодолев трудный спуск, Аня и Толик поплыли на глубину. Вода нежно обволакивала тела, окружая приятной негой. Море пахло свежестью, напоминая запах свежесрезанных огурцов.
Домой они вернулись ближе к обеду. Отец попросил Толика сходить с ним на рынок за продуктами. Анна осталась дома.
Возвращаясь домой, отец с Толей увидели Аню возле подъезда с двумя парнями. Она улыбалась и о чём-то весело с ними щебетала. Подойдя к двери, Толик сказал Ане:
— Иди домой.
— Да-да, две минуточки, я уже иду.
Толик окинул её недовольным взглядом. Поднявшись на свой этаж и разгрузив сумки с продуктами, отец сказал:
— Толь, не нравится мне, что твоя девушка себя так ведет. Ты уверен, что именно она тебе нужна?
— Не знаю, пап. Жениться я на ней не обещал. К морю отвезти — да, а там посмотрим, как сложится. Я с ней обязательно поговорю.
— Поговори, сынок.
Дверь открылась, и в комнату впорхнула Аня.
— Толь, что случилось? Почему ты на меня так смотришь, будто я в чём-то перед тобой виновата?
— Потому что ты ведёшь себя как шлюха! Я тебя зачем сюда привез, с родителями познакомил?! Чтобы ты с мужиками заигрывала на глазах у меня и моего отца?!
— Толь, ты чего? Я мусор решила вынести, а они спросили, как к морю пройти. Я сказала, что сама первый день в городе. Оказалась, они тоже с Забайкалья приехали, вот и разговорились. Что здесь такого?
— Больше так не делай. Ещё раз увижу, что с мужиками хихикаешь, куплю билет и отправляйся домой, там устраивай свою жизнь!
— Толя, я ведь тебя люблю! Как ты можешь так говорить? — всхлипнула Аня.
— Вот и думай, если не дура. Собирайся, пойдем на море. Каникулы продолжаются.
…Ночью, когда все уснули, Аня тихонько встала со своей раскладушки и прокралась на кухню, скользнув под одеяло к Толику.
— Толь, обещай, что больше не будешь на меня кричать, — прошептала Аня, прижавшись к мужчине.
— А ты, обещай, что не будешь ни с кем флиртовать, — пробурчал Толик.
— Обещаю, — проворковала Аня.
— Я тоже обещаю.
Утром Вера Михайловна встала и как обычно пошла на кухню будить Толика, чтобы он перебирался на их с мужем кровать. Увидев, что Анатолий спит не один, она подошла к мужу.
— Володь, поговори с сыном, пусть уже разбегаются. Мне неудобно на них смотреть, а им вообще всё равно.
Владимир подошёл к сыну и постучал по его стопе:
— Просыпайся, иди на нашу кровать.
Анюта, тихонько взвизгнув, побежала на свою раскладушку.
Каждый день Толик с Аней ходили на море, отдыхали и наслаждались морем, друг другом, своей молодостью, беззаботностью и летом.
Неделя пролетела незаметно. Однажды, когда Анатолий возвращался домой, его кто-то окликнул. Толик оглянулся и увидел идущую к нему Анастасию. Оказывается, она тоже была на пляже в компании подруг.
Парень растерялся. Чего ждать от обманутой девушки? Он закрыл Анюту собой, побоявшись, что она тоже может пострадать от случайной встречи. Анатолий думал, что Настя станет кричать, обвинять его и, возможно, ударит. Истерика неизбежна. И, конечно, всё этого он заслужил, но Анна здесь не при чём, а достаться может и ей. Поэтому нужно принять удар на себя.
Настя подошла — щупленькая, невысокая девочка, улыбаясь ему совсем как там, на фото. Чувство вины больно кольнуло Толю. Он заметил в её глазах хмельной блеск, да и шла Настя неровной походкой. Выпила, подумал Анатолий.
— Ну, здравствуй, герой-любовник. Что ж в гости не заходишь? Ведь я тебя уже год жду. Письма пишу. Ты неделю дома, а ко мне ни ногой, — усмехнулась Настя.
Толик молчал.
— Ах, да. У тебя теперь другая девушка, а я свободна. Правильно? — изогнула она бровь.
— Привет, Настёна, рад тебя видеть, — выдохнул Толя.
— Не верю. Ладно, до встречи, — Настя пошла к группе девушек, лежавших на камнях.
Анатолий повернулся и быстро стал подниматься по «козьей тропе», Анюта за ним не успевала. Такой встречи он не ожидал. Лучше бы она накинулась на него, расцарапала лицо, обзывала бы его, кричала, визжала… Стало ещё тяжелее на душе.
— Толя, подожди, я не успеваю за тобой! — жалобно вскрикнула Анна. — Ещё и этот пакет с едой, его хоть возьми!
Анатолий подошел к Ане, выхватил пакет из её рук и сбросил его с обрыва. Развернувшись, он быстрым шагом пошёл домой. Анна в недоумении смотрела ему вслед и не двигалась с места.
Толик почти прибежал домой. Его терзали воспоминания, злость на себя, на Аню, на Настю. Жалость, негодование, раздражение, раскаяние скакали в невероятном танце. Мучали сомнения. В мыслях он бросался из крайности в крайность. Он не мог понять, что он чувствует к Насте. Она будоражила его, поразила его своим поведением. Он вспомнил её хрупкие плечи, нежные губы. Страстные свидания всплыли в его памяти, её невинность, её честность, преданность… Он сам окунул всё, что между ними происходило, в грязь. Он предатель, сволочь. Об Ане в это время он не вспоминал. Чтобы успокоиться, Толик пошел во двор курить. Горячий ветер колыхал его светлые волосы, над ним всё так же кричали ласточки и порхали бабочки. Анатолию хотелось сейчас одного: вымолить прощения у Анастасии. Он очень виноват перед ней. Прошёл час, пока созрело это решение. В своих страданиях Толик и не заметил, что Аня так и не пришла с моря.
Появилась тревога за неё. Куда могла пойти девушка в незнакомом городе? Она же здесь ничего не знает. Может, с ней случилось что-то нехорошее. Нужно вернуться на место, где они расстались. Наверное, спустилась к морю или сидит сейчас где-то на лавочке. Толик пошёл туда, где её оставил, обошёл пляж, но девушки нигде не было. Вернулся домой, Анны там не оказалось. Пришёл с работы отец, брат и мама, а Анна не возвращалась. Наступил вечер. Отец, брат и Толик решили искать девушку вместе.
— Куда она могла пойти, Толик? — возмущался отец.
— Повздорили мы, я домой пошёл, а она на море осталась. У неё, кроме меня, здесь никого нет. Не знаю, куда она могла деться, — ответил Толик.
— А если она утонула? Нельзя поступать так безответственно! Ты привёз её, ты за неё в ответе.
Анатолий расстроенно опустил плечи. На улице стемнело.
Мужчины обошли округу, все скверы, дворы, ещё раз ходили искать на пляж. Расспрашивали прохожих и соседей, но никто не мог ничего конкретного сказать. Красивых девушек в это время в Анапе очень много.
Время подходило к 22.00, когда Толик увидел свою Аню. Она шла вместе с Настей. Девушки улыбались, весело общались между собой, и складывалось ощущение, что они лучшие подруги.
— Ты где ходила?! Мы всю округу с Кирой и отцом обыскали, все как на иголках, а ты гуляешь себе спокойно. Мы уже думали, ты в море утонула. Переживали за тебя.
— Сам меня бросил. Сначала её, — указала Аня на Настю, — а потом меня, — девушки засмеялись.
— Всё с вами ясно, пьяные обе. Спелись. Аня, домой пошли. Спать тебе пора.
Когда Анна проснулась, Анатолий сидел рядом с ней.
— Аня, собирай вещи. Сегодня ты едешь к себе домой. Билет я тебе уже купил. Поезд отправляется в 15.00, у тебя на сборы 3 часа, я тебя провожу.
— Вот так, значит. Меня не забыл предупредить? — вздохнула девушка.
— После твоего вчерашнего поступка я не могу за тебя поручиться. Ты должна уехать. Позже я приеду к тебе. Я всё равно жить здесь не буду. Я собираюсь переехать в Якутию, у родителей там квартира. Хочу перебраться туда, зарплата там больше, а на юг к родным — летом.
— Конечно, я уеду. Мой номер ты знаешь, адрес тоже. Если захочешь встретиться, я буду рада. Я тебя люблю, — зарыдала Аня.
— Ну, хватит, всё у нас хорошо, не расстраивайся. Мы обязательно будем вместе, — Толик нежно притянул к себе девушку.
После того как Анатолий вернулся домой, проводив Анну на поезд, он набрал номер Анастасии.
— Привет, Настя. Давай встретимся, нужно поговорить.
— А как же Аня? Ты её с собой возьмёшь? — спросила Настя.
— Аня уехала домой. Я сегодня её проводил на поезд. Настя, пожалуйста, мне очень нужно с тобой поговорить, — взмолился Анатолий.
— Хорошо, приходи сегодня в шесть. У нас новоселье, квартиру моим родителям в 12-м микрорайоне дали.
— Я зайду за тобой. Спасибо, Настя…
Анатолий всегда тщательно следил за своей внешностью и одеждой. Помыв и уложив волосы, он оделся в аккуратно отутюженные брюки и лёгкую майку.
— Толян, куда собираешься? Свой самовар обратно в Тулу отправил, пошёл новый искать? — хохотнул брат.
— Кирилл, я иду к Насте. Мне нужно во всём разобраться.
— Иди, разбирайся. Настю хоть по всему городу искать не придётся, местная.
Толик напоследок взглянул на отражение в зеркале. Хорош, с удовольствием отметил про себя и отправился на встречу с Настей.
Постучав в дверь её квартиры, замер на пороге. Понял, что очень волнуется, пальцы предательски дрожат, как при первом свидании. Приказал себе успокоиться. Это ведь его родная Настя.
Она отворила двери и вышла. Она была в лёгком красивом платье, которое выгодно подчеркивало её тонкую фигурку. Немного подкрашенные ресницы, губы. Естественная её красота сильно отличалась от красоты Анны. Красота Анны была роковая, бросающаяся в глаза, а красота Анастасии нежная, лёгкая, ненавязчивая. Её хотелось рассматривать: чем больше смотришь, тем симпатичнее она казалась.
До 12-го микрорайона от ореховой рощи было недалеко. Они шли, вдыхая ароматный анапский воздух. Толик попытался взять Настю за руку, но она не дала. Разговор не клеился.
Когда они дошли до многоэтажки, в которой находилась новая квартира родителей Анастасии, она спросила:
— Уверен, что хочешь зайти?
— Если ты не против, — покорно вымолвил Толик.
— Пошли.
В квартире собрались родственники и знакомые Насти, все сидели за празднично накрытым столом. Анастасия и Анатолий сели рядом. Конечно, все родные и близкие Насти знали, что она ждала Толика, и то, как он с ней поступил, тоже знали все. Анатолий понимал, что это расплата за его поступок, своего рода наказание, и стойко принимал язвительные замечания на его счет. Если бы здесь находились другие люди, менее воспитанные и интеллигентные, одними насмешками и уколами не обошлось бы. Порой Анатолию хотелось вскочить и выбежать вон из этого суда, но он сидел. Мечтал, чтобы поскорей всё закончилось.
Наконец Настя встала из-за стола.
— Мам, пап, мы пойдём. Поздно уже. Толик меня проводит.
— Хорошо, Настенька, идите. Анатолий, я надеюсь, вы сможете проводить нашу дочь домой. Хоть в этом мы можем на вас рассчитывать?
— Конечно, я провожу. Не беспокойтесь, Антонина Петровна.
На обратном пути Настя сказала:
— А ты молодец. Выдержал всё, не ожидала от тебя. Толь, я ведь всё это время тебя ждала. На других мужчин вообще не смотрела. Почему ты ничего мне не написал? Ты сделал мне очень больно.
— Настенька, девочка моя, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобой. Как я могу загладить свою вину? Я совершил ужасную ошибку. Пойми меня, я мужчина, мне всегда нужна женщина рядом. У нас разная физиология. Анна это увлечение, я только сейчас понял это. Я тебя люблю. Такие уж мы, мужчины.
Он повернул голову Насти к себе и прильнул к её губам. Она отозвалась, их захватил сначала нежный, а потом страстный поцелуй.
Всю дорогу они целовались, обнимались, и Анатолий чувствовал себя счастливым. Когда они подошли к двери её квартиры, его захлестнуло волнение. Он практически ощущал их близость, до этого так и не состоявшуюся. Толик знал, что бабушка Анастасии осталась в новой квартире, и сегодня Настя ночует одна. Он желал провести эту ночь с ней.
— Толь, а зачем ты мою фотографию выбросил? — неожиданно спросила Настя.
— Что?
— Пошёл вон! — Настя с размаху хлестнула его по щеке.
Дверь перед лицом Анатолия захлопнулась.
На следующий день он купил билет на самолет и улетел в Якутию.

Дмитрий МЕЩЕРОВ
Родился в 2001 году.
На часах уже ночь, а я сижу за столом и пишу. Ручка нежно шепчет что-то бумаге, и, прислушиваясь к ней, я творю. Этот шёпот подсказывает и направляет меня не только в творчестве, но и в жизни. И я благодарен за возможность его услышать.
СИНИЕ СТРОКИ
«Гран при» в номинации «Стихи». Городской литературный конкурс «Вдохновение»
***
Синие строки лениво плывут по бумаге. Первое предложение закладывает основу, второе создаёт систему, третье рождает мысль, а мысль дарит жизнь.
***
Синяя морская вода. Я лежу на дне и смотрю на волнующуюся гладь. Она похожа на огромный кусок фольги. Заверните меня.
***
Синие вены расплылись по белой атласной коже. Я вижу их на твоей руке через прозрачный рукав блузки. Ты улыбаешься. С тобой мне легче, чем раньше.
***
Синие от холода губы. Ты говоришь, что нам не стоит больше видеться. После лета настала осень.
***
Синий галстук в который раз туго затягивается вокруг моей шеи. Опять дела.
***
Синие лица собрались за столом в выходные. Я бегу в магазин за закуской. В который раз.
***
Синяя книга уже два года лежит у меня на полке в комнате. Я до сих пор не отнёс этот захудалый и надоедливый детектив её владельцу. Нам не стоит видеться.
***
На фоне давящей рутины я замечаю ту незначительную деталь, тот короткий эпизод. Он стал спасительным для меня в недавний прохладный сентябрьский вечер. Спасибо, синие будни.
***
Стук в дверь. Я иду в коридор. Скрип засова. И только она. Только она осмелилась переступить через порог своей квартиры и выйти на синие молчаливые улицы в этом красном летнем платье.
***
«А книжку надо поскорее бы выкинуть», — вспыхнула красным огнём мысль в голове. Я улыбнулся.
***
Ты лондонский пожар и библейский потоп.
Красноречива в сером безмолвии.
Как палитра художника, впитала в себя
Буйство красок лазурными волнами.
Равнодушна, как зеркало лунных ночей,
Освещаешь весь путь маяком.
Грудь нараспашку, книгой тихой открыта,
Но сметаешь следы за собой.
Скрываясь в тумане прибрежных рассветов,
Исчезая в пьянящем дыму,
Ты заставишь нарушить все догмы, заветы,
Что написаны были в бреду.
НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Не надо считать, что это конец,
Я свято верю в продолжение банкета.
Не важно, встретимся у московских колец
Или у питерского парапета.
И поверь, что лето то не последнее,
Их будет у нас ещё множество.
Я не видал никого красиве́е,
В тебе я вижу это пророчество:
О том, что вновь сойдутся пути,
Переплетутся тени под фонарём.
Или в замо́к сцепятся руки,
Лежа́ до рассвета под коньяком.
Раскинемся вместе на длинном диване,
Проведём каждый день вместе.
Я виноват, что увяз в тебе по уши,
Но я готов вязнуть сильнее.
Я хочу рассказать тебе про леса.
Про те, что, в чащи тихо маня,
Заставят плутать часами.
Я хочу показать лазурное море,
Что плещется тихо при лунной короне,
Светом лаская тебя.
Я хочу показать тебе грозные горы,
Их укрыли зелёные нежные кроны,
Спрятав от наших глаз.
А позже посмотрим багряный рассвет,
Что золотит в чаще каждую ветвь,
Согревая тихо лагуну.
НОКТЮРН
Я прикоснулся к этим снежным щекам,
Продегустировал нежно шоколадные губы.
И, если бы взял на слабо Маяковский,
Превратил бы во флейту водосточные трубы.
* * *
Я подожгу вечерний небосвод,
Я кину спичку в масляную лужу.
И мысли утекут в водопровод,
Когда огней каскад я к горизонту приутюжу.
* * *
Я каждый день сную туда-сюда.
Как светлячок, ищу прозрачный свет
Луны, которая давно ушла
За горизонт, оставив млечный след
На шлейфе фиолетового диска.
* * *
А может, спустишь курок?
Я устал от твоих игр разума.
Мне пришлось усвоить урок,
Что милее мне дуло Магнума.
И сталь стала жарче теперь,
Чем атласная ладонь ангела.
И уже я давно не кремень.
Устроит меня дуло Магнума.
А может, вспомнишь меня?
Или хочешь быстрее забыть?
Мне плевать, что ты холодна.
Но сможешь ли ты пристрелить?
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕЩЬ
Мы с тобой сбежали из душного города.
Где пение сверчков рассказало, как мы сейчас молоды. Углем рисовали на обрывках газет воспоминания. О том, что мы только начали, но уже всё потеряли.
Мы с тобой легли в высокую, сочную траву. Она шептала настойчиво о наших проблемах. Но ты никогда её не слушала. Ведь ты живёшь неимоверно ярко и быстро. Ты — вспышка, искра и комета.
Поэтому ты никогда снова не будешь моей. Ты — противоречивое и неуловимое восьмичасовое мгновение. Я писал эти строчки быстрее, чем моргает веко. Но выращивал целое поколение.
Надеюсь, что ты умрёшь для меня, когда лениво ляжет последняя точка в этом стихе. И рифма убьёт беспощадно тебя в больной голове. Я так устал уже искать верный слог и ритм, так что пусть читатель сам разбирается в этой шизофрении.
Потому что я пишу данный ужас не для себя и не для зрителя, а для тебя, вновь незнакомка. Эта последняя вещь, которую я делаю для тебя и сделаю я её ужасно нерасторопно.
***
След самолёта затерялся в небе ночном. Я лежу и чувствую холод травы. Календарь говорит, что время истекло. Подтверждает его слова крики совы.
Что опять все пропало, сослагательные наклонения стучатся в голову. Я их выгоняю, но в этом нет никакого толку. Ворочаюсь от зуда в висках, пытаюсь разглядеть след, что не видно уже. Начинаю сожалеть, что надо было начинать выслеживать его днём. Меня раздавит вокруг происходящая канитель.
Но, открывая глаза, опуская руки с висков, я выдыхаю.
Ведь, пропустив дни, я увидел россыпь страз на чёрном полотне одеяла.
***
Комната пахнет табаком, вчерашним кофе и раздумьем. Гитарные риффы виснут в тишине. Развлекаюсь ночами эмоциональным удушьем. Всё умирает в прострации, а я в беготне.
Уголь окурков тушу об кожу, прячется боль за мишурой. Бесит уже по кровле стучащий град. Просто прикрой свой паршивый, но милый рот. Внутри сгорает вишнёвый сад.
И человек с молоточком давно уж висит
Под
Потолком.
***
Если бы мне платили за каждую строку
(написанную даже несуразно в бреду),
то выглядело бы это примерно так.
Мне было бы плевать на данный косяк.
Поэтому я — мечтатель-поэт —
бегу налегке и считаю,
что голодным живу
и бедным умру,
без рубля на счету
и в кармане.
Запомни, дружок,
чтобы писать,
не надо венков и медалей.
Надо лишь знать, что меняешь людей
даже там, где нет магистралей.
Где живут на отшибе, у чёрта на рогах,
где встают спозаранку и работают в такт,
где нету высоток, тоннелей, метро,
где на душе спокойно, легко.
Чтоб долетало красное слово
и простой работяга пытался понять,
как старая жизнь может выглядит ново
и как эту жизнь под себя не подмять.
«Хуже некуда. Это финиш. Мда», —
сказали мне в тысячный раз.
«Будь реалистом!»
«Дыши полной грудью!»
«Хватит надежд и мечтаний!»
Но я упорно стремлюсь, хоть и больно.
Я осилю боль
долгих
скитаний.

Александр МИШИН
Родился в 2002 году.
Не спал уже, наверное, сутки, перед глазами только огни прошлого. Да, я рад, что больше не пляшу под твою дудку, но теперь замечаю тебя в каждом лице прохожего.
Мы ведь никак не могли прийти к общему согласию, печально, что не смогла найти то, что нашла в другом. Ты придала конец нашему скучному однообразию и нашла тот самый непокорный гром.
Но всё-таки считаю, что ты прекрасней тех ночных огней, что отбрасывал наш маленький город. Для меня ты всегда всех милей, я чувствую себя стариком, хоть и молод.
ЗАКАТ
Опять эти горькие слёзы,
Бесконечно печальные дни;
Устал про тебя видеть грёзы,
Устал от несчастной любви.
Задыхаюсь в твоём океане,
Слишком рано я начал летать.
Потерял я своё упованье,
Больше не стану прощать.
Растоптала душонку поэта,
Думала лишь о себе.
Предпочла дорогую карету,
Вопреки нашей судьбе.
Дым растворяется в каплях дождя,
В глазах моих тоска и покой.
Сердце вырывается, крича,
По коже моей — зной.
Душа моя рассыпается
В этой муке ночной.
Голос мой спотыкается,
Я убиваюсь мечтой.

Валерия МУРЗИНА
Родилась 25 августа 1993 года
Один из вымирающих писателей, гоняющих-ся за вдохновением и писком себя среди повсед-невности и рутины. Ничего необычного: средне-статистический робкий, забитый современным обществом человек, который пытается (все еще пытается) привнести свои мысли в массы.
Цикл стихов под общей темой «Саспенс жизни»
эмоции — это секта выживших
Тропы натоптаны старыми ботами,
мы с тобою не роботы,
но сводится всё к машинальному.
Такими темпами человечество вымрет
через количество n-х лет,
эмоции — это секта выживших,
на них по-прежнему смотрят искоса,
всё обретает краски уныния и пасмурный цвет.
Мир без радости и улыбок походит больше на трип,
собранный методом проб и ошибок.
Груз психболезней налип
как полип на гортани солиста,
как моллюск на скафандре аквалангиста,
как пятно в деле опытного юриста.
Помеха — это бога потеха
над людскими проблемами,
дилемма лишь в том
состоит у общества,
что каждый верит в пророчество инков и племени майя.
Обманывается крайний,
становясь жертвой
ничего не смыслящей
серой массы,
проводя мосты между трассами
во избежание физических травм.
Спасаясь бегством от меланхолии,
мы инкубаторы современности,
нарост на плане Земля.
Мы та самая неизлечимая опухоль.
Да, верить хочется в лучшее,
но смерть неизбежная часть бытия.
ПОРОК
Хрупкие пальцы цепляют надежду.
Глаза — бесстрастные изумруды.
Сыплешь на раны жгуче-гремучим
отравленным перцем.
Нет ничего святого
ни за душой, ни в сердце.
Окровавлены мысли порочные,
портят былое,
ушедшее в вечность.
Ты — апогей моей бесконечности.
Порок язвительных ишемических
болезней.
Нет ни покоя, ни страсти,
ни сладости в поцелуях.
Нет, я тебя не ревную.
Нет, я тебя не люблю.
Как мантру себе толкую,
а толка в действиях оных не вижу.
Как солнце за горизонтом,
ушедшим в моря,
я так долго искал тебя,
но так легко потерял.
И потрясает не легкость утраты,
а боль,
ты ведь знаешь, что я бесчувственный.
И на просторах богемских рощ,
противоречиях нравственности,
неумелые мы
сливались в ячейку общества,
а за ней, как за ширмой из кружева,
всё светилось наружу.
И гниль, что таила внутри души своей,
сочилась кровавым пятном
и образовалась в итоге в лужу.
Нет, я тебя не ревную.
Нет, я тебя не люблю.
Мне свет твоих глаз не нужен,
и руки нежные не нужны.
До хрипоты осипшим прокуренным голосом
в рупор ликую:
«Умерла, несчастная, от тоски!
Загнулась в комок эмбриона
И плачет!
Хочет заботы и теплоты,
но чахнет».
Умерла, проклятая!
Умерла!
Вкуси же свободу мыслей,
почувствуй свободу действий!
Танцуй на моих костях,
окровавленных в тяжких муках!
Сыплется по ветру прах
из урны наших сердец.
Я страстей твоих не ловец
и чувств небывалых чтец.
И дьявол, что сердце твоё вербует,
неистово чёрств и прав.
Чечётку умело танцует
на наших с тобой мечтах.
02:00
Мои цветы давно засохли
В стеклянной вазе цвета соли,
И мысли, полные любовью,
Иссякли без воды и крови.
Я разрезала силой волны,
А в мыслях были только вены.
Запёкшиеся сгустки боли
Закинуты на антресоли.
Под потолком летали моли,
Они сжирали мою веру,
И плесень разъедала горе
В унынии ушедших дней.
Я закурила Cigaronne,
И пульс забился в такт с часами,
Застыла стрелка на двух ночи,
На вздох последний
не хватило сил.
Неучёные статьи
ЛЮБОВЬ «НАВЕЧНО»
Огранённые в золотую рамку чувства с подписью «навечно» обречены на провал. Такая идеалистическая утопия наносит непоправимый вред носителям.
Людям свойственно переходить в режим ожидания. И это не тот случай, когда томление только подогревает интерес, нет. Больше походит данная ситуация на спячку. Человек перестаёт действовать и полностью отдаётся «воле судьбы». Вкладываться в развитие отношений необходимо, ровным счетом как и в работу, как и в любую другую деятельность. Любовь — это деятельность; поле, на котором много свободного места. Если ничего не строить, на этом поле будет скучно, неинтересно. Со временем это станет клеткой для душевных терзаний и вечных сомнений. Земля полностью засохнет, и в такой почве уже практически невозможно будет что-то взрастить. Либо придётся приложить слишком много усилий, что тоже чревато не самыми лучшими последствиями. В один момент человек может или физически перегореть, или душевно измотать себя так, что сил останется ровным счётом на то, чтобы существовать. Отсюда мы можем сделать очевидный вывод — это деятельность для двоих. Один человек не потянет такую ношу. Всегда нужна поддержка как физическая, так и духовная, что немаловажно. Но если начать облагораживать землю и заложить фундамент для дома, это будет являться прогрессом положительным.
Однако в паре всегда присутствует некая потерянность. Как пример возьмём человека, который выиграл в лотерею один миллион. Если он был не готов, то эти средства бездарно канут в пустоту. Ничего не напоминает? Если провести параллель с любовью, то мы видим, что человек, на которого свалилась неожиданно любовь, бездарно с ней распорядится, так как он может быть не готов. Так мы истощим любовь, и останется пустота. Но если мы грамотно распорядимся ресурсами и возьмём ситуацию в свои руки, то такая любовь имеет полноценное право на жизнь.

Яна ОГАНОВА
Яна Оганова. Родилась 4 декабря 1988 года в маленькой уютной Анапе. И переезжать из него никуда не хочу! Очень люблю свой город. А еще я люблю своих родных, люблю утренние пробежки к морю (обязательно с музыкой), люблю детей, по причине чего люблю и свою работу. С детьми работать легко и приятно. Они искренние и бескорыстные. Стихами увлекаюсь еще со школьных лет. Мечтаю выпустить сборник стихов. А пока — пишу.
***
Говорили, что мир — внутри.
Там надежда, любовь и вера.
И мешали с комками лжи
Новомодов и староверов.
Говорили, что есть добро
В каждом первом, хотя б немножко.
А у тех внутри — серебро,
Металлическая застёжка.
Кто не знает душевных мук
И от диких ран застрахован,
Тот из стаи бродячих сук,
Тот к толпе безнадёжно прикован.
И ударит сильней ножа
Непорочный его поступок.
Говорили, что ерунда,
Если кто-то поступит глупо.
Говорили, прощать всегда
Лицемеров, врунов и тварей.
Так и делаем. Ерунда,
Что нам в душу опять наплевали.
***
Переулки с косыми домами,
Под навесом из сонного смога
Пишут новую нам мелодраму
Без начала и без эпилога.
Закрываются старые окна,
Тушат свет не свои, не чужие…
Ты насквозь от тумана промокла,
Он же выйдет сухим из-под ливня.
Ты пройдёшь километры босая
По камням и осколкам сомнений.
Будет улица снова родная,
Но не будет желанного тени.
Открываются новые окна,
И дома на рассвете сойдутся.
Этот город из пропастей соткан,
Не забудь в оправдания обуться.
***
Отбери меня у зимы,
У земли, у воды, у воздуха.
Отбери и к себе прижми,
Заслоняя спиной от холода.
Обними меня, как своё,
Что другим отдавать не хочется.
Мне с тобой и в ночи светло,
И на волю душа не просится.
Прошепчи, как скучал вдали,
По глазам, по губам, по голосу…
Нас не ждёт ничего позади —
Это строки из нашей повести.
Расскажи мне шёпотом сны,
Пусть согреет твоё дыхание.
Лишь о чувствах своих молчи —
Я теперь доверяю молчанию.
***
А знаешь что, во сне я прилечу
И буду танцевать там до рассвета.
С собой возьму мелодию одну,
А остальное пронесётся с ветром.
За мною будет выбор облаков:
Как можно легче всех воспоминаний.
Я прилечу. Ты только будь готов.
Оставь на воле томное сознанье.
Ни неба, ни земли не нужно нам.
Мы улетим туда, где невесомость.
И то, что существует пополам,
Расскажет снам, что мы с тобой знакомы.
Я прилечу. Ты только отпусти
Из мира, где летать не позволяют.
Закрой глаза. И босиком беги —
Я жду тебя у радужного края.
***
Не теряйте меня, друзья,
За туманами серых будней.
Исписала шаблонов груды,
А о главном молчала зря.
Не ищите меня, друзья,
Чтобы совесть во сне облегчить.
А хотите обнять покрепче —
Так найдите скорей меня.
Я притворство не выношу.
Коль нужна, помогу без лести.
Если встретимся в крайнем месте,
С ваших глаз ничего не спрошу.
Не теряйте меня, друзья,
Даже если в себе потеряюсь.
Знает небо, за что я каюсь…
О себе не напомню зря!
***
Сжигай меня, судьбы проклятье.
Закрой все двери, смой пути.
Тебя на век с остатком хватит,
Но снова я смогу уйти.
Упасть на дно — не ново горе,
Сквозь пальцы — сверху солнца свет.
Я виновата априори,
В таких делах прощенья нет.
В таком плену спасатель лишний,
Коль невозможно с ним сбежать.
Сожги меня дотла, как книжку,
В которой нечего читать.
Сто раз внутри себя сгорала,
Из пепла собирая вновь
Свое проклятое начало,
И пряталась под твой покров.
Так что же мне, внутри пылая,
Больную рану воскрешать?
Сожги себя, любовь дурная,
Я не хочу тебя спасать.
***
Море, возьми моё горе,
Выпей до дна и забудь.
Кроет волна твоя горы,
Смой же с лица эту грусть.
Небо, открой мне просторы
Новых и ясных дорог.
Не оставляй на повторе
Кадры забытых тревог.
Солнце, сожги мои крылья
И подари теплоту.
Мы же с тобою любили
С болью, как в жарком аду.
Море, солёное море.
Это не я ли тебя
Сделала пристанью боли,
Бегая день ото дня?
Волны, сотрите узоры
Из золотого песка.
Море, возьми моё горе,
И утопи без следа.

Анна РОМАНОВА
О таких, как я, говорят «человек сложной судьбы и лёгкого поведения». Родилась 17 сентября 2002 года в 4 утра. По рассказам бабушки, была грозой местных священников лет до пяти. В прошлой жизни была астрологом, в этой — ленивый эчпочмак. Состою в музыкальной группе вокалисткой. Люблю пауков, гитару, друзей, деньги, коммунистическую смекалочку. Не люблю, когда медиатор падает в гитару, РЕН-ТВ. Имею третий глаз, тем не менее, в упор не вижу автобусы.
ФОТОАППАРАТ
Громко смеясь, Лиза достала фотоаппарат.
— Зачем? — спросила я у подруги, забирая со стола последние грязные чашки.
— Как зачем? — удивилась та, полностью погрузившись в настройки оного. — Чтобы запечатлеть момент, конечно же!
Положив посуду в раковину, я задумчиво плюхнулась на диван.
— Слушай, а каким ещё образом можно запечатлеть момент?
Лиза, не поворачиваясь ко мне, ответила:
— Ну, живописью там, не знаю…
Я ушла в свои мысли. Как можно запечатлеть момент?
Да, наверное, всем, чем хочешь, главное постараться. Кто-то запоминает момент с помощью фотоаппарата, создавая душевные снимки, при взгляде на которые тебя начинает окутывать уютная ностальгия минувших дней; кто-то создаёт картины под впечатлением от этих самых моментов, когда тебя бросало в приятную дрожь от бушующих внутри эмоций и ты радовался каждому мигу, проведённому с близкими людьми; кто-то пишет рассказы, пытаясь вложить в них весь спектр полученных ощущений от недавних событий, за которыми ты так страстно следил, что иногда даже заснуть не мог от раздумий про них. Но для чего всё это?
Может, потому что хотел дать эмоциям новую жизнь или унести с собой то, что уже нельзя? Вполне возможно, а может.…
Вспыхнул яркий свет, и я услышала щелчок.
— Не спать! Время только полтретьего, у нас ещё вся ночь впереди!
Кинув в меня подушку, Лиза вновь звонко рассмеялась.
ПЕРЕХОДИМ К НОВОСТЯМ КУЛЬТУРЫ
Я умер.
«Новости космоса: несчастный случай на МКС2. Астронавт 4-го уровня LC45x скончался. Причина смерти: разгерметизация скафандра. Подробнее: LC45x выполнял специальное задание Центра на Гиперионе (спутник Сатурна). В 14:45 по земному времени от него перестали поступать сигналы на станцию. Была организована спасательная операция, однако спасти астронавта не удалось. LC45x посмертно награждён орденом II степени «За верность делу до конца».
Меня более не существует.
Когда ты становишься дефективным, от тебя избавляются. Неважно, каким способом: провожают на досрочную пенсию или признают негодным по состоянию здоровья…
Секретная информация не должна быть разглашена. Они знали: если я окажусь на Земле, смогу рассказать СМИ об их «Программе 9f». Мне предлагали отставку при условии, что я буду молчать.
Странно, что сигнал от подстанций не поступает.
«LC45x был верным товарищем и добрым другом. Я знал его несколько месяцев, но за это время мы сдружились. Таких людей, как он: честных, верных — сейчас мало. Смерть LC45x — удар для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования его родным…»
Я знал, что так будет. Я был опасен, так как имел голос. Закон запрещает физическую расправу, потому меня просто отправили на это задание.
Надевая скафандр, я прихватил с собой приёмник. Вдруг смогу связаться с беспилотником. Если будет дана команда не брать меня на борт, им придётся занести это в протокол.
А кислорода будто случайно дали меньше, чем положено…
«В память о погибшем астронавте в зоне Сатурна объявляется День тишины. Всем беспилотникам и пилотируемым кораблям в этом районе полёты на день запрещены. „Мы чтим память наших людей“, — откомментировал это заявление заместитель начальника управления по ЧС — DSа66К, руководивший спасательной операцией».
Я пробовал настроиться на нужную частоту, но всё молчало. Воздух у меня ещё был, так что попыток я не оставил.
Я раз за разом посылал SOS, но сигнал не проходил. Не может быть, что никого нет рядом!
Почему сигнал не доходит?
Звёзд так мучительно мало… Сатурн, словно гигантский корабль, парит по небосводу… Я выживу. Доберусь до Земли и увижусь с женой. Она меня ждёт, будет ждать. Мы вместе их выведем на чистую воду… вместе…
«А теперь к новостям культуры…»


Елена СУХАНОВА
Член Союза писателей России
Родилась 11 июня 1976 года в Ижевске. Окончила юридический техникум, затем Московский литературный институт имени Горь-кого. Посещала семинар прозы В. В. Орлова.
ОБ АЛЬМА-МАТЕР И НЕ ТОЛЬКО
Однажды инструктор по вождению, рядом с которым сидела я и отчаянно выискивала в себе смелость выехать на дорогу, сказал:
— Эх, говорил мне папа: иди учись, сынок!
Произнёс он это с горечью и сожалением, ибо именно отсутствие образования сделало его инструктором, а не посадило в удобное кресло, обитое натуральной кожей и стоящее в кабинете какого-нибудь большого начальника. Человек, обучающий меня вождению, был ещё молод и вполне мог пойти учиться, если бы пожелал прислушаться к словам родителя, пусть даже и поздно. Однако он продолжал смотреть на мир с пассажирского сидения и находиться в постоянной готовности нажать на дополнительную педаль, именуемую русским народом не самым любимым словом «тормоз». Продолжал втолковывать истеричным дамочкам, что не стоит бросать руль при любой, часто надуманной, опасности, продолжал получать за свою работу сущие копейки.
Почему-то некоторые хотят узнавать новое всю свою жизнь. И когда они перестают посещать учебные аудитории, начинают усиленно заниматься самообразованием дома, иногда в ущерб развлечениям. Иные же начинают ненавидеть учёбу прямо с первого класса, а когда поднимаются со школьной скамьи, сразу берутся коснеть в убеждениях, не позволяя мозгу оставаться гибким.
Есть ещё и те, которые вроде бы желают учиться, потому что диплом получить надо, но при этом не готовы прикладывать дополнительные силы к тому, чтобы поставить галочку в графе «образование». Например, они изначально уверены, что поступить на бюджетное отделение невозможно, потому предпочитают заплатить и не портить себе нервы, готовясь к вступительным экзаменам. Ведь купить обычно проще, чем заслужить.
Я училась в одном из виднейших московских институтов. И отыскала на соседнем стуле себе там подругу, назовём её, допустим, Ия. Ия хотела учиться со страшной силой. Когда она приехала в столицу, подала документы в два вуза. И в оба поступила. Но вместо того, чтобы выбрать одно учебное заведение, как делают все адекватные люди в такой ситуации, Ия решила посещать лекции в обоих. Поступила она на заочное отделение, потому в своём не очень далёком от Москвы городе Ия ещё продолжала ходить на работу в художественную галерею. И эта галерея ежегодно отпускала любознательную девицу на сессии. По два раза в каждый институт. Итого: четыре.
По закону в нашей стране можно получить лишь одно бесплатное высшее образование. Потому Ия упражнялась во лжи, когда забирала из одного вуза свой аттестат, подменяя его ксерокопией, и несла документ в другой институт, чтобы позднее начать лгать и там. И это при всём том, что сначала у неё и аттестата-то никакого не было. Ибо к моменту поступления в два виднейших столичных учебных заведения Ия даже не удосужилась закончить школу. Раньше она жила в бывшей советской республике, где умные женщины не приветствовались, оттого все образовательные глупости прошли мимо. По сей весьма увесистой причине подруга моя, взвалив на себя одновременно работу и кучу заданий от разноплановых вузов… ах, да! у неё ещё к тому времени семья имелась: муж, ребёнок… пошла учиться в вечернюю школу, дабы получить тот самый аттестат, из-за которого ей впоследствии пришлось лгать и изворачиваться. И вот тащила Ия на себе прорву образовательных возов, не забывая воспитывать ребёнка и наставлять мужу рог за рогом. Когда только всё успевала?! Успехи подруги можно было бы списать на молодость, амбициозность, глупость, буйство сил и малую потребность в том, чтобы полноценно высыпаться, если бы основной причиной не являлось стремление Ии получать образования.
Прошло положенное количество лет, Ия сдала государственные экзамены, но так и не принесла в деканаты институтов свой настоящий аттестат. А всё почему? Потому что она уже возжелала поступить в третий, не менее выдающийся вуз Москвы. И она туда поступила. И вместо аттестата опять-таки принесла ксерокопию. Вдруг потом понадобится, честное слово. Отхватить три высших образования в столице — это вам не инструктором по провинции ездить! В то время как люди, не окончившие даже школу, травятся «боярышником» в Иркутске, Ия работает на хорошей должности и пьёт недешёвое красное вино. Кроме того, мозг моей подруги вряд ли удумает атрофироваться за ненадобностью, ведь заниматься самообразованием она не перестала и после окончания своего последнего вуза.
Если бы мне задали вопрос, кто, по моему мнению, является героем нашего времени, я бы назвала Ию. Есть что-то удивительное в том, чтобы никогда не переставать чувствовать себя студенткой. Тем же, кто боится или не хочет поступать, можно сказать одно: вы хотя бы попробуйте. А то в тридцать лет будете давить на тормоз вместо какой-нибудь истеричной ученицы автошколы и жалеть. Ох, как жалеть!

Алина ХОМИЧ
Член Международного Союза писателей и Мастеров искусств
Руководитель младшей группы литобъединения «Авангард»
Личность не всем приятная, что и не является обязательным. Склонность к депрессии, мизантропии и злым, иногда грустным шуткам также в наличии. Постоянно совершает попытки развить в себе хоть сколько-нибудь положительные чувства к собственной персоне и к окружающим. Попытки тщетны, но тем не менее продолжаются. Ещё почти свято уверена, что она поэт, вокалист, художник, музыкант и вообще душка, и доказывает это, периодически мучая несчастную аудиторию. Хорошо сочетается с Шардоне…
СКАМЕЙКА
На палубе пахло водорослями и машинным маслом. Полчища чаек кружились над паромом. Когда трёхъярусная махина тронулась, казалось, чайки завопили ещё сильнее и надрывнее, стрелами проносясь мимо. Саша вышла из дверей тёплой крытой палубы, и весь шквал запахов, звуков и неожиданных ощущений обрушился на неё. Дикость, отречённость от комфорта сквозила здесь и пробирала до костей. В размеренном движении парома была какая-то хаотичность, его словно лихорадило, покачивая на волнах. Мышцы свело холодом, но огни побережья напротив заставляли улыбнуться уголками рта. Впереди был Крым.
На поездку Саша решилась внезапно. «Достали, все достали!» — с такими словами она хлопнула дверью, с трудом перетащив чемодан через порог, оставив свою трёхлетнюю дочь на няню, а мужа на самого себя.
Ей всегда хотелось поехать куда-нибудь на Гоа, но супруг не желал отпускать её далеко от дома, отвечая на все её просьбы:
— Сашка, очумела, что ли? Совсем все мозги, блин, пропила! Какая, мать её, заграница?
Но в этот раз она, окончательно психанув, ответила:
— Раз так, тогда в Ялту! Там хоть дворцы есть! Будут шикарные фоточки.
Фотографироваться Саша любила самозабвенно. Ни часа без нового поста с её ухоженным лицом, ногтями и прочими частями обожаемого тела. Муж, давно поняв, что общих интересов у них нет, совсем не возражал её маниакальному стремлению запечатлевать себя везде и всюду. Ему это было даже на руку: «Мать меня хоть по поводу женитьбы не трогает. Есть и есть. А эта — меньше лезет в мою жизнь. Хоть не расспрашивает, откуда бабло», — усталым голосом говорил он друзьям по пути на очередную сделку. К дочке Саша охладела сразу, только забеременев. Лишь уговоры родни не позволили ей сделать аборт. Большую часть жизни Ксюшенька проводила с няней.
Стоя на палубе и держась за ледяные перила, Саша кое-как дрожащей рукой сделала селфи.
Она точно знала, куда ей надо ехать, причалив к берегу. И, хоть не бронировала отель заранее, направилась прямиком туда, где отдыхала с родителями, когда была подростком. Небогатая семья из душащего холодом края долгие годы копила деньги на приличный отдых. И, наконец, в семнадцать лет Саша впервые увидела море, искрами врезающееся в память.
В отеле ей сообщили, что свободный номер будет только после полудня. Согласившись подождать и оставив здесь чемодан, Саша побрела по набережной. Ялта встретила её совсем не так, как в семнадцать лет. Мокрый гранит набережной холодил. Море серое и неприветливое, а над горами зловеще нависали сизые тучи. До полудня нужно было чем-то себя занять, да и перекусить бы не помешало. Саша наткнулась на милый ресторан, который, по счастью, уже был открыт. Растаяв в глубоком кресле, она сделала заказ и, навалившись на подлокотник с бокалом мартини в руке, принялась фотографировать себя на фоне окна с видом на набережную.
Саша никогда не считала себя одной из этих пустышек, которые только и думают что о «бусиках-трусиках». Хотя сама и любила щеголять в новых шубках и в босоножках при плюс пятнадцати. «Ой, ну пока здесь холодов дождёшься, уже пора новую шубу покупать, старая из моды выйдет», — с таким аргументом она выходила на улицу своего южного города, ничуть не смущаясь озадаченных взглядов прохожих в плащах и ветровках. Вторым увлечением, кроме селфирования себя, у Саши было написание постов к этим фото. Она их считала не столько просто комментариями, а сколько мини-рассказами, без которых, как Саше казалось, тоска сожрёт её заживо… «Лекси, ну ты прям этот, как его, писатель!» — надувая губы, протягивали подружки, распивая очередную бутылку мартини. Часто процесс написания захватывал Сашу с головой, и она не замечала, как вдоль стены растёт батарея стеклянной тары. «Вдохновение, зая, надо питать!» — подняв бровь, она заявляла мужу, с трудом шевеля языком, когда тот находил её пьяной на полу спальни.
В кругу её общения было не принято «прокачивать мозг», тем более, если ты девушка. Однажды на открытии распиаренной литературной кофейни Саше случайно попала в руки книжка Чехова. Ей стала любопытна бумажная экзотика. И она, сев за дальний столик, незаметно для себя погрузилась в чеховский мир простых людей, их судеб и переживаний, да так, что презентация прошла без неё. И теперь Саша с восторженным энтузиазмом принялась ещё тщательней продумывать посты, вплетать в них не только шаблонные фразы из всемирной Сети, но и собственные мысли, которые вдруг невесть откуда взялись и были вполне привлекательны и не лишены смысла. Теперь в глазах проходящих мимо людей Саша начала подмечать что-то особенное, присущее только этому человеку. Грустная улыбка продавца в ювелирном уже не вызывала саркастических мыслей, а напротив, побуждала задуматься, что не у всех жизнь мягкая, как норковая шуба, и что вообще бывают другие люди и другие жизни.
До освобождения номера оставалось ещё три часа. Надо было провести их с пользой. Пройдя по немногочисленным бутикам набережной и заскучав от знакомых дизайнерских шмоток, Саша вспомнила, что в ресторане администратор на её вопрос, куда можно сходить, посоветовал посмотреть «Белую дачу» Чехова — маршрут не настолько затоптанный туристами, как ялтинские дворцы.
«Блин, он крутой. Над ним родственнички не смеялись», — подумала она, вспомнив свой недавний разговор с мужем о том, что она бесполезная, не способная ни на что в этой жизни курица. Так было решено идти к Чехову. Навигатор показывал, что идти до музея только час. И Саша, желая посмотреть город, отправилась пешком, попутно фотографируя себя у каждой клумбы. Элегантная Пушкинская улица сменилась узкой асфальтированной тропинкой вдоль практически пересохшей, заваленной мусором речки, а затем и вовсе её путь закружил по тесным улочкам, на которых и тротуара не было. Запах канализации, маленькие старые домики. Саша морщила нос, но шла вперёд, всё в гору и в гору, петляя и путаясь в улицах. Дорога оказался значительно длиннее, чем один километр. Трижды на каждом переулке Саша сокрушалась, что не взяла такси или не одела кроссовки, но гнев на мужа и свою жизнь придавал ей силы. На терпко пахнущих улицах ей, к счастью, встретились две улыбающиеся дамы с отчётливым перегаром. И, указав на дорогу под углом не меньше сорока градусов, сказали: «Это тяжело, но вам понравится».
«Как они здесь живут вообще?» — тяжело поднимаясь по крутому склону, причитала Саша. Подводка для глаз потекла, аккуратно уложенный боб растрепался.
***
Наконец взобравшись на гору и войдя в калитку «Белой дачи», Саша почувствовала себя ни больше ни меньше, как победителем.
В музее, просмотрев академичный фильм про жизнь Антона Павловича, туристы вместе с экскурсоводом спустились в сад. Маленькие дорожки, бегущие галечными ручейками по склону дачи, заботливо высаженные растения, стройные заборчики из бамбука. Это место будто отделено от внешней суетливой жизни. Всё здесь полнилось любовью и заботой. Экскурсовод с явным наслаждением рассказывала о розах, кипарисах, кактусе с широкими листьями, который назывался агава, и о скамье в дальнем углу дачи. О «горьковской скамье». Здесь Чехов и Горький подолгу беседовали, скрывшись за густой листвой сада.
«Надо же… такие люди, такие люди, — вздыхала про себя Саша, внимая каждому слову экскурсовода. — Надо будет обязательно на неё сесть и сфоткаться! Чехов, Горький, а теперь я!»
Дальше экскурсия продолжилась по дому писателя. Каждый из посетителей стремился как можно дальше перегнуться через натянутую в комнатах верёвку, чтобы охватить снимком как можно больше пространства. Столовая, спальня для гостей. На втором этаже спальни семьи и священное место — кабинет. Поднимаясь по деревянной столетней лестнице, Саша дрожащей от нахлынувшего благоговения рукой провела по перилам, к которым прикасался писатель, на кого в минуты своих истерик о «никчёмной жизни» она хотела стать похожей. Она вдыхала аромат комнат и ощущала, что становится частью чего-то поистине важного. Обязательное фото на фоне кабинета, и девушка вместе с остальными спустилась обратно в сад.
Быстро посеменив по галечным тропинкам каблуками на изрядно натоптанных ногах, она с целеустремлённым видом направилась к «горьковской скамейке». Зелёная, грубо сделанная скамья из себя ничего особенного не представляла, но у Саши перехватило дыхание, только она присела.
Множество раз перекрашенная, для неё эта скамейка неожиданно стала местом силы, света и надежды. Каждая жилка в её теле застыла, мышцы сковало, а в суставах пальцев появился зуд. Саша представляла, как Максим Горький и Антон Павлович беседовали о литературе, и, возможно, именно здесь решалось что-то значительное и большое. Большое, как целый свет, но лёгкое и невидимое, как ветер, но и так же, как ветер, способное изменить жизни.
У Саши защемило сердце, запекло, стало горячо в горле, ей очень захотелось, чтобы сейчас все эти необыкновенные ощущения с ней разделила Ксюшенька. Захотелось обнять её, посадить рядом и читать, читать сказки, чего раньше никогда не делала. Гладить её по светлым тонким волосам и целовать в макушку.
Саша тихо поднялась со скамейки, забыв сделать снимок, и побрела к выходу.
МОНЕТКА
«Когда так похолодать-то успело? Вчера только бегала в туфлях на голую ногу, а сегодня уже и подстреленные джинсы не одену — щиколоткам холодно», — пока я шла по улице к магазину, в голове только и было мыслей, что о холоде, пронизывающем ветре и о том, что стоило одеть джемпер потеплее под куртку. В правом кармане лежал медный червонец, полученный на сдачу с какой-то недавней покупки. Я перебирала его пальцами — не просто же так ему лежать. Подходя к магазину, расположенному на первом этаже высотки, увидела на его ступенях пожилую женщину в старом плаще советских времён и тонком платке. Она стояла с протянутой рукой, и ветер, беснующийся между домами, обдувал женщину со всех сторон.
С мыслью: «Надо будет обязательно дать денежку», — я зашла за покупками, не собираясь брать ничего особенного. С трудом удалось отрыть в ящике хорошие болгарские перцы, большинство из которых уже начали портиться от длительного лежания в тепле. Оставшиеся перцы работники соберут и просто выкинут, не отдав нуждающимся. Огурцы так же придирчиво выбраны мной и ещё пара овощей. Оплатив свой «урожай», я открыла кошелёк, чтобы набрать монеток для той женщины: «Блин, одни рубли. Ну, хоть червонец в кармане есть», — копалась я, но отыскала десятку и ещё несколько крупных по размеру монет, даже не разглядывая их номинал, предполагая, что он должен быть выше двух рублей. Передо мной из магазина вышел парень и положил деньги женщине в руку, она, как водится, ему что-то сказала, неразборчивое для меня. Подошла и я. В её протянутой руке лежал целлофановый пакетик с несколькими монетками, я тоже положила свои.
Неловко улыбаясь, она произнесла тихим голосом:
— Спасибо тебе. Храни тебя Господь, деточка. Счастья тебе.
Так искренне мне, наверное, почти никогда ничего не желали. Удивительно. Для меня это всё было странно и удивительно. Внутри появилось ощущение благодарности. Как будто это не я что-то сделала, а что-то сделали для меня. Что-то доброе и от сердца.
— Спасибо, — ответила я, поспешив в сторону остановки, чтобы быстрее сесть в автобус.
По дороге я засунула руку в карман и нащупала… червонец. «Сколько же тогда я положила? Этого, наверное, на буханку хлеба даже не хватит», — ощущение благодати сменилось неловкостью и стыдом. Я не дала много, но дала даже меньше, чем хотела. Меньше, чем могла. Но добрых слов, сказанной той женщиной, меньше не стало. Двадцать, тридцать, сто рублей, а благодарность всё равно искренняя, слова тёплые; несмотря на то, что холодный ветер отчаянно пытался их остудить, они грели.
По дороге к остановке я всё думала, что, если встречу кого-то с протянутой рукой, обязательно положу в неё этот червонец.
На пути мне никто не встретился. Я прождала свой автобус почти час. И замёрзшей рукой со спадающими кольцами перебирала в кармане монетку.
ШОКОЛАДКА
Небольшая квартира. Старый диван. По невероятной удаче свежекупленный цветной телевизор. Как обязательный элемент советского и постсоветского интерьера — ковёр, стену за которым в целях экономии никогда не оклеивали обоями. Так он и обрекался весь свой век висеть на одном и том же месте, пока не придёт новая эра обстановки дома. Чтобы хоть как-то облагородить большой настенный прямоугольник, мама развешивала на нём гирлянду с лампочками в виде снежинок. И он становился не просто узорчатым нечто, а ещё одним маленьким элементом в моих детских воспоминаниях. Искренних, самых настоящих, без натужных восторгов и излишнего лоска. Воспоминаниях о тихом счастье, о котором не говорят, а только представляют, задержав дыхание. Таких моментов за всю жизнь наберётся от силы, что пальцев на руке.
На улице минус сорок. Батареи по-зимнему еле теплятся. Но от предвкушения Нового года внутри у меня, шестилетней девочки, загорался огонёк, который было не заглушить холоду. Мне не терпелось вручить подарок своей подруге — соседке по лестничной площадке. Всего-то шоколадку. Но в такое сложное время, когда даже в гости лишний раз не ходили, чтобы не объедать семью, это был очень большой знак искренней дружбы. Мы с мамой выбрали шоколадку с кокосовой стружкой. Чтобы это действительно выглядело как подарок, перевязали её золотистой ленточкой. Наконец, вечером пришла Кристина. Мне было очень любопытно, что же она подарит. У Кристины в руках тоже было шоколадка. Мы поздравили друг друга, обменялись подарками и, счастливые, разошлись.
Попробовать ужасно не терпелось. В комнате на диване спал папа, и ни в коем случае нельзя было его разбудить, ведь он очень уставал, помногу работая на заводе. Я как могла тихо раскрыла предательски шуршащую упаковку. По телевизору показывали мультики, и как раз начался «Мороз Иванович», совершенно не новогодний, но теперь именно он у меня ассоциируется с этим праздником.
Звук был выкручен почти до ноля, но переливчатую мелодию и добрый, такой домашний голос Вячеслава Невинного можно было хорошо расслышать, если придвинуться ближе. Сидя на краешке дивана, мы с мамой по одной плиточке стали отламывать шоколад. Молочный, с орехами и изюмом. Я никогда не любила и не люблю в шоколаде изюм. Мне всё время кажется, что так меня хотят обмануть и испортить впечатление от угощения. Но настолько вкусного шоколада я никогда не пробовала. Я и сейчас, спустя почти четверть века, ощущаю этот шёлковый по своей текстуре вкус. И это не просто какая-то сладость, а подарок, преподнесённый от чистого сердца. Именно в этот самый момент наступило ощущение невместимой радости. Настолько огромной и в то же время самой потаённой, что её и спрятать никуда не получится, и показать никому нельзя.
Полумрак в комнате, синтетическая ёлка переливается редкими огнями, ковёр тоже сияет, вторя ёлке. Рядом родители. Папа спит, а мама пробует вместе со мной шоколад, самый вкусный на свете. И по телевизору — сказка о добре и справедливости. Тяжёлое, но моё самое счастливое время.


Ольга ХОМИЧ-ЖУРАВЛЁВА
Член Союза писателей России
Руководитель литобъединения «Авангард»
Родилась 21 марта 1966 года. С рождения жила в Северодвинске. С 2000 года живу в Анапе.
Наслаждаюсь этим миром по мере возможности… Я всегда любила свободу! И уважаю свободу окружающих… Люблю общаться с интересными людьми и избегаю неприятных. Меня называют неисправимой оптимисткой. Я из тех, кому не скучно в одиночестве — всегда есть о чём поговорить с Музой. В моей голове постоянный бурлящий водопад из идей, сюжетов, стихов и описаний всего, что бы я ни увидела. Мысленно бесконечно веду летопись миров, отражая существующую и создавая иные реальности. Но ведь так интереснее ощущать полноту бытия, когда радуешься этому многогранному миру!
ПРОЩАЛЬНЫЙ БЛЮЗ
Музыкант
«Ялта — город грустных собак», — в который раз подумал музыкант, почти пропевая фразу, обойдя очередного пса со взглядом, полным безграничной печали, устремлённым в никуда. Собака с безучастным видом разлеглась посреди гранитной набережной, принимая случайные ласки протекающей мимо беззаботной толпы отдыхающих. Сгустился сумрак, вспыхнули витиеватые чугунные фонари, и к старинной величественной набережной, умытой прошедшим ливнем, выплыли на заработки музыканты и певцы разных мастей.
Начинал своеобразную галерею исполнителей живописный эксцентричный старик, который каждый вечер представал в новом амплуа. То он был одет в матросское одеяние, и тогда перед ним на небольшом столике лежали тельняшки и бескозырки на продажу; то он появлялся перед праздно гуляющей публикой в образе казака, и тогда на том же столике появлялись папахи, сувенирные шашки и прочие атрибуты соответствующего костюма. Неизменным оставался музыкальный центр, который выносил ему мужчина средних лет, и старик, врубив звук на полную громкость, слушал песни ушедшей молодости. Публика, проходя мимо, подпевала любимым с детства мелодиям, а некоторые даже пританцовывали. Время от времени к старику подходили люди пожилого возраста обоих полов и вели с ним долгие и весьма увлекательные разговоры «за жизнь».
Далее располагалась группа юных музыкантов с дредами на головах, в несуразных ярких многослойных одеждах — «дети природы» с блаженным выражением радости на истощённых сыроедением лицах, стуча в бубны, маракасы, перепевали знакомые мелодии, а также исполняли и свои вирши…
Квартет дам бальзаковского возраста и старше резко контрастировал с эпатажными представителями субкультуры. Расположившись полукругом возле массивного фонаря, они наполняли набережную звуками классической музыки — Вивальди, Брамсом, Моцартом, Бетховеном…
Задумчиво проходя мимо и вслушиваясь в академическую, лишённую непринуждённости игру «вольных художников», он предполагал, что дамы — преподаватели какой-нибудь музыкальной школы и так пытаются пополнить свой скудный бюджет, чем вызывали в его душе восхищение смелостью обычно чопорных музыкальных работников.
Далее, возле череды многочисленных скамеек, ежевечерне выступал сам «Александр Розенбаум». Ну, конечно, не сам… Неведомый ему исполнитель настолько точно имитировал голос знаменитого певца, что всегда неизменно собирал вокруг себя толпу восхищённых зрителей, сидящих на парапетах, скамейках и просто стоящих рядом с включенными видеокамерами смартфонов.
Но больше всего людей, в основном пожилых, собиралось на краю набережной, где заканчивалась череда скамеек. Мужчина в возрасте лихо играл на баяне музыку советских лет, и многие зрители, абсолютно не стесняясь, кружились в танце. Бабушки с бабушками, дедушки с дедушками танцевали парами, как во времена их далёкой юности, когда вальс был королём танцплощадок…
Ещё дальше за отелем «Ореанда» незабываемым нежным голосом пела девушка этнические славянские песни «Мельницы», конечно же, в надежде, что её услышит какой-нибудь продюсер из столицы, и вдруг она даже сможет прославиться…
Между «Розенбаумом» и лихим баянистом находилось и его рабочее место, которое он делил с ещё одной группой «растаманов», играющих на инструментах «музыку сфер». Ребята напоминали ему о мятежной юности, метания по модным подвальным тусовкам, где представители андеграунда — патлатые рок-музыканты лупили по музыкальным инструментам, бились лбами о стены и соревновались, кто круче, экспериментируя в извлечении звуков из аппаратуры и собственного горла…
Мда, мейнстрим остался в далёкой юности. Музыкант усмехнулся своим воспоминаниям, допил остатки кофе и выбросил пластиковый стаканчик в чугунную мусорную корзину.
Молодые музыканты завершили какофонию звуков, запаковали инструменты в чехлы и, с дружелюбными улыбками кивнув ему «будь!», побрели по набережной, подсчитывая скудный заработок.
Колонки, штатив с микрофоном были установлены и ждали своего часа. Музыкант бережно достал из чехла саксофон, включил фоновую «минусовку», и полилась нежная мелодия, мягко обволакивая многочисленных посетителей вечерней набережной — праздно гуляющих, сидящих на лавочках и парапетах.
Курортный город, ещё недавно испепелённый летним солнцем, оглушённый криками детей, шумом экспрессивных отдыхающих, теперь, словно после громогласного шторма, наполнился ласковыми волнами степенной, размеренно шествующей публики бархатного сезона, среди которой даже дети были преисполнены ощущением прикосновения к торжественности момента — к осеннему трепету старинного города, к величественному спокойствию монументальной набережной, к самой истории. Оно и понятно: купальный сезон окончен, и теперь туристы со всего мира посещают многочисленные исторические дворцы, памятники и древние поселения, высеченные прямо в горах Крыма…
Он открыл глаза. За вступительным блюзом следовало сыграть что-то энергичное, но не слишком, чтобы не испугать «бархатную» публику, которая уже начала устраиваться на ближайших скамейках. Он не любил повторять репертуар, замечая, что многие приходят из вечера в вечер послушать звучание его саксофона. Ну, уж чего-чего, а композиций в его багаже была тьма, в том числе и собственного сочинения.
Раньше его звали Денис Сергеевич, для близких — просто Дэн. Теперь ему казалось, что он возник из небытия, и сибирский город, любимая девушка, с которой он прожил несколько лет, и Новосибирская филармония, которой он отдал двадцать лет своей жизни, были чистейшим вымыслом, мифом, зачем-то засевшим в его мозгу.
«Прошлого нет и будущего нет. Есть только настоящее. Здесь и сейчас. Надо наслаждаться жизнью! Надо жить здесь и сейчас, Дэник!» — звучал, выныривая из небытия, голос Кэт, любимой Катеньки, когда в соцсетях он увидел её свадебные фото — она, хрупкая и такая родная, рядом с толстым лысым пижоном, конечно же, в отличие от него — богатым. На многочисленных фото новоиспечённые молодожёны стояли то возле чёрного внедорожника-«катафалка», то во дворце родителей гораздо более удачливого соперника, то на фоне громадных пальм какого-то роскошного экваториального побережья…
«У меня тоже будет своё настоящее», — со злостью и мстительным отчаянием думал он, стоя в тамбуре поезда, уносящего его на край света. Краем света оказалась Ялта. Он снял маленькую комнату, пахнущую сыростью и старыми вещами, в частном домике где-то на вершине города, откуда до моря, по словам хозяйки жилья, рукой подать — всего чуть больше двух километров вниз по петляющим крутым улочкам. Чтобы как-то жить, устроился на работу в торговый склад мебели водителем автопогрузчика. А по вечерам играл на саксофоне, еле-еле сводя концы с концами. Со временем он начал привыкать к полунищенскому существованию. Начинала подступать мысль, что будущего у него уже, скорее всего, и не будет…
***
Этот блюз, как и многие другие, он сочинил сам. Но всё же блюз был особенным — музыка неожиданно возникла, зазвучала, завибрировала в голове, когда он узнал, что больше не любим… Да и был ли любим вообще…
Он вложил в исполнение блюза всю свою безысходную грусть, всё то горе от ощущения безнадёжности разлуки и потери любви… не смог… не удержал…
Неожиданно к мелодии саксофона присоединился вой собаки. Прямо перед музыкантом сидел пёс и самозабвенно завывал в унисон музыке. На секунды пёс замирал, глядя в глаза саксофониста, и затем вновь принимался выводить рулады, вторя саксофону, к несказанному удивлению публики попадая в звучание.
Собралась огромная толпа любопытствующих. У многих блестели на глазах слёзы. А когда оба голоса логически оборвались, зрители засвистели, зарукоплескали, крича: «Браво! Ай да певец!» Собака смутилась и бросилась прочь. Убежав на некоторое расстояние, побродив по набережной среди праздной публики, пёс снова вернулся к играющему саксофонисту и лёг рядом.
— Ваша собака ещё споёт что-нибудь? — наперебой спрашивали музыканта, едва композиция окончилась.
Музыкант посмотрел на пса, тот поднял голову и многозначительно мигнул в знак одобрения. Впервые за долгое время бродяжничества пёс дал волю голосу…
Пёс
Пёс потерялся почти год назад. Ну, как потерялся…
Бор безгранично доверял людям. Но в тот раз он понял, что его бросили. Бор прибыл в осенний город на яхте вместе с крикливым хозяином, который повёз его на охоту за зайцами и исчез. Через день, несясь на дрожащих лапах сквозь буреломы незнакомых деревьев и кустарников, через смертельно опасные горные автодороги, голодный пёс разыскал набережную и пирс, где была зафрахтована яхта, но, естественно, ни родной яхты, ни хозяина даже духу не было.
Так получилось, что он сменил несколько хозяев и решил больше ни к кому не привязываться. За четыре года жизни пёс понял, что надо надеяться только на себя. Очутившись в курортном городе, он попытался познакомиться с себе подобными. Но псы вели себя как-то странно и неестественно — они не лаяли, медленно бродили, словно призраки, в толпах людей и никогда ничего не просили — они словно сливались с парапетами набережной, с травой газонов, растворяясь в городских пейзажах. А ещё почти все собаки носили в ушах жёлтые пластиковые кругляши. Те, кто не желал носить навязанный людьми подарок, вырывали когтями инородное тело и тогда бродили с порванными ушами. На расспросы Бора о бирках псы или сердито рычали, или грустно отворачивались. Однажды он всё же выяснил — люди отлавливают собак, агрессивных куда-то отправляют, а спокойным делают операцию, и они больше не могут продолжать свой род. На ухо цепляют, как клеймо, чип. И ещё Бору объяснили, что, если он не хочет пропасть, пусть ведёт себя прилично, словно тень, и, главное, помалкивает.
Бор понял, что попал в город грустных собак. Он старался реже бывать в центре и, уж тем более, на набережной. Питался пёс на окраине города возле небольшого кафе около трассы на крутом склоне утёса, где его и ещё нескольких кошек подкармливали сердобольные хозяева харчевни. В голодные дни, когда ему ничего не доставалось, Бор уносился в леса на склонах гор и ловил кроликов или белок. Чтобы «прилично выглядеть», он спускался к морю, где купался в солёном прибое подальше от пляжей, катался на гальке, разглаживая короткую золотисто-жёлтую шёрстку, и старался поменьше попадаться на глаза людям, изо всех сил изображая из себя домашнего пса.
***
После сокрушительного шторма и жёсткого продолжительного ливня начисто вымытая набережная посвежела, небо вновь обрело бездонную синеву, свет полыхающего солнца исчез за горами, и приблизился вечер. Бор чинно брёл среди людей, всем своим видом демонстрируя независимость: мол, здесь где-то рядом мой хозяин, и мне, кроме него, никто не нужен.
Вот и чёрный пёс, постоянно сидящий на парапете, застыв в одной позе: он кормит хозяина, да и себя тоже. Громадный пёс терпеливо позволяет надевать на себя чёрный котелок, чёрные круглые очки, а на шею чёрную бабочку и в таком виде застывает с утра до вечера, а люди, с восторгом гла
