Елена Викторовна Захарова
Сокровища Русского Мира
Сборник статей о писателях
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Автор идеи Лина Францева
Редактор 1ч Татьяна Богина
Редактор 2 ч(219-255) Светлана Алексеевна Ким
Редактор 2 ч (219-255) Надежда Николаевна Кудашкина
Редактор 2ч (с.209-213) Евгений Лобанов
Корректор (С.248-255) Евгений Федоров
© Елена Викторовна Захарова, 2018
Жизнь человека — мгновение по сравнению с жизнью Человечества. Всем ли дано право запечатлеть это мгновение? Книга Е. В. Захаровой, как уникальная шкатулка с драгоценностями, объединила талантливых поэтов Русского Мира. Поэты, имеющие разные взгляды на мир, жившие или живущие в разное время и в разных странах, объединенные русским словом, являются говорящими собеседниками в ее статьях. Книга будет интересна любителям поэзии, любителям истории и просто читателям с хорошим литературным вкусом.
16+
ISBN 978-5-4493-8946-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Сокровища Русского Мира
- С открытым забралом. Об авторе книги. Юрий Конецкий о Елене Захаровой
- 1 часть. Уральский магнетизм
- Магнетизм уральских вершин
- Социалистический романтизм Бориса Ручьева
- «Ненавижу куркулей!»
- Поэт-публицист Борис Марьев
- Камнеломка. Людмила Татьяничева
- Рыцарь идеи — Юрий Лобанцев
- Материнская вселенная. Небесное и космическое в поэзии Любови Ладейщиковой
- Вечный двигатель поэзии. Поэт Юрий Конецкий
- Магнитная аномалия поэзии Урала
- 2 часть. Самородки русского мира
- Побеждая пространство и время
- Наталия Никитина
- Это не та планета. Ирина Горбань
- Мечтал… Влюблялся… Писал…
- Олег ДУДИН
- Поэзия настоящего человека. олег дудин
- С мечтой о прекрасной даме
- Михаил Курило
- Единство радости и меры. Сергей Бельков
- Тайна притяжения
- Елена Александренко
- В начале было «Слово…»
- авторы международного литературного интернет-сообщества"Слово волнует, Дышит, Живёт…»
С открытым забралом. Об авторе книги. Юрий Конецкий о Елене Захаровой

Профессиональный журналист и дипломированный киновед, Елена Захарова с детских лет писала стихи. Иногда печаталась в газетах и журналах, не делая попытки выйти к читателю отдельной книгой. И вот наконец мы раскрываем первый сборник стихов Елены Захаровой и понимаем, что она — «родом из детства», где рыцарское благородство трёх мушкетёров было примером для неё и друзей-сверстников, а её любимым героем на всю жизнь стал Д*Артаньян. Коммуналка с добрыми соседями, бабушкины пироги, мамина верность отцу, рано ушедшему из жизни, навсегда стали её духовной опорой.
И росло нас в этом доме трое,
Лет послевоенных ребятня…
Если б детство выпало второе,
Может быть, и нянчили нас много,
Но у мамы каждого из нас
И для своего, и для чужого
Находился нежности запас.
Дети «оттепели», наследники Победы, они стали свидетелями того, как общество возвращалось к нормальной жизни. Люди распрямились, поверили в необратимость перемен, молодое поколение надеялось и мечтало «жить при коммунизме».
Первые стихи школьницы Лены Захаровой в конце шестидесятых заметил и напечатал в газете Борис Марьев, поэт-романтик, непререкаемый авторитет и вождь поэтической молодёжи тех лет. Елена поступила в УРГУ, готовясь к журналистской деятельности, как наиболее подходящей к её гражданским устремлениям.
Будучи журналистом, она заочно закончила ещё и киноведческий факультет ВГИКа в Москве. С энтузиазмом пропагандировала киноискусство, печатала яркие кинообозрения и статьи, многочисленные рецензии, двадцать с лишним лет работала редактором свердловского телевидения. Но лирическое начало её души не остывало и тогда появлялись стихи, в которых чувствовалась добротная школа, где чувства не прячутся за кудрявые образы. Творческую атмосферу поддерживали и мудрые наставления её дяди, краеведа и писателя, Стефана Захарова и нравственные устои семьи.
«Мамин чёткий учительский почерк,
Букв отцовских стремительный бег
И такая любовь между строчек,
Что могла продолжаться весь век».
Русская поэтическая классика также «питает» её оптимизм. Идя по жизни «с открытым забралом», она готова доверить нам свои чувства. В парадоксальности её строк нет назойливой назидательности, её жизненный опыт предупреждает читателя.
«Привычны мне беды, я жду их прихода,
Меня не обманет успех,
А счастье меняется, словно погода:
То солнце, то дождик, то снег».
Елена Захарова по-рыцарски добра и открыта людям и они тянутся к ней.
«Я хочу защищать, утешать,
Пробуждать, ободрять в час печали
И не только другого понять,
Я хочу чтоб меня понимали.
Чтобы жизнь моя грела, как печь,
И к ней жались усталые люди,
И звучала негромкая речь,
Вытекая из пасмурных буден.»
К афористичности и логичности её манеры, порой примешиваются навыки мгновенного отклика на волнующие события, но зато стихи эти и точнее прорисовывают характер, дают возможность ощутить ритмы времени и достоверность чувств автора.
Думаю, читатель с интересом прочтёт эту книгу.

ЮРИЙ КОНЕЦКИЙ.
поэт, член Союза Писателей России,
академик Академии поэзии.
2013
1 часть. Уральский магнетизм

Магнетизм уральских вершин
1
«Критика спит. Только этим можно объяснить, что крупные явления нашей литературы остаются незамеченными», — так писал Сергей Городецкий при появлении поэмы Есенина «Пугачев». К сожалению, современная нам литературная критика сон свой не прервала, что становится очевидным из-за ее молчания не только по поводу появления крупных лирических и эпических произведений, но и вокруг практического отсутствия их появления. Интерес к жареным фактам истории вытеснил сам историзм мышления из литературно-критических статей. А разве не интересно сопоста- вить появление тысячи поэм в послереволюционную эпоху, поэм, где авторы разного масштаба и уровня дарования от Блока и Маяковского до какого-нибудь Дорогойченко, украшавшего однообразный пейзаж по выражению великого современника, стремились сопоставлять свою судьбу с судьбой эпохи, и затянувшееся молчание современных нам поэтов? Причем молчание это растянулось на период, когда страна переживает один катаклизм за другим, кризис за кризисом, идет смена тысячелетних ориентиров и социальных традиций, эпохальная ломка границ, критериев, систем и одновременно простых человеческих судеб. Почему же поэты-эпики взяли и замолчали? Явление это, мне думается, все-таки далеко от гибели жанра. Периодически в истории литературы подобная ситуация повторяется. Еще Лермонтов в «Сказке для детей» сетовал:
«Промчался век эпических поэм,
И повести в стихах пришли в упадок…»
Тем более важно следить за тем, как этот потенциально богатый неиссякаемыми возможностями жанр проявляет себя сейчас, откуда пытается почерпнуть новые силы.
Замолчали, конечно, не все. И к этим одиночкам сейчас требуется особое, вдумчивое внимание. В отечественном кино в девяностые художественных значимых фильмов почти не появлялось, тогда кинокритики стали разворачивать дискуссии вокруг любой премьеры, вокруг каждой пусть слабой попытки прорыва. Все лучшие российские киноработы последних лет, завоевавшие длинный шлейф международных фестивальных наград, на мой взгляд, выросли на этой дискуссионной почве. В литературной критике по сей день подобная ситуация отсутствует. Обидно, что отсутствует она и в уральской литературной критике. А ведь именно здесь историко-эпическая тема имеет зримые корни не только в поэзии, но и в других искусствах. Можно вспомнить хотя бы творчество замечательного графика Спартака Киприна, в котором мы встречаем и Пугачева, и Разина — героев поэм Марьева и Конецкого, погружаемся во вроде бы дискомфортную, но полную ВРЕМЯ №6 (30) Информационно-просветительская газета 30 июня 2017 г. Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям МАГНЕТИЗМ УРАЛЬСКИХ ВЕРШИН человеческим теплом, почти уютную, обстановку рабочего барака, воспетую еще Татьяничевой и Ручьевым. Нет, к сожалению, уже ни самого художника, ни многих, чье творчество он мне напомнил. Например, поэта-эпика, написавшего замечательный «Уральский временник» — свод поэм, художественно осмысляющий всю историю нашего великого края, — Юрий Валерьевич Конецкий был руководителем одного из интереснейших поэтических семинаров в стране, на занятиях которого эпические традиции гражданственности прямо-таки витали в воздухе.
Не одинок он как автор значительных эпических произведений не только среди учеников.

В прекрасной, почти легендарной поэтической семье, состоявшей из трех поэтов: отец, мать и сын — Конецкий, Любовь Анатольевна Ладейщикова и московский поэт Арсений Юрьевич Конецкий — женщина-поэт сказала свое великолепное слово. Поэмы Ладейщиковой, написанные еще в юности, удостоились высокой оценки Людмилы Татьяничевой, замечательное эпическое начало поэзии которой так и не сумело найти выражение в крупномасштабных произведениях. Ладейщиковой же она тогда сказала: «Хорошо, что вы смолоду взялись за крупные формы… У вас сильный, узнаваемый голос, и я многого от вас жду».
Далее я буду рассматривать и особенности этих наших выдающихся поэтов-современников, и соотношение их творчества с предшественниками.
Поэма по-гречески означает «творение». То есть «Медный всадник» Пушкина по сути творение одного гения, посвященное творению другого. Я не пытаюсь сопоставлять масштабы поэтических дарований, поскольку Пушкин — гениальный первопроходец тех путей, по которым продолжают и сейчас идти поэты классической школы реализма, но, когда Конецкий пишет о создателе Царь-Вазы, бережно хранимой в Эрмитаже, тут тоже возникает перекличка разделенных временем дарований. Пространством времени, не ге- ографическим. Да и вся история по Конецкому — это творческое переосмысление одним талантом деятельности других. Они вместе создают Уральскую историю. В общем миротворчестве всего человечества поэма, по словам Блока, «переход от личного к общему». Первые поэмы — эпос Гомера, он предшествовал всем другим искусствам. Уральская школа поэзии имеет право на собственный голос во всей поэзии России.
Даже нелепая шуточка: «Ты что — с Урала?» — на чем, в общем-то, основана? Над чем смеетесь — над нераскрытым потенциалом по-былинному сильной личности? (Вспомним хотя бы Сашу с Уралмаша в исполнении великого Бориса Андреева в одном из лучших отечественных фильмов военной темы «Два бойца» режиссера Лукова).
Раскрывать этот потенциал и дарить его российской словесности — задача и уральской поэзии, и, к сожалению, еще не сложившейся у нас критической школы.
Поэтому, мне кажется, будет вполне уместно вернуться к рассмотрению тех традиций, которые здесь уже существуют, были утверждены замечательными первопроходцами уральской поэтической эпики — Ручьевым и Татьяничевой, потом по-разному, в зависимости от творческой индивидуальности, продолжены шестидесятниками, и ныне живущие в произведениях наших со- временников. Это тем более уместно, что когда-то именно Борис Ручьев и Людмила Татьяничева напутствовали Ладейщикову и Конецкого в начале пути в большую литературу, воспринимая эту молодую чету не только как своих продолжателей и духовных наследников, но как две самостоятельные, независимые и непохожие ни на кого другого личности. Эту независимость и непохожесть Любовь Анатольевна и Юрий Валерьевич, так же, как и свой союз, проверили временем и сохранили на всю жизнь.
«Разница возрастов в иных случаях людей сближает, — так в цеховой бригаде интересы дела перевешивают все другие соображения, и старший по возрасту и опыту собригадник не то чтобы гнушается подсказать молодому парню, а наоборот, рад поделиться всеми знаниями и навыками, лишь бы дело хорошо спорилось,» — писал о своем учителе в поэзии уже маститый, отмеченный большим количеством всяческих премий, поэт Юрий Конецкий в статье «Уроки Ручьева».
©Елена Захарова
Социалистический романтизм Бориса Ручьева

Борис Александрович Ручьев (настоящая фамилия Кривощеков) — поэт, корнями связанный с уральским фольклором, народным творчеством. Отец поэта Александр Иванович был известным этнографом и фольклористом. Еще не осознав себя как поэт, Ручьев, по воспоминаниям его друга Михаила Люгарина, тянулся к поэзии именно тех современников, чье творчество несло в себе богатое лирическое, песенное начало — прекрасно знал Есенина, Уткина, Жарова, Исаковского. Люгарин вспоминает: «Мы сами подбирали мелодии к стихам и распевали их на все лады, бродя по улицам, уходя на луга, за реку.»
Словом в поэзию Ручьев вошел через песню и залихватская песенность эта, непонятно на какой мотив, но точно, что авторский, приближающий чужие стихи к собственному, самостоятельному мировосприятию, к личностному интуитивному чутью прекрасного, прошла потом через всю творческую его судьбу, начиная с того стихотворения, которое открывало первую поэтическую книжку «Вторая родина». Этим стартовым стихотворением было «Отход», окончательно определившее дальнейший выбор пути и отъезд поэта в город
«Прощевай, родная
зелень подорожная,
зори, приходящие
по ковшам озер,
золотые полосы
с недозрелой рожью,
друговой гармоники
песенный узор.»
Редактировали «Вторую родину» Эдуард Багрицкий и Алексей Сурков. Книга вышла одновременно и в Москве, и в Свердовске, вызвав внимание достаточно, видимо, чуткой к молодому таланту критики. Возможно такая всеобщая чуткость и в самом Борисе Александровиче зародила талантливого, судя по воспоминаниям Конецкого, просто гениального редактора. Позволю себе процитировать Юрия Валерьевича:
«… Борис Александрович начал «делать книгу».
Он брал листок с отпечатанным на машинке стихотворением и сосредоточенно прочитывал его, сухо пожевывая губами, и — либо складывал в аккуратную стопочку на столе справа, либо огорченно ронял с левой руки на ворсистый ковер, расстеленный на полу…
Разных редакторов я к тому времени уже повидал предостаточно. Газетные всегда выбирали из предложенных подборок самые слабые стихи, — у них было на это какое-то особенное чутье! — и печатали, похвалила: «Молодец, тему хорошую взял — о заводе!». Журнальные же редактора любили править строчки так неистово — особенно этим грешил заведующий отделом поэзии в «Урале» седовласый поэт-фронтовик Леонид Шкавро, — что когда искромсанные ими и еле узнаваемые самими авторами стихотворения появлялись в печати, хотелось вырвать эти страницы изо всех экземпляров выпущенного тиража и на пушечный выстрел никогда больше не подходить к журнальному порогу.
Но такой добросердечной редакторской работы я, разумеется, никогда еще не видывал, и ошарашенно следил, как очередной лист либо падал под ноги неподкупного составителя, либо пополнял тощую пачку взыскательно отобранных «шедевров».
«Держи, — через час он удовлетворенно протянул одобренную им пачечку стихотворений, — вот только главному редактору записку черкну… А это г…, — он кивнул на листы, разбросанные по ковру, — не стоит и поднимать».
Я еще буду говорить об этих не пропавших даром уроках и для творчества редактируемого тогда Ручьевым молодого поэта и для тех, кого этот ученик, превратившись уже в мастера, ведет сегодня за собой как педагог. Одно скажу, изучая редакторское мастерство и как журналист, и как выпускница Всесоюзного Государственного института кинематографии по специальности киновед-редактор, я такого восторженного описания редакторской работы не встречала, Ручьева мне знать не довелось, но в том, что описывает Конецкий, угадывается нечто фольклорно-могучее, когда герой то ли пашню поднимает, осторожно, бережно — не повредить бы всходы и сорняков случайных не пропустить, то ли песню поет.
«Сколько слов упущено по ветру
Не таких, что песнями звучат».
(«Биография песни»)
Почти в каждом стихотворении Ручьева тема песни, само это слово становится критерием искренности поэта, цельности его характера, правомерности тех или иных исторических событий.
«Потому сегодня
музыки вдосталь,
золото и солнце…
День — хорош!
Потому сегодня
очень просто,
Молодость почуешь,
да и запоешь.»
(«Ровесники получают премии». )
Песни эти, несмотря на русскую народную стихию, — почти серенады, так адресно они направлены, можно сказать диалогичны (не у Ручьева ли позднее переймет эту диалогичность Борис Марьев). Процитированное стихотворение посвящено знатному бригадиру Магнитостроя Егору Строеву. «Слово мастеру Джемсу» — это открытый разговор с американским коммунистом, мастером Джемсом, приехавшим работать на стройку молодого советского государства.
«Не беда, что говорим мы розно,
переводчик наш поет в груди —
человек я малый, но серьезный, —
ты за мною сердцем последи.»
И, наконец, одно из лучших произведений Ручьева допоэмного времени — «Стихи первому другу — Михаилу Люгарину», окрашенные романтикой крепкой мужской дружбы, одной из магистральных тем в творчестве Ручьева.
«Ты о первой родине
песню начинаешь,
и зовут той песней —
крепче во сто крат —
пашни, да покосы,
да вся даль родная,
да озер язевых
зорная икра,
да девчата в шалях,
снежком припорошенных,
озими колхозной
ядреные ростки.
И не бьется в сердце
ни одна горошина
давней, доморощенной,
избяной тоски.
…Ты о нашем городе
песню затеваешь,
и зовется в песне
родиной второй,
нас с тобой на подвиг
срочно вызывая,
до последней гайки
наш Магнитострой.
Может, послабее,
может, чуть покрепче,
я пою о том же…
И — навеселе,
как родня — в обнимку
на одном наречье,
ходят наши песни по своей земле.»
Была еще «Песня о брезентовой палатке» — нехитром обиталище истории…
Так песенное начало, прошедшее через все творчество поэта неизбежно врывается в мир его поэм, начиная с первой поэмы — «Песни о страданиях подруги», становится неизбежной их составляющей. Когда началась война репрессированный поэт находился в таежном Оймяконе, где после тушения лесного пожара оказался на больничной койке.
Появилась нечаянная возможность вернуться к творчеству. Ручьев, переживая общую для всего народа трагедию нашествия, пишет поэму «Невидимка», где нарастает его эпическое мастерство, но эпосу опять- таки помогает песня, она протестно рвется из глубины души, овевает партизанские подвиги.
«А уж ноченька — то ночь, —
никому заснуть невмочь —
Захромали наши кони,
немцами подкованы,
все российские гармони
арестованы…
Вот и дожили, друзья,
до седого волоса,
даже песни спеть нельзя
вполуголоса..
Уж ты, сад, ты, мой сад,
невеселый ты, мой сад,
на дубах твоих столетних
братовья мои висят!
Разожгли фашисты печь,
автоматы сняли с плеч,
поселились гады в доме —
хозяевам негде лечь.
Сама сад я поливала
нынче видеть не могу,
сама домик наживала —
сама домик подожгу…»
«В гневе песней стала быль» — резюме Ручьева из той же поэмы, переполненной яростью к захватчикам.
Поэма «Невидимка» стала для автора школой эпики. Но патриотический порыв Ручьева здесь опирается все-таки на общий народный и песенный опыт. Это героическая фантазия, рисующая гиперболизированный образ сопротивления, личного, пережитого на собственном опыте здесь нет. Фатально роковым образом сложились обстоятельства, что такой патриот, как Ручьев на фронте не был. Но лирический герой цикла стихотворений «Красное солнышко» (1943 — 1956 годы) и поэмы «Прощание с юностью» (1943 — 1959) верит, что его работа «равна отвагой войне». Так сама эпоха сформировала масштаб мышления поэта, потребовала эпических форм, особого уровня гражданственности и суровой человечности.
Когда моего дядю, писателя Стефана Захарова, ответственного секретаря журнала «Урал», клуб имени Пилипенко, работавший при газете «На смену» под руководством Владимира Сибирева, пригласил на встречу, чтобы его участники — молодые поэты могли услышать воспоминания о Ручьеве, Стефан Антонович много рассказывал о преданности поэта своей юности и рабочей теме, обязательности во всех творческих делах журнала. Но помню, что одна будущая учительница все возмущалась, как же это Захаров не поинтересовался за что Ручьева посадили.
.– Тогда уже никто друг друга и не спрашивал, — к ее недоумению ответил дядя, — Все сидели за какую-нибудь ерунду.
Я-то знала, что Стефан Захаров сам был репрессирован, будучи студентом, учившимся бесплатно, когда правительство решило вводить плату за обучение, год перед войной отсидел как бы за участие в литературном кружке. Бабушке с большим трудом удалось добиться справедливости. Таким образом два бывших репрессированных хорошо понимали друг друга. Захаров относился к Ручьеву с большим уважением, иначе и выступления бы этого просто не было.
Ярость к внешним врагам сочетается с приятием собственной несправедливой судьбы, отсутствием ненависти к ней. Романтик–поэт «в пустыне, за полярною чертою» не утратил оптимизма. В поэме «Прощание с юностью» есть попытка осмыслить собственные начала, проверить правильность открытых за прожитые годы истин.
«Полярный ветер. Сопки голубые.
Тиха в снегах тайга.
Текли года.
Друзья меня, возможно, позабыли,
Но я не забывал их никогда».
И опять один из ориентиров судьбы — отношение к песне. Но… Если в начале поэмы мелькнула попытка отказаться от этой стихии (к месту ли?): «Отпела песни юность. Отмечталась…» — то в финале непреходящее торжествует.
«И враз поймем, что мы совсем не дети,
и наши раны пот соленый жжет,
и не было,
и нет
жар-птиц на свете —
есть наша воля
жить на полный взлет.
И мы — почти что веку одногодки —
про юность
песни вечные споем,
за юность нашу
выпьем доброй водки
в последний раз…
И чарки разобьем».
Постоянное соприсутствие песенности делает эпос Ручьева лирическим, но в то же время остается эпос эпосом. В нем даже можно заметить некие гомеровские черты, благодаря отчетливо выраженному мифологическому элементу, который привносит вторая постоянная фольклорная составляющая ручьевского творчества — сказка с ее метафоричностью и притчевой поучительностью.
Один из замечательных примеров сказочной ручьевской метафоры человек-медведь в «Красном солнышке». Автор постепенно раскрывает содержание этого загадочного, на первый взгляд, образа. Поначалу он пользуется почти театральным приемом отстранения, ссылаясь на источники не очень-то достоверные.
«По слухам, поднимаясь из берлоги
и не боясь в морозы околеть,
почти всю зиму бродит по дороге
страдающий бессонницей медведь».
Далее уточняется источник слухов, они подтверждаются внушающими доверие очевидцами, но история остается все такой же загадочной.
«Как будто бы туманными ночами,
в железный холод, в жгучую пургу
проездом шофера его встречали
на каменном застылом берегу.»
И вот уже возникает портрет этого сказочного героя во весь рост:
«Мохнатой лапой обметая плечи,
встав на дыбки,
сквозь вьюгу напролом
идет медведь совсем по-человечьи,
весь запорошен снежным серебром».
Естественно возникает вопрос: да медведь ли это? Может, нечистая сила какая.
«Пусть чудеса случаются на свете,
но я ручаюсь все-таки в одном:
в такую зиму кровные медведи —
по доброй воле — спят спокойным сном.
Любой из них и в мыслях не захочет
спускаться с гор к ночному рубежу».
И вот разгадка найдена. Автор и фантастический герой оказываются одним существом.
«По должности своей —
ночной обходчик,
здесь только я дорогу обхожу.
Большую шубу опоясав туже,
похожий на медведя в полумгле,
один я ночью мучаюсь на стуже
по заполярной, сказочной земле».
Дальнейшее повествование развивается, как мысленный разговор с любимой женщиной. Это экспрессивно сближает человека-медведя Ручьева с медведем, в которого преображается герой Маяковского в поэме «Про это». Но на эмоциональной насыщенности двух лирических мужских образов сходство между ними заканчивается. У Маяковского медвежистость — одна из граней характера, так проявляется страсть, распаленная ревностью. Для Ручьева суровая роль медведя — это достойная мужская обязанность, долг перед всей Родиной, а, значит, и перед нежно любимой подругой.
«И разве, полуночнику такому,
мне может быть отказано судьбой
курить махорку, тосковать по дому.
за тыщи верст беседовать с тобой,
угадывать восходы по приметам,
назло пурге сыграть вперегонки,
сесть на снегу и видеть до рассвета
далеких глаз родные огоньки?
И все-таки не чувствовать обиды
за дикий свой, смешной, медвежий вид,
при жизни мы, порой меняя виды,
все так живем, как Родина велит.
…Она приучит к радостям и бедам,
сама одежду выдаст по плечу,
она прикажет —
и живу медведем,
она велит —
и соколом взлечу».
У Ручьева в творчестве соприсутствуют как образы чисто сказочные, так и те, что типологически уходят к мифу и воплощают его в условиях новой эпохи. Зачастую же одно просто перерастает в другое. Так это в стихотворении «Звезды падают дождем», написанном еще в 1934 году, когда и сам поэт, и его друзья действительно осознавали себя чудотворцами — хозяевами своей страны и собственного счастья. Тогда еще не было осознанной дисциплины, было чувство равновеликости с молодым веком, творимым собственными богатырскими силами.
«Где ты шел, сибирский леший,
через мир и через гром
по дороженькам нездешним
с колдованным топором?
Ждал тебя я год и месяц
В наши горные края…»
Четкое указание времени ожидания тоже часто присутствует в сказках.
«…и поверил: спета песня
соколиная твоя.
Вечер был. Сверкали звезды,
И стоял товарищ мой
чернобровый, грандиозный,
бородатый и прямой.
Он сказал: — Под небом синим
шел любою стороной,
нету города в России
не построенного мной».
Вот такой прорыв от мира колдованного к миру грандиозному, один из примеров ручьевского гиперболизма, неизменного для его поэзии. Интересно, что образ вольного сокола, смело парящего над русскими просторами, взятый как антитеза в стихотворении о медведе, здесь соприсутствует тоже, как вполне сказочный.
«Его называли «рабочим поэтом», всегда выпячивая первое слово, но весь-то секрет его и состоял, что он был именно Поэтом, и только жил и писал в такое трудное время, которое барским не назовешь.
«Красным солнышком душу пронес» — говорил Ручьев не только о себе, но о каждом из своего героического и трагического поколения», — пишет о своем учителе Юрий Конецкий. «Красное солнышко» — такой привычный для сказки образ! Да и «Невидимка» тоже ведь наделен типично сказочной неуязвимостью, неуловим, невидим.
Сказка, как и песня, с детства не отпускала поэта, только укреплялась в его мировоззрении как ключ к поэтическому познанию мира, самостоятельному освоению его. Открыто говорит Ручьев об этом в поэме «Прощание с юностью», где он переосмысливал свою жизнь с точки зрения взрослого, но не предавшего своих истоков человека.
«Рожденный при царе, крещен в купели
в дому столетних прадедов своих,
где входят в кровь, как воздух,
с колыбели
желания, повадки, сказки их,
где по ночам — мы жались первым страхом —
выл домовой, яга стучалась в дом,
змей пролетал над крышей и с размаху
хлестал по окнам огненным хвостом;
где нам, мальчишкам, бабки нагадали:
по золотым жар-птицыным следам
за самым верным счастьем мчаться в дали,
к премудрым людям, к дивным городам».
Также, как позднее Юрий Конецкий, Ручьев шел к своим лиро-эпическим вершинам через ряд стихотворений балладного характера: «История орла, скалы и речки», «Свидание», «Проводы Валентины», «Парень из тайги»…И он к своим вершинам пришел. Пожалуй, главное достижение поэта — его поэма «Любава». В ней ощутимо влияние традиции романтических поэм, о которых писал В. М. Жирмунский:
«Поэт выделяет художественно эффектные вершины действия, которые могут быть замкнуты в картине или сцене, моменты наивысшего драматического напряжения… Объединяются общей эмоциональной окраской, одинаковым лирическим тоном, господствующим в поэме — и в описательных ее частях, и в рассказе, и в действии.»
В «Любаве» современный ему героизм и столкновение эпох Ручьев не просто показывает через драматическую любовную коллизию — особенность метода поэта дала возможность на почве, вроде бы далекой от открытой сказочности, в реальной строящейся России через повседневное, неухоженное бытие прорасти вечному мифу.
Вспомните «Иллиаду» Гомера! И кто теперь докажет, что боги не вмешивались в непосредственный ход сражений, если слепой певец это зафиксировал? Не гомеровским ли участливым богом, немножко — только с другой целью — перехватившим функции «невидимки», предстает в поэме «Любава» нарком Серго Орджоникидзе?
«Будто б раз перед самым рассветом,
приглушив от волненья буры,
горняки его видели летом
на крутых горизонтах горы.
А под осень — на тропах плотины,
по приметам действительно он,
с бригадиром одним беспартийным
полчаса толковал про бетон.
По сугробным, невидимым тропам,
поздним вечером, в лютый буран
он зашел на часок к землекопам
в освещенный костром котлован.
…И по компасу путь выбирая,
шел пешком через ямы и тьму
к первым стройкам переднего края,
лишь по картам знакомым ему».
Тема прекрасного города, его строительства, как решающего исторического события, которая проходит через все ручьевское творчество, здесь получает свое высшее выражение. В «Любаве», по-моему ее носителем и пропагандистом очень ярко написанным стал одноногий служитель загса, инвалид в шлеме со звездой. (Тоже неведомо откуда вылез не то из сказки, не то из мифа какого-то.)
«Сами гляньте, что долы, что горы,
где ни ступишь — то вал, то окоп…
Вроде город наш
вовсе не город,
а насквозь — мировой Перекоп!»
И вот конфликт — выбор души между городом-мечтой и вполне созревшей «царь-девицей» из байки ребячьей» — Любавой. Скажите, а вам это противостояние случайно не напоминает разрушение Трои из-за красоты Елены? Но здесь красота великого будущего города побеждает силу женской красоты.
И опять не могу не процитировать Конецкого: «Поэзию Ручьева я полюбил с ранней юности, ценил его поэму „Любава“ за выписанные рукой зрелого мастера характеры и краски, за убедительную интонацию и емкий, саморазвивающийся сюжет. И за музыку стиха. Убери ее — останется великолепная повесть, но исчезнет то волшебство поэзии, которая, обогащая души, таинственно вводит в наш обиход потаенные ритмы глубинной гармонии и добра, недоступные обыденной прозе.»
Конецкий же в беседе со мной назвал «Любаву» отложенной поэмой. То есть типичный сюжет тридцатых годов разрабатывался Ручьевым многие годы спустя с 1958 по 1962 годы и, благодаря такой большой временной паузе, приобрел дополнительный объем дыхания и полноту осмысления.
Я с упоением впервые читала стихи Ручьева в городе, полностью объявленном всесоюзной комсомольской стройкой — Аркалыке. Такая акция — не завод, не отдельный объект — целый город строился трудом энтузиастов, ну и, конечно, заключенных. Местный казахский театр — целый курс выпускников ГИТИСа, да и нас, журналистов, выпускников крупных университетов по распределению за романтикой сюда приехало достаточно. Помню, как гордились, что именно здесь, в районе Аркалыка — так звали тот областной центр — в казахской степи садятся космонавты.
Это уже потом мы выяснили, что у города нет перспектив для развития, рудник, возле которого его построили быстро исчерпал себя. Вскоре он областным центром быть перестал, превратился в поселок, а недавно выяснилось: в городе-мечте больше нет населения, он стал необитаемым. А вот Ручьева я опять перечитываю. И, мне кажется, пафос его поэзии не устареет никогда.
Жизнь меняется, но опыт не просто поколений, а вот таких замечательных дарований неисчерпаем, он питает, делает богаче силы молодых. Каким тружеником был Ручьев на Магнитострое (пришлось работать и плотником, и бетонщиком), как доблестно трудился на Севере в годы войны, забывая о собственной несвободе, таким же тружеником был он и в поэзии.
Конецкий пишет: «Секретов мастерства он не скрывал: « И план был, и вдохновение было, а многие страницы я сначала писал прозой, а потом уже только зарифмовывал». Мне поэм, в те годы еще не писавшему, дико было слышать о каком-то плане, но ведь многотысячестрочная поэма единым махом, с наскоку — теперь-то я знаю! — ни в жизни не напишется. Это тебе не лирическое стихотворение в шестнадцать строчек!»
Ручьев был счастливым человеком — творцом, полным оптимизма. Он умел дружить и, наверное, потому легко находил общий язык с молодежью, что сам обладал молодой энергетикой, которая легко читается в его стихах. Другой его ученик и соратник Конецкого и Ладейщиковой в шестидесятых годах, а мой педагог и наставник — поэт Борис Марьев, которому я также посвящаю в своей книге отдельную главу, описал это взаимодействие в своих стихах «Памяти Бориса Ручьева».
«У Кремля,
На Софийской набережной,
Меж поэтов
Он был — как бог,
И глядел я
Почти что набожно
На его седину
и батог.
Он меня
Среди молодежи
Обнаружил сам —
за версту,
И на лике его
Обмороженном
Было что-то от тундры в цвету…
Остальное — в каком-то мареве.
Был доклад. Содоклад. Буфет..
— А читали вы
Борьку Марьева?! —
Грянул он на весь каьинет.
И ко мне на плечо,
Безжалостный,
Как в присяге,
С размаху лег
То ли посох его
Державинский,
То ль колымский его батог…
….Как мы пили с Ручьевым!
Спорили!..
Был он ровней со мною —
с юнцом…
Нас паскуды какие-то ссорили.
Разве можно
Поссорить
С отцом?!»
Фигура самого Ручьева приобретает здесь прямо-таки библейскую мифологичность. Марьев, рисуя его как Бога, практически композиционно развивает сюжет 4 строфы 22 псалма: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.» Стихотворение Марьева завершается так:
«Спит поэт, землекоп и философ,
Хоть в Магнитке —
не пухом земля…
Заведу я
ко времени
Посох —
Наподобье его костыля.
Перед тем,
как лечь
По соседству,
Ту —
ручьевскую —
Благодать
Передам я другим…
По наследству…
Только было б
Кому
Передать!»
Даже, если допустить, что это мое сопоставление с библейским текстом несколько привязанное, нет на свете ничего случайного. Посох этот был, видимо, абсолютно органичен, как последний дополнительный штрих к незабываемому портрету этого деятельного по-державински государственника в уральской поэзии. Как я уже писала, не одному Марьеву он указывал им путь в поэзии. Обратимся снова к вполне реалистическим воспоминаниям прямо по-сыновьи преданного памяти Ручьева Конецкого. Я все время надеюсь, что его живые записи станут когда-нибудь основой воспоминаний о судьбах его поколения шестидесятников и тех, кто это поколение за собой вели. Сам Юрий Валерьевич называет себя в творчестве прямым наследником классической советской традиции тридцатых годов, не только Ручьева, но и Корнилова, лауреатом премии которого он является. Вернемся сейчас к моменту первой встречи Конецкого с героем этой моей главы.
«Весной 1969 года в гудящем молодыми голосами холле московской гостиницы «Юность» кто-то из челябинских поэтов по праву земляка — то ли Саша Куницын, то ли Слава Богданов — познакомил меня с Борисом Александровичем Ручьевым, который переложив натруженную палочку — батожок из одной руки в другую, неторопливо протянул мне свою доброжелательную ладонь.
— Неровно работаешь, — сказал он хрипловатым голосом вместо приветствия, — стихи пишешь крепкие, настоящие, да вдруг — слабинка…
Оказывается, на У всесоюзном совещании молодых писателей, которое наутро открывалось тут же, в конференц-зале гостиницы, меня определили в семинар к Ручьеву, и он, как заинтересованный руководитель, с пристрастием уже успел прочесть мою рукопись..»
Я бы назвала метод Ручьева методом социалистического романтизма, в начале века, правда, чаще в театре такие определения были в ходу. Известны «романтический классицизм» Сумбатова-Южина, «фантастический реализм» Вахтангова… Социализм, как творческая идея, дал в его поэзии щедрые всходы именно на почве романтической души автора, его незаурядной героической биографии. Наверное, поэтому и тянуло к нему последующие литературные поколения, что мальчишки, да тем более поэты всегда ищут героев, ориентируются на настоящие мужские характеры, которым весомость создает внутренняя сила личности. Такой характер и был у Бориса Александровича. Но, если в романтических поэмах, возникших на развалинах просвещения по словам Вяземского: «неволя была, кажется, музою-вдохновительницей нашего времени», кстати и современник из советской эпохи — Борис Пастернак говорил, что ему для творчества нужна некоторая несвобода, то романтическая поэзия Бориса Ручьева порождает прежде всего свободой, просто дышит ею, ею наполнена. И в первую очередь это свобода труда. Даже в заключении Ручьев не осознает свой труд как каторжный — работает от души, не жалея себя.
Человек-«гайка» стал в постперестроечной России пугающим символом обезличивания. Что «гайка» -то «великой спайки» об этом забыто напрочь. Для героя Ручьева труд — не только форма самовыражения, это еще и счастье товарищества. Лучше ли нашему современнику, когда он чувствует себя не гайкой, а пешкой в руках босса. Даже психологи в прессе успокаивают читателя: если у вас на службе начались сокращения, больше и лучше работать не надо, ваш руководитель для себя уже все решил и выстроил собственную схему — кого убрать, а кого пока оставить.
Невольно позавидуешь Ручьеву, который говорил о себе и своих единомышленниках: «Мы были романтиками и мечтателями — первые строители и поэты 30-х годов „Магнитостроя“. Суровые будни строительства мы озаряли своей юношеской мечтой и фантазией».
Создается впечатление, что каждое время жестоко по-своему. Я бы назвала годы, в которые мы теперь живем, эпохой всеобщей невостребованности. Поэтов, к сожалению, это коснулось одних из первых. Поэтому эту свою главу мне хочется завершить словами из статьи Конецкого, написанного еще в 1998 году, также заключительными: «Когда мне порой невмоготу, до отчаяния трудно становится барахтаться в тяжелых и мутных водах моря житейского, передо мною встает мужественный образ Бориса Ручьева, и я говорю себе,
— Ему было еще труднее, а он не сдавался и всегда оставался настоящим русским поэтом.»
Думается, и в начале второго десятилетия двадцать первого века поддержка Ручьева нужна многим из нас не меньше.
©Елена Захарова
«Ненавижу куркулей!»
Поэт-публицист Борис Марьев
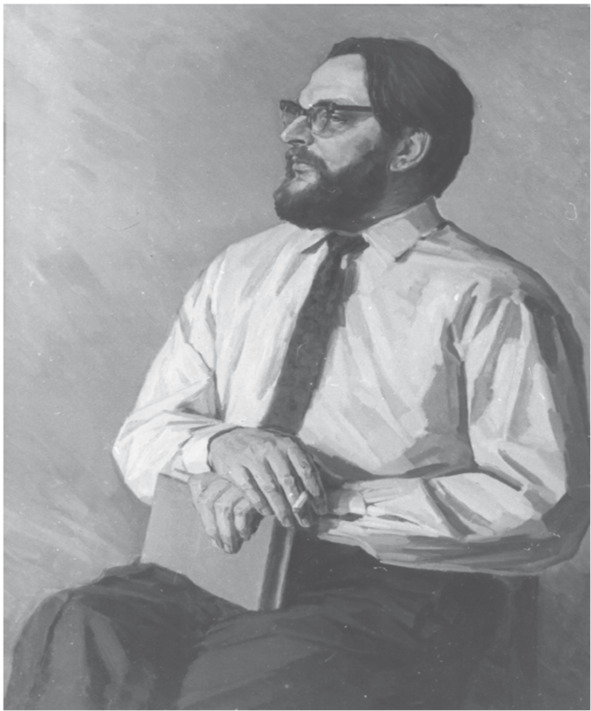
Когда мне было четырнадцать лет, я впервые заочно познакомилась с поэтом Борисом Михайловичем Марьевым, еще не читая его стихов. Впервые подписавшись на областную молодежную газету «На смену!», я почувствовала большое доверие к ее литературной страничке и, положив в конверт четыре написанные от руки собственные стихотворения, отправила их по адресу редакции. Об этом не знали ни родные, ни друзья. И вдруг нежданно я увидела три из отосланных произведений, составившими целый чердак третьей полосы. Одобрительное вступление к стихам и было подписано Борисом Марьевым. В конце шестидесятых поэт подрабатывал литературным консультантом.
Благодаря этому случаю мое доверие к газете укрепилось и, возможно, что выбору моей профессии эта публикация тоже способствовала.
То, что именно с газетой для меня ассоциируется имя этого поэта символично. Именно с прессой Марьев был связан много лет, сотрудничал на заводском радио, был корреспондентом «Уральского рабочего» и «На смену», редактором Свердловской киностудии. Владимиру Дагурову он подарил сборник лирических репортажей с надписью: «Не суди строго — это журналистика.» Шли шестидесятые. Развитие журналистики и поэзии проходило параллельно, мысли и приемы их пересекались, образуя некий невиданный сплав, получивший позднее загадочное название кентавристики. У поэзии Марьева и лучшей публицистики тех лет задача была общей — не просто отобразить жизнь, а сделать ее лучше. Читателю следовало объяснить, что плохо, что хорошо, — некое нравственное просветительство. Что на Земле, где по законам эволюции любая стабильность прерывиста, рай не достижим, — тогда не казалось аксиомой и никого не останавливало, потому, может быть, что в рай никто и не верил, да и в коммунизм, как в нечто устоявшееся, тоже не все. А вот в то, что от твоего творчества души прозреют, бюрократы устыдятся, моральные ценности окажутся весомее материальных — в это верили. Поэтому и шли не только в журналистику, но и в другие романтические профессии. Думаете, наивно и недостижимо? Но почему тогда совсем не в пору социалистического реализма устыдившийся прототип Митрофанушки превращался ценой деятельного самосовершенствования в президента Академии художеств Оленина, а влияние драматургии Александра Островского на русское купечество имело прямо-таки педагогическое воздействие.
Конечно, для исполнения такой миссии, как исправление нравов, надо было обладать страстным темпераментом. У Бориса Марьева он был.
«Живем мы яростно и нервно,
Но век-то все-таки таков,
Что всюду медленно и верно
Мы вытесняем дураков».
Но публицистичность поэзии, увы, загоняет ее в узкие временные рамки. Так стихи о дураках были опубликованы в те годы, когда жесткая дисциплина насаждаемая исполнительными дураками сменилась личными интересами и профессиональной безответственностью хитроумных чиновников периода застоя. В те годы я слышала марьевские строки из уст несостоявшегося воротилы, пытавшегося одурачить честного исполнителя, все-таки в последнюю минуту попытавшегося схватить распоясавшегося авантюриста за руку. Тогда из уст мошенника они звучали не только как самозащита, но и как вызов. Менялись акценты, потому что менялось время. Продолжалась эволюция общества. Учась на факультете журналистики, где Марьев преподавал античную литературу, мы в начале семидесятых овладевали прежде всего аналитическими жанрами, готовясь к работе в толстых журналах, однако, подобные материалы и в областной прессе были не редки. Девальвации журналистики в целом, а тем более крепкой уральской газетной школы предсказать никто не мог. Не думал об этом и Марьев.
И все-таки не «из реки по имени факт», как современные представители СМИ, черпал свой оптимизм уральский поэт. Поверхностная газетная конкретика зачастую ему мешала и в этом причина неудач поэтических репортажей. При больших эпических возможностях в лучших произведениях Марьева на первый план всегда выходила лирика. Лирики тогда были в почете и в журналистике. На журфаке нас учили, чтобы сделать свое газетное повествование доходчивым для читателя, начинать в черновике, как в личном письме, с обращения — «Здравствуй, дорогая мама!» как бы именно близкому человеку обо всем рассказывая. Естественно в готовом материале эти слова отбрасывались.
Среди уральских поэтов, обращающихся к эпическим темам, Марьев вслед за Борисом Ручьевым и в большей степени, чем Татьяничева, представляет линию лирического эпоса.
Замечу, что хотя никому не дано предугадать, как отзовется то или иное слово, сказанное поэтом, но искреннее участие Марьева в творчестве молодых, его вера в будущее перенесли часть его творческой энергии в последующие поколения.
«Первым настоящим поэтом похвалившим мои отроческие стихи стал Борис Марьев», — вспоминает Любовь Ладейщикова.
И сама она, и другие поэты-сверстники Тамара Чунина, Альфред Гольд, Юрий Лобанцев, Вячеслав Терентьев, Владимир Кочкаренко, Герман Дробиз — все это индивидуальности, далекие от подражательства, самостоятельные, часто не согласные ни со своим былым старшим наставником, ни между собой, но сила в них общая. Когда-то присутствие в поэзии Марьева эту силу подпитывало.
«Своей эрудицией, смелостью суждений Марьев формировал нашу поэтическую культуру», — пишет Владимир Дагуров.
И все-таки, если говорить именно о поэтической судьбе самого Марьева — утверждаю: Марьев не устарел! Он не в прошлом, он в будущем. Его историзм — историзм культурологический, а не документальный. Да, вот здесь упомянут Ленин, тут Дзержинский, а положительным героем выведен Пугачев, если разобраться, фигура также весьма противоречивая. Но, постойте, Ленин-то экранный, Дзержинский с портрета, да и Пугачев, возможно, написан под влиянием пушкинской прозы. Вот такая мифологизация. Не далеко отходящая, кстати, от взглядов современных искусствоведов. Лев Аннинский тоже не раз писал о том, что в кинематографе шестидесятых обращение к образу Ленина было попыткой противопоставить сложившейся бюрократической системе живой, творческий подход к созданию государственного устройства.
«И нет для нас дороже счастья,
Чем в нем угадывать себя».
Таким же счастьем было для зрителей на спектакле Марка Захарова «Красные кони на синей траве» наблюдать, как не загримированный Олег Янковский играет вождя революции. Сенсацией казалось в эпоху позднего Брежнева видеть Ленина без картавости, лысины, бородки клинышком, а просто как молодого и мыслящего главу государства. Маска падала — оставалась личность. Не слишком ли смело?
«Все в мире куплено ценой
Сгорающих сердец».
Жизнь на гребне эмоций, на грани возможностей, думалось, что только такой метод существования может способствовать тем самым изменениям к лучшему, ради которых живет человек. Марьеву хочется заглянуть в глаза своим персонажам. « И в глазах у человека — синева, синева у человека на душе.» «С горечью гляжу в твои глаза, я-то знаю цену этой муки». «Ходят женщины с усталыми глазами, необласканные ходят по земле» Четкие, звучные, часто неожиданные рифмы Марьева («без грусти — по-русски», «утра — пестра», «нетерпеливой — крапивой», «мглисто — материнство») создают впечатление постоянно слышимого между строк сердечного ритма поэта.
Иногда этот ритм прерывается наболевшими и уже неизбежными риторическими вопросами:
«Как делают историю?»
«Кто вам сказал, что жалость унижает?
Кто выдумал, что нежность все простит?»
«А вы, друзья? Все зелены пока?
Поете песни? Пьете по чуланам?
Задумки разбросав по чемоданам,
валяете, как прежде, дурака?»
«Но, мальчик, что значит «эго»,
если оно лишь остров?
Но, Гамлет, что стоит слава,
когда уже был Шекспир?»
«Скажите, вам понятен Гамлет?»
Такое впечатление, что поэт постоянно находится в диалоге со своим читателем, большое количество обращений это подтверждает:
«Полюби меня, буфетчица Тамара!
Выдай койку мне, товарищ комендант!»
«Мои родные! Как же вы достойны
здоровья, счастья, солнца, красоты…»
Или даже:
«О, время! Ты сбиваешь спесь!»
«Здравствуй, тополь!»
Деревья вообще среди самых любимых героев Марьева. Они наши предшественники на земле, товарищи, которые дышат с нами одним воздухом, и берегут его для нас. Экологическая тема прорывается у поэта еще в те годы: «Исправляйте, граждане, климат! Берегите, граждане, лес!» Это и пушкинская традиция. Когда в Михайловском друзья были далеко, Александр Сергеевич дружил с деревьями, многие из них помнил, посвящал им свои лирические строки.
Поэзия Марьева — эпос шестидесятых с их страстным желанием улучшить мир. Кроме поэм вся его поэзия читается как единый цикл на одном дыхании написанный, где нельзя остановить ни одно мгновение, потому что следующее должно, просто обязано быть еще прекраснее. В том же ключе и с тем же пафосом написана его «Баллада о своей улице».
«Враз не выхлестнешь алчность,
Как грыжу,
Эту преданность
Не людям —
Вещам.
Ненавижу его, ненавижу
Многоликое сословье мещан!
И, теперь разносолов тех отведав,
Понимая, где деготь, а где мед,
Я опять живу на улице поэтов,
Что за Ленинской сразу идет!
Тут тебе и космодром,
и бараки,
И гармошка, и раскат соловья
Ну а споры, так зато, брат, без драки,
Потому что все поэты — семья!
Ну а если безденежье случается,
Мы и песнями утешим жену…
Пусть иные, бездомовные, печалятся —
На своей, товарищ, улице живу!»
Тут фактически через запятую перечислены многие темы стихов Марьева. (Вспоминаются «Моей жене», «Визит вежливости», «Моя тема». ) Что важно для авторского мировоззрения — улица Поэтов не стоит на месте, но идет вслед за Ленинской, то есть дело революции должно продолжаться именно собратьями Марьева по перу. Теперь улучшить мир призваны именно они. Лишь по истечении лет, мы, читатели, видим, что все-таки в этих стихах время высветлено, выхвачено из потока на том этапе, где космодром и барак соседствуют между собой, и что тогда казалось само собой разумеющимся.
И все же «Баллада» программнее и глубже для автора, чем открытый пафос ее завершающий. Важнее здесь тема как раз не своей судьбы, которой живет человек внешне благополучный, вроде бы всего достигший в жизни. Отсюда центральный образ не своей улицы.
«И сбылась, представь себе, та задуминка:
Почернел мой старикан от трудов,
Но светился его домик — как изюминка —
Меж лабазов да резных теремов.
Ну а вышло, хоть село и не столица,
Оказался он ну как бы за чертой;
Ни купчишки, ни поп, ни полиция
Не якшаются с былой голотой.
Да и прежние соседи-приятели,
Работящей окраины краса,
Хоть здоровались, а все навроде прятали,
Уводили смущенные глаза.»
Трудяга-кузнец, герой «Баллады», осуществил мечту своей жизни — нажил и капитал, и дом честным трудом, а вот уважения, о каком мечталось, и в помине нет.
Поэт — материалист и марксист, как это вообще зачастую свойственно истинным поэтам, договаривается до вечной христианской прописи: жизнь без любви — это жизнь без Бога, никакой благодати в ней нет и быть не может. Да Марьев и сам об этом говорит, пусть другими словами:
«…как бы ни жил ты заботой всемирной,
Сердце знает свою улицу Любви,
Есть она в твоей громаде стоквартирной:
Лишь по имени знакомых назови».
Читаю и думаю — люди изменились теперь к худшему, утерял Марьев актуальность. А потом огнем обжигает щеки, вспоминаю множество совсем недавних примеров. Среди них — похороны старой учительницы с пятидесятилетним стажем. Так получилось, что смерть пришла внезапно, лишних денег дома не было — всего две тысячи. Остальное и на похороны, и на поминки моментально принесли ученики, товарищи по работе, друзья дома. На своей улице, выходит, жила эта учительница.
Притча, от которой отталкивается Марьев, касается одной из главных в его творчестве тем: соответствие внешнего и внутреннего. Та жизнь, которой человек живет в реальности, исходя из законов здравого смысла, и та, которой жаждет душа этого человека, совпадают не всегда.
Наиболее свободен в своем жизненном выборе человек, который гоняет голубей. Он на высоте и в реальном мире, где «переизбран этой осенью в завком», и в том, где ему еще далеко не сорок, а «все мальчишки с широко открытым ртом обожающе глядят на чудака». Эти два его мира оказались вполне совместимы.
Гораздо труднее крановщице Зинке («За глухим забором»). Это стихотворение верный показатель, что поэзия Марьева все-таки намного превышала его журналистские возможности. Создавая это ярко самобытное свое произведений поэт как будто работал над одним из модных тогда очерков на морально-нравственную тему, не давая покоя реальной героине, достаточно бесцеремонно вмешиваясь в ее жизнь и жизнь ее ближайшего окружения, организовывал, например, собрание, даже не одно (по устным воспоминаниям современников).
«…снова на бюро райкома
О тебе поставили вопрос.»
Свято верил поэт в возможности и право советской прессы решать судьбу отдельного человека. Ну и что? Ничего из этого не получилось. Зинаида из семьи так и не ушла, да и не собиралась. Видно, не все человеческие моменты были учтены публицистом Марьевым даже при такой его активной партийной позиции. А вот стихи получились прекрасные. Недаром в уже цитируемом мной стихотворении «Памяти Бориса Ручьева» поэт предается трогательным воспоминаниям:
«Вы
Стоградусный спирт
Не пробовали?
Попадали
под горный обвал?
…Леонид Сергеевич Соболев —
Сам генсек —
Мою «Зинку» читал!
Со слезою читал —
с платочком,
Добрым носом
Водя по строчкам…»
В поэзии же важна не конкретная, единичная Зинка, а то художественное обобщение, до которого сумел додуматься через ее судьбу автор, то, как сумел развить навеянную полифонией жизни непростую тему. И это Борису Михайловичу удалось.
Начинается поэтическое повествование широко, с народным песенным размахом, который наверняка не мог не порадовать Ручьева. Настолько емких, насыщенных строф не так много не только у Марьева, вообще в современной ему поэзии.
«Ах, какую девку загубили!
Ох, как били каблуками в пол!
Ядовитой браги наварили
И неделю плакали и пили,
Голосили: «Го-орько!», гомонили
И, напившись, падали под стол».
Вроде бы все ловко сладилось для забеременевшей крановщицы, от которой отказался любимый человек, все реалии убедительно выстроились, срифмовались в своей конкретности, как в марьевских стихах. Выдали Зинку замуж
«За вдовца, за собственную хату,
За корову в рубленом хлеву;
За перину, жирную зарплату,
За цепного сторожа Мулата,
За гусей в невыкошенном рву.»
Марьева и как журналиста, и как поэта возмущает, что теперь еще одна душа обречена на жизнь без любви. Гнев автора нарастает в отрывистых неполных предложениях: «Выдали. Отдали. Окрутили.» А дальше прорывается обычное для Марьева желание прямого общения со своим персонажем: «Где ты, Зинка, Зинка — Огонек?» Двойственность ситуации он пытается передать через лаконичную антитезу: «Стережет добро Мулат от вора, иль тебя от воли стережет?»
У Зинки была в уральской поэзии предшественница — Любка из «Песни о страданиях подруги» Бориса Ручьева. Но если у Ручьева, кроме переживаний брошенной героини, — это еще и переживания ее товарищей по бригаде, мальчишек, впервые ощутивших отцовскую ответственность, то романтик Марьев видит перед собой только Зинку (а ведь, наверное, и для вдовца, взявшего подобно святому Иосифу на себя заботу о матери и ребенке, чьим отцом являться не мог, произошел момент сложного нравственного выбора, не замеченного поэтом). Но для читателей все-таки тоже важно, что главную ношу выбора судьбы автор возлагает на самого человека. Марьев хочет подтолкнуть и Зинку, и читателей в личных вопросах к самостоятельному решению, к независимой позиции, но при этом просто убежден, что без его вмешательства не разберутся.
«Знаю, Зинка, ты еще не веришь
В правду светлых и крутых дорог».
Создается впечатление что внутренний, пусть и задорный, но вполне земной мир крановщицы он пытается наполнить собственной поэтичностью, перенеся ее в женский вариант судьбы.
«И сомненья к черту отметая,
Ты уйдешь в сиянии огней,
Гордая,
красивая,
святая
В материнской прелести своей».
И все-таки замечательно, что в стихотворении этом выбор остается за самой Зинкой, а финал открытым. Путь человека по Марьеву всегда многовариантен, как многовариантна в своем развитии любая личность. И здесь, конечно, он прав.
В каждом человеке много всего намешано. Сам Марьев тоже не был исключением. Он ведь мог так и не пройти путь от шпаненыша, до университетского преподавателя. Способность самому делать выбор и потом нести за него ответственность — качество в глазах поэта самое ценное.
«Налево — смерть.
В полон возьмут — направо.
А прямо — быть без славы и коня.»
И богатырь застыл в тревожных травах,
Копье над вещим камнем наклоня.
Но это миг.
Вперед!
За честью бранной!
Лишь вздрогнет степь,
лишь ветры впереди…
Чего бояться?!
Верен конь буланый,
И меч остер,
и мужество в груди.
Есть жалкие сомненья: «Ну, куда мне?
Да разве смочь? Не справлюсь
хоть умри…»
Иные
век
стоят над этим камнем,
А посмотреть на них —
богатыри!»
Найти собственное решение, понять себя может помочь взгляд со стороны. В стихотворении «Я работал в угрозыске» милиционер и бывший правонарушитель, пообщавшись друг с другом, лучше вникают в собственную ситуацию. Что сближает их? Да любовь к работе, трудоголизм своего рода.
Художник Григорий Нечеухин, в те годы сосед Марьева по коммуналке, вспоминает: «Этот, визовский период жизни оперуполномоченного уголовного розыска Бориса Михайловича Марьева был еще и периодом его становления как поэта. Писал он много, увлеченно. Часто засиживался за полночь. Мог в 2 часа ночи зайти ко мне и прочитать только что написанное. (Я тоже не привык ложиться рано.) Однажды он прочитал мне стихотворение «Шаляпин». Это было настолько здорово, что я невольно воскликнул: «Когда же ты бросишь бегать за шпаной с наганом и займешься только литературой?!»
Особенность же творческого пути Марьева как раз и состояла в том, что в своем желании сделать жизнь лучше, он чувствовал — одной литературы мало, нужна более широкая деятельность. Сам когда-то будучи уличным мальчишкой, он теперь верой и правдой принадлежал шестидесятым с их огромной верой в успешность перевоспитания человеческой личности. Уверенность эта прочитывалась тогда везде, включая, по мнению Льва Анненского даже экранизацию толстовского романа «Воскресение». Так что Марьев свято верил в свою непоэтическую часть работы и с энтузиазмом ей занимался. Но иногда и его энтузиазм давал сбой.
«… И бывало, ночами,
Стуча у виска,
Наплывало отчаянье,
Леденила тоска.
От жулья, потаскушек,
Матюгов
и невзгод
Я сбегал тогда —
слушать,
Как дышит завод,
Как клокочут мартены,
Как в дождь и туман
Пролетариев смена
Спешит по домам».
Поэт прекрасно владеет звукописью стиха. «Богатырь… в тревожных травах» — тревога ощущается в самом подборе согласных. Рокочущее «р» вообще для Марьева характерно, но не везде оно несет такую яркую смысловую нагрузку. В стихотворении об угрозыске хамски гогочущее «г» «От… матюгов и невзгод я сбегал» переходит в глубокое дыхание огромного заводского организма — «слышать, как дышит» («ш — ш»), переходящее в звуки, напоминающие те, что вырываются из жерла вулкана: «как клокочут мартены».
И далее:
«Нет наград драгоценней,
Чем ночной разговор:
О литье.
о процентах
Говорил бывший вор…
Я открыл ему двери,
В телефоны оря,
В человека поверил,
И, как видно, не зря!
Эх, утешил Андрюша».
Мне не кажется, что риторичность Марьева может помешать сегодня восприятию его творчества. Он не только с бывшим уголовником Андрюшей, но и с сегодняшними старшеклассниками, крутыми и продвинутыми, ухитряется быть на равном. Говорю как бывший школьный библиотекарь, они его легко запоминают и охотно цитируют, если, конечно, удается привлечь внимание к томику поэта. В шестидесятые же, когда гражданственность просто бурлила, казалось, что если Гамлет (кстати, один из персонажей Марьева) с экрана спрашивает «Быть иль не быть?», то обращается он непосредственно к тебе. Поэтому и Марьева большое количество риторических вопросов монологичным не делают. Его лирический герой, как я уже подчеркивала, живет в постоянном диалоге и с персонажами, и с читателем, сам развиваясь и меняясь в этом общении. В этом постоянном разговоре по душам проявляется и темперамент поэта, и его напористость, и подчас парадоксальность. Вот и в стихотворении про угрозыск мы чувствуем и одержимость работой оперуполномоченного Марьева, и его умение выслушать другого, и формирование собственного жизненного опыта.
На недавнем юбилее поэта как-то сам собой всплыл вопрос: а Марьев кто — диссидент или марксист? Находили доказательства и того, и другого. Думается, что вопрос этот связан с противоречиями марьевской натуры, а, следовательно, и творчества. Увлеченный современностью как оголтелый романтик Марьев не избегал ее разноплановости, многосоставности, в нем нарастал диалектик, но особого хода поэт ему не давал, поскольку цель марьевского творчества была другая — поэтическими средствами овладеть жизнью и, вызвав горячий отклик читателей, преобразовать ее. Марьев был готов раскручивать мир, как матрешку, раскрывать его содержание до последней составляющей, до первоосновы. Особая зрячесть была дана ему на это.
«Спят малыши в колясках,
В коконе шелк листка,
В синих апрельских кляксах
Завтрашняя река,
Жаркое пламя — в спичке,
В черной земле — хлеба,
В юношеской привычке —
Будущая судьба…»
(«Зрячесть.»)
«А в этом парне — Несмеяна.»
(«Музыка»)
«Как радиоприемник, в полусне
Щебечет что-то
поутру во мне.»
(«Счастливый день». )
И сама коммунистическая идея предстает у Марьева зачастую как часть общей гуманитарной культуры своего века, таится внутри ее.
«…От подонков, глядящих барами,
От неведомых ей грехов, —
Убегала
женщина
к Байрону:
Наизусть три тыщи стихов!
Сколько строф
без бумаги выточено
В перекурах
меж зуботычинами?
Ей в бараке шипели: «Дура»,
Вся шпана хохотала всласть,
Но жила в ней,
жила Культура,
Коммунизм,
Советская власть!»
(«Баллада о переводчице»)
Впоследствии поэт-мыслитель Юрий Лобанцев будет писать, что вечно славит «тяжесть кулака, который сжат во имя права думать.» Марьев же изображение самого себя в момент разговора с ненавистными его духу мещанами избирает в качестве аналогичной метафоры: «Я вежлив, я вежливее кулака, вспотевшего в грубой перчатке боксера». Но, что характерно, разговор-то все-таки продолжает. Как будто, если рядом нет умного собеседника, то и с дураками надо научиться разговаривать — нехитрая школа марьевской дипломатии. Правда, наука эта, по Марьеву же, малополезная, потому что суть человека рано или поздно должна обнаружить себя, раскрыться, прорвать все оболочки даже самые уютные и, может быть, до некоторых пор спасительные.
«Нам всем когда-то сделались тесны
И дедов дом и бабушкины сказки».
Вот в чем особенность великолепной поэмы Марьева «Пугачевщина», что это именно его авторское прочтение человеческой и народной истории. Не стихия масс, как у Василия Каменского, не трагизм предательства, как у Есенина, — главное в этой поэме. Самое главное человек, уже по праву ли, но осознающий себя фигурой исторической, в момент личного выбора. Выбором между жизнью во лжи, без любви и личным земным счастьем без лишних амбиций. И в то же время между героической гибелью за други своя и предательством товарищей во имя личного благополучия. Выхода практически нет. Любой выбор чреват изменой себе. Но Пугачев поступает, пожалуй, так, как поступил бы на его месте сам поэт, для которого всегда была важна суть затаенного. Пугачев не отказывается от любви, но затаивает ее в себе, продолжая с ней жить. И все же, как вождь народного восстания, он отказывается от всего земного и человеческого, как бы на себе самом себе ставя точку.
«…По щеке рябой и смуглой —
Чугунная слеза,
И потухли, словно угли,
Государевы глаза.
В тех очах, уже не зрячих,
Хутор светится казачий…
Тихий Дон… Утиный плесн…
Песня, песня — до небес!
Сенокос и новолунье,
И шелковая коса…
Соня, Софушка, певунья,
Станишная краса!
…Государь в лице усох,
Слезы капают с усов,
И язык у государя
Непослушен, как засов.
— Ой, робяты! Ваш родитель
Нонче в горести, как пес!
Подымите, отведите
Эту женщину в обоз.
Ей на выбор распахните
Крышки царских сундуков,
Златом — серебром дарите,
И платков, и жемчугов…
Ей от горького недуга
Шубу жалую с плеча!
То вдова. Моева. Друга.
Омельяна Пугача…»
Нелегко далось народному вождю его решение, даже сама его речь затруднена. (Марьев использует четыре неполных предложения.)
Видимо, коллизия выбора между верностью любви и верностью идее постоянно волновала поэта. В других реалиях этот выбор предстает в стихотворении «Из жизни Маркса». Поводом к его сюжету послужило то, что Марьев изложил в прозаической преамбуле: «В труднейшую для него пору Карл Маркс отказался от кафедры в Прусском императорском университете».
«Долг у портного, долг у мясника,
А дети Маркса спят на раскладушках.
…И все-таки
ни с чем послы уйдут
Из этих стен,
где только книг навалом:
Маркс был отцом,
Умел ценить уют…
Но он был
очень
занят
«Капиталом».
И все же Карл Маркс в своем выборе лицо частное. Выбор же Пугачева диктуется его общественной миссией и той ролью, которая ему эта миссия навязывает.
«А кругом — глаза косые.
Бесприютные. Босые.
Рвань. Верблюжие горбы..
Яик,
Азия,
Россия
Ждут решения судьбы.»
«- А мы, демидовские холопы,
натерпелись на сто лет,
Натерпелись на сто лет, терпежу теперя нет.»
И, хотя те же страдальцы провозглашают: «Режь боярина да барина — воронам на обед!», в известном пушкинском определении — « русский бунт, бессмысленный и беспощадный» Марьев делает акцент именно на первом слове –«русский». «Омелюшке, Омеле», хитроумно манипулирующему мнением толпы, где одни считают: «Нам што Петр, што Емельян, лишь бы не было дворян», а другие — «Ну ты, паря, это зря: как же можно без царя?», противостоят управители России, которые не способны на важный для Марьева диалог с народом, но просто еле-еле говорят по-русски.
«Над Казанью трезвон.
Дым?
День?
Полночь?
Лупит князя гарнизон:
— Сдай ключ, сволочь!
С четырех сторон пожар,
Князь перчаточку прижал:
— Каспада, мне отшен жаль,
Я ф печали,
Губернатор убежаль
В кремль с ключами…
…Князь — петля через плечо,
А не кается:
— Зо Эмилий Пугачофф,
Зо не кайзер!
Зо не цар! Вы понималь…»
Вот каково противостояние: народ, жаждущий отмщения и желающий, чтобы с ним говорили на понятном ему родном языке против изолированных, обособленных представителей власти. Выступление Пугачева обречено потому, что на лжи построено.
Ассоциацию уже с другим временем — революцией 17-го года, вызывают две строчки: «Отвяжись — худая жись, вдарь прикладом!» Первая часть этого выражения среди стариков еще недавно было в ходу, да и приклад как-то больше сопоставим с оружием двадцатого века: ружьем, пулеметом. Колокольный звон открывает поэму — звук походной трубы ее завершает. Борьба не закончена.

Под колокольный, завывающий звон разбушевавшейся зимней стихии проходят перед нами все события поэмы о голодном и бездомном военном детстве «Вьюга». Сюжет ее напоминает подетально выписанный киносценарий. Один крупный план здесь сменяет другой, каждый конфликт перерастает в последующий. Устами погибающего ребенка поэма обвиняет сытых и равнодушных. Что тот несчастный ребенок и сам взрослый лирический герой одно и то же лицо становится ясно только в самом конце поэмы.
«…Был долгий сон.
Менялись даты,
Крутился кинопленкой век,
Пока проснулся
бородатый,
Суровый,
взрослый человек, —
Другой — по имени, по званью,
В других заботах и словах,
И только
теми же слезами
Алёшкин сон стоит в глазах».
Последняя, завершающая строка поэмы как бы подводит черту, категорически декларируя авторскую позицию: «И ненавижу куркулей».
Вернемся, однако, к тексту поэмы, погрузимся в него. Мы еще не знакомы с ее героями, но Марьев уже открывает перед нами географию того трагического детства. Повинуясь марьевскому мастерству реальность здесь плещет через край.
Первое место пересечения пространства и времени :
«Вокзалы. Хмурые вокзалы,
С угарным запахом угля,
С громадами брони и пушек,
Плывущих мимо без конца,
С ругней и топотом теплушек —
Под хромку пьяного слепца;
С крестом войны на каждой раме,
С тяжелым взглядом патрулей,
С полузнакомыми ворами
И сквозняками площадей…»
«Сквозняк площадей» сразу напоминает о хронотопе площади, по Бахтину связанном с гражданственной тематикой. У Марьева этот образ работает в том же контексте.
«И пламенем, святым и чистым,
Венчая дымную броню,
Повсюду лозунг — «Смерть фашистам!» —
Врывался клятвой в жизнь мою».
Второе пространство — время поэмы, параллельное первому, враждебно ему, как враждебно ребенку — герою поэтического повествования Марьева.
«Базары… Шумные базары,
Где давка, брань и кулаки,
Где в общей куче самовары,
Учебники и сапоги,
Где над вещами — овощами,
Поверх бумажников лихих
Расселись местные мещане…
Я молча ненавидел их!»
И вот мы знакомимся с главным героем, с таким, каким он хочет выглядеть в собственных глазах, хотя вся суть характера остается не видимой, а затаенной.
«Я независимо и гордо
Смотрел с босяцкой высоты
На их облупленные морды
И величавые зады.
Заросший, грязный и голодный,
Мечтающий о теплоте,
Я шел надменно и свободно
В сквозном детдомовском «клифте».
Но весь этот пижонский, независимый антураж растает перед первой же горькой обидой, нанесенной в воровской «веселой квартире» незадачливому жулику.
«Я вспомнил в горестной истоме
О них, умерших стариках,
О тишине в их теплом доме».
(Вот откуда изначальная тоска о теплоте, дом-то, где жила родная семья, был теплым.)
«…О хрупких маминых руках,
О папке — в траурной каемке
Он улыбался над столом, —
О Нинке — стриженой сестренке;
Ее увез другой детдом…
О Марь Васильевне и даже
О Женьке, что средь бела дня
Украл часы… а в этой краже
Все заподозрили меня».
Честный изначально парнишка оказывается не способен жить по законам воровского мира.
«То ль хватки не было известной
В одиннадцать сиротских лет,
То ль жил во мне — работай честно! —
Посмертный дедовский завет?..»
А рядом второй по значимости, психологически вырисованный Марьевым персонаж — «залетный вор» Петька Грач, совсем не такой простой, как кажется изначально. «Он был удачлив и красив». Бывало и попадало от него Лешке (так назвал Марьев своего лирического героя) под горячую, пьяную руку и выглядел он в Лешкиных глазах неуязвимым, взрослым, цинично стараясь ввести его в дело. Но и Петька Грач — дитя войны. И Лешка был не далек от такой судьбы. Марьев и здесь старается заглянуть поглубже.
«О вы, недетские дороги!
О память, ты во мне жива!
Из-под полы, как из берлоги,
Я слышу Петькины слова:
— Прости, Алеш… Не буду драться!
Я ж понимаю — сирота.
Пацан… А мне уже семнадцать,
Да толку нету ни черта…
Вот погоди — заломим дело:
Махнем куда-нибудь в Ташкент,
В костюм тебя одену, в белый,
Шикарно вырядишься, шкет!
Учиться будешь… Я уж рядом —
Устроюсь на любой завод,
Я ж слесарь пятого разряда,
Вот трудовой недостает».
Вот такая смесь идеалов Остапа Бендера и бывшего вора Андрюши из стихотворения «Я работал в Угрозыске», а главное — искренняя привязанность старшего к младшему, желание опекать менее приспособленного к жизни, чем ты сам, может быть, немного похожего на того, каким ты был когда-то.
Но нет ничего более постоянного, чем временное. Блатная жизнь засосала Петьку и попал он не в Ташкент, а в тюрьму.
Оба мальчишки выписаны достоверно реалистически, но есть в поэме два образа, построенные по принципам типажности и не более. Это два антагониста по своей сути: боец, похожий на Тараса Бульбу, за которым Лешка готов бежать на фронт, и торговец Сима, чуть было не прикончивший замерзающего паренька.
Старшина нарисован по плакатному: «Он встал, огромный, угловатый, поправив орден на груди!», за таким, начавшим с незнакомым мальчишкой доверительный, человеческий разговор, действительно хочется идти на подвиг.
«Я всей душой рванулся следом,
Крича за поездом в бреду:
— Эй, дядька! Я к тебе приеду!
Ты слышишь! Я тебя найду!»
Симу же Марьев обрисовал приемами карикатуриста:
«…Дымится пирогами плошка —
От масла, сволочи, скворчат!
Сидит живот на сытых ножках,
С лимонным ликом на плечах.»
И далее:
«…Лимон
становится
Томатом.
Взлетел, как бомба!
И навзрыд
Заголосил истошным матом:
— Куда милиция глядит?!»
Засилье таких, как Сима кажется одинокому путнику непробиваемым даже в военное лихолетье. «Заборы! Чертовы заборы вдруг вырастали впереди!»
«И я побрел, трясясь от дрожи, —
Мороз крепчал, сводил с ума,
И были призрачно похожи
Все эти низкие дома.
У всех забиты ставни плотно,
Забор с колючкой наверху,
И из-под каждой подворотни
Собаки рявкали в пургу».
Противовесом царству глухих заборов в поэме встает образ народа, традиционный для русской литературы. Особенность здесь только в том, что здесь он выстрадан ребенком. До сих пор встают вопросы, полемически заострены дискуссии: что за общность — народ, стоит ли верить в народ, чего-то ждать от народа. Если бы вера в народ подвергалась сомнению в годы войны, вряд ли бы войну выиграли
«О человеческое горе!
Тревоги. Беженцы. Мешки.
Фанерный Гитлер на заборе.
На карте черные флажки.
И репродукторы, бушуя,
Будили скорбную страну
Железной песней, про большую
И про свинцовую войну.
И вторил им невыносимый,
Невыразимый бабий вой
Над всей обугленной Россией,
Над всей Россией кочевой.
И вот — из грохота и гама,
Из пекла схваток и трудов —
Судьба устами Левитана
Читала список городов,
Которые сегодня взяли…
Или отдали в свой черед.
И в те минуты на вокзале
Молчала не толпа — народ!
…Народ трехжильный, семикожный
Что строить, что окопы рыть.
Народ, который невозможно
Ни обмануть, ни победить!»
Что же такое война для маленького героя Марьева? Это унизительная битва за выживание, битва за выживание, битва с ровесниками, также, как он сам, кормившимися наемным трудом, в частности переносом чемоданов для пассажиров с ночного поезда, вынужденная конкуренция за общий источник питания, за возможность честно работать.
«Окружены шальной оравой,
Мы подали друг другу пять,
И молча ели снег кровавый
Не в силах на ногах стоять.
Проходят годы, и, однако,
Ночами долгими без сна
Я вспоминаю эту драку
При страшном имени — «Война»
Своеобразная метафора человеческих судеб вынужденных противников на войне. Была бы такая возможность — не дрались бы никогда.
Антивоенный пафос поэмы сливался с пафосом ненависти к равнодушным, которым ни детское, ни общечеловеческое горе ничего не значит. Две эти разные темы здесь оказываются созвучными.
Своеобразие художественного стиля поэта проявляется не только в центральных для его творчества крупных эпических произведениях. Незабываема поэзия Марьева. В целом благодаря своеобразию, непохожести, хотя и оставалась в контексте всей современной русской поэзии, была откликом на основные сдвиги в панораме общества.
Палитра красок, диапазон интонаций, которыми пользуется Марьев как талантливый собеседник и рассказчик, весьма широки. Поэт может парадоксально перевернуть любую ситуацию, приведя к результату почти комическому Делает это он не для собственной забавы, а для того, чтобы обескуражить читателя, увести от ложных схем, заставить вновь думать самому. Беззлобно-насмешливо, с юмором он выстраивает свод житейских наставлений для девушек: «Не любите, девушки, поэтов, все поэты, что тетерева…» и завершает советом совершенно противоположным: «Не воруйте, девушки, поэтов, пожалейте, девушки, подруг!» На принципе иронического снижения интонации в стихотворении «Трамвай» он заявляет: «Поэты творцы всевозможного чуда, за исключением денег!» Иногда способом создания иронического акцента становится использование повседневной разговорной кальки, штампа, часто употребляемого расхожего выражения, типа сегодняшнего: «А то!» « Да! Я узнал, как пишутся стихи, но мне с тех пор от этого не легче!» В таких ситуациях на помощь поэту, видимо, приходит спасительная отрезвляющая ирония.
«Убедительно, строго, ласково
Сам себе говорю: «Держись!»
И –по методу Станиславского —
С облаков опускаюсь в жизнь».
Но финал творческой судьбы сорокатрехлетнего поэта был далек от «хэппи энда» возможность необходимого Марьеву диалога с миром уменьшилась, сама марьевская вселенная сузилась от дружбы со всеми до круга близких душ. Что же произошло? Изменилось время. Но большой поэт не может легко меняться в угоду политике государства. Как писал Михаил Светлов: «Я сам лучше брошусь под паровоз, чем брошу на рельсы героя.» Пока хватает сил, поэт будет протестовать протестовать против механической смены рельс, ломки судеб, попавших под колесо истории. Когда протест уже станет бесполезным, наступает трагическая развязка — любая: дуэль, самоубийство, смерть от накопившихся за все годы борьбы недугов. У Марьева, который, как и его любимый поэт Маяковский, был «сплошное сердце», как раз сердце и подвело. Наверное, немалую роль здесь сыграл разгром клуба имени Пилипенко, лидером которого он был. Разгрому этому Марьев противостоять не сумел, да особо и не попытался, видел — время меняется невозвратимо. И неожиданно, как его собственный персонаж, поэт оказался не на своей улице. Правда, преподавал античную литературу, пробовал увлечься эстетикой, но прежнего горения уже не было. Да и не мог он себе его позволить. Времени оставалось все меньше.
Сначала ему, видимо, казалось, что ограничения свободы не коснутся кипения самой народной жизни, что разные чиновничьи ухищрения не пройдут проверки временем и обнаружат свою несостоятельность, как возводимая совсем недавно в научный культ теория Лысенко, опиравшегося на эксперименты энтузиаста Мичурина. Поэтому такое задорное и оптимистическое стихотворение о садовниках, можно сказать, прямо продолжающее стихотворение о повсеместном вытеснении дураков:
«Садовники, уж эти мне садовники!
Обриты тополя, как уголовники.
От лязга ножниц ежится июль:
— Под нуль его, кудрявого! Под нуль!..
…Торопятся садовники бессонные
Мичуринские видеть чудеса,
А рядом, за казенными газонами,
Гудят в полнеба вольные леса,
Поют дрозды,
Листва сквозная светится,
Порхают в солнце бабочки с утра,
Уж если здесь сосна с осиной встретятся,
Так накрепко,
Навек
Без топора»
Но вот прошло немного времени и поэт явственно чувствует: победа не на его стороне. Появляется венок сонетов «Дело о соловьях» — на первый взгляд трагедия разбитой любви двух зрелых людей. У нее — ребенок, у него — жена, их разлучило общественное мнение. Все так просто, даже банально. Мелодрама, одним словом! Но стоит прочесть повнимательнее и поймете, что отношения двоих — прежде всего метафора крушения надежд шестидесятников на торжество любви в мире, населенном родственными душами. Начинается венок сонетов характерным для Марьева риторическим вопросом: «Зачем гремели соловьи ночами?»
Птицы эти устойчиво, наряду с деревьями, входят в контекст марьевского творчества.
«- Как пишут стих?
— Так соловей поет».
Это одна из моделей поэтического творчества, просматриваемая автором («Как пишут стихи.»). Но, если там Марьев эту модель отбрасывает, поднимаясь до высшей требовательности к себе: стихи надо писать кровью, — то в стихотворении «Соловей» крылатый певец становится своеобразным двойником поэта. Смысл соловьиной песни над кладбищем, когда певец «горячим (характерный для Марьева эпитет) ртом расколол студеный воздух», говорит сам за себя.
«Ах, не верьте этой смерти,
Если розы завились,
Если там, на парапете
Снова двое обнялись,
Если радуется ветер,
Если празднуется жизнь!»
И тут со своей песней вступает сам поэт.
«Ах, соловушка-разбойник,
Я от зависти горю —
Я поэт, а не покойник:
Я уверовал в зарю!
Я и сам молчал до срока
Над курганами бумаг,
Я и сам летал высоко
Над ловушками деляг…
…Понимаю! Понимаю!
Все, как надо, принимаю,
Верю собственным крылам.
Только ветер! Только поле!
Только песня! Только воля!
Только
сердце
пополам».
Словом Марьев говорил соловью, а вместе с ним жизни и поэзии: «Верю!» В «Деле о соловьях» больше никакой уверенности нет. Его лирический персонаж рефлексирует и уже в первой фразе «Зачем гремели соловьи ночами?» зашифровано сомнение и в смысле жизни, и в призвании поэта. Мироощущение поколения, а не только этих влюбленных обобщено в поэме и вылилось в двух афористичных по-марьевски строчках.
«Мы солнца и весны не замечали:
Мы сами были солнцем и весной».
Я провела эксперимент. Из действительно трагической истории разлученных, самой судьбой, казалось, друг другу предназначенных (нет повести печальнее на свете) я извлекла те емкие строчки, которые представляют воочию кризис лучших представителей поколения. Вот, что получилось:
«Жестокий мир! Мы рождены врачами:
Лечить тебя от злобы и тоски!
Ты лезешь в душу ржавыми ключами,
Ты сединою нам солишь виски.
Мы стиснуты молвою и толпою:
Ее законов — не перешагнуть!
Чужие взгляды нам пронзают грудь.
Чужие мы. Идем тропой чужою.
Все, что боятся называть судьбою,
Сбывалось в срок, не удивляя нас;
Казалось — мы учавстуем с тобою
В нелепом фильме, виденном не раз.
Мы отступали, отдавая с боем
За пядью пядь, — и прежний пыл не гас.
Но даже нашей близости запоем…
Не оправдать похмелья горький час».
Кстати, «запой» в поэме — это целительная для души выпивка в дружеской компании, не только близость с возлюбленной.
«Что чудилось в закатах и рассветах
Я отыскать на свете не сумел.
Но я — искал! Восторжен и несмел,
Ни у кого не спрашивал совета!
Я детского не выполнил обета,
И сердце душит тайная броня.
За всех живых — живое хороня,
Идти вперед — старинный долг поэта.
Как пережить мне этот подлый час?
Я в первый раз не поднимаю глаз,
И в первый раз тоскую о причале.
О ветер странствий! Дай тебя обнять!
Зачем гремели соловьи ночами?»
Вот здесь, на мой взгляд, истинное, трагическое завершение венка сонетов, развязка скрытого его содержания, глубокий марьевский шифр. Что именно в глубине строк надо искать подлинный, заложенный автором смысл мне подсказывает некая необязательность содержания последнего, обобщающего сонета, далекого от обычных афористических концовок поэта. Краткая его схема: мы друг друга любили (перечень деталей окружающей среды — соловьи, цветущая черемуха, трамвай, летящий в суету, телефонные разговоры) ну, а вспомнится что плохое, «вино погасит сердца маету». Даже здесь в таком успокоительном контексте строчка звучит самоубийственно для певца «сгорающих сердец». Но мы все знали — «знали цену горя и любви», то есть опыт нас обогатил. Думается, генеральная мысль поэмы не в этом и венок сонетов был нужен Марьеву не для самовыражения, а для тонкой маскировки подлинной трагедии изящной и редко тогда используемой формой.
«И может быть, — не мне судить об этом, —
Я сам тебя придумал и воспел?..
И пусть мой стих неровен, скороспел,
Его я написал не для эстета».
Как видите, эстетика, по которой позднее Марьев будет писать диссертацию, не виделась ему единственной счастливой гаванью. Здесь поэт приближается скорее к героям, которых блистательно в конце застоя стал воплощать на экране опять-таки Олег Янковский, — рефлексирующие интеллигенты гамлетовского типа, зачастую ощущающие себя лишними для своего времени.
У Марьева тоже есть свой Гамлет. И финальные строки посвященного ему стихотворения перекликаются с подлинным выводом автора в «Деле о соловьях».
«О, сколько надо сжечь и выместь,
Забыть и правил и сердец,
Чтоб детской правды нетерпимость
В нас победила наконец!»
Почему же тогда поэт не выразил свою мысль прямо, наотмашь, как обычно. Марьев прекрасно понимает, что перспектива окончательной победы добра и установления власти негласного правительства поэтов становится весьма туманной и хотя знает, подобно горьковскому буревестнику, что «за тучами солнце есть», но уже замечает, что апрель в календаре не вечен, его неизбежно сменяют более поздние месяцы.
«О время!
Ты сбиваешь спесь!
Как прежде, недругам прощаю,
Но — принимаю все, как есть,
И — ничего не обещаю».
Одним из самых «политических» стихотворений позднего мудрого Бориса Михайловича Марьева мне кажется стихотворение «Над жгучим, тяжелым, сияющим полднем». В виде метафоры — сухой грозы, когда вся природа ждет влаги, поэт изобразил период оттепели, поманившей пустыми надеждами на творческую свободу. Но очередной виток истории полностью скрыт за метафорой — стихи как будто только о природе. А поскольку в истории похожие периоды повторяются с предустановленной регулярностью, то стихи эти вне времени, их можно отнести как к «дней александровых прекрасному началу», так и к совсем недавно прокатившейся по стране перестройке.
«Столбами ходила над спутанной рожью,
Швыряла огнями, слепя и гудя,
А все оказалось дешевкой и ложью:
Грозе одного не хватало —
Дождя!
Ушла.
Отгремела.
Пропала навовсе,
Бенгальские искры теряя в пути, —
Напрасно сухие, как спички, колосья
Молили — Останься!
Молили — Приди!
Я знаю:
Земля стиснет зубы плотнее
И выждет.
Барометр пойдет на низы,
Но нет ничего тяжелее,
Подлее
Вот этой сухой
Бутафорской грозы!»
Предчувствием этих сердца горестных замет Бориса Марьева был в 60—66 годах другой венок сонетов — «Баланс». В нем я также вижу ключ к «Делу о соловьях». «Баланс» прямо выражает разочарование поэта в собственных силах, в жизни, даже в материалистическом мировоззрении. То, что в жизни теперь ничего светлого, — «материи и этого не впервой», но страшно, что «мы собственной души не сберегли».
Между первой строкой «Дело о соловьях» — «Зачем гремели соловьи ночами?» и первой строкой «Баланса»: «Зачем я жил? Что толку вам в стихах?» можно попросту поставить знак равенства. Это тот же самый риторический вопрос, только не спрятанный за метафорой. Далее еще один окончательно связующий оба венка образ: «но горло соловья сгорало в трели».
«Но горло соловья сгорало в трели,
Но правда подступала точно нож,
Мы больше не хотели, не умели
Вздымать отлакированную ложь!
Мы шли в крови. Мы о свободе пели.
А в дверь стучали, нагоняя дрожь…
И высились особняки вельмож
Покуда танки факелами тлели».
…«Казалось — ни оков, ни дураков», — иронизирует поэт над собственными иллюзиями. Такой прилив горечи испытывает он при переходе оттепели к застою, в разгар холодной войны, но многие фантастические тогда предвидения оказались сегодняшней реальностью.
«Все кибернетика! Надавишь, чик-чирик:
Нос в табаке, брижжиточка в постели,
А лозунгов — мол, дух в здоровом теле —
Тебе машина нарифмует вмиг!»
«Какая скука! Где мои потомки?
Мои друзья? Мне душу рвут подонки.»
«Рекламы. Небоскребы. Но близка
К черте стомегатонная тоска.»
И о любви даже здесь как-то более открыто, обреченно.
«Любимые! Простите! Не сбывалось.
Все слишком продавалось, предавалось,
Все было не до слез, не до красы, —
Но в Час Печали вы — всего дороже!
О, как прильнула к сыну Матерь Божья;
Клубится пропасть атомной грозы…»
И здесь тоже появляется один из лирических двойников поэта — Гамлет.
«А где-то Гамлет: «Умереть?
Забыться?»
О наважденье: погибая, слиться
С потомком откровением идей…
Брось, Гамлет! Ничего не повторится,
Лишь эта ночь — кошмара ледяней».
И сам себя поэт уже ощущает лишним на этой, потерявшей душу, земле, отсюда, наверное, последняя, почти дословная онегинская фраза из знаменитого оперного либретто: «О страшный жребий мой, не связан я ни с кем живою ниткой.»
Продолжения быть не может, даже если физически человечество уцелеет, потому что погибла душа и, значит, преемственности уже не будет. Поэт пожизненно ненавидевший куркулей, приходит к выводу, что алчность непобедима.
Да, это было не столь долгое помрачение, стихи потом опять стали и спокойнее, и оптимистичнее. Но ответственность и боль за все невзгоды мира, неблагополучного, негармоничного, ничего хорошего не обещающего впереди, пессимистический «Баланс» в Марьеве не усыпил — обострил. «Балансом» он переболел. Это стало частью его диалектики, допускающей и тот поворот событий, который предполагал этот венок.
«Мой стих «гуманен», как психобольница,
Отсюда лишь стихи, как перископ —
Способны до тебя, сынок, пробиться!..»
Опасность уничтожения планеты, деградации культуры, прекращения гуманистического общения и т. д. — все это и сейчас через марьевский перископ отчетливо просматривается.
Так устарел Марьев или нет? Способна ли вообще устареть настоящая поэзия? Что пользы нам в стихах и, в конце концов, зачем гремели ночами те самые соловьи?
Помню, в семидесятилетие Марьева говорили о том, что читать его молодые не станут, ловили поэта на политической наивности. А в семидесятипятилетие говорили о том, что не так прост был Борис Михайлович, очень многое соединял в себе, многое сказал совершенно по-своему, неповторимо, даже если брал темы, на которые писали другие, и все радовались новому изданию его стихов.
«Хорошо, что закончилась пора часто очень злобного критиканства по отношению к прошлому нашей страны, ничего не имеющего с подлинным стремлением извлечь уроки истории. Вот и к шестидесятым годам новое (да и старое!) поколение хочет приглядеться попристальнее,» — пишет по этому поводу газета «Уральский рабочий» (Юлия Матафонова «Сердце его горело», 13 мая 2009 г.)
И все-таки, Борис Марьев — не прошлое, хоть и любимое. Он — «н.з.» энергии и бойцовских сил для тех, кто готов не затоптать, а нести дальше, уже в себе горящее сердце неукротимого бородатого Данко.
«Я несу по городу
Яростную бороду,
Рыжую,
Ершистую…
Критикуют?
Выстою!»
У Марьева лирика неотделима от лиро-эпических произведений. Я сделала попытку доказать это. Но, может быть, весомее моих литературоведческих изысканий прозвучат слова поэта Владимира Дагурова: «Он, в сущности, написал одну цельную, нерасторжимую на главные и не главные темы книгу — книгу замечательной жизни,
всей сутью которой поэт остается с людьми».
©Елена Захарова
Камнеломка. Людмила Татьяничева

В своей статье о Мандельштаме наш земляк — знаток поэзии Виктор Сергеевич Рутминский писал: « Ахматова говорила: «… у него в поэзии не было предшественников.» При всем моем уважении к колоссальному авторитету Ахматовой не могу с этим согласиться: живая, пульсирующая ткань поэзии непрерывна и пронизана токами взаимодействий». Так это и у нас, на Урале.
Для многих и многих молодых, начинающих, как когда-то для нее самой Ярослав Смеляков, Людмила Константиновна Татьяничева была проводником среди экстремальной стихии поэзии, прорывалась сквозь все нелепости времени вечной силой творческой энергии, устанавливая прямо-таки родственную связь с теми, кто придет завтра. Недаром сравнивала она себя с камнеломкой, скромным цветком, который не то что на камнях, сквозь них прорастает. Мне кажется, что и сквозь этот период, бедноватый на любителей поэзии, ее стихи тоже прорастут и станут открытием для новых поколений. Открытием не только литературным — историческим.
Татьяничева писала о Смелякове так, как теперь многие могли бы написать о ней самой.
«Он нам,
По праву старшинства,
По долгу истинного
Братства,
Передавал свои богатства,
Первоосновы мастерства.»
(« Стихи читая Смелякова»)
Для Татьяничевой изначально поэзия — серьезная работа, которой надо долго учиться, как любой рабочей профессии.
О ведущей роли профессионального поэта («Идти, чтоб потом кораблей армады на северный двинулись пояс») в образной фрме сказано в стихотворении «Ледокол», посвященном Василию Федорову, хотя развернутая в нем зримая панорама гораздо крупнее частного посвящения.
Творчество Людмилы Татьяничевой перекликается с творчеством ее ровесника Бориса Ручьева. Перекликаются и их судьбы. Оба начинали свой путь в литературном объединении Магнитогорска, были влюблены в романтику стройки этого города, жили в одном сто двенадцатом бараке. Этому нехитрому жилищу Татьяничева послала прощальный поклон в стихотворении 1978 года.
«…На чистый свет
В его окне
Всю жизнь идти
Прид. ется мне…
Там чуть не каждый мой сосед
Был журналист
Или поэт.
Жил в белой комнате своей
Магнитогорский чудодей,
Певец труда,
Любви,
Разлук —
Борис Ручьев —
Старинный друг».
Общая не только с Ручьевым, но и со всем поколением уверенная жизненная позиция звучит в стихотворении «Судьба — это мы», написанном в шестидесятых:
«Не каждый выходит в герои,
Но каждый —
Родился не зря.
Судьбу надо строить,
Как строим
Ракеты, мосты и моря…
…Надежно,
Без ахов и охов,
Без мелочной злой кутерьмы.
Судьба — это слепок с эпохи,
Точнее:
Судьба — это мы!»
Но поэзия Татьяничевой не замыкается в уготованном ей жизнью временном отрезке, а провидчески предшествует многим темам органичным для поэзии Любови Ладейщиковой, Юрия Конецкого и других, пришедших позже и считающих себя ее продолжателями, а в чем-то, кажется, и учениками. Прямо из татьяничевской поэзии как будто вырастает преклонение перед небесным светилом у автора «Премии солнца» — Любови Ладейщиковой. Но у Татьяничевой нет еще собственной, осмысленной философии космизма, все, что делалось в космосе, воспринималось ей как поле для вполне земных достижений типа покорения целины. Время было другое — материалистическое.
Стихотворение «Мадонна», написанное в 1973 году, также созвучно голосу более юной современницы.
«Наперекор
Изменчивой молве,
Художники
Прославили в веках
Не девушку
С венком на голове,
А женщину
С младенцем на руках.
Девичья красота
Незавершенна:
В ней нет еще
Душевной глубины,
Родив дитя,
Рождается мадонна.
В ее чертах —
Миры отражены».
Всего на год позже появилась поэма Ладейщиковой «Материнский час», о которой Татьяничева сразу сказала автору: «Несомненная Ваша удача».
Однако лирические героини двух этих разных поэтов также непохожи, как и их мировоззренческие галактики. Если Ладейщикова пытается пронести вселенскую и человеческую любовь даже по границе бездны в направлении вечности, обессмертить индивидуальное, то Татьяничева изначально без всяких сожалений связывает свою судьбу с конкретным историческим периодом, где с полным правом может использовать как местоимение «мы», говоря от общего лица со своими товарищами, людьми близкими по духу, так и местоимение «я»: «Россия моя — советская».
Но, и когда Татьяничева говорит с Родиной от своего собственного имени, пафос не покидает поэта, отражаясь даже в стилистике.
«Я возлюбила горы и поля,
Рек и плотин согласное звучанье!»
Разбивают такую ложную напыщенность сразу возвращающие поэзии искренность конкретные, хорошо подмеченные художником детали, указывающие на большой эпический потенциал поэта.
«Иль это русые смуглянки
На тихой зорьке у реки,
Слагая в честь твою веснянки,
Тебя Россией нарекли?
Иду сквозь дождички босые
Или по хрусткой белизне,
Слова:
Отчизна, Русь, Россия
Ликуют музыкой во мне».
Сочетание обобщенно эпического образа и лирической малой детали, эпитета (дождички «босые») рождают в душе свежесть непреходящую, почти пушкинскую. Классицизм большой формы, столь милой автору, наполняется чувством и оживает.
Также свеж зачин стихотворения «Юность шла в походы» — «С веточкой черемухи в прическе юность шла в походы и разведки крутизною первой пятилетки», а финал просто убивает своей шаблонностью: «Лучшее, что в жизни мы свершили, юные наследуют по праву.» (1960 г.) И подобное происходит постоянно в официально пафосном направлении поэзии Татьяничевой. То ли не хватает накопленного жизненного материала, чтобы подтвердить изначальную поэтическую мысль, пришедшую как озарение, то ли глобально обобщающий замах подсознательно толкает к иному диалогу с читателем, глубже, противоречивее, не такому плоскому, какого требует предстоящая издательская судьба произведения, а то и целого сборника, которого не будет просто без привычных патриотических утверждений.
Незабываемо афористично, как одно из лучших поэтических высказываний, звучит своеобразная увертюра к стихотворению «Братство» (1973 год).
«Большая дорога
Не может быть узкой.
Не может быть черным
Огонь маяка.
Не может — не смеет! —
Считать себя русской
Пустая душа
И скупая рука».
А далее вполне банальные, плакатные стихи о дружбе советских народов, где «братство» рифмуется с «богатством».
Возможно, что это противоречие творчества поэта вытекает из противоречий ее патриотизма, двойственности любви, к которой обязывал дух времени.
С одной стороны это чувство совершенно естественное, отсутствие его патологично, невозможно.
«О том, как Родину любить,
Едва ли надо говорить:
Она у каждого — одна,
И вместе с жизнью нам дана.»
(«Родина», 1980)
А вот снова перекличка с Ладейшиковой.
«Я клянусь дыханьем сыновей,
Что своей не представляю жизни
Без России —
Родины моей!» (1970 г.)
С другой стороны — а против кого любим? Вопрос этот категорический, подсказываемый временем, тоже находит свое выражение в поэзии Людмилы Константиновны.
«Сердец космический простор,
Глубинный ум и острый взор,
Чтоб вовремя, а не за шаг
Ты точно знал,
Кто друг,
Кто враг»
Откуда же такой творческий дуализм? Был ли гражданский патриотизм Татьяничевой собственны выстраданным, глубоко пережитым чувством или спущенной сверху задачей, продиктованной партийным писательским руководством? Искренне ли писались и те, и другие строки? Думаю, да! Именно Родина как держава, а не одна природа ее (там совсем другие отношения) была для Татьяничевой не храмом, а мастерской, где работать в литературе ей, деловой женщине советской поэзии, было совершенно органично. Она принимала существующие здесь правила игры, как правила техники безопасности, потому что только здесь она могла совершать главное дело своей жизни — подвиг поэтического труда.
Уже по самому своему началу судьбы, по магнитогорским истокам Татьяничева чувствовала себя строителем. Она как к осознанному труду относилась и к строительству собственной личности и ко всей своей судьбе. Также, как Борис Ручьев, силой собственной натуры она умела противостоять любым испытаниям.
«Мы из тех,
Нестареющих,
Что без устали трудится,
И раскованно верящих,
Что все лучшее —
Сбудется!»
Но поэзия Татьяничевой состоит не только из буден великих строек, хотя и из них тоже. Там, где в права вступает мир природы, дыхание поэта становится глубоким, полным, а в стихах возникает живая перекличка с традициями русской классики.
«Учись у них — у дуба, у березы» (Афанасий Фет).
«Мы училиь у сосен крутой прямизне,
Мы дивились упорству горных пород.» (Людмила Татьяничева).
Во всем творчестве Татьяничевой сказанное навечно — от природы, невысказанное не высказано потому, что помешало время.
Не только поэтов, но и обычных людей эпоха возводила на пьедестал, вопреки заложенным в них человеческим желаниям.
«Она была достойна
Пьедестала —
Отличный мастер
Плавок скоростных.
…Вот только матерью она
Не стала
И внуков не увидела
Своих».
Военная эпоха рождала умение масштабно мыслить, но тормозила работу над большими формами. Так и лирика Татьяничевой навсегда впитала замес эпичности, оставаясь глубоко погруженной в размышления и переживания среды сверстников.
«Как много нужно приложить стараний,
Как надо нам друг другом дорожить,
Чтоб обезболить боль воспоминаний
И память о погибших сохранить.»
Затаенная творческая грусть поэта сливается с печалью всего поколения, которому жестокие события войны помешали полностью раскрыться, проявить себя, просто не дали многим возможности семейного, женского счастья, а ведь вопреки всему этому душа требовала утверждать себя на земле и, действительно, быть победителями.
«Мы боялись дать волю нежным словам,
Может быть, потому,
Что и век был суров.
От даров нераздаренных
Тяжко рукам,
А душе тяжело от несказанных слов.»
«Для краткой жизни прорастают отважно нежные цветы», — пишет Татьяничева, как бы намекая, что путь, который ей как поэту надо пройти — от временного к вечному, долог и не безмятежен. Пройдешь и станешь исполином! Путь этот по Татьяничевой невозможен и бессмыслен без учебы у природы, слияния с ней.
«Спят цари под громадою плит.
Спят их царства в потемках
курганов,
А Памир нерушимо стоит
Полководцем среди великанов.
Камнепад нас в пути настигал,
Липкий сумрак
В спутники лез к нам.
Мы учились терпенью у скал,
Их презренью к ощеренным безднам!
…Горы, горы,
Опора земли
И планеты бессрочная память —
Никакие ветра не смогли
Вас принизить,
Сломить,
Обесславить.»
В этом стихотворении «Горы», посвященном Алиму Кешокову, просматривается, правда, и некоторая пафосность, желание встать на котурны. «Мы… достигли такой высоты, что и сами, как вы — исполины», — не слишком ли громко? Но сама роль поэта в жизни человечества настолько гиперболизирована в сознании Татьяничевой, что и ориентиры в природе ей нужны неоспоримые и преувеличений не требующие: Памир, Казбек, Эльбрус… Чего уж больше? Такие масштабы Татьяничева искренне приписывала современной ей отечественной поэзии, по крайней мере тем образцам, в которых была уверена.
Однако, тогда же, в шестидесятые, она иронизировала над шумихой вокруг ставшей модной фигуры поэта, указующего стране дорогу в светлое будущее, считающего себя основным двигателем прогресса.
«Мальчишки играют в летчиков,
В подводников и строителей,
В геологов-землепроходчиков
И в космоса первожителей.
Мальчишки,
Все знают это,
Любят игры серьезные.
Они не играют в поэтов.
В поэтов играют взрослые».
С точки зрения Татьяничевой после первой удачно сделанной детали ты еще не мастер.
Итак — поэзия, как поток, охвативший общество, увлекающий его за собой, или магия имен и стойкое общественное признание? Для Татьяничевой, думается, поэзия была неким абсолютом, а не шумом в радиоэфире, хотя одно, может быть, и неотделимо от другого. Ведь восторг читателя всегда должен носиться в воздухе.
«Великая радость
Мне жизнью отпущена:
Читаю Пушкина,
Читаю Пушкина!»
Как самонаблюдение державно мыслящего стихотворца звучат строки Татьяничевой:
«Привычна нам
Небес бездонность.
Как на ладони —
Шар земной,
Но малых величин
Огромность
Вместит не сразу
Разум твой».
В данном случае речь идет о протонах, нейтронах и нейтрино. Именно такое чередование и соседство в природе большого и малого дают ее образному миру статуарный, зримый, стабильный характер. Перепады гор и долин создают в ее поэзии поступенчатый, рельефный пейзаж. Но еще интереснее читать ее стихи о космосе. У атеистки Татьяничевой мир далеких галактик не страшный, неведомый, загадочный, а будто совсем по библейскому сюжету создан в четвертый день творения, уже после создания неба и земли. Поэтому звезды так и остаются для нее маленькими, трогательными, нуждающимися в заботе и внимании.
«…Наступила пора
Приручения звезд
…Я давно со Вселенной
Породниться хочу.
Хоть одну —
Непременно! —
Звезду приручу.» (1960 г.)
Первые прорывы в Космос для Татьяничевой — расширение границ ее земных владений. Ну что в пустоте может быть интересного.? Центром Вселенной для поэта остается Земля. Поэтому и спутник в татьяничевских стихах своим тоненьким голосом посылает жалобные сигналы:
«Люди мои дорогие,
Как я грущу о Земле!»
Истины добытые поэтом ценой собственного жизненного опыта: человек не может один, чтобы не пропасть — надо держаться поближе друг к другу. Как же могут другие планеты существовать без человеческой заботы и постоянного контроля с Земли, как будто удивляется поэт непривычному для нее положению вещей.
«Как не хватает звездным мирам
Земного пшеничного колоса!
Скоро и звезды приблизятся к нам
На расстояние голоса».
Вселенная 1963-го года не была для Татьяничевой бесконечной. Все рядышком в этом антропоцентрическом мире, все свое, родное. Такая человечная возникала утопия.
Земля и Солнце, Россия и Урал для Татьяничевой одинаково родные.
«Как солнце в драгоценной грани —
В Урале Русь отражена.» (1963 г.)
Недавно в Екатеринбургском Доме кино на одном из вечеров демонстрировался уникальный документальный фильм 1933 года — «Магнитогорск». Прямо на глазах моих современников происходило великое строительство, мощь которого ощущалась в каждом кадре. «Тогда стоило для чего жить!», — восторженно воскликнула моя соседка по ряду, большая эстетка и меломан. А закадровый текст звучал пафосом: «Не зря сказал товарищ Сталин: «Чего-чего только нет на Урале.» На экране повисла пауза. Сегодняшние зрители наивно ждали продолжения мысли, но вождь не стал вдаваться в подробности. Может, и не знал предмет так уж хорошо. Зато строительница Магнитки Людмила Татьяничева нашла здесь богатую кладовую образов, фольклорных приемов, живых, не выцветающих от времени красок и тем, преобразовала в поэзию и подарила нам, читателям.
Когда-то Белинский писал, что учиться лучше в Москве, а служить в Петербурге. Творческая лаборатория поэта не привязана к географическому месту, она — везде. Но вдохновением Татьяничеву наградил «седой гордец» Урал, потому что главная его сила всегда была «в чудесном искусстве труда». Причем в поле зрения лирической героини поэта попадают не только современные леса и горы, но и то давнее море, которое когда-то здесь бушевало. О морских волнах напоминают ей, уралочке, узоры малахита.
«Когда-то над хребтом Урала,
Соленой свежести полна,
С ветрами запросто играла
Морская вольная волна.
Ей было любо на просторе
С разбегу устремляться ввысь.
Отхлынуло. Исчезло море.
И горы в небо поднялись».
Недавно я совершила однодневное путешествие по лесам и скалам Челябинской области — замечательный маршрут выходного дня. Экскурсовод, говоря о формировании уральских гор, как бы вновь возвращая меня к тем мыслям о Татьяничевой, что постоянно работали у меня в голове, начинал свой рассказ именно с этих стихов. Просто стихи поэта звучат на фоне нашего пейзажа, таящего в себе незримый эпический пафос, удивительно органично. Татьяничева как бы сама стала частью природы Урала. Татьяничева никогда не скрывала своего родства с Уралом, не считала его провинциальной глубинкой, гордилась им.
«Если ж грозный
Мне встретится вал,
Я услышу спасительный пеленг.
У меня есть на свете
Урал,
Мой высокий
Приветливый берег» (1970)
Тема Урала была для Татьяничевой одной из самых главных. «Урал, могучий корень жизни», — напишет она через год. В 1978-м появится принципиальное для мировоззрения поэта стихотворение «Ветка», где слова «Урал» не будет, но…
«Мы думаем смутно
И редко
О вечной работе корней,
Что знает о дереве ветка,
О кровной отчизне своей?
…Но в грозную ночь камнепада,
В буран
Или в знобкую мглу,
О, как же она будет рада
К родному приникнуть стволу».
Об Урале ли это? В другом стихотворении того же года Татьяничева дает нам ответ:
«Урал,
Уралу,
Об Урале! —
О чем же,
Если не о нем?»
Отношение к жизни, как к драгоценному камню, требующего высокого мастерства огранки и в ювелирном ремесле, и в поэзии, стало основой поэтики Татьяничевой. Особой философией творчества, созвучной «Сказам Бажова», наградил ее Урал. Недаром в той же своей статье «Уроки Ручьева» Юрий Конецкий вспоминает и о «его давней соратнице… царственно-статной Людмиле Константиновне Татьяничевой, убедительно призывавшей нас, пишущих в рифму, так тщательно выласкивать строки, чтобы «никакой критический ножик не смог пролезть меж ребер ваших стихотворений.»
«Тут мало одного уменья;
Гранильщик то же, что поэт,
Без мастерства,
без вдохновенья
Не засверкает самоцвет.»
(«Кристалл.»)
Неспешность ювелирного дела, его несуетность, кропотливость и в то же время завоеванная, ошеломительная победительность распространяется и на формирование уральского ландшафта, каким его видит автор.
«Здесь каждый куст растет
Веками,
Как кристалл..
Здесь бродит тишина
Сторожкая, как рысь.
Здесь каждая сосна
Бросает шапку ввысь».
(«Корабельный бор» (!959 — 1960).
Природа у Татьяничевой не терпит скачков, совсем по выражению Лейбница. Здесь место постоянству и тихой, размеренной смене картин и событий.
«Время сгущается.
Время быстреет.
Все круче и круче
Его виражи,
Но как незакатно
Заря эта рдеет
И как эти сосны
Стройны и свежи!» (1977 г.)
А вот человек в ее стихах живет в вечной спешке, к чему его обязывают беспокойная деятельность и непроходящее стремление к самовыражению.
«И я спешу друзьям навстречу,
Навстречу дню больших работ.
В пути едва ли я замечу
Седого вечера приход.»
(«Гудки». )
Беспокойную героиню тянет в тот устойчивый мир природы, который она привыкла вокруг себя видеть. Тяга это именно психологическая, в жизни противоположности часто сходятся, потому что притягивают друг друга. «Я с лесами дружу», — пишет Татьяничева. И действительно в ее поэзии вера в прогресс и пантеизм сопутствуют друг другу. Живет здесь даже вера в то, что рано или поздно две эти параллели пересекутся.
«И правнук наш,
Взнуздавший громы,
Исколесив все небеса,
Домой вернется
И гнедому
Даст горстку звездного овса.»
(«Санный путь», 1963 г.)
И, несмотря на то, что особую поэзию деловитая лирическая героиня Татьяничевой находила даже в собраниях, производственных ли, партийных — не важно, потому, наверное, что верила: «прямых речей живые сквозняки» действительно могут что-то кардинально изменить, в стихотворении «Белка» поэт противопоставляет искусственную, выдуманную суету естественной красоте живого создания природы.
«Ее изяществом,
Отвагой
Не обладает даже рысь.
Зовут таежники
Летягой
Зверька, стремящегося
Ввысь.
Дивятся беличьим проделкам,
Лукавой
Радостной красе.
………………….
Зачем мы обрекаем белок
Крутиться в тесном
Колесе.»
(1973 г.)
Речь, конечно, идет не столько о белке, сколько о душе человеческой. Образ этот перекликается с портретной зарисовкой девочки из Магнитогорска, постепенно подрастающей, чтобы оправдать свое золотое, необычное имя — Магнита.
«В веснушках рыжих,
Будто в рудной пыли,
Была она по-беличьи резва».
(1974 г.)
Развитие мира и природы у Татьяничевой не революционно стремительно, а эволюционно поступательно — от большого к малому. На своем любимом Урале она сравнивает себя с самой малой частицей его красоты, готова быть незаметной, но необходимой, как любая органичная тут деталь живой природы. «Я сосна в твоем бору. Ближе нет родства» или другая ассоциация, давшая отправную точку самостоятельному сюжету стихотворения: «Я — ручей». Ручей, которому надо пройти долгую дорогу, чтобы достигнуть следующего этапа в судьбе и смело назвать себя новым взрослым именем: «Я — река, молодая река».
Лиро-эпическая линия творчества Татьяничевой сложилась в военные годы («Ей приснилось, что она Россия!») Молитвою обращенной к далекому носителю светлого начала, а в общем-то родному человеку, обычному воину звучат стихи 44-го года :
«Когда войдешь ты в комнату мою,
Огнем великой битвы опаленный,
Не зарыдаю я, не запою,
Не закричу, не брошусь исступленно.
Я даже слов, наверно, не найду —
Заветных слов, что берегла годами,
И лишь, как на присяге, припаду
К руке твоей горячими губами».
Такая любовь близка к религии по силе веры которой наполнена. Но, как бы сильна она ни была, здесь индивидуальное не может заслонить всеобщее. Коллективный портрет, чтобы подчеркнуть эпоху, в пору было бы по стихам Татьяничевой осуществить любому живописцу.
«Мальчуганы наголо обриты,
Оплели их длинные бинты.
Лица побледневшие промыты
До почти смертельной белизны».
Война надолго вошла в поэзию Татьяничевой и уже в послевоенном 1957-м возникла перекличка и со скульптурной пластикой. В стихотворении «У могилы неизвестного солдата» неизвестная женщина, присевшая у грубого простого обелиска, как бы сама становится завершением памятника.
«Волной тяжелой волосы седые
Упали ей на плечи молодые.
…Потом она присела к изголовью
И песни пела
Горестные, вдовьи.
Она, наверно, потому их пела,
Чтоб сердце от тоски не онемело.»
Такая скульптурно-монументальная поэзия, конечно, эпична сама по себе.
Есть в поэзии Татьяничевой перекличка и с отечественной военной прозой. Например, в стихотворении «Погибшим» есть строки, напоминающие «Звезду» Казакевича.
«Мы на каждой военной версте
Хоронили погибших друзей,
Если всем бы им дать по звезде,
Не хватило б галактики всей».
Война научила Татьяничеву воспринимать масштаб трагического, а оптимизм также, как природа, всегда поддерживала погруженность в такую изначально родную языковую стихию. Сочно и многокрасочно словно продолжая природные богатства любимого края сияют в стихах Татьяничевой топонимы: Юрюзань, Иссык-Куль, «как влажное буль-буль», Сура, речка с лукавым именем «Соседка», Тургояк и Инышко, Таганай, Ая, полустанок «Роднички». Каждое из этих названий поэт произносит с уважением, нередко видя за словом скрытую метафору, олицетворение. Так с сочувствием ведет она разговор с речкой Грешницей, которую люди понапрасну обидели таким именем.
Сам язык Татьяничевой впитал в себя и мудрость поговорок, и частушечный перебор, и сказочный зачин.
«Топчу дорожку не понарошку.»
«Медовая лапа, медведь,
Как поживаешь, ответь!»
«Лодочка орлистая,
С волной не балуй,
Девочка форсистая
Других не целуй.»
«Нет дыма без огня,
Но есть огонь без дыма.»
«Милого наказывай,
а за что не сказывай».
Ее собственный артистизм помогает создать театр природы, где орел в небе возникает будто из-за кулис, а березы, рябины, ивы, сосны, периодически меняя роли, приписаны к определенным амплуа. Героиня — сосна. Девушка из народа — рябина. Инженю, девочка-подросток, очень юная и наивная, — березка. Особую роль играет ветер, то раздающий, как коробейник, всем жителям уральского леса свои подарки, то дерзкий озорник «Листодер», то нежный, похожий на Леля из «Снегурочки», «Лесовей».
Кстати, театральные образы проникают и в стихи производственной тематики, придавая заводскому пейзажу дополнительное художественное звучание. Так, например, в стихотворении о девушке, прозванной сталеварами влюбленно Эсмеральдой.
«Когда из проходной завода
Она бежит, —
Смела, легка,
Мартен,
Как верный Квазимодо,
За ней следит
Издалека».
Мартен, конечно, мало похож на романтическую фигуру горбуна из романа Гюго, но в данном случае он играет эту роль, вступая в извечный союз красавицы и чудовища. Вечное оказывается главным в, казалось бы, злободневных стихах.
Центром жизни для поэта была человеческая деятельность, стройка, которая должна была стать частью великой гармонии природы, а не зачеркнуть ее — некая ландшафтная архитектура утопического устройства мира. Между дисгармонией барачного жития и неизведанными просторами космоса проходил один поэтический путь — через мир земной природы. Дорога эта сливалась с небом, многократно отражаясь в уральских озерах, которые Татьяничева так любила. Наблюдая развитие собственной судьбы, замечая эволюцию души, нередко совпадающую с переменами вокруг, поэт не оставляет места для страха. «Вот такую осень бы и мне!» — восклицает Татьяничева золотой сентябрьской порой.
«И вовсе не страшно,
Что бор позабудет
Мой шаг на излете
Весеннего дня.
Мне важно другое,
Что мир этот
Будет,
Когда в нем не станет
Тебя и меня».
Уральская природа переполняет стихи поэта. Уравнять ее с красотой средней полосы невозможно, да и не надо. Тут не Левитан нужен, а некто новый «с двустволкой, с теодолитом, с этюдником на ремне.» Другая красота, иной ритм жизни, собственное понимание уюта.
«На нарах,
Чуть обвислых,
Под говорок сосны
Здесь крупно зреют мысли,
Пророчествуют сны».
(«Избушка-зимовейка»)
В противоположность «Любаве» Бориса Ручьева в своем стихотворении «Ситцевые комнаты» Татьяничева рассматривает появление невесты в рабочем бараке, как событие самодостаточное, счастливое и определяющее, для всех окружающих, уж и не говоря о начинающей свою судьбу влюбленной молодой женщине. Не грязную лужу увидит перед Магнитогорским загсом духовно близкая автору героиня, а звезды, которые в этой луже отражаются.
На стенах,
Испятнанных, как промокашки,
Раскрыли глаза
Золотые ромашки…
За тонкою стенкой
Из пестрого ситца
Заворковала,
Запела синица.
Звенело застолье
Басистой струною.
Невестой явилась,
Осталась — женою».
Лирические героини Татьяничевой разных возрастов, но искренность и любовь их всех объединяет. Любовь эта вечна, она опирается на веру в самые святые понятия, такие как Родина.
«Горький запах полыни и мяты,
Отрещенно,
Без слез и речей,
Провожали солдатки в солдаты
Ненаглядных своих дочерей».
Ни одной поэмы Татьяничева так и не написала. Но есть стихи, которые воспринимаются как разрозненные главы единой ее поэмы о времени, о судьбе народа. Ее собственные неповторимые наблюдения и вызванные ими раздумья стали для них материалом. «Суровый танец», «Царевны», «Уральский виноград» — вот названия этих глав. Мне кажется, канонические слова Ахматовой: «Когда б вы знали из какого сора!», — тематически объединяет персонажей всех этих историй. Ну не видел мастер-ювелир ни разу виноградную кисть, вот и украсил свою работу веточкой рябины, поэтически и художественно увековечив ее в камне. Оказывается известный скульптор впервые почувствовал тягу к творчеству во время ребячьего заделья: лепил из темной глины царевен на конях, а мать вместе с хлебом обжигала их в печи. «Суровый танец» — «сухопляс», почти языческий ритуал, из которого в минуты отдыха черпали силы крестьянки на току в военные годы.
«Не павами по кругу плыли,
С ладами четкими в ладу,
А будто дробно молотили
Цепами горе-лебеду.
Плясали, словно угрожая
Врагу:
— Хоть трижды нас убей,
Воскреснем мы и нарожаем
Отечеству богатырей!»
Такие стихийные творческие моменты приподнимали обычных людей до высокой художественной миссии закрепленной видением поэта. Татьяничева говорит о том, что талант у нашего народа в крови и ее поэтическая работа не отдаляет, сближает автора с ее персонажами. Уральский рябиновый виноград прорастает и в ее стихах.
Будучи поэтом скорее эпического склада, Татьяничева и лирика носит в душе. О каких бы грандиозных событиях она не писала какая-нибудь очеловечивающая все, чисто природная деталь все равно прорвется в повествование. Так в потоке военной кинохроники ее взгляд останавливает тоска преданного боевого коня, навсегда утратившего погибшего седока.
«Он за гробом бредет
Неприкаянно.
Бъет копытом о землю он.
Молодого зовет хозяина.
Непробуден последний сон».
Людмила Констнтиновна словно бы предугадывала, что может быть впоследствии написано о ее творчестве.
«Каких блистательных достоинств
Вам не припишут в юбилей!»
Но ироническая самооценка прерывается все-таки выводом, таящим надежду.
«…Сквозь оседающую пену
Янтарно светится вино»
И правда, живые, играющие поэтической энергией строки ее стихов не дают от себя оторваться и навсегда остаются в памяти. Кто из поколения шестидесятых-семидесятых не носит в своем духовном багаже стихотворения о том, что гордые не плачут. Строки вроде бы немудреные, но как парадоксально точно обнажено здесь различие между напускной и грешной гордыней и выстраданной гордостью возмужавшего в испытаниях человека.
«Гордым — легче.
Гордые не плачут
Ни от ран,
Ни от душевной боли.
На чужих дорогах не маячат,
О любви, как нищие, не молят.
Широко раскрылены их плечи,
Не грызет их зависти короста…
Это правда —
Гордым в жизни легче,
Только гордым сделаться —
Не просто».
Написано в 1961 году, когда после выстраданной победы и послевоенной разрухи, страна по праву могла гордиться и полетом в космос Гагарина, и демократическими изменениями периода оттепели. Татьяничева и здесь чувствовала, как все ее соотечественники, думали ли они о политике или нет, читая эти, напоминающие постулат, стихи. Поэтому и популярность была всеобщая.
Гордость, о которой пишет Татьяничева, сродни ее царственности. Уже не ручей, не река, с которыми поэтапно сравнивала свой путь поэт, а первозданное море ее поэзии заставляет заплывать в исследованиях все дальше и дальше. Под обаянием поэзии Татьяничевой хочется жить, ее стихи стоит читать. Здесь есть чему поучиться.
©Елена Захарова
Рыцарь идеи — Юрий Лобанцев

Тоненькие поэтические сборники Юрия Лобанцева — факт биографии целой эпохи, когда недостаток гласности в средствах массовой информации полностью возмещался накалом политических дискуссий на кухнях и вообще там, где складывался круг заинтересованных собеседников, умеющих читать политические сжатые новости и между строк тоже.
«Вечер,
С угрюмым видом
слесарь газеты мнет,
Люди зовут «Мадридом»
дом общежитский тот.
…Словно кулак воздетый
вера в зарю крепка.
Утренние газеты.
Очередь у лотка.»
(«Парни из Мадрида»)
Отражением времени шестидесятых-семидесятых были и исторические герои Лобанцева, открыто декларирующие через его стихи свои политические и жизненные позиции, и композиционное решение его произведений, где различные точки зрения сталкивались лбами и чаще всего друг другу противоречили. Причем было совершенно не обязательно, чтобы сам поэт с кем-нибудь полностью солидаризировался. Напротив основательный Лобанцев старается сохранить объективность, но накал исторических страстей передает масштабно, поскольку масштабны и сами выбранные им личности.
Вот одна из «Исетских поэм» — «Возмездие». Казалось бы, как может быть она созвучна нашему времени, если расстрел царя в ней рассматривается как историческая неизбежность, а наша нравственная эпоха уже вынесла тому злодеянию окончательный приговор. Однако в поэме Лобанцева через размышления Николая Второго мы опять погружаемся в пласт столкновения идей, в данном случае позиции поверженного самодержца и Льва Великого, как называли современники Льва Толстого.
«Помня посланья
С дерзким советом
внять с состраданьем
черни,
студентам,
я здесь уважил, перелистав,
книжечки ваши,
нравственный граф —
мастер по части
жалобить,
клясть…
Вы мне — про счастье,
Я вам — про власть.
Вот что по части
истины, граф,
тот, кто у власти,
счастлив и прав!»
Когда один из собеседников говорит о своем (счастье, основанное на нравственности), а его оппонент совсем о другом (власть, которая эту нравственность попирает) к единому решению прийти практически невозможно. Две фигуры в одном историческом пространстве духовно сосуществовать не могут, происходит раскол мира, его распад в виду полной несовместимости этих тенденций.
Оппонентов, каждый из которых проповедует свою собственную, выстраданную истину, поэт находит в разных временных пластах, далеко отстающих друг от друга эпохах. Трезвомыслящий композитор Сальери спорит с одаренным божественным талантом Моцартом в аналитической поэме, названной в его честь «Оправдание Сальери», доказывая, что будить грезы толпы — несерьезная для искусства задача. Возражает же ему в контексте лобанцевского творчества не Моцарт, а путешественник Марко Поло в другом, самостоятельном поэтическом монологе.
«А, может, впрямь — пока полезней миф,
а правда — враг, стирающий границы?
Так пусть смеется просвещенный мир
над Марко, сочинявшим небылицы!
Поймет и он: без ночи нет зари,
и песен новых нет без песен старых…»
Неизбежность исторической преемственности между мифом и глубинным постижением реальности в этой небольшой балладе выражена непосредственно и четко, в отличие от поэмы о великих композиторах, творцах классической музыки, где тема эта так же соприсутствует, хотя и уведена в финал.
«Но если миф сражаться помогает,
он истине победу предрекает!»
Таким образом, ни одна истина не перечеркивает собой другую, они сосуществуют и взаимообогащаются. Поэт все время пытается заглянуть в колодец, а, как говорили древние: если на поверхности истина только одна, в глубине колодца — их несколько.
При жизни Моцарта Сальери как абсолютную, выношенную им истину высказывает следующие горькие раздумья:
«Служить толпе?
Нет, мысленно парить,
Слагая только Истинному оды!
Я сам с собой решился на пари
в земном плену —
не может быть свободы».
Впоследствии герой ценой рефлексии и длительных внутренних споров с самим собой приходит к диалектическому примирению с моцартианским мировоззрением:
«Благодарю вас, Моцарт,
разгадал
я свой просчет в сумятице столетья.
Пока я бог —
я только секундант
на поединке смерти и бессмертья.
Лишь в человеке скрыта высота:
в разумном братстве
тщетна клевета!
…Уходит Сказка.
Кончено… Замри:
всему живому отправляться следом.
Склоняюсь первым —
бросить горсть земли
на гроб того,
кто свел земное с небом».
Конечно, Сальери в поэме никакой не убийца, что и соответствует исторической правде — «в разумном братстве тщетна клевета», — а один из неугомонных спорщиков, входящих в число виртуальных и реальных собеседников поэта. Когда в ходе разработки кабинетных теорий о возможности перекроить действительность, теряется одна составляющая — человек, то мы все «рабы своих теорий», глядящие, по словам Пушкина, в Наполеоны, способны эгоистически вызвать обвал исторических последовательностей,
«чтоб, счастья не узнав,
в стране без бога,
без иллюзий,
навеки прокляли бы люди
и волю горькую,
и нас».
Это строки из поэмы Лобанцева о декабристах «Сибирский тракт», вызвавшей сразу после своего появления немало упреков в адрес автора, вместе с одним из персонажей-ссыльным участником восстания, осознавшего тщетность и обреченность надежд на гуманизм шагов прогресса, которые могли бы последовать за победой на Сенатской площади. В начале восьмидесятых сомнения по этому поводу казались необоснованными. Сейчас в двадцать первом веке после всеобщего крушения демократических иллюзий рефлексирующий герой Лобанцева стал нам ближе и понятнее. «Нам нужен грим друзей народа!» — не о творцах ли перестройки сказано? Идеи же просветительства, с которыми декабристы отправлялись в Сибирь и которые должны были восторжествовать над жестокостью истории, стали духовным наследством воспринятым у них рыцарем Разума Юрием Леонидовичем Лобанцевым.
«Но верю,
что на той золе,
все жертвы искупая разом,
свободный воцарится Разум —
наместник бога на земле».
Недавняя телепередача «Культурная революция» подвергла подвиг декабристов столь же жестокому анализу, причем некоторые участники дискуссии, даже опираясь на исторические факты, пытались опустить их биографии просто до личных амбиций и поиска собственных выгод. Вот чего не было у Лобанцева.
«По мне выше факта идея,» — писал он в других своих стихах. Сама история была для него прежде всего историей роста, эволюции и столкновения идей.
Да, у этого его персонажа кабинетная, рассудочно сконструированная модель счастья народа, созвучная, кстати, модели не безразличного поэту Фауста Гете. Подъем духа народа за счет его страданий созвучен общеизвестной формуле: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».
Такой отвлеченности в мыслях лишен жандарм, сопровождающий узника, его патриотизм примитивен, лишен взгляда в будущее, он обыденен, но именно такие чувства служат опорой для будущего России. Именно этот недалекий службист оказывается в поэме способным к диалогу. Разговор-то начинает именно он.
«Мы, сударь,
разных убеждений,
и все ж в одном из рассуждений
у нас, я знаю, сходство есть;
служить Руси —
не в том ли честь?
Дышать с Отчизной заодно!
И тем горжусь,
что в день великий
я неприятельскою пикой
был ранен под Бородино».
Да, конечно, взгляды жандарма крайне консервативны.
«Нет, не прибудет нашей славы,
коль мы займем чужие нравы
и вдруг потешим россиян
освобождением крестьян».
Он любит Россию такою, какая она есть, боится поспешных, неподготовленных мер, ищет опору в нравственном начале.
«И трижды тот правитель прав,
кто склонит души
не к химере,
а к доброте и тихой вере
на лоне солнечных дубрав».
Таким образом, пути общественного прогресса и жандарма расходятся, поскольку, как доказывал еще Руссо, стремительный прогресс ведет к нравственному регрессу. Однако то, что две эти отмеченные Лобанцевым точки зрения, противоборствуя, соприсутствуют в мире, спасает человечество от гибели.
Снова в его поэзии ни одна идея не является доминирующей. Свободная полемика — вот, что автор во всех веках ценит превыше всего.
Как и у его Сальери, у Лобанцева в отличии от Бориса Ручьева сказка — синоним лжи, заблуждения. Намеки, которые приходится угадывать в фольклорных мифологемах, Лобанцеву кажутся трусливыми уловками. Нет, за свои суждения надо драться, не жалея себя.
«Я славлю мысль,
презревшую в веках
позор костра,
неумолимость дула
И вечно славлю
тяжесть кулака,
который сжат
в защиту права
думать».
Допуская позицию Марко Поло — для привлечения слушателей смешивать сказку и правду, «развлекая, обучать», он в то же время разоблачает этот прием, обнажает его. Перенимать такой опыт он не собирается. Его стихи похожи на зарифмованный сборник мудрых мыслей. Если Конецкий выражает сожаление, что «счастье, как свежее сено заготовить немыслимо впрок», то Лобанцев в стихотворении «Свет», посвященном Борису Марьеву, выражает другое предположение.
«Быть может, здесь,
в пути моем бессонном,
примнилось мне, прошедшему сквозь лес,
что путник должен
запасаться солнцем,
как неизбежной истиной — мудрец».
Откуда проистекает такое желание? Сам поэт обуславливает его исторически. Когда поэт еще заканчивал школу «по неточной науке истории» после доклада Хрущева на ХХ съезде партии выпускной экзамен был отменен.
«Уходила История чиститься
от налипшего там —
внутри!
…И хотелось такое вывести,
чтобы были в профиль и в фас
безошибочны
краткие выводы,
что останутся после нас».
«Лобанцев сознательно выстраивал систему художественных доказательств, апеллируя в первую голову к человеческому разуму, его духовности, и только в самой незначительной мере рассчитывая на эмоции, впрочем, не отрицая их самостоятельной ценности,» — очень точно пишет о творчестве друга Юрий Конецкий.
Программным стихотворением Лобанцева в этом отношении стало стихотворение с достаточно длинным, поясняющим развернутым названием: «Часовня и тополя или Случай с философом Кантом». Уже в начальной строфе философская терминология врастает в описание банально красивого момента жизни природы, что вносит прямо таки взрывную, неожиданную интонацию, затем объединившую всю композицию произведения.
«За окном угасал закат,
трансцендентный, как наважденье».
В природе — полнота философии, тайна, сокрытая загадка. Альтернативой к этому почти космическому масштабу, куда в вечном движении вовлечены и Солнце, и Земля, дано далее спокойное описание повседневной жизни мыслителя, где эпитет «кабинетный» всего лишь литота, то есть преуменьшение размаха кантовской мысли.
«Кабинетный философ Кант
осторожно прервал сужденье»
Далее идет редкое по выразительности для палитры поэта описание природы — грянувшего к полуночи дождя, приободрившего философа. Тут же упомянут уходящий в небо шпиль часовни.
Для сторонника теории малых дел, любителя скромных радостей жизни, следующие строки звучат аксиомой.
«Мир должно быть не так уж плох,
если радует даже малость».
Уже очевидно, что точка зрения Лобанцева в эту аксиому не вмещается. Все вроде бы хорошо, но
«Были зелень и синева
достоверны, — но, как на горе,
не увязывалась листва
с отрешенностью категорий…
И, подняв беспокойный лик
(здесь уже в «кабинетном» Канте мы угадываем те же черты, что у святых отшельников на иконах, — поэтому «лик». )
вздрогнул Кант,
прозревая словно,
вдруг исчез вдохновенный пик,
что несла к небесам часовня.
Здесь у атеиста-поэта выстраивается образ непосредственно связанный с христианской символикой, сопоставление храма и сердца человеческого, его души. Не видя часовни, философ как бы на время теряет самого себя, пропадает с его горизонта критерий мыслительной деятельности, связующее звено с высшим началом.
И тут обнаруживается скрытый до поры конфликт двух противоположных сущностей: живой природы и сухой на поверхностный взгляд мысли.
«Разгулявшаяся земля
поднатужилась и высоко
кроны вскинули тополя,
трепеща от хмельного сока.
Пред унылой тщетой идей
жизнь хвалилась иным призваньем!
«Метр не в духе», — смекнул лакей,
озадаченный приказаньем.»
Интересно, что здесь устами лакея, его примитивным языком «глаголила» сама истина, отражая минуту близости духовного кризиса у выбитого из колеи философа.
Но жестокая пила сделала свое дело.
«И когда, открывая даль,
ветви рухнули наземь глухо —
шпиль,
холодный —
как мысль и сталь,
снова слился с дерзаньем духа!
И еще не приспел закат,
как, выигрывая сраженье,
взял перо беспощадный Кант
и закончил свое сужденье».
Ну, вроде бы конфликт разрешен, философ-отшельник со своими умозрительными открытиями восторжествовал над жизнью и стихией природы.
Но Лобанцев потерял бы себя, как только что незаметно это почти произошло с Кантом, если бы победа его героя была однозначна и не таила бы в себе привкус поражения.
«У щебечущего окна
встать бы, вымолвить: «Слава богу!»
Но угрюмая тишина
предвещала душе тревогу…»
Контакта с вечностью опять-таки не происходит, она не вмещается в кабинет, не держится на острие шпиля, вселенская полнота божественной мудрости недостижима. Каков же выход? Когда-то Лев Толстой резюмировал в своих дневниках: «Делай свое дело и будь, что будет». Но дух для Лобанцева все же всегда выше душевности. «Себя теплом обманывать не надо, в полуогне — лишь видимость огня». В типологическом измерении, оперирующем некими постоянными образами, лирический герой Лобанцева перекликается с несколькими типажами. Несмотря на родственный постоянно мыслящему Фаусту анализ истории, современности, идей прошлого и будущего («Потолкуем с тобою, от времени выцветший Фауст, про бесстрастие истин, про душу — твою и мою») он все-таки ближе к Гамлету, образу для эпохи весьма знаменательному, находящему перекличку и в кино, и в театральных воплощениях., вечно рефлексирующему и подвергающему сомнению добро и зло мира. Но у Марьева и Лобанцева — разные Гамлеты. Гамлет Марьева — хорошо информированный оптимист, закономерно превратившийся в пессимиста, а ранее именно за полным познанием мира и гонявшимся. И вот картина выстроилась перед ним целиком, но оказалась вовсе не такой, какой он ее предполагал. Поэтому душа его раздваивается между блаженным неведением детства, пусть и трудного, где все делится на свет и тьму — с одной стороны народ, а с другой куркули, есть кого любить и кого ненавидеть. В этом трагедия утраченных иллюзий марьевского Гамлета. У Гамлета Лобанцева жизнь начинается с отмененного экзамена по истории. То есть все проблемы жизни — раз и сняли, жизнь страны должна начаться с чистого листа. Что в прошлом немало ошибок, очевидно, но кажется ясным, что теперь дается попытка жить по-другому. А по-другому — это как? Как жить? Вот именно в этой интерпретации шекспировский вопрос: «Быть иль не быть?» — постоянный рефрен, прочитывающийся между строк поэта. Он — почемучка, тинейджер (вспомните у Маяковского — «А моя страна подросток: твори, выдумывай, пробуй!») с отсутствием собственного пережитого опыта, поэтому ему важнее не поучать, а вслушиваться в рассказы непосредственных участников исторических событий, которых он делает героями своих поэм. И, в то же время Лобанцев, поэтически исследуя мир, получает ощущение, что правильное понимание жизни обществом зависит теперь лично от него, упивается игрой и даже противоречиями собственного разума. Это освобождает поэзию Лобанцева от излишней дидактичности, но порой придает ее интеллектуальности некоторую излишнюю рассудочность.
Это Гамлет, конечно, в глубинно русской тургеневской интерпретации.
«Все люди живут — сознательно или бессознательно — в силу своего принципа, своего идеала, то есть в силу того, что они почитают правдой, красотою, добром. Многие получают свой идеал уже совершенно готовым, в определенных, исторически сложившихся формах; они живут, соображая жизнь свою с этим идеалом, иногда отступая от него под влиянием страстей или случайностей, — но они не рассуждают о нем, не сомневаются в нем; другие, напротив, подвергают его анализу собственной мысли. Как бы то ни было, мы, кажется, не слишком ошибемся, если скажем, что для всех людей этот идеал, эта основа и цель их существования находится либо вне их, либо в них самих, другими словами, для каждого из нас либо собственное „Я“ становится на первое место, либо нечто другое признанное за высшее», — писал великий писатель в своей статье «Гамлет и Дон Кихот». К первому типу Тургенев относил Гамлета, ко второму — Дон Кихота. Писал в девятнадцатом веке, через триста лет после создания этих бессмертных характеров. Так что одним из основоположников типологического подхода к искусству можно считать Тургенева, который отстоит от Шекспира и Сервантеса гораздо дальше, чем мы с вами от него самого.
Мы не скажем ничего нового, если определим лирического героя Лобанцева именно таким, чей идеал находится в нем самом, можно сказать — «идеальным», поскольку об этом пишет сам поэт: «Моя точка отсчета — это сердце мое!»
По мнению Тургенева, ирония — неизбежная для Гамлета черта характера. Вот ироническое стихотворение Лобанцева «Я сам». (Название опять-таки напоминает о любимом автором Маяковском). Далее идет рассказ молодого поэта о постепенном разочаровании в собственных силах, а затем в поклонении установившимся образцам в поэзии. Сперва «просветил знаток», что он «не Пушкин, не ранний Горький, да и не Светлов». Затем консультант черкнул — «не Маяковский и не Блок».
«Друзья твердили
не Иосиф Уткин,
и грубо говоря, не Мандельштам»
Перечисление маститых имен, именно потому, что их много, наводит читателя на мысль: а интересовала ли хоть кого-то поэзия незадачливого начинающего? Наконец поэт прозрел сам и получил новый, вполне гамлетовский толчок к творчеству, изнутри, от себя самого.
«Я сам себе был выдан с головой…
И мне осталось и умом, и шкурой
поверить в то,
что я — Лобанцев Юрий,
и все иное меряется мной».
«Мы полагаем, что если бы сама истина предстала воплощенною перед его глазами, Гамлет не решился бы поручиться, что это точно она, истина…»
(Тургенев)
«Я понимаю, что велик Шекспир,
но даже в нем я вижу недостатки.»
(Лобанцев)
То, что вечный гамлетовский тип развернут именно в современной поэту системе социальных координат очевидно и доказательно еще и благодаря существованию в поэзии Лобанцева одного из значимых двойников — «социолога Володьки». Как и его создатель, работавший социологом, Володька отличается верой в благодетельный прогресс.
«Эй, Руссо запоздалые,
дуйтесь в крестики-нолики!
Не пройдут идеалы,
если нету методики.
Мыслить проще, возвысясь,
Но взгляните с небес —
от Володьки зависит
человечий прогресс».
«Отрицание Гамлета» сомневается, по словам Тургенева, в добре (попытка у Лобанцева пересмотреть романтизацию декабристов), «но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой.»
Так это и у Лобанцева. «Смотрю на жизнь с такого краю, где ближе будущего свет.» От идеализации силы собственного анализа Лобанцев переходит к идеализации роли поэта вообще на пути к свету, то есть прогрессу.
Особенно четко это проявляется в стихотворении «Гроза», где поэт читает стихи, по недоразумению оказавшись на лишенной из-за грозы электричества швейной фабрике, совершенно нежданный неподготовленной публикой.
«Что бы там ни брехали —
злую истину чту,
говорящий стихами —
говорит в темноту…
И понятный едва ли
средь обычного дня,
видел я —
понимали,
понимали меня».
Рационализм поэзии Лобанцева, ее философичность, диалектика по-своему диалогичны, не менее, чем марьевская публицистичность. Для того, чтобы полюбить его поэзию действительно, должно быть не сочувствие, а понимание. Конечно, не каждый читатель — Фауст, но есть ситуации, когда на житейском уровне понять поэта может любой. Так поняли его работницы швейной фабрики в абсолютно дискомфортной ситуации — под грохот грозы и при отсутствии света.
«Когда твой ум
устраивался в мире,
мой — размышлял, как перестроить мир.»
Мир для поэта изначально дискомфортен, его мыслям в нем тесно. Вся минувшая история также дискомфортна. Следовательно, надежда только на будущее, а, значит, на прогресс. «Свобода и прогресс — вот жизни цель и снова также, как и всегда», — цитирует он Бетховена.
Все творчество Лобанцева — поток вопросов, лавина их. Риторические ли они или ждут своих ответов от аудитории — по крайней мере это не просто способ усилить эмоциональную выразительность стиха, но и зацепка для размышлений читателя, толчок к диалогу, даже скорее спору.
«Но не сам ли я думать
позволял за себя?»
(«Точка отсчета.»)
«О, как тепло за шторою надежной!
Еще какого смысла и рожна?»
(«Окна»)
«Успеем ли прибавить или вычесть?»
(«Штрих к Эйнштейну»)
«Уж если мыслить — отчего не всласть?»
(«Ответ»)
«Ну, а, может, душа — не в счет?»
(«Часовня и тополя»)
«Что есть добро?»
(«Плотина»)
«Что — человек?»
(«Оправдание Сальери»)
А один вопрос, завершающий стихотворение «Этюд солипсизма», сыграл в жизни поэта роковую, трагическую роль.
В этом стихотворении поэт отказывается от светоносной роли, дарованной ему собственным призванием, — он не может разогнать тьму, воцарившуюся в мире. Пессимистическая картина, созданная здесь, у меня лично ассоциируется с подобием словесного комментария к загадочному «Черному квадрату» Малевича.
«И черный мир предстанет в черной лжи —
нет ничего за рамою оконной.
Невидимы ночные этажи,
неразличимы мертвые балконы».
Поэзия Лобанцева скупа на выразительные средства, поэтому роль его лаконичных, емких эпитетов особенно усиливается. Из эпитета «мертвые» относительно балконов сразу вырастает могучее «Моменто морре» («Помни о смерти»), неизбежное в соприсутствии мировой тьмы.
«И так легко поддаться миражу,
как поддаются страшному поверью,
что глядя в мир я на себя гляжу
и отраженью собственному верю».
Из магии этой ночи и выросла жизненная трагедия Лобанцева. Вот, что пишет его друг — поэт Юрий Конецкий.
«В конце шестидесятых, после «хрущевской «оттепели», когда в стране «победившего социализма» стало круто «подмораживать», в Свердловске было разгромлено крупнейшее литературное объединение — Клуб имени М. Пилипенко.
Поводом для такого свирепого разгона, (сама-то причина лежала в досадно-неуправляемой интеллектуальной самостоятельности молодых поэтов), послужила малозаметная, на первый взгляд, публикация в химмашевской многотиражке стихотворения Юрия Лобанцева «Этюд солипсизма». Парадокс заключался в том, что автор-марксист до мозга костей, критически рисуя крайне субъективный идеализм берклианского толка, верный художественной логике своего стихотворения, вложил в уста рефлексирующего героя следующие «крамольные строки»:
«Что будто в мире вправду ничего —
Ни партий, ни правителей, ни века,
Что лишь во мне одном заключено
Извечное понятье человека».
Короче на поэта-социолога в КГБ было заведено дело, а его первый сборник вышел в свет, когда автору было уже под сорок.
Таково было время. В стране становилось холоднее и пасмурнее. И тут я с Конецким не соглашусь: беркдианские идеи здесь Лобанцевым не просто исследовались и пробовались на зубок, они в этот конкретный исторический момент были действительно созвучны его поэтическому и нравственному чутью, как недоброе предчувствие, вскоре подтвердившееся в действительности.
«Мне некого винить — себя виню.
Мне нечего желать — себя желаю.
А, может, просто ночь я отражаю?
Включите день! И я тогда сравню».
Может быть, потому и была такой острой реакция власть придержащих, что и в этих стихах вызов, приглашение к диалогу, неотвязно звучащий в ушах вопрос. (И, кстати, то же самое неуспокоенное гамлетовское начало, где критерием для поэта является его собственное мироощущение.) Ответ был предсказуем заранее. Если Кант в качестве героя Лобанцева пытался отобрать власть над стихиями у природы, то сам молодой поэт замахнулся на другие привилегии и получил по полной.
Да, фигура Лобанцева была знаковой, как узловая в идейных исканиях уральской интеллигенции его времени. Он и выступал от лица всей советской интеллигенции вообще, ориентируясь во многом на более популярного оракула эпохи — Евтушенко, кстати, заметившего и похвалившего его стихи. Конецкий пишет о друге-поэте Лобанцеве: «Представитель „классовой прослойки“, как окрестили интеллигенцию партийные идеологи, поэт-философ считал творческую и техническую интеллигенцию именно той планетарной силой, которая, гуманно властвуя на пользу творчески раскрываемого потенциала человечества, способна вывести мир к сияющим вершинам Коммунизма.»
«Но органичен тот, кто ограничен!» — писал сам поэт. В своих немногочисленных произведениях он был абсолютно органичен для своего времени с его накалом полемических боев. Но, разрабатывая именно свою стезю, поэт пришел бы к дурной бесконечности, как с Евтушенко, лишившимся своего изначального поэтического окружения, это и случилось, если бы не было в современной ему поэзии разных, дополняющих друг друга поэтов, каждый из которых шел своим путем, взаимодействуя или сталкиваясь в творческой полемике. Явление дурной бесконечности — развития одной и той же идеи до абсурда представлена самим Лобанцевым в поэме «Возмездие», где гибель царя и его семьи как бы самим царем и оправдана: «Тот, кто у власти счастлив и прав», — «Правда без силы — топот на месте,» -звучит из уст представителей новой власти в финале поэмы, вместо сказанного когда-то Александром Невским: «Бог не в силе, а в правде.» Идеализация власти таким образом продолжается уже при новом режиме.
Поэзия Лобанцева, как бы резонируя во времени, и сегодня погружается в формирующие культуру мышления поэтические слои, как разведчик-интеллектуал в эпоху Расторгуя. «Дворец купца Расторгуя» — лучшее эпическое произведение поэта прежде всего потому, что, хотя и основано на конкретном историческом факте, тему поднимает не сиюминутную, злободневную, а фактически вечную, решение которой изначально не ясно.
Преамбулой поэмы становится исторический факт кратко изложенный автором: «Расторгуевский дворец (ныне свердловский Дворец Пионеров) был возведен неизвестным архитектором, осужденным на пожизненное заточение Павлом 1. По дороге из екатеринбургской тюрьмы в Сибирь зодчий покончил с собой, так как купец, обещавший устроить побег, обманул его».
Вроде бы сюжет изначально задан. Тогда почему с таким напряжением читаешь эту поэму? Она не отпускает и уже будучи прочитанной. Как всегда у Лобанцева заинтриговывает не история судеб — история идей.
Сам безвестный архитектор, знающий мудреные слова, с виду из господ, остается как бы в тени своего товарища по каторге — удалого разбойника, который и задает вопрос, до сих пор в нас откликающийся
«Почему нам милей
в темноте, как во сне,
ну а кто поумней —
тот мудрит в стороне?
Отчего, словно бес, —
хоть одно растолкуй —
всюду в души пролез
на Руси Расторгуй».
На это, отвернувшись к стене, обиженный архитектор со злобой отвечает: «Думай сам за себя!» Далее он как бы самоустраняется и из жизни, и из поэмы. Сам факт самоубийства — окончательный шаг этого ухода. А до этого была постройка расторгуевского дворца — попытка выторговать себе желанную свободу.
«Свой талант одолжить — все равно, что предать,
Но — мечтающий жить
должен душу продать!
Осудите его!
Да не спрятать концы;
вы — от мира сего —
тоже в чем-то купцы.
Разве прожили вы
с прямотою в очах?
Разве прожили вы
не солгав, не смолчав?
Со свободной душой
разве прожили вы,
никогда пред судьбой
не склонив головы?»
Сам нравственный уклад общества, где каждый не о душе думает, не талант, богом данный, в себе лелеет, а стремится к ежеминутным выгодам, хочет захапать кусок пожирнее, порождает господство наиболее удачливого из толпы — купца Расторгуя, возводит ему дворец.
«Чтобы люди глядели
запрокинувши лбы,
чтобы шапки летели
в пыль с макушек толпы!
Чтобы вечером гордо
выходить на балкон
и чтоб кланялся город
с четырех бы сторон…
Пусть напомнят немного
кандалы и острог:
дар, который от бога, —
это вовсе не бог».
В частной ситуации не только автор, но и сам Расторгуй видят проявление вечной борьбы, которая легко и по доброму не завершится.
«Повидал я людей.
Кто и впрямь даровит —
не об искре своей,
а о пламени мнит.
…Уж прости мне, дружок:
коли смута везде —
толк твой славен, дружок,
но в изрядной узде».
Завершает поэму гиперболический образ купца, оседлавшего русскую тройку и направляющегося в церковь помянуть архитектора. Прогноз Лобанцева о пути России к дикому капитализму по костям русских талантливых непротивленцев оказался неожиданно точным, может быть, даже для самого поэта.
«Ну-ка, мелкий народ,
стороною держись,
Кто навстречу попрет,
искалечу всю жизнь!
Разбегайся, толпа,
и, коль минет судьба,
помолитесь тогда
каждый сам за себя»
Какой же выход находит поэт в условиях временной победы расторгуевских нравов? За кем видит возможность победы окончательной? Все-таки за интеллектом. Стихотворение «Николай Кузнецов» по своему пафосу несколько созвучно сериалу Лиозновой о Штирлице, его успеху в те годы, атмосфере вокруг него. В совершенно несовместимых с лобанцеским пониманием нравственности условиях, во тьме, куда, как мы знаем, и пытался говорить поэт, Лобацев опять-таки считает, что единственным источником света хотя бы для самого себя может стать сам человек, его душа, его духовный мир. О Кузнецове как об историческом лице написано и рассказано вроде бы исчерпывающе много. Но стихи эти не только о нем, в них скрытая подсказка на многие времена, методика затаенного внутреннего роста, предвещающего великий победный бросок вперед и прорыв в будущее.
«… Нынче пасмурно над Москвою,
На Урале идут дожди,
Ах, как хочется
Быть собою!
Подожди еще, подожди…
Пусть душа возражает глухо,
ей не дай себя взять врасплох;
сила духа —
в уменьи духа
притвориться, что он убог.
В беспощадной игре без правил
мысль важнее, чем пулемет,
Тупость думает, будто правит,
Разум ведает,
чья возьмет».
Рационалист Лобанцев показывает легендарного героя войны не лицедеем, а мыслителем, близким по сути своим современникам-интеллигентам. Гамлетовский вопрос: «Быть иль не быть?» — здесь решается однозначно: быть и сохранить ту самостоятельность в суждениях, а затем и поступках, которые в тяжелую годину неизбежно оказываются нужны стране. Без них никакой подвиг невозможен, ибо личная ответственность — та же самостоятельность. Только благодаря опоре на себя, на свой характер, один в поле — воин. Мелкие детали раскрывают психологическое напряжение разведчика, поскольку двойная игра никому легко не дается.
«Душит ворот,
От гнева душно.
Жгучий пот по виску течет.
Гибель может быть прямодушна,
для победы —
нужен расчет»
Я уже упоминала, что любимым поэтом Лобанцева со школьных лет был Владимир Маяковский. Убежденность высказываний, взаимопроникновение различных стилистических пластов, порой построение самой строки — это то, что почерпнул Лобанцев из творчества гиганта революции для собственной поэзии. И кто так остро, как он, мог посочувствовать трагедии поэта, на выставку которого не пришли читатели. Неизбежно тут было задуматься и о своей судьбе во времени, о невстрече со своей аудиторией. Вот строки из стихотворения «Маяковский на выставке «ХХ лет работы», на мой взгляд, одного из самых исповедальных для поэта.
«Конечно,
вершиной
владеть нелегко:
взберешься —
не вышло бы боком!
Быть может,
не стоило так высоко,
и не было б так одиноко»
Мы с Юрием Леонидовичем учились в одной школе. В разные периоды времени, но зачастую у одних и тех же учителей. Это моя мама, Маргарита Ивановна Захарова — учительница литературы Лобанцева воспитала у своих учеников такую любовь к Маяковскому, что они это отношение к его стихам несут через годы и узнают друг друга по перекличке множества знакомых строк, как по паролю, передавая свое поэтическое пристрастие детям и внукам. В те годы у нас в школе, возглавляемой директором — заслуженным учителем истории Сергеем Васильевичем Ивановым, процветало самоуправление, любая инициатива поощрялась, а отличные оценки легче всего было получить дополнением к рассказу учителя. Хорошая, честная школа была в рабочем районе ВИЗа. Мы и не знали, что жизнь не везде такая, и что в большом мире чаще станут преуспевать те, кому с детства учителя, да и родители внушили: «Не высовывайся!» Не об этом ли у Маяковского-Лобанцева?
«Но славили вы
атакующий класс,
так где ж пролетарские братцы?»
— Льнут к «раппам»:
нельзя выделяться из масс —
ведь это и есть —
отделяться».
Дальше в стихотворении о поэте Маяковском формулируется главное кредо поэта Лобанцева.
«А лефы?
Для них вы — надежда и флаг!
Не им, то кому вы роднее?»
— Все пьют из речушки по имени «факт»,
По мне,
выше факта
— Идея…»
Ну, а дальнейшие строки поэта прицельно угадывают для чего же я в эпоху почти беспросветного постмодернизма взялась за эту книгу, да еще и дала ей столь громкое название. Я согласна с Вами, Юрий Леонидович!
«Стихи призывают.
Плакаты орут.
Жизнь хочет
другого искусства?
Пусть ветры притихли —
вершины зовут,
и в душах без этого —
пусто!»
В Маяковском Лобанцев находит Поэта-двойника, который вопреки несправедливой устроенности усталого настоящего, всей душой устремлен в будущее, уверен, что там он нужен, и там его строк ждут.
«Идет Маяковским
усталая Честь,
дыша несдающейся бурей —
сквозь долгое время,
которое есть,
в такое,
которое будет».
В перспективу того времени, которое будет, постепенно разворачиваются все «Исетские поэмы» Лобанцева. «Сибирский тракт» — это развенчание революционных иллюзий, демонстрация их обреченности. «Возрождение» («Красная суббота») проявляет конкретику той дорогой цены, которой даются России исторические преобразования, когда «шатают Русь мечта или химера». В контексте поэта прочитывается скрытый вопрос — химера и мечта совсем не равны между собой. Кто из них запустил в данном случае механизм перемен? Очередная разновидность вопроса: «Быть иль не быть?» — «Тебя страшит кровавая беда? Но в ней ли суть?» Дело не только в жертвах политического переворота, но и в парадоксах общественного прогресса, который, зачастую обманув мнимым рывком вперед, очевидно и зримо откатывается назад. Вместо Кантовского звездного неба над головой и нравственного закона внутри нас — мелкие детали всеобщего распада.
«…Стекла брызнули из окна.
Тьма затянулась туже.
Черным копытом вбита луна
в дно придорожной лужи».
В этой поэме центром истории становится не просто личность поэта, а географически окружающее его ближайшее пространство. Мир, в котором Лобанцев рос и учился, вдруг наполняется призраками истории, ее повседневностью.
«Бродят ливни косые
между сосен и скал.
Справа, слева — Россия,
посередке —
Урал.
Там, под мокрым увалом,
у запруженных вод, —
в середине Урала —
Верх-Исетский завод».
Наверное, на фоне многочисленных, разбросанных по всей современной России заглохших заводских корпусов вполне уместно звучат слова из тех, далеких послереволюционных лет выходца из деревни — рабочего Василия.
«Все горланили —
дескать,
жизнь на новый манер.
Крышка —
Нечего делать,
Господин инженер».
И далее идет монолог поэта, явно ощутившего себя современником той безжалостной разрухи. Сегодня в восприятии читателя горький, обличающий пафос этих строк заново помножен на разочарования демократии и на хаос нагрянувшего в мир кризиса.
«Проклятый ветер!
Дует из окна —
казачьей пулей высажены стекла.
Пора понять:
история жестока,
и разуму не следует она.
Какой же толк в премудрости наук,
коль миром правит грубая стихия,
и как корабль штормующий, Россия,
плывет с кормилом вырванным из рук?
Кому в прогресс поверится,
когда
повсюду грязь, развалины и трупы,
и, словно руки, простирают трубы
к бесчувственному небу города!
…А, может быть, и не было вершин —
один мираж, —
и все идеи лживы?
В них — лишь души прекрасные порывы,
но что они —
без угля и машин».
И, как это в общем-то всегда бывает в поэзии, лирический герой всю ответственность берет на себя. Это ему, поэту, не хватает мощи дарования, чтобы гармонизировать жизнь, найти необходимое равновесие идей и реальности.
«А может, просто ты —
не тот мудрец,
кто знает путь
к согласию и братству,
где мысль, добро и труд
соединятся,
смирив разлад рассудков и сердец?»
Это еще один вопрос, характерный для поэта, заданный самому себе и, возможно, самый главный в его творчестве.
В самой поэме Лобанцев находит вроде бы облегченно универсальный выход. Против угнетающей стихии хозяйственного кризиса и разрухи поднимается стихия всеобщего творческого самовыражения — народного праздника бесплатного труда, «Красной субботы». Вроде бы лекарство давно списанное нашим рассудочным временем, однако чем-то поэма все-таки цепляет. И автор поэмы принадлежит к тем, кому «и рубля не накопили строчки», как писал его кумир — Маяковский. Но какое богатое наследство оставил нам читателям, любителям большой по масштабу мыслей и форм поэзии, бескорыстный, пролетарский поэт уже очевидно. А его последователь Лобанцев, может быть, именно опыт своего трудового подвига, своей неслучайной для Урала судьбы пытается передать нам, потерявшим на сей день работу профессионалам, интеллигентам, гуманитариям. Да и не только нам, в наше десятилетие, а и всем, кто может оказаться в подобной ситуации.
«- Робить идете? За хлеб иль пятак?
— Будет и хлеб, а покамест — за так».
Работа, как хлеб насущный, согласно Лобанцеву, нужна самому человеку для того, чтобы сберечь собственную силу духа, индивидуальность, мастерство. И здесь поэт-интеллектуал оказывается по сути неожиданно близок к строителю Магнитки — Борису Ручьеву.
В «Торговой площади» мелкий торговец на введение государственной монополии торговли отвечает террористическим актом — убийством молодого дружинника, не столько по злобе, сколько оказавшись в зависимости у крупных барышников. Коррупция в частной торговле и убийце поневоле судьбу ломает. Напрашивается логичный вывод: «Всякая воля — рабство, если гребешь к себе». Для поэта это только частный случай выбора между самим собой и чужим, навязываемым со стороны. За выбор каждый его герой несет собственную ответственность, что вполне соответствует современным требованиям жизни в демократическом обществе, где волей неволей приходится прощаться с инфантилизмом.
Жестокость истории кажется Лобанцеву оправданной, когда от нее зависит судьба Отечества, утверждение силы государства. В наши дни, когда опасность государственного распада заставляет не только ветеранов ностальгически возвращаться к годам расцвета советской империи («Дума о Сталине» Юрия Конецкого) такие трагические параллели в одной из «Исетских поэм» «Дума Татищева» кажутся вполне актуальными.
Изначально в поэме очерчены две фигуры: палача и жертвы.
«Палач был специальностью доволен.
Он понимал,
что в чем-то подневолен,
но, рассуждая о добре и зле,
он утверждал,
что счастье — в ремесле».
Бунтовщик, если он таковым был, а не просто сознался под пытками в том, что не совершал, предстает перед читателем обезволенной жертвой. На его вопросы в этом мире ответов уже не будет:
«О чем он думал в свой последний миг,
бунтарь,
пока не рухнула секира?
Быть может, о бессмысленности мира,
к которой в жизни так и не привык».
Не государство служит человеку, а человек живет и умирает, чтобы подпитать ненасытное и чудовищное государственное устройство, добавить сил этому бездушному идолу. В диалоге: Палач — Бунтовщик, незримо участвует, как отдельный персонаж, державный центр России. Его всесильный дух витает над этой расправой.
«И был вдали незримый Петербург,
которому враги еще грозили,
И надо вновь ценою чьих-то мук
платить
за возрождение России».
Во главу всего этого уральского мироустройства в данной поэме поэт возводит мыслителя Татищева, действующего как жестокий государственник, отстранившийся от страданий отдельной человеческой личности, считающий их оправданными во имя высокой цели.
Нарочито аскетичным, интеллектуальным показан дом Татищева, словно келья или кабинет ученого, несущий на себе отпечаток намоленности, просветленности.
«А здесь, в избе,
лампады тихий свет
и стопка книг от тяжести кренится.
И тщится разгадать суровый век
себя
на недописанной странице.»
В чем же разгадка? В тоталитаризме, в том, что идея типа обилия «фабричных трудов» для просвещенных правителей оправдывает любую кровь, отсутствие всяческих гуманных установок.
«Черед времен?
Все те же времена!
И сколько крови, подлости и риска,
и сколько слез в истории Российской,
и сколько правд!
А истина — одна…
И пусть прекраснодушные лжецы
вопят о сострадании,
о боге —
есть плеть для всех,
отставших на дороге,
которую укажут мудрецы».
Завершает поэму намек на извечность такого положения дел не только в России, во всех государствах когда либо существовавших на Земле.
«…как будто бы отсчитывая эры,
тела рабов качались на ветру».
Да, конечно, в этой поэме и сам Лобанцев предстает как русский государственник, готовый принять жесткие условия игры, по которой усиливается государственная мощь, даже вопреки интересам отдельной личности. Но процветание это — часть всего человеческого прогресса. Поэтому и здесь роль идеи (в случае с Татищевым — спасительного развития промышленности) становится первостепенной. Уже все государственное устройство вмещается в метафору однажды поэтом придуманную: «Я вечно славлю тяжесть кулака, который сжат во имя права думать.» Не все успел выразить,
доформулировать. А диалог его с мыслителями от литературы продолжается. Цитирую Льва Анненского:
«В этом (нашем) геополитическом пространстве все-равно кто-то должен созидать межнациональное государство, то есть строить империю…
Почему у русских вышло? Потому что у русских никакой изначальной русской модели, под которую они хотели бы подогнать мир не было, а сформировались русские в результате усилий многих племен вокруг идеи, взятой напрокат у греков. Идея была вселенская, а не русская. Вадим Кожинов называет этот тип власти идеократия. Можно иронизировать насчет такого типа власти, но тысячелетняя история России — это все-таки в целом не отрицательный, а положительный опыт…“ (Лев Анненский. „Меч мудрости или русские плюс…». Москва. Алгоритм, 2009)
Что-то есть здесь близкое к тому, что искал в истории Лобанцев. Но с чем-то он, возможно, бы и поспорил. А именно, скорее всего, не согласился бы, что идея могла быть взята напрокат, а не выработана здесь изначально, не выловлена в земной атмосфере интеллектом самих наших пращуров, которые ведь тоже, наверное, как и он, свой отсчет начинали с себя: своего сердца, своего времени. Кто знает? Недоспорили. Недоговорили.
Поэзия Лобанцева при чтении способна открыть немало суровых истин, не только из мира прошлого, но и из времен грядущих. Общение же с этим большим, несколько флегматичным человеком заражало доброжелательностью, вдумчивой созерцательностью. Возродив с помощью друга — журналиста и поэта Ивана Васильевича Малахеева, бывшего в конце семидесятых главным редактором газеты «На смену», клуб имени Пилипенко, Лобанцев стал предводителем целого поколения в те годы начинающих. (Уральские поэты предшествующего поколения шутливо прозвали это объединение «Клуб имени клуба Пилипенко»). При популярной тогда молодежной редакции Юрий Леонидович собрал вокруг себя пишущих и преданных поэзии молодых и стал учить прежде всего самостоятельно мыслить. Чему он учил в первую очередь — стихотворение должно содержать интересную, неожиданную мысль, а уже выбор художественных средств зависит от степени таланта автора. Здесь каждый волен проявлять себя по своему. Как наставник и друг он никогда не был диктатором. «Мне посчастливилось посещать его занятия… вместе с В. Денисовым, Е. Захаровой, М. Максимовских, Л. Туровской.», — пишет один из участников объединения Владимир Тугов, московский поэт, в поэтическом сборнике «Дыхание земли», куда включил и стихи Лобанцева, и наши, тех, кого перечислил в этом вовсе не полном списке. Друзья- поэты Юрий Конецкий и Любовь Ладейщикова посвятили ушедшему другу немало прекрасных строк. До сих пор чувствуется, как им его не хватает. Конецкому удалось выпустить посмертный сборник стихов Лобанцева «Оправдание Сальери». Недавно в Екатеринбург с восторженными воспоминаниями о своем наставнике в поэзии приезжала московская поэтесса Людмила Туровская. На стареньком здании школы №1 висит мемориальная доска памяти Лобанцева, она была первой, посвященной поэту, в Екатеринбурге.
Но… «лежит неявленная миру, рукопись с обычною судьбой,» — пишет Юрий Конецкий, не только наравне с одноклассниками поэта принимавший участие в открытии памятной доски, но и подготовивший к публикации полное собрание сочинений незабытого им соратника в поэзии? Будет ли когда-нибудь открыт непрочитанный и неизданный Лобанцев? Думается, его неизвестные стихи помогли бы нам лучше разобраться и в той эпохе, до которой он не дожил? Многие из тех идей, которые занимали поэта, до сих пор витают в воздухе, да и гамлетовкий вопрос «Быть иль не быть?» по-прежнему вечен, сколько бы интерпретации у него не было.
©Елена Захарова
Материнская вселенная. Небесное и космическое в поэзии Любови Ладейщиковой

Космический реализм Любови Ладейщиковой — это многомерный мир, обладающий художественной и смысловой новизной и отражаю- щий современное состояние Духа и Разума мыслящей части человечества… Привожу строки из автобиографического очерка Любови Ладейщиковой: «Я была студентка УрГУ, но судьба обрушила на меня все сразу: и « вулканическую любовь», и раннюю смерть родителей, и свадьбу, и похороны, и рождение, в том же, 1968, високосном, желанного нашего с Юрием Конецким сына, осиротевшего десятилетнего братишку, а через полтора года — дочку… Но именно тогда, в цветущий июньский полдень, когда родился наш ненаглядный первенец, я, переживая трагическую симфонию смерти и всепобеждающей жизни, в родильном доме (!), написала первые, исцеляющие и просветляющие душу материнские стихи: « Я стала матерью. Я сына в свою бессонницу внесла, а с ним и мужество, и сила, и нежность в сердце проросла». Это и стало моим творческим преодолением и спасением любовью». Анализируя творчество Ладейщиковой, я решила привести полностью не только новые, «космические» стихи, но и это, давнее, но «судьбоносное стихотворение».
Ю.К.
«Одно твое лишь имя помнила,
Стояло солнце высоко.
Была я нежностью наполнена
Густою, словно молоко.
Теснила грудь рубашка белая,
Казалась комната мала —
Я для тебя, любимый, сделала
Все то, что женщина могла.
Поверь мне, жизнь неиссякаема,
Мы будем вместе много дней,
Хотя пока недосягаема
Для дерзкой нежности твоей.
Живу в высоком, светлом тереме
И мальчик маленький со мной…
А ты стоишь внизу, растерянный,
Счастливый, юный и хмельной».
Именно в роддоме «жизнь и творчество слились в единый процесс». Начался новый жизненный и поэтический цикл, ставший не темой, а выстраданной материнской философией. Стихотворение это вошло во многие сборники и антологии. Например, придирчивый и добрый В. Астафьев именно эти стихи включил во всероссийскую антологию одного стихотворения «Час России». С Борисом Ручьевым Любовь Ладейщикова тоже лично знакома не была, но зато поэт Юрий Конецкий не раз вспоминал, как он, после пятого Всесоюзного совещания молодых писателей ездил по приглашению Бориса Александровича к нему в Магнитогорск складывать свою книгу. Мастер, с удовольствием сделавший строгий отбор, стал расспрашивать молодого поэта о житье-бытье… Тогда Юрий протянул «мэтру» сложенный вчетверо листочек. «Сын у нас недавно родился… А это Вам стих — от моей Любы». Ручьев, пробежав глазами, встрепенулся: «Ты смотри! Любит-то тебя как!.. И слова не заемные, грудные…» — и, помолчав, сочувственно, по-стариковски, добавил: «Ох, трудно вам придется, ребята… Но ты, слышишь, береги ее…» Так что напророчил Борис Ручьев долгую совместную жизнь двум поэтам! А по его поэмам Любовь Ладейщикова писала курсовые работы, что стало не только данью уважения, но и большой, творческой школой. В 1975 году Любовь Ладейщикова, пройдя строгий творческий конкурс, представляла Урал на VI Всесоюзном совещании молодых писателей. Благословляя к изданию рукопись ее книги «Материнский час», очарованный великим целомудрием слитых воедино женской и материнской страсти, руководитель семинара поэт-фронтовик Михаил Луконин на уровне открытия отметил долгожданную единственность ее поэтического мира: «Тысячелетия женщины рожали богатырей, но почему- то ни одна из них — до Любови Ладейщиковой — не написала об этом глубокую материнскую книгу». В том же году стихи, а особенно поэму «Материнский час», щедро похвалила Людмила Татьяничева на своем творческом вечере в газете «Красный боец». Редактор решил представить гостье и публике молодую поэтессу, но Татьяничева ответила, «что ей уже знакомо это имя, вот новые стихи ей хотелось бы сегодня послушать». Понимая, что люди пришли на встречу с самой Татьяничевой, Любовь Ладейщикова, прочитав пару стихотворений и отрывок из поэмы, несмотря на восторженный прием, продолжать чтение отказалась: «Сегодня ваш праздник!» — ответила она любимому поэту… Но Людмила Константиновна пригласила Любу на чашку чая в гостиницу «Свердловск», и праздник продолжался! Попросив прочитать поэму полностью, Татьяничева назвала ее «несомненной удачей», а голос поэта Любови Ладейщиковой «узнаваемым и сильным». И доверительно добавила, что сама «так и не взялась за крупные формы». Действительно, поэм Татьяничева не оставила! Но торжественный, лиро-эпический склад ее поэзии — явное подтверждение предрасположенности к поэмному жанру.
Еще в 70-х — 80-х годах ХХ века родились книги Любови Ладейщиковой «Полдень», «Материнский час», «День вечности» и «Рождение женщины» (М., «Советский писатель», 1989. Тираж 25 000 экземпляров!) Книги разошлись по стране, и были названы на страницах «Литературной России» московским критиком Иваном Панкеевым «Материнской Вселенной»: «Ее стихи наполнены глубинным материнским дыханием», заставляющим забывать о сиюминутном и вспомнить о вечном… Любовь Ладейщикова воз- вращает нам прекрасный идеал — портрет юной женщины с младенцем на руках, отстаивая право этой «чистой красоты» на бессмертие:
«Над моей головой — солнца нимб золотой,
Девять лун вызревают под сердцем…»
«У меня на руках запеленатый мир —
Мой земной и небесный ребенок».
(«Нимб»)
Солнце — причально-ключевой образ поэзии Любови Ладейщиковой, именно оно объединяет все ее книги и согревает животрепещущим теплом. Но самое удивительное, наверное, в том, что естественная тяга лирической героини к нравственной чистоте и гармонии воспринимается в нынешнем загрубевшем мире не иначе как ярчайшая форма протеста против лавины разрушений, безверия и цинизма.
«Полмира пламенем объято,
Мадонна во грязи распята,
Как прах, развеяно добро».
«Протестующая гармония» Любови Ладейщиковой в поэмном триптихе «Материнский час», «Живое кольцо» и «Взрывная волна» пред- стает перед читателем, «как растущий образ матери, выходящий за рамки обыденности, сомкнувшись с нетленными событиями отечественной истории»:
«…Не так-то много мальчиков взошло
В ХХ веке, в год рожденья сына:
Минувшая война прожгла столетье
Взрывной, незатухающей волной.
Мне повезло: огонь вернул отца.
Я заново вынашиваю время, —
Но время беспокойно, как ребенок,
И очень важно, в чьих оно руках.
(«Взрывная волна»)
Книга избранных произведений Любови Ладейщиковой «Колыбельная тайна», выдвигавшаяся в 1994 году на соискание Государственной премии России, как очень точно подметил из- вестный критик, Леонид Ханбеков «стала откровением для женской и открытием для мужской половины человечества, поэтому созданный ею неповторимый мир — „Материнская Вселенная“ — выдающееся и общезначимое явление русской поэзии».
«И жила, и цвела, и бессмертна была —
Майской птицей и райским растением,
Обручилась с звездой — и звезду понесла,
Ощущая небес тяготенье,
Но, вкусив невесомую тяжесть плода,
Поняла от восторга сгорая:
От слияния звезд — вызревает звезда —
И рождается вечность вторая.
(«Вечность»)
Мироздание Любови Ладейщиковой, расширяясь, становится масштабно-запредельным и бездонным, но, обладая огромной энергетической силой, может уместить любовь и вечность в одной маленькой комнате:
«С груди моей — твоя отброшена рука —
Как ты нетерпелив!.. Но я ласкаю сына…
И пальчики его на кратере соска —
Дороже мне в тот миг, хоть вечность триедина.
И Млечный всхлип звезды, и луч под потолком
Благословляют жизнь, уснувшую из сердца…
И сразу две луны с кипящим молоком
Сияют возле губ — мужчины и младенца.
(«Две Луны»)

Когда женщина лелеет и пестует дитя, ей трудно представить, что это лишь солнечный день ее вечности, ее сегодняшнее счастье, лету- чее, как время, что непременно «окрепнет оно, повзрослеет и умчится дорогой своей…» Но таково сердце даже самой мудрой матери, умеющей все видеть и все понимать, что она, с трудом отняв ребенка от груди, не способна оторвать его от родовых корней. Являясь хранительницей рода человеческого, мать, до конца дней своих, испытывает с детьми не только генетическую, но и духовную связь:
«Мой вечный страх, не веяние века,
Тысячелетья не могу уснуть…
Не отвергай, дитя, мою опеку,
Ее благословляющую суть…»
(«Связь»)
Проникновенный и чуткий лирик Алексей Решетов, с которым Любовь Ладейщикова познакомилась лишь в 1999 году, на Пушкинском юбилее, признался, что «три десятилетия с восторгом читал ее стихи в Перми, вместе с другом, поэтом Виктором Болотовым». Признание это стало взаимным и драгоценным подарком судьбы.
«Сердца насквозь прочитаны, как книги,
Где слов настрой родней, чем брат с сестрой,
Поэзия!.. Бессильны все интриги,
Когда гора встречается с горой.
Цветут подножья, светятся вершины,
Когда с поэтом сходится поэт…
Душа и Дух — не женщина с мужчиной,
А только свет — взаимный, долгий свет».
(«Взаимный свет»)
Алексей Решетов, размышляя о творчестве Любови Ладейщиковой, высказал очень интересные мысли: «…Редчайшее состояние глубины и высоты и делает Вашу поэзию истинной, — высоко-значимой для чуткого земного сердца, для думающего человека, нуждающегося в поддержке и сострадании… Это высочайшая глубина, я бы сказал… Вы для меня, как Богородица в русской поэзии, поскольку (и это, заметьте, впервые, кто понимает) каждое слово выношено у Вас под сердцем… Это поэзия Матери, а не о матери, взгляд изнутри, а не со стороны. Стихов о матери написано великое множество, а вот поэзия насквозь материнская — это только у Вас, и ничего подобного, насколько мне известно, в литературе не было…» Всего три года и три месяца дружеского общения… В 2001 году глубочайшего лирика Алексея Решетова не стало. Это невосполнимая потеря и нетленная страница благодарной памяти, поскольку:
«Пишущих тьма, да не каждый поэт!
Но нерушима основа
Сердцем граненого слова».
На подаренной книге «Темные светы», в июне 2001 года Алексей Решетов написал: «Спасибо за каждую вашу строчку…» Увы, поэт не держал в руках вышедших в 2003 и 2006 годах книг «Бездна» и «Премия солнца», но Любовь Ладейщикова из тех, что свято верит в бессмертную связь взаимопроникающих душ и в то, что ушедшие друзья слышат ее бесстрашное слово. Им посвящены многие стихи, среди которых: «Запретные звезды», «Кочевая Россия», «Генетический код», «Стая золотая», «Отпевание друга», «Полынья» и другие.
«Бремя полынное, горькое семя, —
Свет в полынье не погас!
Через огонь перепрыгнуло время,
Как одичавший Пегас.
Сбито копытом мое поколенье,
Срезан рубиновый луч,
Чудом зависло над бездной мгновенье,
Крестный не выронить ключ.
Жизнь перелетная, племя младое,
Пламя — в колодезный рост…
Русь — полынья с ледяною водою,
Полная тающих звезд».
(«Полынья»)
Но даже в период распада, в период духовных коллизий и миграций, Любовь Ладейщикова смотрит «в земные глазницы», «словно мать на больное дитя». Причем Земля всегда была в поэзии Матерью человечества, но расширение Материнской Вселенной изменило угол зрения и вот уже Любовь Ладейщикова обращается к Земле с исцеляющей материнской нежностью:
«…Россия!.. Росиночка! Дочка!
Тебя я ласкаю, лелею,
Давно нет вестей от сыночка,
Так дай, хоть тебя пожалею…»
(«Колыбельная для России»)
Есенин и Блок, думаю, поняли бы, почему нуждающаяся в защите Земля сегодня не столько жена и мать, сколько дочка. И, воистину, даже в эпицентре землетрясения, на развалинах мира, когда рушится крыша над головой, «женщина дышит будущим», несмотря на вавилонское столпотворение и полное разрушение вековых устоев и традиций:
«…Нищает Русь, душа бомжует,
Повсюду говор кочевой, —
Но судьбы нищих и буржуев
Одной повиты бечевой».
(«Кочевая Россия»)
И, несмотря на все это, еще уцелевшая женщина «из русских селений», — берет за руку осиротевшее дитя и ведет в уцелевший дом. Но, глядя правде в глаза, приходится признать, что появилась новейшая генерация женских особей — «стервозных дамочек в бриллиантах», у которых напрочь «потерян инстинкт состраданья и к нищей судьбе у господ нулевой интерес». Во время объявленных войн, сирот было не меньше, но хлеб страна делила, по словам Л. Татьяничевой, «справедливо и сурово», государство и добрые люди берегли свое Будущее. Сегодня «золотой миллиард» объявил остальной части человечества замаскированный под «демократические успехи» геноцид. «И скольких сирот еще „хищное время“ обманет?» («Сироты России»). И, если тысячи голодных и, видимо, никому не нужных детей не может обогреть относительно спокойная пока что Россия, то сколько же их в странах, где с помощью бомбардировок наведен убийственный «мировой порядок».
«Лег на лопатки весь подлунный мир,
Добро и разум замутил эфир
Пиратскою пиаровскою хваткой…
Мозг состоит из половинок двух,
Но как смердит клонированный дух
В объятьях одномерного порядка».
Без преувеличения скажу, что поэзия Любови Ладейщиковой настолько срослась с дыханием Земли и Космоса сложностями собственной судьбы и вызовами эпохи, что, живя в бесконечном пространстве, обзавелась особым зрением, ощущая не только исторические, но и глубинные «геологические» пласты времени:
«Не отрезок пути —
Поясок вокруг тонкого стана,
Но мятежные ангелы в бездне мятежной кружат…
Все проходит:
Великие люди и дивные страны
Атлантидами духа у нас под ногами лежат».
(«Отрезок»)
Именно потому ее поэзия, полная философских обобщений, материнских откровений и художественных открытий, любима ценителями поэзии России самых разных возрастов и профессий, причем мужчин среди ее благородных читателей, пожалуй, не меньше, чем женщин. Это подтверждают сотни восторженных звонков и писем, начинающихся словами: «Многоуважаемая сестра милосердия русской Поэзии», (геолог из Подмосковья), и заканчивающихся примерно так:
«Третий раз за десять дней перечитываю Вашу „Премию Солнца“… Все так емко, образно и с такой космической глубиной, что Вы заставили меня крепко задуматься… Спасибо Вам за Божественные стихи!»
(Журналист из Красноуфимска).
А вот и совсем недавняя надпись на антологии от ее московского составителя:
«Человеку космического таланта и вселенского духа. Богине Русской поэзии — Любови Ладейщиковой».
Конечно же, это осязаемая поддержка, особенно в тот момент, когда из стана недоброжелателей летят «чернильные стрелы». Но Любовь Ладейщикова научилась воспринимать и хулу, и похвалу с мудрым достоинством и без всяких обольщений.
«И встречным утешением бессонниц
Летят в конверт открытого окна
То письма лебединые — поклонниц,
То свет в ночи — мужские письмена».
Любовь Ладейщикова в автобиографии признается, что среди «восхищенных» и «просвещенных» ее читателей были и три женщины, три личности, три, отразивших время, прекрасных поэта ХХ столетия — Людмила Татьяничева, Юлия Друнина и, чуть позднее, Римма Казакова.
«По возрасту я была им дочерью, но, по их просьбе, мы общались на равных… Правда, Татьяничеву, я называла только по имени-отчеству, и горжусь, что стала инициатором учреждения Всероссийской литературной премии ее имени, которой награж- даются только представители реалистической, гражданственной ветви отечественной поэзии».
Хочется привести очень кратко два рассказанных мне удивительнейших случая…
Юлия Друнина, отъезжавшая из Коктебеля в Москву, пригласила Любовь Ладейщикову заглянуть к ней: «Хочу тебе кое-что показать!» Когда Люба зашла в номер, то увидела посреди комнаты чемодан, а вокруг, на полу, огромное количество разбросанных, прекрасно изданных книг… Отвечая на удивленный взгляд, Друнина сказала: «Надарили, читать невозможно. Это все я оставляю здесь, а вот это — единственное, что беру с собой, смотри!» Заглянув в чемодан, Люба увидела желтенькую книгу — Любовь Ладейщикова «Полдень».
«Это моя книга».
«Вот именно! — засмеялась Юлия Друнина.
— Я хочу, чтобы Москва знала твое имя!»
Рассказываю всю эту историю, как запомнила, поскольку она и без комментариев о многом говорит…
А вот другой, курьезный, но, если вдуматься, очень серьезный случай, — пересказать его еще сложнее. В Подмосковном Переделкино, в просторном номере поэтов Любови Ладейщиковой и Юрия Конецкого собрались приехавшие вместе с их сыном студенты Литинститута, поэты и критики. Вдруг незакрытая дверь распахнулась, и в комнату влетела сильно взволнованная Римма Казакова… Почти не замечая присутствующих, она встала на колени, высоко подняв прочитанную, видимо, ночью книгу Любови Ладейщиковой «Рождение женщины», только что вышедшую в издательстве «Советский писатель». Все были в шоке… Люба бросилась к ней: «Встаньте, ради бога, Римма Федоровна!» Но та лишь добавила: «Ты написала ве- ликую книгу! Сказала за всех женщин! Вы не понимаете, какая величина рядом с вами, — и уже спокойнее, добавила, — но придется это признать!» Заметив изумленный взгляд Ладейщиковой, Казакова сказала: «Зови меня — Римма. Я для тебя — не Римма Федоровна!» Дальнейшее опустим. Но я знаю, что этот неадекватный, но глубоко человеческий поступок прорвавшегося неожиданно из творческой глубины внутреннего духовного родства только возвысил Римму Казакову, что и подтверждают написанные по этому поводу стихи:
«Но я люблю тебя, гордыня,
За слово нервное, за то,
Что обо мне сказать доныне
Из смертных не посмел никто».
(«Гордыня»)
Любовь Ладейщикова пишет в автобиографическом очерке: «Первым искрометным живым поэтом, встреченным в начале шестидесятых годов, был тогда еще безбородый Борис Марьев… Биополе вдохновения, исходящее от него, как по- ток света, пронзило меня насквозь…»
Было это на сцене уралмашевского клуба имени Сталина, где Люба Ладейщикова осмелилась по просьбе Бориса Марьева прочитать свои стихи. Читали и другие, но только ей, единственной, поэт пожал руку со словами: «Эта рыженькая девочка — поэт!»
«Пронзителен был и светел
И взгляд его, и совет,
А голос — взволнован, как ветер…
…Сама ничего не забыла
И вам не велю забывать».
Эти покаянно благодарные слова написаны в день смерти бессмертного, казалось бы, «генератора поэтического духа», поэта Бориса Марьева.
А тогда, в 1965 году прошлого тысячелетия с настойчивой закономерностью Борис Марьев оказался руководителем литературной группы при газете «За тяжелое машиностроение», куда впервые, но в один день и час пришли два восемнадцатилетних поэта — студентка УрГУ Любовь Ладейщикова и уралмашевский термист, бурлящий, как кипящий чайник, Юрий Конецкий. О появлении в литературном объединении «сразу двух талантливых поэтов» написали в газете. С тех пор они не расставались. Немаловажная деталь — Юрий, еще будучи школьником и живя в Серове, первое, что увидел на экране телевизора — победительницу конкурса старшеклассников — изящную Любу Ладейщикову, и по уши влюбился, решив, что, когда встретит, то непременно женится на ней…
«Нас юность за руку вела, —
Поэзии живая книга,
Она с тобою нас свела,
Еще не сознавая мига
Венчального… Построив дом,
Мы Музу в гости пригласили:
«Нет, оставляю Вас вдвоем». —
Ушла. И свет не погасила.
С тех пор бежим, бежим за ней,
Хоть праздник молод наш и жарок,
Не зная ничего страшней
Чем Музы свадебный подарок».
(«Подарок»)
Клуб Пилипенко… Областные и Всесоюзные совещания молодых писателей… Искрометная любовь друг к другу и к поэзии, закончившаяся свадьбой… Новые стихи с той поры, все раз- мышления и открытия были пронизаны познанием «второй половины человечества», через него — любимого, современника и друга… Но поэтические семьи, длящиеся вечность — явление редчайшее. Поэтому умопомрачительные поцелуи перемежались с целомудренными раздумьями… И, наконец, Любовь Ладейщикова произнесла: «Мы будем вместе много дней». Так создалась «уникальная двухполюсная энергосистема, независимая цивилизация, прицельно-горячий полигон взаимопроникающих миров и страстей». Жизнь была полна радужных планов и надежд. Но эхо войны настигло детей Победы. Любовь и Юрий оба родились в семьях фронтовиков, боевых, израненных лейтенантов Великой Отечественной войны. Отцы вернулись живыми, несмотря на контузии, ранения, госпиталя и преждевременные, ошибочные похоронки. Но в целом это было время великого ликования и всенародного энтузиазма:
«Потому и Любовью назвали,
Что разлука была позади…
У отца — ордена и медали,
А у мамы — цветок на груди».
Собираясь за круглым столом, уцелевшие в огненной круговерти победители пели фронтовые песни, давшие детям ни с чем не сравнимые уроки живой истории и «негасимой любви». Сорок лет передышки были неповторимым временем созидания, великих строк, прорыва в Космос. Дети Победы — без сомнения, самое счастливое, образованное и благодарное поколение ХХ столетия.
«…Отцы покончили с войной,
Новорожденной тишиной
И счастьем — головы кружило…
…Хотелось петь и танцевать,
Окошки настежь открывать
И звезды целовать, и ветер.
Не воевать, не горевать —
Над колыбелью ворковать
И жить, и жить на белом свете…»
Размышления о поэзии Любови Ладейщиковой — живой процесс, поскольку книга поэта — художественная картина современного мира, времени и истории. Книги — не собрание случайных стихотворений, а процесс поиска истины, поиска путей спасения человечества. Есть и немало стихотворений, ставших поэтическими памятниками нетленных страниц Отечественной истории, свидетелем которых ей выпало счастье быть.
«Не зря мы поднимались в полночь,
В том, фантастическом году,
Чтоб зацепив душой, запомнить
Земле послушную звезду.
Звезда являлась над домами
Под чей-то изумленный крик
И шла торжественно над нами,
Соединяя с веком миг.
Затем катилась над Союзом,
Над повзрослевшею Землей
И — в темноту, как шарик в лузу,
Проваливалась… Боже мой!
Уснуть? Смешно подумать даже!
На сердце — взлет и непокой.
…Что нынче юных будоражит,
Что восхищает шар земной?»
(1957 год)
Это бесспорно лирика, но у нее эпические, подлинно исторические смысловые корни… У стихотворения этого есть предыстория, раскрывающая необычайную силу характера десяти- летней девочки, метр за метром дотянувшей до школьного двора ржавую батарею: «Я тянула ее… три недели, чтобы спутник поднялся с Земли!» А через месяц весь мир наблюдал за советским прорывом в Космосе! Бездонность Вселенной мучила и манила будущего поэта с самого раннего детства. А «какое это наслаждение, лежа в траве, смотреть в бескрайнее небо — до умопомрачительного слияния с временем и пространством…» Сказалось и второе рождение после клинической смерти, когда отец, «как гаснущее пламя», спас трехлетнюю дочь, но не штыком орудуя — шприцом…» Изболевшись, девочка рано и много стала читать. «Малахитовая шкатулка» Бажова, подаренная ей в пять лет, стала самым ценным богатством и духовным наследством.
«…Как хорошо, что в руки мне попала,
Не просто книга, а чудесный клад!»
Но не все было безоблачно и однозначно. Дети Победы постоянно играли в войну (этот мотив эпохи присутствует в поэме «Взрывная волна»). А геройские их отцы, не имея никаких «привилегий и льгот», поднимали из руин страну до последнего трудового вздоха. Родители Любови Ладейщиковой не погибли в огне войны, но умерли слишком рано, в одну весну, за месяц до рождения внука… Любови Ладейщиковой повезло: она смогла продолжить свой древний «Ладейный род». Но она считала великой государственной несправедливостью, что фамилия ее отца, дошедшего израненным до Берлина, не значится ни в одной Книге памяти… А сегодня, когда разрушили страну, пытаются отнять у победителей завоеванную кровью священную Победу, поэт Любовь Ладейщикова пишет отчаянно-горькие, но полные не сдающегося достоинства строки:
«…Жаль, тускнеют звезды… Погасили
Славу поколений фронтовых…
Все до униженья не дожили:
Хорошо, что мой отец в могиле
И давно уж мамы нет в живых…»
«Отец бы не вынес развала и позорной жизни, потерявшей смысл…» — пояснила Любовь Ладейщикова. Страшные, но при этом милосердные стихи… И только очень честные сограждане способны сегодня это понять. В День Победы вновь оживают ордена и стихотворения о великих полководцах Суворове, Кутузове, Жукове. Но молодежь в этот день по большей части просто ждет ночного фейерверка. Но можно вновь обрести себя, пробудить историческую память, если вскрыть «Капсулу времени» — просто открыть книгу Ладейщиковой с таким названием, где поэт пытается уберечь русский народ от растления, беспамятства и перспективы деградации:
«Не потому ль, к истокам подходя,
И к пьедесталам города большого,
Историю, как в капсуле дождя,
Я вижу многогранно и сурово…»
Вот эта многогранность восприятия жизни и делает поэзию Любови Ладейщиковой живой составляющей частью времени и вечности. Стихотворения «нанизаны на стержень собственной судьбы и странно — в них нет приблизительных строк и смысловых пустот. Потому-то и тянется мыслящий читатель к поэзии Любови Ладейщиковой, что вся она соткана из веры и правды, пол- на «кипящего достоинства», «державной любви» и «пассионарного сострадания»… То есть «Капсула времени» — это живой организм, вместивший историю и современность, добро и зло, надежду и отчаяние:
«Это не вымысел, это реальность —
Капсула Времени под каблуком…
Это не выдумка, не виртуальность:
Просто с историей ты не знаком,
Юноша бледный со взором кемарным,
Освободи от наушников слух!
Капсулы Времени смысл планетарный
Вдруг да воспримет очнувшийся дух…
Ты в двух шагах от подземного входа…
Капсула Времени… В стужу и дождь
Здесь, на Плотинке рождались заводы,
Гордость Урала, державная мощь.
В семьдесят третьем, я помню, стояли
Мы на Плотинке, юны и чисты,
И юбилейные клятвы впаяли
В Капсулу Времени, Веры, Мечты…
Но шквал истории так разошелся,
Что очутилась в колодце без дна
Капсула Времени алого шелка,
Воздух, которым дышала страна.
Речь не о крахе идей коммунизма.
Речь о потомках… Доверить кому
Капсулу Времени, Капсулу Жизни,
Если весь мир погрузится во тьму?»
Но «пытаясь свет зажечь во мгле», поэт с грустью видит, что народ-победитель уже не тот со счастливой гагаринской улыбкой, что он стал мало отличаться от достаточно трусливой интеллигенции и за свои вековые ценности бороться просто не собирается.
«Сняв с розовых очков оранжевый налет,
Обозреваю царство-государство…
И не могу постичь, куда пропал народ?
Лишь брокерская спесь да воровское барство.
По русским по холмам гуляет дикий мат,
Он сросся, как репей, с базарною элитой,
Все — импорт: и товар, и пролетариат…
Вот растеряем речь — и наша карта бита…
Чтоб выжить — надо жить! И заново рожать —
И хлебопашца род, и род мастерового,
Иначе — пропадем… Руси не устоять
Без молота с серпом и праведного слова».
(«Плиски народа»)

Сейчас в стране гражданственная поэзия вышла из моды, и даже вступающим в Союз писателей молодым нередко негласно советуют: «Выбросите из рукописи всякую патриотическую ерунду, оставьте стихи „о природе и погоде“ — тогда напишу предисловие и дам реко- мендацию». Но гражданственность поэзии дает подлинным поэтам такую внутреннюю свободу, что позволяет пережить и такие капризы времени.
«Душа нетленна… Но земного времени
Осталось так немного на счету,
Что я в глаза предательскому племени
Гляжу и вижу мрак и пустоту.
Взмывая над плевками и объятьями,
Смеясь в лицо льстецу и палачу,
Как факел, задуваемый собратьями,
В бесстрашном измерении лечу…»
(«Факел»)
Поэзия для Любови Ладейщиковой — призвание, смысл жизни и служение на благо Отечеству. Она обладает величайшим даром бесстрашия говорить правду.
«Какая мощь! Какой размах летящего мыслительного пространства у поэта-женщины, вросшей в историю Отечества генетической и духовной памятью», — пишет критик Леонид Ханбеков, цитируя далее:
«У подножья сумрачной Державы,
Сжавши гроздь осыпавшихся звезд,
Словно к изголовью горькой славы,
В нас душа восстала в полный рост.
Взмыла ввысь — и вновь уткнулась птица
В тень от разворованных широт:
Тяжелы крыла твои, орлица, —
Двухматериковый разворот».
(«Гадание на карте»)
Конечно, одной из вершин не только творчества Ладейщиковой, но и всей современной русской поэзии стал поэмный венок сонетов «Достоинство». Он вобрал в двести десять глубочайших, блистательных строк и гордость за историю страны, и боль за ее сегодняшний день. Таким же героическим по сути произведением была книга «Свеча негасимая», когда после распада Советского Союза Любовь Анатольевна сорок пять ночей не могла спать и писала свои прекрасные стихи, словно надеясь на их чудодейственно мо- литвенную силу.
«Сорок ночей не спала!
Господи! Кто же поверит!
……
Сорок моих сороков
Денно и нощно звенят».
И постоянно в ее стихах присутствует желание силой своего творчества, несмотря на то, что в реальности Любовь Анатольевна — хрупкая женщина, взять под уздцы богатырского коня и встать на защиту Отечества.
«На русском рубеже, не ради славы,
Я выставляла стих сторожевой,
Чтоб речь спасти от лающей облавы,
Полон — страшнее раны ножевой,
Не пуля гнет народ, не меч булатный,
Сражен глагол в державном дележе…
Язык мой, Отче! Стань же словом ратным,
Как воин встань на русском рубеже».
(«Ратное слово»)
Нередко поэта Любовь Ладейщикову недоброжелатели пробовали замалчивать. Отношение к ней как к поэту можно сравнить и с современным цинично-прагматическим подходом к культуре в целом. Ее имя недруги то вычеркивают из издательских программ и учебных пособий, то «забывают» назвать ее фамилию на «элитарных конференциях» и в обзорных статьях. Только очень сильный человек способен дать на все это такой ответ:
«Фигурою умолчания —
Не каждый достоин быть».
Но всегда находятся истинные подвижники, и ценители русской реалистической поэзии пишут о ее творчестве с подлинным упоением и восторгом рецензии и книги!
«Во второй трети двадцатого века в глубине России вспыхнула удивительная поэтическая вселенная Любови Ладейщиковой, которую восхищенные критики и собратья по перу нарекли Материнской… Творчество поэта воспринимается как гражданский подвиг и достижение искусства самой высокой пробы». «Расширяющаяся вселенная приходит к осознанию равновеликости материнской и женской любви с бессмертным дыханием мироздания». Это я продолжаю цитировать отрывки из статьи писателей-петербуржцев Андрея Ромашова и Валентины Рыбаковой «Вселенная — прилагательное женского рода»: «Книга Любови Ладейщиковой „Бездна“ — это письмо, несущее читателям неподкупную правду о будущем цивилизации, на порядок опережающую нынешнее „хищное время“… Выстраданным мгновением навсегда отпущенной ей жизни, автор, словно „крестным ключом“ раскрывает перед нами смысловые глубины сопротивляющейся познанию „ненасытной вечности“ и „чарующей“, но всепоглощающей „бездны бытия“… Как истинный поэт, Любовь Ладейщикова осязает душой все оттенки космической беспредельности, свободно и бесстрашно говоря от первого лица…»
«Мне было неизвестное — известно,
Цвела поющим стеблем жизнь моя,
Но времени чарующая бездна
Надвинулась на солнце бытия.
И — полегла во мгле моя дружина
Отяжелели крылья за стеной…
…Но семя набухает, как пружина,
Страсть повторяя пройденную мной.
Бессмертия легенда расцветает,
И память тщится свитком веры стать…
Но тьма густеет, света не хватает,
А новым звездам хочется сиять.
И легкий стебель посреди дороги,
Куда ушли миры и города…
Вот-вот подхватит бездна без тревоги
И вознесет легко и навсегда».
(«Бездна»)
Стоит обратить внимание на ряд философских «орбитальных» категорий и тем, вращающихся вокруг и внутри «Материнской Вселен- ной»: «материнскую любовь и державную боль, историческую память и геополитическое чутье, пассионарное ратное „слово“ и веру в Бо- жественный разум», — отмечает Леонид Ханбеков. Но перечисление можно продолжить: «хищное время» и «ненастная вечность», «чарующая бездна» и «зерна солнца», «совестливая вера» и «возвышение духа», «негасимая судьба» и «родовая память».
Но какую бы горчайшую правду не вскрывала поэзия Любови Ладейщиковой, ее стихи не рассуждают, а живут, поскольку факт исто- рии в них равновелик идее, образное мышление блистательно и афористично, а запредельно насыщенная солнцем «лучистая русская речь» — нетленно-чистый, животворящий запас любви и сострадания «в бессмертном вселенском сосуде», но Любовь Ладейщикова чутко ощущает, что, «чем зрелее становятся строчки — беспощадней над ними суды». Пытались недоброжелатели, проявляя активность даже в печати, поставить крест и на книге
Бездна», зрело представившей лучшее в творчестве поэта, открывающей новые пути и перспективы развития творчества. Но «жесткие наезды» уже ничего не меняли в победительной судьбе автора сборника.
«Пешка падает от щелчка,
Посложнее свалить королеву.
Над короной витают века —
Зависть правых и ненависть левых.
Покачнется стреноженный трон
На доске исполинской державы
И внесет рокировку времен —
Зависть левых и ненависть правых.
Но, итожа уроки борьбы,
Даже тень венценосной мишени
Черно-белое поле судьбы
Перейдет, не упав на колени».
(«Королева»)
Державная, правдивая и высокохудожественная книга «Бездна» Любови Ладейщиковой была удостоена Губернаторской премии «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства». А на защиту книги выступил прочитавший ее совестливейший и честнейший русский писатель-патриот Валентин Распутин. Но Любовь Ладейщикова не только бесстрашный воин в своих стихах, в не меньшей степени перед читателем предстает прекрасная женщина с «разбуженной нежностью» и «плодоносящей» материнской судьбой. Недаром копье в ее руках становится цветущей ветвью, а большинство стихов в книгах «гармонизируют пространство», исцеляя красотой и любовью:
«…Притягивая птичий взгляд
И алчный луч, и гордый ветер
Тысячелетия подряд —
Не меркнет красота на свете».
«Бессмертен женственный поклон
Ее ветвей, округлость слова,
И гибкий стан, и сладкий стон —
Земной любви первооснова…»
«Кроме возвышенной пассионарности, в ее стихах присутствует самая жаркая из лавин — вечно сжигающая страсть и неутомимо влекущая тайна зачатия — та самая поющая поэзия познанья. Стихи полны взаимопроникающей любовью и целомудренной, как вечная весна роденовской страстью», — пишет ценитель и последователь творчества Любови Ладейщиковой — Ольга Русакова. Нетрудно предположить, что лирическая героиня уже побывала в раю и доверчиво делится с нами спелостью небесных даров:
«Когда созвездья, наливаясь соком,
Тончайший излучают аромат,
Раздвинув ветви полночи высокой,
Вхожу, как в рай, в отяжелевший сад,
Где гроздья звезд, пройдя дорогой Млечной,
Вновь катятся в подол земных страстей,
И хочется, обняв руками Вечность,
Впасть в таинство зачатия детей…»
(«Рай»)
А какой неповторимо прекрасный, словно «Джаконда» Леонардо да Винчи, портрет лирической героини в «пору цветения солнца» и ожидания «желанного взрыва» — рождения ребенка, нарисован более трех десятилетий назад:
«Во все века — не муки, не страданья,
Не веришь — посмотри на полотно:
Предчувствие, блаженство, ожиданье
У женщин на губах затаено…»
Но трудно представить, как сорок пять лет живут рядом два «искрометных вулкана», два «парных таланта», — прекрасный эпический поэт, не чуждый лиризма и яркий лирик, которому время добавило историзм и эпичность мышления. Это явление запредельное, суперсейсмическое и неповторимо прекрасное.
«Для пламени страстей ничтожно мал —
Земной котел и жар вселенской печи».
Ощущением нераздельности Космоса и Человека, универсальности Мироздания и Вечности пронизаны и многие стихи о любви. Целостность некоторых стихотворений Ладейщиковой разрушать просто рука не поднимается. Поэтому стихотворение «Возвращение», посвященное Юрию Конецкому, процитирую полностью с согласия автора:
«Откуда явилась — туда и вернусь,
Как сотни и тысячи звезд,
Я знаю об этом почти наизусть,
И время читаю насквозь.
Но сердцем к Вселенским примкнув воротам,
Отринув и ересь, и спесь,
Я вижу немало разумного — там,
И много прекрасного — здесь.
И бережно тронув летящий, земной,
Еще не слежавшийся век,
Я чувствую — рядом, по следу, за мной —
Охотясь, идет человек.
Мы стали, как пламя, объятьем одним,
Одною укрылись судьбой,
Но нас выдает вулканический дым,
Рожденный любовной борьбой.
Тому, кто не ведал любовную страсть,
Удар метеорный не снесть,
Нам выпало счастье на Землю упасть
И райское яблоко съесть…
Сплелись наши корни, и кроны, и кровь,
Чтоб новую вечность зачать,
Но времени вызов призывно-суров
И значит — пора помолчать.
Очнись, моя радость, к чему эта грусть?
Мы будем летать в облаках!
…Откуда явилась, туда и вернусь,
Уснув у тебя на руках…»
Я могу только слегка прикоснуться к философии любви в поэзии Ладейщиковой, ее стихи предельно эмоциональны и как бы отталки- вают от себя попытки жесткого анализа. В стихах поэта очень много «полетно-космического» — определение петербуржца Кирилла Козло- ва. Почти десятилетие назад в письме Любови Ладейщиковой мудрый Валентин Распутин отметил:
«…Стихи Ваши, на мой вкус, хороши… Они не ходят по земле, подбирая травку, а устремлены в небо… Вся образная система у Вас действительно космическая. Ничего удивительного, что есть люди, которым не дано подняться вслед за Вами… У Вас такая точность и образность, что только диву даешься. Есть и горячность, и горечь, но попробуй живой человек в наше время оставаться спокойным. Не обращайте внимания на „критиков“ и — делайте свое дело! Поколебать Вас в своем таланте, я думаю, невозможно… Ибо возвышает душу в полете Ваш стих, дает человеку иной масштаб…» Эпическое мировоззрение органически соединено в поэзии Любови Ладейщиковой с глубоко личностным и сокровенным. Пассионарный дух противится злу и насилию, сея на земном и небесном пространстве «зерна солнца».
В 2011 году вышла примечательная книга педагога-филолога, посвященная творчеству поэта Любови Ладейщиковой, — «Прикосновение к Звезде». Также, как и я сама, талантливый автор в своих размышлениях приходит к расширенному пониманию творчества своей героини: «Космическое мировоззрение… слито с гармонией и ритмами Мироздания… Отсюда и небывалый прежде «звездный язык». Поэт наполняет Вселенную человеческим теплом и речью, предчувствуя, что придется «возвратиться в Космос, из которого пришла…» Любовь Ладейщикова уже давно чувствует себя частицей Живого Космоса, его эхом, и свою насквозь материнскую поэзию воспринимает как осваиваемый чутким сердцем разум Вселенной.
«Прекрасный мир рожден из катастроф,
Галактики трепещут от волненья,
И, как звезда, сияет между строф —
Цветущая трагедия прозренья».
(«Трепет»)
Изменение активности солнца, космические ветра, колеблющие страны и континенты, народы и культуры Любовь Ладейщикова способна пропускать через собственное, опережающее события, сознание и биение пульса, поэтому, заглянув в иное измерение, и произносит она свое провидческое слово. Равнодушным и пассивным объектом эволюции поэт оставаться уже не может. Вот и получается, что Любовью Ладейщиковой создан поэтический ноосферный мир, основана новая космическая реальность.
«И этот год, летящий в никуда,
И тысячи других, скользнувших в Лету,
Уже не возвратятся никогда,
Став лишь скрижальной памятью поэта,
Но я продлю их азбучную жизнь,
Хотя сотрутся корешки у книжек…
Так много будет планетарных тризн,
Что к истине скупая вечность ближе…
Но горные вершины пирамид,
Улавливая молнии событий,
Слов вспомнят смысл, а это говорит,
Что Космос жить не может без открытий.
И как Вселенной плеть, с кипящей мглой,
И гулким подземельем мезозоя, —
История повязана со мной
Рифейским швом и мраморной слезою.
И, провожая время в никуда,
В оранжевый зрачок огня и света, —
Гляжу и вижу: новая звезда
Рождается и новая планета».
(«Проводы»)
©Елена Захарова
Вечный двигатель поэзии. Поэт Юрий Конецкий
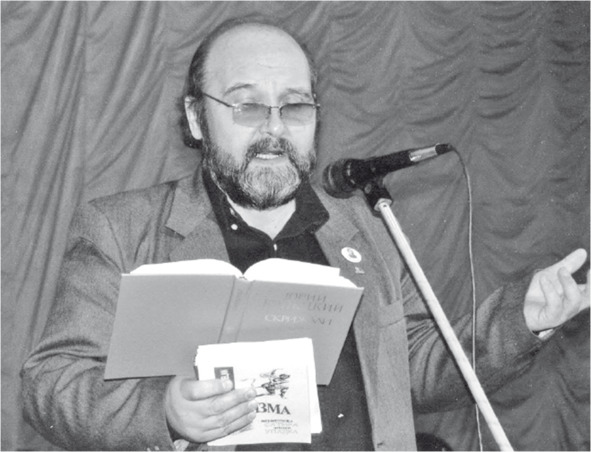
В своей статье «Гамлет и Дон Кихот», оправдывая создаваемую им типологию (как любая типология, грешащую приблизительностью), Иван Сергеевич Тургенев пишет: «Нам показалось, что в двух этих типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца этой человеческой оси, на которой она вертится…» И далее: «Дон Кихот знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это — главное знание. Дон Кихот может показаться… ограниченным, потому что он не умеет ни легко со- чувствовать, ни легко наслаждаться, но он, как долговечное дерево пустил глубокие корни в почву и не в состоянии ни изменить своим убеждениям, ни переноситься от одного предмета к другому; крепость его нравственного состава придает особенную силу и величавость всем его суждениям и речам… Дон Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем».
Если присмотреться к творческой судьбе нашего современника — поэта Юрия Конецкого, многое будто о нем сказано. Он знал, какой требовательной музе служит. Он и собственную судьбу словно выстроил из одной поэзии: жена — поэт Любовь Ладейщикова, героиня предыдущей главы, с которой вместе, на зависть всем другим творческим семьям, прожито более сорока семи лет; сын, недавно трагически ушедший, московский поэт Арсений Конецкий. При том, где бы ни работал поэт, а он перебрал немало мужских, рабочих специальностей, и чем бы ни занимался на досуге: то слушал классическую музыку, то смотрел ретроспективу любимых кинофильмов итальянского неореализма, то углублялся в чтение современной политологической периодики — все это с конкретной це- лью: поторопить встречу с вдохновением, что- бы, наконец-то, опуститься за письменный стол и взорваться стихами. Поэтому и эстетические поиски Марьева, и социологические расчеты Лобанцева, даже мою прямую непосредственно профессиональную принадлежность к другому искусству — кино — Юрий Валерьевич воспринимал как момент отступничества от единственной святыни — Поэзии, некое творческое ренегатство. Складывается впечатление, что для него поэзия была естественна, как сама природа. Когда же Конецкий пишет: «Я один. Вокруг меня ни души, но природа — это тоже душа», думается, что также метафорически поэт воспринимал саму поэзию, частью которой являлся. Только в ее атмосфере он мог жить и дышать. Как солдат в одной из русских сказок в свою по- ходную шинель, Конецкий окутывался в поэзию и она, казалось, была способна защитить его от всех жизненных неурядиц и каверз.
Однако этого не происходило никогда, потому что в отличие от Дон Кихота (и здесь это изначальное сравнение хромает) Конецкий был реалистом и вовсе не аскетом, а откровенным, солнечный жизнелюбом. Не случайно среди его любимых поэтов был Омар Хайям, восточный эпикуреец, все же постоянно помнящий о бренности жизни. Истоки творчества Конецкого вообще теряются в мощных пластах мировой культуры, переплетаются с ренессансным художественным мировоззрением.
Сам себя Юрий Валерьевич, по приглашению министра культуры Франции побывавший в Париже, порой даже именовал раблезианцем, что и декларировал поэтически в написанном с пушкинской беспечной легкостью стихотворении «Шок». Недаром здесь и эпиграфом взято высказывание волшебной бутылки из дилогии великого француза: «Дринк!»
«Я скушал попку артишока,
И всех поверг в кошмарный шок:
«Тебя замучает изжога
И несварение кишок!» —
Вскричали бледные французы,
Явив смятения печать —
Им за последствия конфуза
Пришлось бы в МИДе отвечать».
Далее в духе самого Рабле поэт, которому немалый опыт подсказал: «Дерни виски!», соревнуясь с творцом Гаргантюа и Пантагрюэля, с завидной памятливостью на детали ушедшего дня, вспоминает, «как лихо» и под какую закуску «умели пить в эСэСэСэР!» Жизненная неприхотливость и веселое жизнелюбие «в стране, где жил Пантагрюэль», ставило нашего соотечественника в случайной, казусной ситуации выше европейского лоска и этикета, поскольку по натуре своей он оказывался ближе к возрожденческой французской классике, чем сами французы, и, следовательно, имел право во всеуслышание заявить:
«Так, мсье, не шейте ж мне пижона,
Хоть не случилось, может быть,
Мне огурец от корнишона,
Как вы ни бились, отличить».

И проявляется тут опять-таки в поэте Конецком, как герое этого стихотворения, нечто от героя русской народной сказки, всегда умеющего взять верх над вышколенными иноземцами. Но погруженность в жизнь Конецкого — дело совсем не шуточное, не досужее, не периодически возникающее. Поэт был бесстрашен в своем постижении мира. Привлекают широкий обзор реальности, многообразие творческих возможностей этого сложившегося мастера. Касался ли Конецкий исторических фактов или повествовал о чем-то затронувших его судьбах, может быть даже случайно встретившихся ему людей (бывает ли в мире вообще что-то случайное, а тем более в таком целостном творческом мире) — все это не сводилось к бытописательству равнодушного хроникера, а согрето присутствием самого поэта, веет именно его энергетикой. Юрия Валерьевича и в жизни отличала способность в трудный час, как героя одного из его лирических стихотворений, отыскать «терявшего надежду» друга. Просто в поэтическом багаже Конецкого нет понятий «маленький человек» или «малая родина», он же вглубь смотрел, а там такие клады порой открываются, столько до времени не выявленного, но символичного и значимого. «На « региональном» материале практически решаются все мировые проблемы. Дело в масштабе личности. Земля кругла, и настоящий поэт всегда в центре мира. С гордостью ощущаю себя русским поэтом, живущим на Урале», — утверждал Конецкий.
В трехтомном собрании сочинений поэта, удостоенном премии имени П. Бажова, впервые опубликована его автобиография, рассказывающая об истоках судьбы художника слова, нашего современника, раскрывающая его индивидуальность. Здесь Конецкий писал о себе в школьном возрасте: «…Меня распирала безбрежность запрятанного внутри меня космоса, хотелось от восторга перед жизнью слагать какие-то немыслимо-могучие гимны, объясниться с этим непонятно устроенным, великим и страшным мирозданием, смущенно чуя в собственной душе не меньшую вселенскую бездну». Все это написано в прошедшем времени и поэтому с некоторым придыханием по отношению не столько к себе, как к детской душе (недаром поэт-эпик уделил в своем творчестве место также поэзии для детей). Но как я уже писала в своем литературоведческом очерке «Шестидесятник», посвященном Конецкому и вошедшему в его трехтомник, поэт вообще, а Конецкий в частности — большой ребенок. Поэтому попавшаяся мне на глаза в его автобиографии фраза: «Тем- перамент у меня был буйный», — при жизни поэта меня немножко смешила. Никуда этот темперамент не делся с годами, а просто проявлялся в более взрослых формах. И как своеобразная притча выглядел рассказ о том, как в детстве Юрий Валерьевич, носясь по школьным коридорам, головой протаранил кумачовую тумбу, на каковой возвышался бюст Сталина. «Колосс распался на гипсовые осколки», а чересчур шустрому будущему классику только приближающаяся оттепель помогла уберечься от весьма серьезной от- ветственности. Точно с тем же темпераментом в период возобновившихся исторических дискуссий поэт бросался в мозговую атаку, опять-таки атаку головой на захватывающую его сталинскую тему, преобразованную у него в тему столкновения времен.
«Дон Кихоты находят — Гамлеты разрабатывают», — резюмирует Тургенев. Но Конецкого потому и нельзя сузить до придуманного русским романистом противопоставления, что он вмещал в себя и то, и другое. Его затаенный спор с идеями двух Гамлетов — Марьева и Лобанцева продолжался, позиция становилась все обоснованнее, взгляд диалектичнее. Можно сказать, что как исследователь он пошел дальше своих безвременно ушедших товарищей, да и рефлексии он тоже чужд не был. И в то же время сравните… « Я иду, если даже не знаю пути и не знаю, куда я иду! Я иду, ибо кто-нибудь должен идти — за всех и себе на беду!» — возглашал со сцены вошедший в образ Дон Кихота великий фанатик искусства народный артист Владимир Зельдин. «Вперед иди, иди, иди и выйдешь к людям из тайги», — откликалась ему поэзия Конецкого.
К сожалению, до возраста Зельдина в этой роли поэту дожить не довелось. Но, думаю, он бы не изменился.
Та путеводная нить, которая позволяла поэту находить собственную творческую дорогу среди эпических глыб, — историзм. Он помогал многолетнему подвижническому осмыслению всего соседствующего с Конецким в детстве, юности, зрелости. Достаточно условная философская структура времени снова и снова материализуется в творчестве поэта, меняя образы и лики. То посмотрит «бесцветными от времени глазами» старика, то под шипение старых грампластинок начинает раскручиваться «в обратном направлении». Если в пространстве Конецкий чаще всего предан родным и знакомым местам и через их географию способен был показать всю необъятную красу Земного шара, как бы сконцентри- рованную на малом участке, то его путешествия во времени, свободное плаванье в его потоке, диалоги с прошлым и попытки через опыт некогда пережитого порой заглянуть в будущее уже не просто обобщают земное бытие, а поражают всеохватом и силой авторского духа, позволяющего ему вписаться в любую историческую среду и снова почувствовать себя там как дома. Поэт чувствует ритмы времени, знает, что в деревенской церкви, например, минуты текут «медленнее киносеанса». Иногда у него на глазах вечность вроде бы стремится к некому самоуничтожению, пытается вычеркнуть свои следы. «Надписи временем стоптаны» («Старое кладбище»).
Но поэт не может выпустить время из рук, позволить ему бесследно затонуть, как герой одной из его поэм «Ертаульный струг» — Ермак, у которого даже и могилы не осталось. Он в своем творчестве не только воскрешал самого покорителя Сибири:
«А приметнее многих — как саблей крошит, не робеюч,
Как указы разумно дает — подчиняется всяк,
Атаман — голова, башковитый
Ермак Тимофеич,
Чьих кровей неизвестно, но истинно вольный
казак!»
Конецкий постоянно оживлял прошлое. Оно для него не условно, а вполне материально, его можно просто подержать в руках. Вот такую метафору поэт нашел в прологе к своему «Уральскому временнику» (своду исторических поэм), куда входит и поэма о Ермаке: «Достали керн из вечной мерзлоты. Лед, как стакан, наполненный веками, я в руки взял. Он искрился на солнце подобно голубому халцедону. След мамонта в ладонях я держал, — а, может быть, охотников дыханье, что загустело слитком ледяным? Былое время холодило пальцы, лед плавился в руках моих, и струйки текли за об- шлага дорожной куртки, и, намокая, волглая рубаха мои бока сжимала, как волна…» Стихи здесь спрессованы в ритм прозы, теря- ют привычную организацию строф. Но художественное впечатление усиливается, бытийность выглядит более достоверной. Свежесть впечатлений поэта кажется настолько сиюминутной, что есть страх — начнешь разводить по строфам и засушишь, не то уже будет восприятие.
Похоже, что, пользуясь высказыванием моего единомышленника, а во многом и родственного по духовным поискам исследуемому мной поэту Льву Аннинскому, Конецкий ставит перед собой творческую задачу: «срастить Историю воедино». «Соединять несоединимое?! Да… Пугачева во главе «азиатских орд», и Суворова во главе «европейского артикула», — провозглашает критик, словно пересказывая содержание одного из реально существующего стихотворения поэта.
«Голова удалая упала на грудь,
На колдобинах прыгает цепь,
Обернулся полоном удачливый путь —
Ровно зверя везут через степ…
Две недремлющих роты — пехотный конвой,
Да две сотни донских казаков,
И Суворов — веселый стратег боевой —
Скачет рядом, умен и толков.
С генералом таким бы дошел до венца
Через версты размашистых пург…
«Ты, злодей Пугачев, воевал до конца,
Только зря осадил Оренбург».
(«Самозванец». 1986)
Действуя в одном, реалистично выписанном отеческом пространстве, но смещая и вплотную сдвигая разные эпохи, Конецкий по-своему выстраивает картину мира, где за явью существования может, к тому же, как в видениях Дон Кихота, проступить нечто призрачное, легендарное, внезапно с современной реальностью пересекающееся. Так это происходит в его по виду просто лирическом стихотворении «Парад планет».
Здесь на фоне «демидовского прудика», преобразившегося в некое задремавшее под горой, глазастое живое существо, «в избе, где от века гнездился режим эпохи стрельцов и телег», находят себе ночлег двое любящих. Хозяева избы — вполне удовлетворенные жизнью обыватели, а вот поэтической паре их постояльцев не уснуть в эту ночь, когда, согласно образной поэтике этого небольшого лиро-эпического произведения не только планеты, но и вся природа, даже овощи на огороде, повинуясь ходу человеческой истории, призывают к продолжению жизни на Земле, будят любовь и любование нашей одновременно грешной и безгрешной планетой. «Морковь крепкопало вгрызалась в подзол,
Остра, как кривой обушок,
С которым в горах рудознатец прошел,
Где золото — главный божок…
Столетья плотина держала кубы
И рек, и ручьев снеговых,
И были разводья пруда голубы
Среди наваждений ночных».
Поэт настолько пропитался собственным интересом к уральской истории, увлечен неожиданными открытиями в ней, что каждая мелочь не просто ему все это напоминает, но кричит о сокрытом, как о колдовском кладе, который, может быть, только в волшебную ночь Парада планет становится доступен людям и то только при со- вершении неких языческих обрядов.
«И только заря заискрилась в пруду,
Как мы, распугав тишину,
Земные одежды сорвав на ходу,
Волной расплескали Луну».
Таким обрядом, становится сама любовь героев. Возлюбленная поэта как бы вбирает в себя в этот момент всю магию космоса. «Я в грудь целовал тебя, легкая тень планет, что прошли косяком». В обыденном же, вещном мире за эту ночь ничего не изменилось, и сам этот мир поэтому становится родствен вечности.
«Там ходики тикают возле окна,
Там кот оседлал табурет,
Там к чаю хозяина будит жена,
Сердясь, что ночлежников нет».
Еще в начале творческого пути, в 1967-м году, вроде бы даже сам удивляясь своему интересу к прошлому, Конецкий растерянно задает себе вопрос:
«Как же тебя угораздило
Встать у могильной тиши,
Гость из невечного праздника,
Смертный хранитель души?»
Да, вот так, именно угораздило. Потому что, в отличие от рационалиста Лобанцева, этот поэт доверял интуиции, свой обостренный взгляд и слух он подчинял только поэзии, и в то же время тащи в свои стихи все, что могло бы само по себе быть находкой для историка или живописца.
Философ-художник мыслит образами, благодаря этому в его творчестве создается постоянно движущийся космос. (Идея монизма — единого начала Вселенной, как известно, и у толстовца Константина Эдуардовича Циолковского постоянно присутствовала.) Неистовый темперамент борца не всегда бывал возблагодарен судьбой. И, тем не менее, как пишет Тургенев о своем Дон Кихоте:
«Масса людей всегда кончает тем, что идет, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми они сами глумились, которых даже проклинали и преследовали, но которые, не боясь ни ее пресле- дований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, вперив духовный взор в ими только видимую цель, ищут, падают, поднимаются и наконец находят… и по праву только тот и находит, кого ведет сердце».
Снизим немножко патетику стиля девятнадцатого века. А так, в общем-то, верно сказано. Недоброжелателей и завистников у Конецкого в жизни было немало. Один многопишущий, но редко достигающий художественного результата поэт регулярно задавал Юрию Валерьевичу один и тот же вопрос, не перестал ли он писать стихи, явно надеясь на положительный ответ. Бывали неприятные пересуды и за спиной у мастера. Я всегда это очень болезненно переживала, Конецкий же относился спокойно — как к неизбежному злу. Кроме того, в моем доме в то время жил еще один за- мечтательный поклонник поэзии — кот Леопольд. Он мог полдня мирно спать где-нибудь в теплом местечке, но как только в доме начинали звучать стихи, сразу вылезал из своего тайника, садился напротив читающего и внимал каждому слову.
Создавалось впечатление, что эти двое нашли друг друга, так как Юрий Валерьевич ко всякого рода братьям нашим меньшим никогда не был равнодушен. Вот в связи со всеми выше перечисленными обстоятельствами и появилось стихотворение «Пир мышей», посвященное Елене Захаровой и ее коту Леопольду, навеки увековечив- шее память хвостатого слушателя и искреннего друга поэта из кошачьего мира. То ли басня, то ли притча на вечный сюжет о преждевременно обрадовавшихся уходу со сцены сильной лично- сти мелких недоброжелателях. Правда, надо сказать, что портрет жизнелюбца кота здесь больше напоминает характер не моего пушистого белопузого эстета, а скорее самого боевитого и брыз- жущего энергией автора.
«Быстрые когти остры, что крючки —
Задницы крысам кромсал на клочки.
С кошками — нежен, с котами — до драк.
Выпить… парного он был не дурак.
Словом однажды он сыто зевнул,
Бок почесал и в тенечке уснул».
К счастью, окружение поэта все-таки, по большей части, составляли друзья, а не враги. Время расставило все по местам, сейчас уже просто стало очевидным, что у поэта есть преданный круг не только читателей, но и учеников и последователей — участников его семинара, тех, кто не может забыть встречу с этим потрясающим человеком и его мощной поэзией. Сама я считаю себя в какой-то мере ученицей.
Если в повторно им созданном клубе имени Пилипенко Юрий Леонидович учил нас оттачивать, прежде всего, поэтическую мысль, а форма уже зависит от твоего дарования, то после нескольких лет занятий у Конецкого я поняла, что не поэтических тем вообще не бывает, если поэзия настоящая, она все выдержит, и отказалась от понятия «датские стихи», стихи написанные по случаю, к дням рож- дения и т. д. Или не пиши или просто используй этот случай как толчок к созданию индивидуального произведения, самостоятельному худо- жественному открытию. Сам Юрий Валерьевич стихами такого рода вообще никогда не грешил, так что эти «глубокие выводы» для себя я сделала самостоятельно, но в результате нашего общения.
Среда читателей Конецкого разновозрастная, неоднородная по своей литературной эрудиции, состоит из наших современников, сочетающих интерес к словесному творчеству с интересом к самой жизни. Но сообщество это все-таки, увы, пока не слишком широкое. Причина, видимо, в том, что глубина поэзии Конецкого неизбежно предъявляет свои требования и к аудитории. Читатель-то тоже должен быть глубок. Существует литературоведческое понятие литературы переходной, которая взаимодействует с читателем на азбучном уровне, и непереходной, то есть непреходящей, требующей от чи- тателя конгениальности автору. Поэзия Конецкого непереходная. Неслучайны и его ориентиры в большой литературе: Пушкин, Толстой, Гумилев, Маяковский… Не случайны и его переводы с французского миниатюр Тютчева. Перекличка с поэтом-философом постоянно ощутима в его поэзии. Когда порой упрекают Конецкого в излишней изобразительно-живописной выразительности, хочется спросить, а тот «громокипящий кубок», который пролила с небес Геба во время кор- межки могучего орла, олицетворяющего самого Зевса, не отсылает ли нашу зрительную память к произведениям классической живописи, украшавшим дворцовые анфилады. Мысль, зрение, чувство составляют единый творческий процесс и у поэта девятнадцатого века и у нашего современника.
Даже если бы Конецкому захотелось уйти в отвлеченное созерцание, как герою «Монолога в пустыне» (написано в 1966-м, т.е. в девятнадцать лет), вряд ли бы осуществилось подобное
«…Надмирное желанье:
Променять, безумное гоня,
Пламя — на холодное мерцанье
Вдумчивого звездного огня.
Ощущая тайну мирозданья,
Разгадав спокойствия секрет,
На больное пламя состраданья
Наложив немыслимый запрет».
Для поэта это было неосуществимо прежде всего потому, что именно сопереживание, соучастие в людских судьбах, а не болезненная жалость, конечно же, питала его поэзию. Он по- человечески был способен понять даже то, что вроде бы и понять невозможно, врага — шахидку, террористку. (Маленькая поэма «Чечня», 2005 г.)
«Тебя вела сама обида,
И безысходная тоска…
И тяжкий пояс из пластида,
Как змей, обвил твои бока.
…Геополитики зигзаги
Не понимает разум твой,
Но ты в печали и отваге
Терактом бредишь на Тверской».
Вполне возможно, что если бы мир состоял из Конецких, войн и не было бы. Для него событие — каждый отдельный человек, будь он пьяница, инвалид, невежественный разрушитель или, напротив, ученый, поэт, а, может быть, случайный попутчик. Да, Юрий Валерьевич был земной, мирный человек, но… Погруженность поэта в земной мир по-бойцовски активна. Недаром сам он те черты, которые мне видятся в нем проявлением донкихотской натуры, объяснял унаследованным отцовским характером. Комсомолец, командир штрафного батальона, отец тоже любил своих бойцов и душой страдал за тех, оказавшихся под его началом, «кто дрогнул в бою, кто из плена сбежал, кто пропил портянки». Необычный для спокойно повествовательной манеры Конецкого высокий пафос прорывается через строки. Пожалуй, он имеет на это полное право, ведь, словно персонаж Хотиненковского «Зеркала для героя», только что сам побывал рядом с отцом, в той кровопролитной битве. Соучастие, соприсутствие в жизни своих персонажей — постоянный метод работы поэта, требующий гигантской эмоциональной отдачи.
«Победа уже готова признать тебя, лейтенант,
И танк замолчал, и дзот накормила собой граната, —
Взята высота.
Небо в звездах, которое видел Кант,
Увидел и ты, очнувшись на плащ-палатке
у медсанбата.
Ты кровью своей и чужой оплатил победу,
и грех со всех смыт,
Погоны вернулись и лейтенантам,
и капитанам, и всем майорам…
Те, кто в живых остались, выпили лишний
спирт —
Мертвые сраму не имут, и не придут с укором».
Конецкий не мог отделить свою биографию от судьбы отца. На нем тот же груз общей ответственности за победы и поражения страны, культуры, поэзии. В этой личной причастности его поэзия при всей непохожести и мужественности созвучна и родственна за все человечество по-матерински страдающей поэзии Любови Ладей- щиковой. Чувствуется единое семейное начало.
Однако боец поэзии Юрий Конецкий не только был способен перед лицом всех стихийных ударов держать оборону, но и переходить в наступление, если чувствовал, что именно он на этом участке может одержать победу. Он всегда был готов к открытой борьбе, к разрушению устоявшихся стереотипов. Не случайно частицы «не» и «ни» так распространены в его поэзии. Сначала оттолкнуться от чего-то, разделаться со штампами, чтобы потом художественно воссоздать собственную картину жизни, всего мироздания.
Если не разобраться в скрытом за такими житейскими часто поэтическими сюжетами Конецкого его собственном взгляде на устройство космоса, взаимодействие, а также изначальную рас- становку сил во Вселенной, мне кажется, до конца поэта не поймешь. Сам он именовал себя «православным атеистом», так как порой подпитывал свое творческое горение трудами святых отцов, свидетельствующих о их подвиге. Читал он и Святого Августина, и Иоанна Златоуста. Из написанного им вполне можно выбрать цикл, подтверждающий неизбежность веры в нравственных исканиях человека, как и всего человечества в целом: «В церкви», «Зятек», «Память птиц» и другие. Одно из наиболее часто употребимых в его словаре слов — «душа». Но душой вслед за Тютчевым Конецкий наделяет и саму природу. Он порой ощущает себя язычником в своем от- ношении с природой, и даже со всем природным миром.
«Люблю язык природы,
Когда над головой
Язычествуют своды
В раскачке вековой».
Когда читаешь Конецкого, невольно вспоминаешь о том, что в Библии день не равен дню и творение мира не завершено, а продолжается вечно. Философия стихов уральского поэта для меня словно сохраняет связь с Книгой бытия: «И сказал Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Что власть эта весьма ответственна, поскольку все остальные создания божии на- ходятся с ним в родстве, герой Конецкого помнит всегда — атеист ли он, язычник или не ведающий о том христианин, каковых, как писал Александр Мень, у нас в стране всегда было немало.
Интересны взаимоотношения поэта и с предметным миром. В «Снежной королеве» Евгения Шварца есть Сказочник, который понимает язык предметов, а те нередко мстят ему за это, устраивая всякие каверзы. К счастью, у Юрия Валерьевича такого не происходило. В руках у него все ладилось или благодаря энному количеству освоенных им в юности рабочих профессий, или просто потому, что к каждому предмету он относился по-доброму, как к живому существу. И тут он был не завоеватель-язычник, не фетишист, а добрый, рачительный хозяин и вроде бы заботился не только о своем, но и о душевном комфорте каждого неодушевленного знакомца. И так смолоду.
«…А из берлоги сундука
Сквозь пыльный облак нафталина
Медведем вылезла доха.
Верней ее достали руки
Среди вечерней полутьмы,
Чтобы освоилась на крюке
До окончательной зимы».
(«Предзимье», 1967)
У Конецкого флора и фауна, природа и предметно-материальный мир не антагонистичны, границы между ними весьма условны, а по- рой и вовсе стираются.
«Ныне соединены наст асфальта, тень березки», — вот такой вполне современный пейзаж получается.
Иногда даже расхожий производственный термин, вмешавшись в его стих, позволяет укрепить целостность мира, увиденного глазами урожденного уральца.
«Снегами высшей пробы
Сверкали при луне
Сыпучие сугробы
И наледь на окне».
Встречаются у поэта развернутые метафоры, где неодушевленные предметы не только оживают, но и обретают свою, вполне человеческую судьбу:
«Старый автобус, и ты отдохни!
Всеми боками и лысой резиной
Пыльную дань расстояний стряхни,
Остановись под пугливой осиной».
Этот образ вполне укладывается в тот ряд стихотворений, где поэт с нежностью и уважением пишет о стариках, у которых за плечами долгие годы труда, а душа-то в них не очерствела и, вот, как этот очеловеченный автобус, и осинкой вполне залюбоваться могут, особенно в пору осенних красок.
В трехтомнике Конецкого приведен фрагмент поэмы «Наследник» (1971), где образ отцовского дома развивает сразу две родные поэту темы — тему судьбы немолодого, много испытавшего современника и тему отеческого гнезда, родины и малой, и большой по своей значимости и символичности. Время дома прошло, он отжил свой век, но любовь к нему не срыть ни одному экскаватору.
«…Отцовский дом с подгнившею терраской,
В скрипенье лестниц доживая век,
Надвинув крышу старческой фуражкой,
На мой отъезд смотрел, как на побег.
Едва с достатка первых пятилеток
Он поднял народившийся народ,
Как в сорок первый год таким же летом
Они ушли, безусые, на фронт.
И видел я — в платочек палисада
При сиротливом шествии весны
Дом стариковски плакал скуповато
Сосульками с карнизов вырезных».
Порой в творчестве поэта среда вроде бы неодушевленная, фауна, флора сливаются в единую душу, природа и техника могут вступить в союз. Так голуби в его ранних стихах врываются прямо в цех. По законам необыкновенной мозаики, составленной то ли игрой высших сил, то ли являющейся ответвлением модной сейчас кентавристики, птицы и цветы, цветы и мотыльки у Конецкого оказываются вполне взаимозаменяемы, ибо изначально неразрывны в человеческом восприятии.
«Над строительством, над бетоном,
Свой разбег начав из-за рек,
Ярковыпуклые бутоны
Кружат стаею сизарей».
(«Сирень»)
«Но для чего на поле васильки
Меж тяжело нагруженных колосьев
Порхали, как речные мотыльки,
Крылом точеным шебурша об осень».
(«Васильки»)
Природа, как и сам поэт, наполнена ощущением времени, остро реагирует на человеческие чувства, испытания тех людей, которые погружаются в стихотворно зарисованные пейзажи. Как и в живописи, пейзаж у Конецкого не может быть прекрасен без человеческой точки зрения. Так, пропуская через собственные переживания, с сочувствием не просто описывал, а пытался понять русский поэт-патриот березовую рощицу, встретившуюся на его пути весной.
«Едва оправясь от болезни,
Поголубев и спав с лица,
Прозрачный топчется березник
У лугового озерца.
Как перед часом перелета,
Коры березовой белей,
У африканского болота —
Косяк архангельских гусей».
Здесь не только о березах. Возникает параллелизм между выздоровлением от тяжелой болезни и возрождающим к жизни, спасительным возвращением на Родину.
Природа, как документ, свидетельствует о минувшем, пробуждает историческую память. У Конецкого свой «эффект бабочки» — шальная летунья вонзается в белую рубашку поэта как отточенная стрела из прошлого, и сразу из глубин генной памяти всплывает то, что, казалось, и помнить было невозможно.
Словно в стереозвуковом кинематографе, например, фантастично реалистической «Звезде» режиссера Николая Лебедева, война возникает на экране поэтического восприятия во всей своей трагической оркестровке. В стихотворении «После грозы» мистически оживает ночной ржевский лес.
«А ночью впотьмах грохотало и выло
Косматое небо, как западный фронт,
И молния жгучим прожектором била
По темным вершинам березовых рот».
Как я уже говорила, в поэзии Конецкого есть некая синтетичность, почти кинематографическая. Звуковые и зрительные образы взаимодействуют между собой. Иногда поэт идет еще дальше и проникает к тому же и в мир запахов: «Пах духами женский крепдешин и утюгом — бостоны кавалеров». («Танцы»)
Почти в каждом стихотворении в той или иной мере используются приемы звукописи. Особенно любимый звук рокочу- щее «р» («Гроза в городе»). Но и кроме того немало примеров наберется.
«Любимый мой», — вполшепота услышать». («Рябина»)
«Но слесаря кружили контролерш,
И крановщиц кружили сталевары,
Под звуки труб, шуршание подошв
И барабана бравые удары».
(«Танцы»)
Множество музыкальных и живописных ассоциаций готовы разбудить его стихи. Трагическим дюреровским мировидением от- зываются строки о притихших после ночной грозы панорамах ржевского леса, словно вместе с грозой война вновь прокатилась по тем же местам.
«И в братских могилах не спали солдаты,
Ловя черепами удары грозы,
И челюсти были кричащеразжаты,
И листья учили солдатский язык».
Постоянное соседство смерти, бренность всего живущего — трагизм, от которого поэт не прятался, он его постоянно внутренне осознавал. Нежданно накатившаяся на часть праздника при- роды среди белого дня тьма потрясала его, как в одном из последних стихотворении «Трофей» гибель красавца-глухаря под колесами автобуса.
«Глухарь на дороге выклевывал лед —
Склонясь виновато над древнею птицею,
Себя я, как все мы, почуял убийцею,
Лишь взмаха крыла не хватило на взлет».
Единственное, что может в таком случае сделать скорбящий поэт — это попытаться в своих строфах воскресить ту прекрасную жизнь, которая угасла у него на глазах. Конецкий рисует своего глухаря истинным собратом по творческому духу, черпающим свои немалые силы из всей природы, живой и неживой.
«Был крошкой хрустальной набит его зоб,
Чтоб смог перемалывать хвою и ягоды,
Чтоб смог пережилить все зимние тяготы,
В морозы до дна зарываясь в сугроб».
Да, поэт не мог прогнать смерть из нашего общего мира, но его ответственность перед жизнью, симпатия к живущим рядом — и к самой любимой, и просто к букету сирени на ее столе, к исполинскому заводу в родном городе и к маленькому котенку — товарищу детских игр, интерес к тысяче мелких деталей, которые превращают для читателя его поэзию в обжитый и всегда узнаваемый, пусть и неожиданный порой мир, — все это придает творчеству Конецкого пушкинскую солнечную позитивность.
Не случайно одно из первых поэтических воспоминаний Юрия Валерьевича связано именно с этим самым великим предшественником: «Книг в доме совсем не было, но иногда мама раскрывала тетрадь, на которой, роняя дуэльный пистолет, падал Поэт… Завороженный волшебными звуками, лет в пять я заявил, что стану поэтом… как Пушкин». Однако после Пушкина много эпох миновало, и поэзия нашего современника накопила и впитала в себя поэтический опыт прошедших веков, и полемической сатиры шестидесятников из девятнадцатого века, и открытость шестидесят- ников века двадцатого, энергетику эпики Бориса Ручьева, невозмутимость эпичности Людмилы Татьяничевой, а еще символизм Блока, способность к тихим и глубоким размышлениям лирики Николая Рубцова, почти случайного знакомого по Литинституту, ставшего подлинным наставником в поэзии, угадавшим в молодом уральце нечто родственное, истинно поэтическое. Конецкий не только помнит и любит своих земных родителей, но и предшественников в литературе давно уже не пытается сбросить с корабля совре- менности. Они и в нем, и отзываются прямо-таки генетически. Конецкий искренне ощущал себя «классиком», не в тщеславном порыве, но именно по ориентации на самые высокие традиции, тре- бующей масштабной внутренней духовной работы. И снова на ум приходит Дон Кихот, который в эпоху набирающего силы капитализма (а какую эпоху мы сейчас переживаем?) ориентировался на высокие идеалы рыцарства. «На то и классика, чтобы вскрывать вечную немыслимость, которая каждый раз падает на человечество «не- известно откуда» и «непонятно за что», — пишет Лев Аннинский.
Стихотворение «Две женщины ханты», посвященное замечательной поэтессе Марии Вагатовой, немало отличных переводов из которой, сделанных Конецким, можно найти в его трехтомнике, тоже по-своему отвечает на вопрос о смысле жизни и ее противостоянии смерти. Стихотворение написано в духе народной песни, которую под ручную работу тянет женский дуэт в обстановке современной квартиры, где тем не менее все проникнуто духом северного народа, говорит о верности корням.
«В прихожей — оленьи, с узором, кисы,
За окнами город морозной красы,
Куржак кружевами украсил парчу…
Лежит на балконе разобранный чум,
И бубен шаманский притих на стене,
Где скачет Георгий на белом коне».
(Кстати, шаманский бубен здесь — символ самой поэзии, поскольку, согласно одному из высказываний Конецкого, поэзия сродни шаманству.)
В песне той овдовевшая сноха многократно искушала семейного деверя взять ее в жены, а тот упорно и окончательно отказывался, потому что «верен был своей жене». И тогда-то следует неожиданная развязка. Соблазнительница обретает другой, более мощный голос.
«А я открою свой секрет.
Не просто женщина я, нет,
Из мира верхнего мой путь —
Пришла я на тебя взглянуть.
И ты не нужен мне как муж —
Я проверяю крепость душ.
…Мы духи леса, духи вод,
Должны века хранить народ,
У нас особый интерес
С какой душой пойдешь ты в лес».
Намерения человека, его душа важны, прежде всего, не только этой северной волшебнице. Это рыцарская установка самого поэта по отношению ко всему живому.
Думается, поэма — не просто любимый жанр поэта, эта та форма, в которой виделся ему весь мир. Поэтому не только «Уральский временникъ» определяет самостоятельный путь Конецкого через всю уральскую историю, но и вся его поэзия несет в себе черты некой современной Одиссеи, где возникает картина пути вполне космическая, потому что пространство и время здесь едины.
«На речной барже звенела рында,
Отмечая время или путь».
(«Попутчик»)
Эта динамика вечного творческого движения проявляется и в том, что, как говорил поэт, «своим читателем» он мог назвать только того, кто согласен с Маяковским, что «поэзия — вся езда в незнаемое».
Но все же, сколько ни путешествуй по далекому и живописному прошлому, от эпохи постмодернизма никуда не денешься. Творчество Конецкого несомненно отражает наше «интересное» время со всем его разностильем, от романтизма, до цинизма, с быстро сменяющими друг друга политическими ориентирами. «Харизма» (Меннипова сатира эпохи упадка), роман-поэма «Грабли Амура», острополемические «Воспоминания о Первомае» и «Дума о Сталине» стали для поэта той трибуной, о которой вздыхал другой шестидесятник — критик Лев Аннинский: «Оставляю в стороне вопрос о репутации. Без ущерба, наверное, не получалось, но если репутация сводилась к тому — „на чью мельницу льешь воду“, то я предпочитал мельницы Дон Кихота. А ерничал, потому что сражаться с мельницами не давали. То есть трибуны не было». Пожалуй, поэту в этом случае легче, чем критику. Он сам — своя трибуна. Там и поерничать может, и псевдоним для этого отыщет отличный — Йорик О. Нецки, например.
Впрочем, еще задолго до этого этапа трагизм мировых и человеческих судеб, чутко резонирующий с внутренним миром автора, может быть, впервые у него угадывается уже в стихотворе- нии 1976 года «Камыши». Исчерпанность земного существования чего-то неизбывно ценного вызывает боль любящего сердца. И смириться невозможно, и изменить уже ничего нельзя.
«Тусклый блеск заржавленной воды,
В камышах сигают лягушата —
Умерла, отдав запас руды
До последней тонны, эта шахта…
Человечий дух искореня,
Здесь хвоя смолой дурманит клейкой…
И в сухих запуталась корнях
Вагонетка на узкоколейке».
И опять ничего случайного здесь нет: ни фактов, ни реалий. Символичны как исчезновение человечьего духа, так и сухие корни — высохла корневая система прежней жизни, стала бесплодной. И, как часто это водится у Конецкого, картина былого блистает своим отсутствием:
«Ни дымка, ни встречного лица,
Ни домашней бабки в огороде».
Уже нет ничего этого, но поэт, как сбитого жестокой техникой глухаря, способен оживить знакомую, привычно любимую бытовую обстановку. Ему не хватает сладкого и приятного дымка родного, отеческого места, встречного лица, потому что мы уже знаем: каждая такая встреча для поэта — событие, старушки — одной из самых излюбленных Конецким лирических героинь — хранительницы памяти. Кажется, простое перечисление, а за ним страшная картина ненавистного поэту «расчеловечивания». А ожидали-то многого, мечтали о многом. Но все мечты оказались пустыми, и воздушные замки разбились о разбитое корыто из пушкинской сказки. «Сядем у разбитого крыльца, Где стрижи ныряют к непогоде». Все, что соединяет в эту минуту неисчезающую, вечную все-таки природу с человеком — общая горечь.
«Помолчим о горестях души,
Приглушив расхристанный транзистор,
Слушая, как стонут камыши,
Около тропинки каменистой».
Стонущие камыши, давшие название этому стихотворению, наверное, дальние потомки «мыслящего тростника» Тютчева. Шахта умерла потому, что вычерпана, поэзию исчерпать невозможно — она разлита в самой природе, не только в ликовании ее, но и в трагических моментах катастроф, часто перекликающихся с человеческими.
Поэзия — это труд и вселенная поэта создана столкновением мощных энергий, трудом всего вселенского организма: «А звезды, что соль на ржаной небосклон, просыпала вечность усталая за день». («Груз»)
«Искусство не только отражает жизнь, но часто и предвосхищает ее повороты», — пишет Конецкий в своей статье «Амбивалентные холсты». Откуда сам поэт брал свои метафоры? Возможно, что-то глубоко личное или достаточно мимолетное врезалось вглубь души — то ли живописное впечатление, то ли памятный эпизод. Одним сло- вом, драматургия жизни. Но с закономерным постоянством Конецкому-мастеру удается создать некую элементарную, образную единицу, которая для читателя никогда не потеряет своей ак- туальности, так как смысл ее может самораскручиваться бесконечно: от мелодрамы до трагедии вселенского масштаба.
И опять мы видим в поэте-борце не претендента на роль царя природы, не самодовольного героя-любовника, а постоянно испытывающего потребность в необходимом для диалога словесном самовыражении живого, открытого человека. «Поэзия — это национальное богатство, которое духовно объединяет совершенно разные пласты общества, роднит людей, чьи профессиональные и бытовые интересы порой диаметрально противоположны», — формулирует Юрий Валерьевич свою позицию в статье «Видеть время» (2004 г.). И на любом этапе творчества — у него была та же нужда в читателе-собеседнике, какая не покидала и Марьева. Такая диалогичность — не сентиментальное согласие старосветских по- мещиков, это и дискуссия сильных, и умение по- спортивному держать боксерский удар противника, даже тех «судеб», от которых, по словам самого Пушкина, «защиты нет». Юрий Валерьевич по собственному признанию был хорошо знаком с работами одного из творцов русского космизма Н. Ф. Федорова, написавшего когда-то: «Природа нам враг временный, а друг вечный, потому что нет вражды вечной, а устранение временной есть наша задача, задача существ, наделенных чувством и разумом». Во многом это созвучно и самому Конецкому.
Судьба — тоже проявление высшей космической закономерности, случайность, за которой — Бог. Очень характерна написанная по мотивам народной поэзии и помещенная в раздел переводов поэтическая притча «Мечтательная Полли». Остроумная сказка на тему: человек предполагает, а Бог располагает, — обаятельна, прежде всего, характером героини — наивной крестьянской девушки, намечтавшей себе золотые горы, красивого жениха и кучу ребятишек, пока несла на ярмарку молоко. Но выгодная продажа не состоялась, крынка с молоком разбилась. Однако именно в тот момент, когда казалось, что все рухнуло, судьба повернулась совсем другой стороной и все состоялось. Потому что и девушка хорошая, ра- ботящая, предустановленная изначально гармония восторжествовала. Вернее восторжествовала к счастью для героини сама жизнь.
«…И двадцать восемь башмачков
Порою чистит Полли…»
Конецкий будучи еще и одаренным графиком- иллюстратором, порой, сдерживая природную суперактивность, как бы отходит в сторону, занимая созерцательную, спокойную позицию. Ноты усталости здесь нет, он, как ранее Блок, просто старается узнать и принять жизнь вместе с неизбежным присутствием в ней как удач, так и неудач, не навязывая ей несвойственных этой жизни программ, не придумывая «синих роз», подобно героине стихотворения Киплинга, над переводом которого работал.
«Не ценила,
Вздернув нос,
Красных роз
И белых роз».
Да, конечно, ценить надо тот шанс, который дает судьба. Однако это совсем не означает, что все существующее в современном мире действительно разумно. Когда же возникало нечто для него, поэта, неприемлемое, лирическая исповедь и спокойствие летописца сменялись шутовской иронией «под обывателя» Йорика О. Нецки, преемственно связанной еще с творчеством Кирши Данилова.
Еще в сентябре 2001 года, выступая на Всероссийской конференции «Уральская провинция в системе развития России», посвященной 300-летию города Каменска-Уральского, Юрий Вале- рьевич выражал свои опасения, как выяснилось, совсем неслучайные: «Кризис современной мировой поэзии — это, прежде всего, кризис мировой гуманистической мысли, вызванный кризисом зашедшей в тупик бездуховной долларовой цивилизации, где в обществе потребления чело- век давно перестал быть « мерой всех вещей»; в то же время кризис русской поэзии — это не только отражение очередного раскулачивания русского уклада жизни и обезьяньего заигрывания властей с западными стандартами, но, прежде всего, это кризис свободной русской мысли, русской жизни, разбившейся на тысячи противоречивых ручейков и еще не скоро, видимо, могущего придти к мощному потоку соборного согласия».
Бедный Йорик! Его «Харизма» — не просто веселая бравада. Картина перевернутого мира вырастает из перевернутой души поэта, не остерегшегося, слишком близко подошедшего к ранящей, с ног сбивающей действительности. Чтобы выстоять, оставалось только засмеяться ей в лицо.
Что же так пугает в сегодняшнем дне бывших представителей бесстрашного племени шестидесятников (или бывших шестидесятников не бывает?). Лев Аннинский так излагает свое ощущение языком журнальной публицистики: «Но откуда сейчас-то такая боль? …ощущение катастрофы не исчезает. Мировая война вроде бы отступила… Однако обнаружилась чудовищная жестокость «малых войн», практика террора, в которой жизнь вообще не стоит ничего, ни своя, ни чужая, ни жизнь ребенка, ни беременной жен- щины, вообще ничто! Виноватые и невиновные — без разницы. Все заложники!
И рядом с этим — какая-то оргия псевдожизни, оргия масок, экстремальные игры, гламурный психоз, вытеснение нравственности… непонятно чем… да ведь именно в этом дело: непонятно чем. Деньгами, что ли? Деньги — условные знаки. Знаки чего? Смысл — в чем? Успеть дожрать схваченное? Растратить дурную энергию?»
По определению самого автора, «Харизма» — мениппова сатира эпохи упадка, написанная в девяностых годах. Упадок римской империи сочетался, как известно, с жестокостью и распущенностью нравов. Последствия распада мощной советской империи обрушились на страну целым потоком упадочнических явлений, подхлестыва- емых также и западными доброжелателями.
Два емких высказываний Йорика О. Нецки:
«Как быстро славный Комсомол
Преобразился в мафию! —
Не он один сменил свой пол,
Вождя и биографию».
(«Комсомол»)
«Как расстался он с партбилетом,
Отыскалась другая крыша —
С криминальным «авторитетом»
Дружит бывший парторг наш Гриша».
(«Крыша»)
Конецкий честно и зло прицеливается во врагов России, получивших в смутное для страны время дополнительные возможности для размножения.
«Я твое зеркало, что ж, я ведь могу и разбиться,
И отраженье твое вместе со мной пропадет».
(«Зеркало»)
Когда секс («Прическа на лобке») агрессивно вытесняет любовь из современной жизни, не мудрено и усомниться в самых насущных христианских постулатах. В то, что Бог есть любовь, почти невозможно поверить.
«Истина вечная есть!» — Я полагаю, что нету.
«Истина — это любовь!» — Вы не женаты, мой друг?»
(«Вечная любовь»)
Не так считает сам поэт. В своей статье «Любовь торжествует», написанной, как предисловие к сборнику «Цветы для любимой», выпущенной возглавляемым им в начале этого века объединением «Горный родник», Конецкий сближает понятия искусства, прежде всего поэзии, и любви. «Ведь не случайно же природой дана человеку, впрочем, как и всем другим, достаточно развитым живым существам, двуполая любовь, — такая драматичная, но только человек разумный… в процессе исторического развития превратил ее в источник искусства, поэзии, культуры».
Однако и в этой статье нет окончательной успокоенности. «Возможно ли, что половое чувство исчезнет в процессе пробирочного воспроизводства, и Человек, подавленный надвигающейся цивилизацией монстров, просто выпадет из живой цепи биологического развития материи, как какой-нибудь диплодок? И тогда — прощай, музыка, поэзия, любовь, вдохновение — голый расчет будет двигать ту чудовищную химерическую жизнь, что сулят вослед нашей…
А пока любовь, слава богу, торжествует, заставляя людей, мужчин и женщин, страдать и радоваться, надеяться и разуверяться, писать стихи, и — что самое удивительное, — читать и понимать их!» А еще одним доказательством торжества являются лирические стихи о любви: «Любе», «Ветер», «Встреча», «Наяву», «Плащик» и многие другие, то полные счастья, то с привкусом горечи случайной размолвки, но в них разгадка любви с почти пятидесятилетним стажем к жене, соратнице — поэту, которая в этих стихах никогда не постареет, а навсегда останется той рыжеволосой девочкой, какую когда-то впервые увидев по телевизору, читающей стихи, сразу ска- зал: «Поеду в Свердловск, стану поэтом, а на ней женюсь!» В смысле же общечеловеческой любви «Харизма» сама выдает своего автора. Через отрицание прорывается вечное, живущее в сердце поэта:
«Коммунистический кумир
Не простоял и века,
Как можно перестроить мир,
Обидев человека?»
(«Итог»)
Если отталкиваться от требований христианской нравственности, то именно атеистически настроенный поэт Конецкий или его литературный двойник Йорик О. Нецки истово и беспощадно боролся с теми, кто нарушает завет Господень: не убий («Киллер»), не укради («Новые времена»), не чревоугодничай («Эпитафия обжоры»), не прелюбодействуй («Прическа на лобке»), не лги («Верьте»), не возгордись («Писаке»). Кто-то писал, что в этом и есть особенность русского атеизма — неверие в Бога за то, что он допускает неправедное.
Сам Юрий Валерьевич неоднократно высказывал мне претензии, что, обращаясь к его поэзии, я уж слишком часто прибегаю к аналоги- ям из мира кино. Но я уже упоминала, что поэзия его сама по себе достаточно кинематографична: яркие детали здесь неизбежно соседствуют и с крупными портретными планами персонажей и, особенно в поэмах, с массовыми народны- ми сценами. Разнообразие ритмов, само постоянное присутствие сценического действия, помога- ющее, например, легко перейти к созданию оперного либретто («Заявочный знак»), сообщает его стихам ту энергию движения, которая в кинематографе является определяющей. Да и само соче- тание звукового и живописного решения замысла сближает поэзию Конецкого с полнотой кар- тины мира, которая в лучших образцах предстает перед нами с экрана. Сам поэт с этим не соглашался — ему казалось, что кино всегда упрощает сценарный замысел. Но для меня, как читателя и зрителя, прежде всего, важно до этого упрощения еще самостоятельно додуматься, выловить его из ткани произведения, чтобы впоследствии присвоить, как собственный пережитый опыт. Конечно, не все так читают и смотрят фильмы, но для критика это просто необходимо. Поэтому, не стесняясь, беру еще одну мифологему из мира кино, причем даже кино американского. В культовом философско-фантастическом боевике братьев Ванчовски «Матрица» создатель Вселенной (не будем называть его Богом) предложил герою Нео отобрать среди живых существ каждой твари по паре, чтобы лучшие могли спастись, остальной же Земной шар будет обречен на гибель. Но фантастический персонаж действитель- но оказывается героем, от роли Ноя отказывается, а ценой своей жизни спешит спасти все человечество. Вот такое осмысление библейского мифа. Русский поэт Юрий Конецкий фантастику вообще не любил, но и в обычной реальной жизни не жаждал спасения лично для себя — устраниться, уйти в мир прекрасного, не смешиваться с современными обывателями, чтобы не страдать за них и не пытаться образумить. Стихотворение, которое на языке сатирической поэзии переосмысливает тот же самый библейский миф, а еще и его продолжение, дало название одному из циклов менипповой сатиры — «Причина запоя».
«Не ной, — сказали Ною, —
Не ты тому виной,
Утопли — кто с виною…»
Но не был он свиньей, С того и запил Ной». Все симпатии поэта на стороне рядом живущих. Он, конечно, не симпатизирует оголтелым матерщинникам, хотя и сам в своих сатирах позволяет себе крепкое словцо, как и Маяковский себе позволял, да еще «Во весь голос», но их бесхитростный примитивизм и лицемерное пустословие вполне можно противопоставить.
«Матперемат со сранья слышал ты в русском народе,
Но мужики не вели долгих дебатов о нем».
(«Степень свободы»)
Прошлое поэт совсем не идеализирует. Перефразировкой сентиментальной песенки из музыки к известной телепередаче «В нашенской квартире коммунальной» фактически становится его сатира «До развала».
«В том шалмане густонаселенном
И эсэсэсэром нареченном,
Дети юга, запада, востока,
Жили мы до взрывчатого срока,
Словно в туалете совмещенном
С кухнею, прихожей и балконом».
И в то же время огульное очернительство всего прошлого опыта совсем не во вкусе «харизматика» Йорика.
«Ты советскую эпоху
Так долбаешь без скорбей,
Точно конскую говеху
На морозе воробей».
(«Перестройщику»)
Поэт не представлял своего призвания без живого соучастия в политической жизни страны, а через нее — всего человечества. Отсюда и яростная «Харизма», и широкий охват ее тематики. Особое место не только в «Харизме», но и во всем творчестве Конецкого занимает место поэта в обществе. В своих серьезных стихах он обра- щается и к тем, кто до читателей-современников пробивался только через самиздатовские перепечатки («Эпоха самиздата»), а позже стали любимы Россией, как ее поэтическая гордость.
Вроде бы о каждом — всего только несколько скорбных слов, но какие это тонкие характеристики.
«…То ли Родина, то ли чужбина…
Как свою обрыдала судьбу
Безутешной кукушкой Марина
Над Володей в советском гробу!
Расклевать Гумилева-второго
Первый коршун кремлевский готов:
Брошен в камеру смертников
Лева — Сын павлина из царских садов.
Холодна магаданская осень,
На ветру каменеет слеза,
Замерзающим зябликом Осип
Закатил золотые глаза.
