автордың кітабын онлайн тегін оқу Александр I
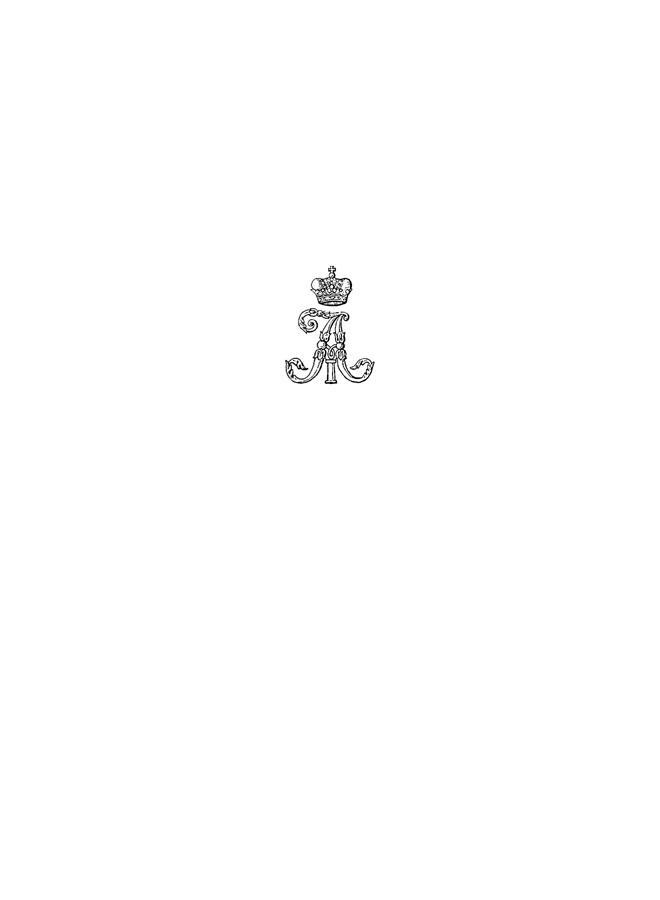

Андрей Андреев
АЛЕКСАНДР I
МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2025
ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Андреев А. Ю.
Александр I / Андрей Андреев. — М.: Молодая гвардия, 2025. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 2086).
ISBN 978-5-235-04866-9
Книга посвящена жизнеописанию, быть может, самого необычного из императоров России. Парадоксально, но сам он никогда не желал для себя неограниченных самодержавных полномочий, будучи воспитанным в республиканском духе, и всегда верил в торжество закона над произволом, а свободы над рабством. В юности Александр восхищался свершениями Французской революции и рассчитывал изменить политический строй России, даровав ей конституцию и парламент. Вступив на трон при драматических обстоятельствах, после убийства отца, молодой император тем не менее пытался реализовать программу задуманных преобразований. Во внешней политике он громогласно заявил своей целью отказ России от завоеваний и установление длительного мира в Европе. Однако именно это привело Александра к роковому столкновению с Наполеоном Бонапартом, которое длилось почти десять лет. Оно закончилось долгожданной победой над врагом, вступлением русских войск в Париж и переустройством всей Европы на новых началах, в чем Александр I сыграл решающую роль. Ради дальнейшего поддержания мира он выступил идеологом Священного союза, и это тесно соприкасалось с его религиозными исканиями, попытками переосмыслить собственное место в мире. Биография впервые демонстрирует читателю как глубину провозглашаемых политических идей, так и скрытую от людей эмоциональную картину душевных переживаний Александра I, представляя личность русского царя со всеми его надеждами и разочарованиями, успехами и неудачами, что позволяет поставить множество вопросов, актуальных для русского исторического сознания.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Андреев А. Ю., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Надобно мне попытаться сделать мое отечество свободным, затем чтобы впредь никогда не становилось оно игрушкой в руках безумцев.
Великий князь Александр Павлович, 1797 г.
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.
А. С. Пушкин, «19 октября», 1825 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В ноябре 1825 года в городе Таганроге, что лежит на юге Российской империи, на берегу Азовского моря, наблюдали необычайное небесное явление. Над городом зажглась новая звезда. Она сияла каким-то странным зеленоватым светом и была ярче всех остальных на небосводе. Смотревшие вверх люди осеняли себя крестным знамением и думали о том, что означает сей Божий знак, — а в памяти всплывала комета двенадцатого года, возвестившая для России войну и разорение от вражеской орды, пришедшей с Запада.
Потом звезда внезапно упала. Некоторые уверяли, что слышали при этом негромкое шуршание и треск, а также звук, описать который едва ли могли, настолько он был непривычен — его можно было бы сравнить с легким «п-пах», с которым лопаются мыльные пузыри, но вот только почему-то возникала от него дрожь по всему телу и безотчетный ужас. А иные из смотревших в небо добавляли, что звезда не только упала, но и вознеслась потом обратно, да так, что стала быстро гаснуть и совсем исчезла спустя лишь недолгое время…
Тем же вечером в Таганроге Александр I вышел на прогулку в сад одноэтажного дома с тринадцатью окнами по фасаду вдоль Греческой улицы, где император тогда жил со своей супругой. Вечерние моционы давно стали его извечной привычкой, которой он не пренебрегал никогда, несмотря ни на какую погоду. Царь шел вдоль рядов увядающих фруктовых деревьев, и под стать унылому осеннему пейзажу его настроение тоже сделалось меланхолическим. Мысли о том, что ждет Россию в ближайшем будущем, часто посещавшие тогда Александра, вернулись к нему. Он твердо знал, что его царствование закончилось, но еще не знал, каким будет его конец. И с этими мыслями вновь вернулся липкий, скользкий страх, который он переживал уже много недель подряд: страх обернуться и увидеть того, кто за спиной бесшумно крадется к нему. Заговорщика. Убийцу. Превозмогая этот страх, царь почувствовал, что просто обязан сейчас бросить взгляд назад — с огромным усилием воли он сделал это и убедился, что там никого не было.
Александр, правда, не заметил, как колышутся кусты у дальней ограды сада (в них действительно полз человек, но в нашем рассказе он покамест не появится). Внимание царя отвлекла ярко сиявшая в небе над ним зеленая звезда. Ее свет усиливался и вдруг залил весь сад. В облаке газов, истекавших из тормозных двигателей, на прогалину опускалась летающая тарелка. Сидевшие в ней гуманоиды (уродцы, типичные греи в скафандрах с антеннами), очевидно, уже какое-то время наблюдали за царем сверху и вот решили наведаться к нему. От нестерпимого сияния Александр зажмурил глаза, а потом невольно сделал шаг вперед… В ковер из опавших листьев вдруг уперлись два столпа холодной плазмы. Корабль пришельцев взмыл вверх, чтобы там, в бескрайнем космосе, догнать комету двенадцатого года. На месте, где только что стоял император (а в том могли поклясться несколько следивших за ним в саду очевидцев), больше никого не было — лишь ветер там раздувал листву. Дул сильный ветер в Таганроге, обычный в пору ноября…
Надеюсь, что проницательный читатель уже догадался: это был слегка приукрашенный пересказ сюжета поэмы «Струфиан» (недостоверная повесть о похищении Александра I инопланетянами), которую замечательный советский поэт Давид Самойлов написал в 1974 году. Поэма стилизована под анекдот, причем сразу в двух культурных традициях — анекдот, то есть рассказ о замечательном происшествии, в смысле пушкинского времени, и столь распространившиеся в советскую «застойную эпоху» кухонные разговоры о летающих тарелках, в духе любимой тогда телевизионной передачи «Очевидное-невероятное». Шуточный сюжет и иронический тон поэмы вовсе не помешал (а скорее наоборот, способствовал) тому, что Самойлов вложил в нее немало серьезных мыслей, актуальных для тогдашних споров в среде советской творческой интеллигенции1. Будучи тонким знатоком пушкинской эпохи, поэт, с одной стороны, подошел к ее изображению максимально исторично, но, с другой стороны, обобщал на примере Александра I свои собственные излюбленные размышления о природе верховной власти, которая управляет страной (независимо от того, как та называется — Российская империя или Советский Союз):
У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья…
Ужасно за своим плечом
Все время чуять тень злодея…
Быть жертвою иль палачом…
Поэтому мотиваций, чтобы написать эту, казалось бы, совершенно несерьезную поэму-анекдот, у Самойлова было предостаточно. Но нас будет интересовать ее другой аспект. Почему Александр I в сознании поэта так легко соединился с советским уфологическим фольклором? Означает ли это, что Александр I превратился для советской, а затем и российской интеллигенции в фольклорного персонажа? С одной стороны, опыт последующих пятидесяти лет, прошедших после создания «Струфиана», скорее свидетельствует об обратном. Александру I очень далеко в сознании русского общества до того места, которое в нем заняли Иосиф Виссарионович Сталин и царь Иван Васильевич Грозный2 (а если брать исключительно анекдоты, то — Леонид Ильич Брежнев или Василий Иванович Чапаев). Значительно обогнал Александра по «близости к народу» и Петр I, который за последнее время заметно продвинулся вперед благодаря культуре мемов и стал уже прочно ассоциироваться со Шреком, построившим свой дом на болоте3.
С другой стороны, восприятие Александра I в отечественном общественном сознании остается глубоко мифологическим, а именно — на первый план с неизбежностью выступает «миф об уходе», то есть фольклорная интерпретация событий в Таганроге в ноябре 1825 года. Она допускает множество вариаций, но при этом содержит и ряд констант4. Был ли Александр в Таганроге захвачен заговорщиками? Или отравлен? Или — как уверены большинство читателей — ушел пешком странствовать по России? А может быть, принял постриг так же, как несколько месяцев спустя (в логике того же мифа) это сделала и его супруга-императрица? А может, его все-таки похитили пришельцы, ведь не мог же такой крупный поэт, как Давид Самойлов, написать целую поэму, не основываясь на каких-то реальных, но тщательно скрываемых фактах? Последняя версия уже после выхода в свет «Струфиана» вошла в некоторые художественные или околонаучные произведения (в этой связи хочется напомнить об очаровательном и, на мой взгляд, незаслуженно забытом советском детском фильме «Если верить Лопотухину…», снятом в 1983 году Михаилом Козаковым). Константой при этом является идея о подмене тела царя на похоронах (с чисто фольклорными — то есть не имеющими никаких документальных подтверждений — ссылками на данные о вскрытии большевиками в 1921 году гробницы Александра I, где его тело якобы отсутствовало) и, конечно же, самое ядро мифа — фигура сибирского старца Федора Кузьмича, проживавшего в Томске до 1860-х годов, который якобы и был ушедшим с престола (спасшимся от заговорщиков и т. д.) императором Александром I. Старец тщательно оберегал свою тайну при жизни, а перед смертью спрятал признание в небольшой холщовый мешочек: на двух бумажных лентах располагались зашифрованные буквы и цифры, в которых желающие угадывали (и до сих пор угадывают) имена Павла I, Александра I и даже его брата Николая I, по вине которого, согласно одной из версий, Александр был «без совести сослан» и затем претерпевал страдания.
Ниже в книге еще будут указаны основные этапы складывания этого мифа. Здесь же для нас важно зафиксировать, насколько он оказался устойчивым, пережил не только ту эпоху, что породила мифологическое восприятие Александра I (которое, безусловно, отражало элементы народной социальной утопии XIX века по отношению к российскому самодержавию), но и совершенно иное по социальному и культурному контексту советское время — в этот период историки внешне очень мало интересовались личностями самодержцев и уж совершенно точно не были склонны распространять сложившиеся о них мифы. Однако легенда об уходе Александра I не только выжила, но и расцвела новым пышным цветом после крушения СССР, когда любые сведения о российских императорах приобретали в обществе прелесть вновь открываемого знания, об источниках которого никто не задумывался. В 1990-х и особенно в 2000-х годах вышли десятки публикаций, посвященных разгадке тайны Александра I — Федора Кузьмича; были сняты документальные и художественные фильмы; материалы на эту тему, составленные обычно путем простого копирования некоторого количества цитат из дореволюционных трудов, заполонили тогда интернет (который, как известно, все помнит). В этом потоке среди голосов явных шарлатанов от науки можно было различить и высказывания серьезных ученых, которые сочувствовали легенде и вносили свой вклад в ее распространение. И только в последние десять лет вал публикаций по данной теме начал спадать, и это не замедлило положительно сказаться на ее научных перспективах: сейчас «миф об Александре I» сам по себе наконец превращается в предмет для исследования.
В этой связи стоит отметить еще одно значение поэмы «Струфиан»: Давид Самойлов стал первым, кто осуществил ироническую деконструкцию «александровского мифа». Действительно, в его изложении Федор Кузьмич оказывается казаком из Таганрога, которому вздумалось подать императору челобитную под названием «Благое намеренье об исправленье Империи Российской». Для этого через известную ему дыру в заборе он проползает в сад, где гуляет Александр, и там становится свидетелем необычайного похищения, после чего, слегка повредившись в уме, все время твердит слова: «Крылатый струфиан» (церковнославянское название страуса), которые и можно — при большом желании — разобрать на бумажных лентах, оставшихся после томского старца. То есть Александр I никуда не уходит скитаться — да и не может уйти по всему смыслу нарисованного Самойловым его бессильного характера; жизнь Федора Кузьмича абсолютно случайно соединяется с биографией Государя, а сама причина возникновения тайны — летающая тарелка с пришельцами — невероятна и абсурдна.
Итак, поэт позднего советского времени, глубоко погруженный в контекст русской истории и культуры первой четверти XIX века и благодаря этому заинтересовавшийся «александровским мифом», уже тогда почувствовал необходимость его деконструкции. На базовом смысловом уровне его поэмы (а таких уровней, повторю, было несколько, и отнюдь не все они относились к событиям прошлого) утверждалась абсурдность самой тайны, сложившейся вокруг российского самодержца. Тем не менее этот миф живет и прекрасно чувствует себя до сих пор. Признайтесь себе, разве вам не хотелось узнать, а точно ли Александр I тихо скончался на окраине Российской империи и не было ли здесь подмены и его посмертного существования? Не за этим ли вы открыли сейчас эту книгу? Но эти вопросы влекут за собой и последующий — почему читающую публику в ее абсолютном большинстве привлекает именно мифологический сюжет об Александре I, почему столь же весомой притягивающей силой не обладают биографические черты «реального Александра» как правителя-реформатора, победителя Наполеона, освободителя Европы, творца новых политических систем, наконец, просто как человека?
Ответ на последний вопрос очень сложен, поскольку требует определения того, что же такое реальный Александр. Чтобы понять всю сложность этого, пора сделать еще одно признание: не только смерть Александра I, но и все ключевые эпизоды жизни императора насквозь мифологизированы. И с позиций исторической науки это как раз очень понятно: ключевой проблемой здесь являются исторические источники и их конкретное использование применительно к биографии Александра I. В большинстве значимых ситуаций мы смотрим на нашего героя чужими глазами, в которых он отражается — причем именно так, как хочет того человек, описывающий события. Иными словами, мы почти всегда видим не Александра I, а лишь его субъективно нарисованный образ, такой, какой желали увидеть, а потом и донести до потомков окружавшие его люди, — а помимо этих картин о самом Александре нам известно не так уж и много.
В отличие от других российских самодержцев Александр I не оставил ни дневников, ни какого-либо развернутого регулярного эпистолярия (каким, например, для его бабки Екатерины II служила ее переписка с бароном Фридрихом Мельхиором фон Гриммом). Конечно, есть весьма значительная по объему переписка Александра I (с матерью, с сестрами, со своим воспитателем Фредериком-Сезаром Лагарпом и еще несколькими близкими к царю людьми), но практически всегда письма самого Александра здесь занимают куда меньшее место, нежели письма его корреспондентов, к тому же в том, что пишет Александр, срабатывает тот же «эффект отражения» — император блестяще владеет техникой сообщать собеседнику ровно то (и только то!), что тот хотел бы от него услышать. По-настоящему важных писем, значимых для понимания характера российского самодержца, оказывается среди них совсем немного.
Что же касается мемуаров об Александре I, то наиболее яркие и часто используемые из них представляют собой не что иное, как литературную игру — о которой словно бы не догадывается уже не одно поколение историков, доверчиво черпающее оттуда описания, изречения, личные оценки императора при создании его исторического портрета. Поясню это на нескольких примерах.
Вот один из крупнейших современных специалистов, написавший биографию Александра I (едва ли не последнюю из опубликованных к настоящему времени), начинает пролог своей книги описанием переживаний, которые тот испытывал сразу после вступления на престол вследствие убийства его отца, императора Павла I:
Новый император шел медленно, колена его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы, смотрел прямо перед собою, редко наклонял голову, как будто кланялся; вся поступь его, осанка изображали человека, удрученного горестию и растерзанного неожиданным ударом рока.
Эта красочная цитата принадлежит Якову Ивановичу де Санглену5, о котором в историографии принято отзываться с почтением, памятуя, что он возглавлял при Александре I некое подобие высшей тайной полиции, а потому его свидетельства являются особенно ценными. Но, во-первых, во главе особой канцелярии Министерства полиции Санглен пробыл всего два года, с 1810-го по 1812-й, и успел за это время по собственной инициативе встрять в более чем темные дела. А во-вторых, куда больше, чем своей полицейской службой, Санглен сумел прославиться благодаря мемуарам, которые создавал в конце 1850-х — начале 1860-х годов. Уже в тот период большого оживления в русском обществе в канун и при самом начале эпохи Великих реформ историки вовсю занимались сбором разнообразных сведений о царствовании Александра I. Разменявший девятый десяток Санглен, переживший всех и вся, объявил себя тогда единственно верным свидетелем и хранителем истины об Александре. Он взялся за свое сочинение, обладая незаурядным литературным талантом и еще в молодости овладев стилем и образностью немецких романтиков (в особенности Фридриха Шиллера, перед которым преклонялся). Им была создана целая новая концепция образа мыслей и действий Александра I — причем настолько убедительная, что она практически слово в слово перешла затем в хрестоматийные биографические труды о российском императоре, созданные в конце XIX — начале XX века. При этом главной целью, с которой Санглен создавал такой портрет, являлось всячески умалить или оставить в тени свои собственные неприглядные поступки (обо всем этом подробнее пойдет речь дальше в книге).
Тем самым образ Александра I, проходящий красной нитью через весь текст «Записок» де Санглена, был сконструирован по законам романтической литературы, а не истории. Сказать, что он недостоверен, мало: Санглен сознательно искажал слова, поступки, а иногда даже события и даты, связанные с Александром I. Да и потом, задумаемся на секунду — можно ли спустя шестьдесят лет вспомнить, какая прическа была на голове у Александра в марте 1801 года? А подобный вопрос годится и для большинства прочих мемуаров. Другой, куда более «добросовестный» в сравнении с де Сангленом мемуарист — князь Адам Чарторыйский (хотя, несомненно, отягощенный своими собственными политическими интересами, коих у него было немало) — вспоминает, какая погода стояла в тот день, когда он впервые лично познакомился и подружился с юным великим князем Александром Павловичем. Вспоминает также спустя шесть десятков лет после этого события! И притом, как известно, не просто вспоминает, а рассказывает об этом своему секретарю, который занимался литературной обработкой его воспоминаний. Конечно, память способна на многое, но все-таки в деталях — а именно их нам в изобилии предоставляют мемуары! — следует усомниться. По сути, использование этих деталей ничем не отличается от описания плазменных двигателей летающей тарелки в Таганрогском саду (ведь вы же поверили, правда?).
Одним словом, как это ни грустно, но ничего из той образной картины, которая столь убедительно была нарисована в вышеприведенной цитате, в действительности не было. И если руководствоваться строгими правилами исторической науки, то приводить ее в академической биографии Александра I нельзя. А надеяться — «а вдруг оно все-таки так и было?» — как раз и означает подмену научного исследования логикой мифа, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Позвольте привести еще два примера из той же области. В марте 1812 года Александр I внезапно отправляет в отставку Михаила Михайловича Сперанского, и это порождает еще один миф с разнообразными трактовками, вплоть до самой радикальной — об окончательном разрыве Александра в этот момент с курсом на реформы в России. Нас сейчас интересует лишь самый конец разговора императора и опального государственного секретаря. Вот как обычно описывают его историки (да и, что греха таить, я сам зачастую так делал на лекциях перед студентами): Сперанский вышел из кабинета царя в беспамятстве, весь залитый слезами, и пытался уложить бумаги, которые еще держал в руках, в свой портфель. В это время на пороге кабинета появился Александр I, на лице которого также были слезы, и он произнес: «Прощайте, Михайло Михайлович! Мы с вами еще поработаем вместе» (меж тем уж были готовы сани, чтобы увезти Сперанского из Петербурга в ссылку).
Сцена эта впервые появляется в биографии Сперанского, написанной бароном Модестом Андреевичем Корфом и вышедшей в свет в 1861 году6. Из указаний Корфа выясняется, что ему все это описал в личном разговоре генерал от кавалерии граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, с которым барон мог встречаться в начале 1840-х годов, когда только начал работу над биографией. В качестве дежурного генерал-адъютанта Голенищев-Кутузов действительно находился 17 марта 1812 года в приемной императора и, следовательно, мог стать очевидцем того, как Александр I прощался со Сперанским, поэтому, казалось бы, эта сцена заслуживает всяческого доверия и должна быть воспринята всерьез при анализе различных интерпретаций отставки. Вот только у нее был — точнее, должен был быть — еще один очевидец! Дело в том, что в приемной императора, ожидая аудиенции, в то же самое время находился и обер-прокурор Святейшего синода князь Александр Николаевич Голицын, который также охотно потом делился своим рассказом о том, что видел, и эти рассказы были зафиксированы не только Корфом, но и несколькими мемуаристами в 1820-х годах, то есть гораздо ближе к описываемым событиям. Однако ни в одной из версий рассказа Голицына нет ни слова о появлении Государя в приемной и о его последних словах, обращенных к Сперанскому, — лишь подчеркивается подавленное состояние последнего (но вовсе не до степени «беспамятства»). Так было ли столь порывистое и трогательное прощание царя и его ближайшего помощника, говорил ли Александр эти последние слова, которые свидетельствовали о его готовности продолжать реформы? Да или нет? Правильный ответ — не знаю. По крайней мере в деталях описания, сделанного Голенищевым-Кутузовым спустя тридцать лет, опять-таки можно усомниться — и не стоит забывать, что речь вообще идет об устном рассказе, записанном Корфом также по памяти, а значит, с неизбежными искажениями.
И, наконец, еще одна хрестоматийная фраза Александра I, вошедшая во многие его биографии: «Пожар Москвы озарил мою душу и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотой веры, которую оно до того никогда не ощущало». Сколько в ней важных смыслов для понимания религиозного переворота в душе Александра I — каким образом на него подействовала Отечественная война 1812 года, как победу над Наполеоном он напрямую приписывает промыслу Божьему, и почему из этих мыслей непосредственно рождается идея Священного союза. Но произнес ли он на самом деле эти слова? Да или нет?
Путем довольно трудоемких поисков выясняется, что источником этой фразы служит немецкая книга евангелического епископа Рулемана Фридриха Эйлерта «Характерные черты и исторические фрагменты из жизни короля Пруссии Фридриха Вильгельма III»7. Автор ссылается здесь на разговор с императором Александром I в Потсдаме, который состоялся 20 сентября 1818 года и который Эйлерт якобы тут же записал слово в слово, так что при создании своих мемуаров в 1840-х годах ему ничего не оставалось, как только переписать его туда. Что ж, как говорится, похвально; неужели перед нами редкий пример «добросовестного мемуариста»? Но стоит чуть-чуть вчитаться в текст мемуаров, и эта иллюзия развеивается. Сперва бросаются в глаза мелочи: например, Эйлерт пишет, что Александр I был глух на правое ухо, тогда как в действительности, как хорошо известно, — на левое. Или простейший вопрос: а на каком языке происходил разговор? Опять-таки, согласно Эйлерту, епископ посетовал, что плохо говорит и понимает по-французски, тогда Александр I перешел на немецкий язык, также признаваясь, что не в достаточной мере им владеет и будет вставлять в разговор французские выражения (это — абсолютная правда, Александр I учил немецкий язык в юности и в какой-то степени знал его, но у него совершенно отсутствовала разговорная практика на этом языке, да и она ему не требовалась, поскольку во время его пребывания за пределами России все кругом говорили на французском как основном языке дипломатии XIX века). Если это так, то мог ли он составить по-немецки столь риторически красивую фразу с яркими метафорами и контрастами («пожар озарил душу», «ледяные поля — теплота веры» и т. д.)? Но окончательно подрывает доверие к мемуаристу следующий факт, выясняющийся из внимательного чтения текста: поводом к разговору, как подчеркивает епископ, является произнесенная им накануне проповедь, когда он вместе с Александром I присутствовал при закладке в Берлине на горе Темпельгоферберг (ныне Кройцберг) так называемого «Национального памятника освободительным войнам» — высокой, увенчанной крестом готической башни. Эта проповедь настолько понравилась Александру, что тот захотел получить ее русский перевод, чтобы потом «раздать ее каждому солдату». Памятник действительно был заложен в 1818 году, а открыт и освящен лишь в марте 1821 года. Эйлерт полностью приводит в мемуарах текст своей проповеди, говоря дальше, что Александр I процитировал его в их разговоре — но из содержания проповеди выясняется, что она относится не к закладке, а к освящению памятника! «Добросовестный немец» даже не скрывает этого: он признает, что «объединяет два праздника в единое целое». Может быть, память подвела епископа и его разговор с царем состоялся в 1821 году? Нет, в марте того года Александр I был далеко от Берлина, в Лайбахе, то есть они могли встречаться только в 1818 году, но тогда не могли обсуждать освящение памятника и цитируемую проповедь. Из-за этого фактического несоответствия вся начальная часть их разговора лишается смысла — а тогда чего же стоит продолжение?
Епископ Эйлерт являлся крупным евангелическим богословом своего времени, ему важно было дать интерпретацию религиозным идеям Священного союза через внутренние движения души российского самодержца, используя для того весьма распространенную в протестантском богословии концепцию внезапного «обращения» — обретения веры под действием каких-то внешних, иногда даже случайных обстоятельств, которые после того трактуются промыслительно. Но с точки зрения исторической науки Эйлерт выступил в типичной роли «мифотворца» — и, как видим, небезуспешно, судя по тому, что написанные им слова уже много десятилетий подряд используются как прямая речь Александра I.
Итак, я надеюсь, приведенные примеры убедительно показывают, что биографию Александра I нельзя сочинять, отдаваясь на волю накопленной мифологии о российском императоре — пусть даже к этому подталкивают и значительное количество мемуарных источников, и даже определенная традиция прежних биографий. В конечном счете, это личный выбор автора книги: писать ли о «летающих тарелках» (а это ведь так легко и приятно!) или искать, прорываться к тому Александру, каким он все-таки был, а не казался.
Должен повторить: это сложная работа, и, быть может, результаты поисков не утешат, а скорее разочаруют. Что делать: ремесло историка — это вообще довольно грустная вещь. Перед тобой открываются вновь и вновь — в разном антураже исторических эпох, но при неизменном постоянстве человеческих характеров — несбывшиеся планы и надежды, ошибки и заблуждения, которые дорого стоят окружающим людям, нежелание или неумение что-то изменить вокруг себя, фальшивые цели, ложные кумиры. Из-за этого победы превращаются в поражения, мир сменяется войной, а из бесконечной череды бегущих по кругу событий не видно выхода. Но иногда бывает человек (и, кажется, один на целое поколение!), которому небезразличен его народ и он умеет к нему обращаться, который не стремится к власти ради нее самой, который любит истину и справедливость и, даже преследуя врагов, проявляет великодушие и опирается на закон — закон, который он искренне почитает, а не подстраивает под себя. Так был ли Александр I таким единственным в своем роде монархом — и, может быть, даже лучшим правителем за всю историю России?
Об этом, я надеюсь, мы поразмышляем вместе. Впереди много рифов и подводных течений, но читатель предупрежден! А теперь — в путь…
ЧАСТЬ I
ПРИНЦ ПОД ГРУЗОМ НАДЕЖД
1777—1801
Ни с одним царствованием в России, наверное, не связывалось столько счастливых предчувствий, и ни в одного российского императора в детстве и юности не вкладывалось столько сил, чтобы подготовить из него «идеального правителя». Его воспитатель Фредерик-Сезар Лагарп в записках к ученику неоднократно выражал надежду, «что великий князь Александр вырастет человеком выдающимся и все люди большого ума признают его достойным великой будущности, его ожидающей». Когда же тот только что взошел на трон, Лагарп напрямую написал Александру о его предназначении: «Обретет Россия то благо, какое добрый ее гений сорока миллионам жителей начертал, когда Вас на Ваше место поставил»8.
Однако воплотить в жизнь эти надежды оказалось очень сложно. Многие обстоятельства здесь не зависели от самого Александра и возникли еще задолго до его рождения, хотя некоторые определились в процессе воспитания и формирования его личности. Они значительно повлияли на складывание характера русского принца, путь которого к трону стал неожиданно драматическим. Центральной же фигурой, определившей контуры этой драмы, явилась бабушка Александра, императрица Екатерина II.
Глава 1
БАБУШКА И ЕЕ ИМПЕРИЯ
Бабушка очень хотела внука, потому что с сыном у нее, сказать по-честному, совсем не заладилось. Кто ж виноват, что само рождение Александра создавало весьма своеобразную коллизию в Российском императорском доме?
Пятого февраля 1722 года[1] император Петр I подписал Устав «О наследии престола». Ссылаясь на историю своего старшего сына Алексея, обвиненного в участии в заговоре, которое «не раскаянием его пресеклось» (а, как все в стране хорошо знали, гибелью царевича под пытками), Петр называл порядок престолонаследия от отца к старшему сыну «недобрым обычаем», который «не знаю чего для был затвержден». Император объявлял, что право передачи престола должно полностью находиться в руках верховного правителя. Это означало, что тот не только в любой момент мог объявить о назначении наследника своей империи («правительствующие государи кого похотят учинить наследником, то в Их Величества воле да будет»), но и поменять прежнее решение о выборе наследника и назначить нового («ежели и определенного в наследники, видя какие непотребства, паки отменить изволят, и то в Их же Величества воле да будет»[2]).
Этим указом Петр I ставил собственную личную волю выше природного порядка и кровных уз (на которых зиждилось, например, наследование в германских государствах — так называемый Салический закон, согласно которому трон передавался по мужской линии, то есть от отца к сыну, строго в порядке старшинства). Казалось бы, решение императора свидетельствовало о необычайной силе самодержавной власти в России[3]. Но в действительности именно оно породило практически непрерывный ряд кризисов при передаче российского престола в XVIII веке, которые вместе образуют так называемую «эпоху дворцовых переворотов». Ее суть в том, что почти ни разу передача власти не становилась «бесспорной», а зачастую тот, кто в итоге оказывался на престоле, не мог похвастаться каким-либо документальным подтверждением своих прав там находиться.
Сам Петр I скончался, не подписав никакого манифеста о назначении наследника. Соответственно, его жена Екатерина I, объявленная единоличной императрицей, должна была управлять страной без опоры на какой-либо подзаконный акт, а также в явном нарушении как прежних русских, так и европейских (салических) обычаев, где вдова никогда не сменяла на троне скончавшегося мужа, тем более при имеющемся прямом мужском потомстве (внуке Петра I — царевиче Петре Алексеевиче, будущем Петре II). Уважая тем не менее права последнего, Екатерина I оставила свое «завещание» — то есть документ, оглашенный не при ее жизни, а сразу после смерти, что уже несколько подрывало его законодательную силу. В нем она признавала Петра Алексеевича своим наследником, но в то же время дальнейшие права наследования передавала по женской линии своим дочерям Анне Петровне и Елизавете Петровне (а также сестре Петра I — царевне Наталье Алексеевне) и их потомству.
Вступление на престол Петра II в соответствии с «завещанием Екатерины I» стало редким для XVIII века исключением, когда в этом событии отсутствовали черты переворота. Какое-то время в период его царствования указанное «завещание» считалось даже основой новой системы престолонаследия, а Устав Петра I подлежал изъятию из присутственных мест. Но после смерти Петра II можно наблюдать даже не один, а сразу два подряд переворота. Провести первый попытался приближенный к юному императору князь Иван Алексеевич Долгоруков: он ссылался на предсмертный манифест Петра II, которым тот якобы отдавал престол «государыне-невесте» княжне Екатерине Алексеевне Долгоруковой — своей обрученной, но несостоявшейся супруге. Этот манифест был признан подделкой, изготовленной самим князем Иваном, однако важно подчеркнуть, что тем самым тот вновь взывал именно к петровскому порядку о назначении наследника. Затем же уже Верховный тайный совет полностью пренебрег «завещанием Екатерины I» и пригласил на трон Анну Иоанновну из другой женской линии дома Романовых (которая согласно «завещанию» вообще не должна была иметь прав на престол). В итоге императрица Анна Иоанновна манифестом от 17 декабря 1731 года опять подтвердила силу Устава Петра I и право действующего Государя самому определять будущего наследника.
Преемником Анна Иоанновна избрала сына своей племянницы, урожденной принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны, вышедшей замуж за принца Антона Ульриха из герцогства Брауншвейг-Вольфенбюттель. В этом браке в августе 1740 года появился на свет Иоанн Антонович, брауншвейгский принц, который спустя два месяца после своего рождения был провозглашен российским императором. Его короткое царствование оказалось особенно богатым на перевороты: один за другим сменялись регенты и фигуры, управлявшие государством при императоре-младенце; шла также речь о планах провозгласить Анну Леопольдовну императрицей. Наконец, в декабре 1741 года власть захватила Елизавета Петровна, которая попыталась обосновать свой приход на трон «завещанием Екатерины I» — но это было явным искажением истины, ибо в таком случае престол принадлежал бы сыну ее старшей сестры Анны Петровны, герцогу Голштейн-Готторпскому Петеру Ульриху (Петру Федоровичу). Последнего сама же Елизавета провозгласила наследником в полном соответствии с петровским Уставом. После ее смерти он, под именем Петра III, взошел на престол в декабре 1761 года, хотя уже во время долгой болезни императрицы происходили закулисные интриги и попытки очередного переворота с целью провозгласить следующим правителем не Петра, а его супругу, великую княгиню Екатерину Алексеевну, в качестве регента при ее малолетнем сыне Павле. Эти попытки не удались — но тем не менее, когда Петру III за короткое время удалось настроить против себя гвардию и значительную часть вельмож, его супруга 28 июня 1762 года осуществила очередной вооруженный переворот, после которого она была провозглашена императрицей Екатериной II.
Подчеркнем: воцарение Екатерины II оказалось чрезвычайно шатким в правовом смысле, как ни рассматривай его с законной ли точки зрения, или согласно обычаям передачи власти в России. С легкой руки немецкого историка Августа Людвига Шлёцера, апологета Екатерины II, сочинившего панегирик «Вновь измененная Россия» всего лишь на пятый год ее царствования, оттуда пошло гулять выражение «революция 1762 года» — революция как прямой синоним слова переворот, причем Шлёцер хотел тем самым доказать, что и революции иногда бывают ощутимо полезны для страны и даже необходимы.
Действительно, Екатерина не могла опереться ни на какой акт, объявлявший ее преемницей после Петра III. Правда, жена здесь вновь наследовала мужу, как в случае с Екатериной I, но с той большой разницей, что Екатерина I уже была императрицей, венчанной короной, которую на ее главу во время торжественной церемонии в мае 1724 года возложил сам Петр I, и ее правление пытались представить естественным продолжением царствования ее супруга — Екатерина II же, как и Петр III, до момента переворота еще не успела принять участие в церемонии венчания на царство, а главное же, она не продолжала царствование мужа, а, напротив, свергла его с престола.
При этом она опиралась на заговор гвардейцев, через посредство своего любовника Григория Григорьевича Орлова, от которого за два с половиной месяца до переворота Екатерина родила ребенка, будущего графа Алексея Бобринского. А на 9-й день после переворота несколько гвардейских офицеров, в том числе брат ее любовника, Алексей Орлов, приняли участие в событиях, окончившихся смертью Петра III. Ее точные причины никогда не будут до конца объяснены историками, в силу неразрешимых противоречий в источниках и их интерпретациях, но это не мешало современникам, жившим во второй половине XVIII века, с уверенностью полагать, что Петра III задушили, и даже называть имена конкретных убийц. Отсюда ироническое прозвище Екатерины II, которое бытует в личных документах вплоть до эпохи декабристов — добрая вдова, — имело вовсе не такой уж веселый смысл…
Следует добавить, что после Петра III остался семилетний сын, великий князь Павел Петрович, который по праву рождения должен был бы наследовать российский трон — а в период его малолетства мать, то есть Екатерина, в лучшем случае могла бы получить звание регентши (правительницы), каковое носила Анна Леопольдовна при Иоанне Антоновиче. Но когда Екатерина объявила себя императрицей, игнорируя права Павла, это вызвало удивление и неприятие даже у части поддержавших ее заговорщиков. Екатерина, правда, пошла в этом вопросе на некоторый компромисс, поскольку в том же самом манифесте от 28 июня 1762 года о своем восшествии на престол провозгласила Павла наследником. Тем не менее наличие сына-наследника, который знал о гибели отца при странных обстоятельствах, создавшихся по вине матери, и который, взрослея, в глазах как окружающих, так и в собственных, все более становился достойным управлять страной, создавало для императрицы неразрешимую и усугублявшуюся год от года проблему. Чтобы лучше ее понять, необходимо погрузиться в изучение характера Екатерины II, ее семейных отношений и особенностей государства, которым ей суждено было управлять.
Она родилась в 1729 году принцессой одного из крошечных немецких княжеств, Ангальт-Цербста, площадью около 1 тыс. км2 (что, например, в 2,5 раза меньше нынешних размеров Москвы). При крещении в лютеранской вере она получила имена София Августа Фредерика. Последнее из них стало основным, из которого возникло детское прозвище принцессы — Фике или Фигхен (сокращенное от Фредерикхен). Ее отец происходил из младшей ветви княжеского рода Асканиев, со Средних веков утвердившегося в восточных саксонских землях, на среднем течении реки Эльбы. После многочисленных семейных разделов владения князя Ангальт-Цербстского настолько измельчали, что не позволяли ему содержать двор и вести жизнь «достойную Государя», а заставляли искать службы при других дворах. Отец Фике поступил офицером в армию короля Пруссии и к моменту рождения дочери служил комендантом одной из крепостей на балтийском побережье.
Мать Фике представляла младшую линию одного из самых больших по численности княжеских домов Северной Германии — Ольденбургского, а именно его Гольштейн-Готторпскую ветвь. Голштинский герцог Петер Ульрих, будущий Петр III, также принадлежавший к этой династии, приходился матери своей будущей супруги двоюродным племянником. Иными словами, Петер Ульрих и Фике находились в троюродном родстве и встречались задолго до заключения брака на семейных собраниях. В 1742 году старший брат матери Фике был провозглашен наследником трона Швеции из-за того, что Петер Ульрих принял звание наследника престола Российской империи под именем великого князя Петра Федоровича и должен был отречься от своих прав на Швецию, которые имел, будучи внуком сестры шведского короля Карла XII. Пока Петер Ульрих претендовал на шведскую корону, Фике говорили, что ему для поддержки нужна будет супруга из более сильного европейского дома, но теперь троюродный брат рассматривался как самая значительная из всех предположенных для Фике партий (особенностью Голштейн-Готторпов было их стремление заключать браки внутри династии).
И действительно, спустя лишь год жизнь 14-летней немецкой принцессы решительным образом переменилась. Елизавета Петровна одобрила идею привезти Фике в Россию, чтобы выдать ее замуж за великого князя. В конце января 1744 года будущая Екатерина II впервые пересекла границу государства, которым ей предстояло править. В Риге ее встречал почетный караул: им командовал барон Мюнхгаузен — тот самый (Карл Фридрих Иероним!), действительно находившийся тогда на русской службе, что не раз упоминается в связанных с ним многочисленных историях.
Мировоззрение Фике во многом складывалось уже в России. Если до приезда сюда у нее было вполне заурядное воспитание под руководством французской гувернантки, то, став невестой, а затем женой наследника российского трона, она получила в свое распоряжение значительное свободное время для самообразования. Чтение книг стало одним из главных ее занятий (наряду со страстью к верховой езде, о которой Екатерина не раз писала в своих «Записках»). В 15 лет она открывает для себя Цицерона, Плутарха и Шарля Луи де Монтескьё, в 17 лет способна предпочесть Вольтера чтению французских романов и вообще всячески подчеркивает свой «философический» склад ума и души. Таким образом французское Просвещение, с многими деятелями которого Екатерина позже будет поддерживать переписку, становится основой ее представлений о государственных и общественных отношениях, и эту свою черту она очень захочет потом передать своему внуку.
В России же перед ней стояла задача изучения русских обычаев. Ее учителями в этом выступили Василий Евдокимович Адодуров, адъюнкт Академии наук, создатель грамматики русского языка, и епископ Псковский и Нарвский Симон (Тодорский) — известный придворный проповедник, представитель просвещенного духовенства, учившийся в университете Галле и свободно знавший немецкий язык. Под руководством епископа Екатерина перешла из лютеранства в православие, получив свое новое имя. Любопытно, что между епископом Симоном и Адодуровым существовал незримый конфликт в борьбе за Екатерину: первый, будучи выходцем из украинского казачества, ставил ей в русском языке мягкое малороссийское произношение, тогда как родившийся в Новгороде Адодуров настаивал на твердом, великорусском. В итоге Екатерина сделала выбор в пользу последнего и именно так произнесла Символ веры во время торжественной церемонии принятия православия, чем вызвала полное одобрение императрицы Елизаветы Петровны.
Переход в православие должен был символически соединить Екатерину с ее будущим народом, чему та придавала большое значение. В «Записках» Екатерина открыто признаётся в своих трех правилах, которые приняла, «как только увидала, что твердо основалась в России»: «1) Нравиться великому князю, 2) нравиться императрице, 3) нравиться народу. […] Когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия во втором, а третий удался мне во всем объеме». Именно поэтому она не сожалела, что оставляет лютеранскую веру, в которой она была воспитана, — ведь перед ней стояла гораздо более притягательная цель: «С моего приезда в империю я была убеждена, что венец небесный не может быть отделен от венца земного»9.
При этом в «Записках» Екатерина всячески подчеркивает свою набожность, как и силу наставлений в православной вере, которые она получила от епископа Симона (Тодорского): «Он не ослаблял моей веры, дополнял знание догматов, и мое обращение не стоило ему ни малейшего труда».
Как же это совмещается с тем образом жизни, который Екатерина вскоре начала вести, сперва как супруга великого князя, а затем и как императрица, заводившая любовников на глазах у всего двора и поставившая фаворитизм одним из оснований своей системы управления страной, когда от воли и характера ее очередного фаворита зависели протекции и назначения на многие ключевые должности? Историки выносят строгий приговор нравственности Екатерины и ее окружения: «Ни до, ни после нее распутство не достигало столь широких масштабов и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме»10. Екатерина не скрывает имен своих любовников в «Записках», и это порождает весьма своеобразную картину: христианское благочестие, соблюдаемое ею, имело сугубо внешний характер, что указывает на принципиальное двоемыслие.
Екатерина прекрасно знала нормы морали и требования веры; более того, сама по себе идея следования этим нормам рождала у нее приятное ощущение сопричастности к чему-то большему (отождествляемому с верой русского народа), но ради удобств и прихотей повседневной жизни от этих норм всегда можно было отказаться. Двоемыслие и двоедушие, парадная жизнь напоказ и потакание своим порокам изнутри — все это будет насквозь пропитывать двор Екатерины II, поскольку глубоко укоренилось в характере ее личности. Именно в такой атмосфере предстояло расти юному Александру.
Главным же для Екатерины оставалось умение «нравиться», в соответствии с вышеприведенными тремя пунктами. Впрочем, с первым из них дело обстояло неблагополучно — в браке между Екатериной и Петром Федоровичем если сперва и присутствовала некоторая взаимная приязнь и терпимость друг к другу, то они быстро исчезли, уступив место неуважению и даже презрению. Весьма красноречив тот образ супруга, который Екатерина изображает в «Записках»: с ее точки зрения, Петр ребячлив до крайности (постоянно повторяется мотив игр, не соответствовавших его возрасту, вплоть до игры в куклы и солдатики), нескромен, эгоистичен, капризен, несамостоятелен в принятии решений и не может снискать искреннего уважения со стороны окружающих. Количество скверных анекдотов о Петре в «Записках» (причем иногда, как свидетельствуют примечания публикатора, в виде дополнительных вставок в текст) превосходит всякую меру: о крысе, повешенной за то, что повредила игрушечную крепость; об обжорстве устрицами; о дрессировке собак в своих покоях; о комоде, наполненном пустыми винными бутылками, и т. д.
Понятно, что «Записки» неизбежно выступают в роли главного источника относительно взаимоотношений великого князя и его супруги. Тем не менее нет необходимости доверять той концепции в изображении характера Петра III, которую последовательно в них проводит Екатерина, — уже после всех трагических событий, которыми их брак завершился, когда ей нужно было задним числом (в том числе и в своих собственных глазах!) оправдать свержение мужа с трона.
С точки зрения литературной традиции «Записки» представляют собой хороший образец «галантного романа», в котором мужу достается комедийная роль шута, неспособного понять и оценить характер и достоинства главной героини. В этом смысле сатирические приемы, с помощью которых Екатерина рисует карикатурный образ Петра III, черпались ею скорее не из исторической реальности, а диктовались законами жанра11. Источники же другой природы — например, сохранившееся убранство личных покоев Петра III в его дворце в Ораниенбауме — свидетельствуют о нем как о человеке с хорошим художественным вкусом, умеренном в быту, склонном к уединению, любителе музыки и ценителе красот природы. Это не государь-солдафон, как часто считают, а скорее монарх наступающей новой эпохи сентиментализма. Склонявшиеся же в обществе его так называемые выходки и эксцентричное поведение были следствиями общей неуверенности в себе, болезненности и постоянно испытываемой депрессии, которую насильственно перевезенный в Россию великий князь приобрел, по всей видимости, еще в ранней юности.
Отталкиваясь от отрицательного образа мужа, литературная природа «Записок» прекрасно объясняет, почему столько места в них уделено «поискам любви и счастья» для главной героини, воплощением чего служит фигура «положительного героя» — камергера Сергея Васильевича Салтыкова. Их роман, начавшийся в середине лета 1752 года в Петербурге и его дворцовых пригородах и продолжавшийся в 1753-м и в начале 1754 года в Москве, куда переехал двор, нарисован Екатериной во многих деталях. Салтыков описан любящим, внимательным, привлекающим к себе не только внешностью, но и умом, тактом, умением поддерживать долгие «галантные разговоры», наконец, понимающим свою возлюбленную (одним словом, полной противоположностью мужа Екатерины).
Ключевая сцена на охоте, после которой, по всей логике повествования, наступает решающее сближение, создана автором так, что словно списана с одного из любимых некогда Екатериной французских романов:
Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему; я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему не равнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец он стал делать сравнения между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не равнодушна; я ответила: «Да, да, но только убирайтесь», а он: «Я это запомню», и пришпорил лошадь; я крикнула ему в след: «Нет, нет», а он повторил: «Да, да»12.
В 1774 году, то есть приблизительно в то же время, когда создавались «Записки», Екатерина II писала генерал-поручику Григорию Александровичу Потемкину по-русски в разгар их крепких, фактически семейных отношений (возможно, скрепленных морганатическим браком): «Если б я в участь получила смолоду мужа, которого любить могла, я бы вечно к нему не переменилась, беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви»13. В этой фразе как нельзя лучше заключена фабула того «галантного романа», который представляют собой «Записки». Героиня наконец обретает длительное счастье, а ее возлюбленный Салтыков проявляет достаточно ума и смелости, чтобы сблизиться с великим князем, собирать различную информацию и распространять дезинформацию с единственной целью — защитить их отношения. За эти два года Екатерина впервые переживает начало беременности (дважды, и оба раза она прерывается) и, наконец, в сентябре 1754 года рожает сына Павла. У читателей «Записок» не остается сомнений, что его отцом является Сергей Салтыков. Но у историков этот вопрос выходит за рамки «галантной литературы» — ведь разве может быть все равно, кто был дедом Александра I?!
Увы, и на этот вопрос наука точно ответить не может (вряд ли когда-нибудь будет проведен ДНК-тест), однако следует научиться отделять созданную Екатериной литературную картину от исторической, причем опираясь на внутреннюю критику источника, то есть на сведения, которые сообщает сама же Екатерина, а также привлекая для сопоставления дополнительные свидетельства. Опуская здесь излишние детали, следует прежде всего подчеркнуть, что проблема рождения детей в браке великого князя Петра Федоровича и Екатерины весьма заботила саму императрицу Елизавету Петровну, а в таком важнейшем для Российской империи вопросе, как продолжение династии, вряд ли она бы так легко допустила появление на свет бастарда. Между супругами после свадьбы действительно не было брачных отношений — об этом ясно говорит известное письмо великого князя к жене, написанное в феврале 1746 года, спустя полгода после свадьбы, где Петр называет себя «несчастнейшим мужем», который до сих пор «еще не удостоен сего имени». Виной этому, возможно, послужила неготовность к вступлению в брак по возрасту (Екатерине было 16 лет, Петру — 17), но некоторые источники называют также и определенный физический недостаток, который мешал великому князю иметь детей. Он был преодолен с помощью хирургической операции лишь около 1753 года, причем устроена она была по прямому указанию императрицы и организована самим Сергеем Салтыковым, желавшим тем самым закрепить свой фавор при Дворе (намек на это содержится и в ранней редакции «Записок» Екатерины)14.
Главным же свидетельством против отцовства Салтыкова являлся сам Павел, который, чем больше он рос, тем больше и внешне, и особенно по характеру напоминал мужа Екатерины. Своим вспыльчивым и одновременно легкоранимым, меланхолическим темпераментом Павел очень походил на Петра III, а вовсе не на веселого и общительного бонвивана Салтыкова. Схожесть Павла и Петра, безусловно, бросалась в глаза и Екатерине — и со временем, по-видимому, присутствие сына рядом с ней превратилось в живой упрек тому, что она сделала с мужем.
В сложную гамму чувств, которые Екатерина испытывала к сыну, внес свой вклад и еще один человек — императрица Елизавета Петровна, причем сразу же после его рождения. Появление долгожданного продолжателя династии стало большим придворным праздником. Императрица торжествовала. Она присутствовала при родах (кстати, этот монархический обычай, восходящий к далекому прошлому, заключал в себе смысл не допустить подмены новорожденного — и это лишний раз свидетельствовало, что с династической точки зрения Елизавета не приняла бы незаконнорожденного наследника); она же немедленно распорядилась о наречении младенца, выбрав ему имя Павел, а затем забрала его с собой. Екатерина же несколько часов подряд лежала на родильном ложе, в одиночестве, на сквозняке, и никто не приходил к ней, чтобы дать воды или уложить в кровать.
В том, как она описывает свое тогдашнее состояние в «Записках», ощущается уже не литературный стиль, а искренние чувства оскорбленной матери: «Я заливалась слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно, после тяжелых и мучительных усилий, между плохо затворявшимися дверьми и окнами, причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться», а в это время «императрица была так занята ребенком», что не отпускала акушерку навестить родительницу.
Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение по меньшей мере не были лестны для меня; я в это время умирала от усталости и жажды; наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видала во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне. Его Императорское Высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, начиная с бедра, вдоль ляжки и по всей левой ноге; эта боль мешала мне спать и при том я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела и никто не справлялся о моем здоровье; великий князь однажды зашел в мою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени оставаться. Я то и дело плакала и стонала в своей постели.
Продолжением праздника были торжественные крестины Павла на шестой день после рождения — все это время Екатерина «могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно», потому что Елизавета Петровна «без того взяла его в свою комнату и, как только он кричал, она сама к нему подбегала и заботами его буквально душили»15.
Лишенная возможности проявлять свои материнские чувства после рождения сына, Екатерина также первоначально была отстранена и от его воспитания, которое по воле Елизаветы Петровны целиком было отдано на попечение всяких мамушек и нянюшек. Родной матери разрешалось навещать Павла не чаще раза в неделю, и эти посещения, хотя и запечатлевались в памяти сына, но все же создавали впечатление гостевых визитов (мать «езжать к нему изволила довольно часто» — в таких словах сам юный Павел в десятилетнем возрасте описывал их своему учителю Семену Андреевичу Порошину).
В 1758 году у Павла появился первый наставник, доверенное лицо Елизаветы Петровны и канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, бывший дипломат Федор Дмитриевич Бехтеев. Он был призван учить 4-летнего Павла читать и писать по-русски и по-французски, но ребенок запомнил, что Бехтеев сразу подарил ему выполненную на пергаменте карту Российской империи с надписью: «Здесь видишь, Государь, наследство, что славные твои деды победами распространили», а дальше перечислялись имена московских царей от Ивана Грозного до Елизаветы Петровны, которые «из многих областей один содвигли свет», где народы «к тебе усердствуют, всечасно о тебе и мыслят и твердят: ты радость, ты любовь, надежда всех отрад!»
Как видим, с самых ранних лет в Павле видели будущего императора и предвосхищали его восшествие на престол. Эту же цель преследовали придворные партии, в конце 1750-х годов желавшие устранить Петра III от наследования, а позже — свергнуть с трона. Среди них активную роль сыграл Никита Иванович Панин, назначенный новым воспитателем Павла (это произошло в конце июня 1760 года, по причине тяжелой болезни Бехтеева). У Панина за плечами был 12-летний опыт службы посланником в Швеции, и за проведенные там годы он превратился в ярого апологета шведской конституционной системы, которая предоставляла дворянскому сословию законодательные гарантии от королевского произвола. Свои идеалы Панин передавал ученику и рассчитывал воплотить их в жизнь со скорым воцарением Павла. Принимая участие в заговоре 1762 года, Панин поддерживал в его ходе прямые связи с Екатериной, а та давала понять, что готова удовольствоваться ролью регентши и управлять лишь до совершеннолетия сына. Когда же Екатерина все-таки приняла титул императрицы, Н. И. Панин представил ей на подпись манифест о создании «Императорского совета» как формы ограничения ее абсолютной и неподконтрольной власти, который Екатерина II подписала 28 декабря 1762 года, но не стала сразу обнародовать, а потом надорвала свою подпись. То есть фактически уже на первом году царствования Екатерине II удалось отклонить попытку ограничить ее самодержавные полномочия, которая исходила от сторонников ее сына, причем императрица при этом открыто признавалась, что не хочет ни с кем «делить власть»16.
Тем самым, если в первые годы жизни Павла его мать была всего лишь отчуждена от сына, то с момента ее восшествия на престол Павел сразу превратился в потенциальную угрозу ее власти. Это не означало, что Екатерина готова была публично демонстрировать свою неприязнь: напротив, важным ее жестом в глазах всей Европы на том же первом году царствования стало приглашение знаменитого французского просветителя, энциклопедиста Жана Лерона Даламбера на место воспитателя великого князя Павла Петровича. Получив это почетное известие сперва через посредника, Даламбер поспешил отказаться, говоря, что хотел бы еще быть полезным у себя на родине, а главное, как писатель и философ привязан к парижским салонам, где собираются его друзья, общество которых составляет для него «утешение и счастье». Тогда Даламберу написала уже сама Екатерина II, отправив письмо 13 ноября 1762 года из Москвы, где продолжались торжества по случаю ее собственной коронации. Рассыпаясь в похвалах перед великим энциклопедистом, который, по ее мнению, призван «содействовать счастью и даже просвещению целого народа», Екатерина II переходила на задушевный личный тон, который должен был подчеркнуть ее заботу о сыне: «Признаюсь, что воспитание сына так близко моему сердцу и вы мне так необходимы, что быть может я слишком пристаю к вам. Простите мою нескромность ради самого дела». Что же касается приводимых Даламбером обстоятельств, ответ императрицы был чрезвычайно простым и эффектным: «Приезжайте со всеми вашими друзьями; я обещаю вам и им также все удовольствия и удобства, какие только могут зависеть от меня»17.
Это письмо немедленно было предано огласке, известие о нем напечатали многие европейские газеты, Вольтер и Жан-Жак Руссо обсуждали его в своем ближайшем окружении. И не важно, что Даламбер все равно отказался приехать в Россию — зато вся Европа увидела, насколько российская императрица печется о воспитании собственного сына и наследника. Заодно Екатерина лишний раз продемонстрировала это и Н. И. Панину, который был непосредственно вовлечен в эту переписку (формально именно он искал преемника на свою должность). За свое участие в заговоре Панин был щедро награжден, и в его руки перешло основное ведение внешней политикой Российской империи, что должно было несколько отвлечь его от мыслей по реализации конституционных проектов через воцарение Павла.
Екатерина II не упускала возможности продемонстрировать свое внимание к сыну и во внутренней публичной сфере. Во время особо торжественно организованного визита в Москву летом 1767 года для открытия Комиссии о сочинении проекта нового уложения (в ту пору — предмета главных законодательных попечений Екатерины II) императрица выходит к народу вместе с 13-летним сыном, вызывая тем самым бурное ликование толпы. Через год Екатерина II «в наставление подданным» делает прививку от оспы — и себе, и сыну, что также вызывает общественное одобрение.
Но чем ближе оказывалось совершеннолетие Павла, тем больше эта народная привязанность к нему оборачивалась той стороной, что представляла для Екатерины прямую опасность. Народ ждал провозглашения Павла императором. Различные слухи и толки ходили и в находившейся в столице гвардии, и в армии в провинции, и в простом люде по всей стране. Многие разговоры призывали к действию «ради спасения России» — вывезти великого князя из Царского Села, где ему угрожает опасность от Орловых, которые и так управляют царицей (она, мол, уж и обвенчана тайно с Григорием Орловым), а теперь хотят сами царствовать. Всех говоривших объединяла готовность присягнуть Павлу как новому правителю Российской империи. Доносы о таких разговорах ложились на стол к Екатерине II — по силе Соборного уложения 1649 года, еще применявшегося в середине XVIII века, за них полагалась смертная казнь, но Екатерина проявляла милость и заменяла казнь на каторгу или дальнюю ссылку18. Понятно, что любви к сыну у императрицы эти следственные дела не прибавляли.
А их естественным продолжением было появление осенью 1773 года — Павлу было 19 лет, и он только что женился, то есть мог считаться абсолютно самостоятельным и дееспособным — первых известий о Пугачевском бунте. Пугачев регулярно использовал имя Павла для агитации в пользу себя как якобы «чудесно спасенного Петра III»: взывал к своему мнимому сыну в присутствии народа, желая ему здравия и опасаясь за его судьбу, «как бы окаянные злодеи его не извели», то есть представлял дело так, что и у него, и у Павла общие враги в Петербурге во главе с незаконной похитительницей власти Екатериной. Пугачев даже приводил завоеванные им селения к присяге великому князю Павлу Петровичу и допускал разговоры о том, что в случае победы сам на трон не сядет, а «восстановит царствие Государя Цесаревича». Распространялись кругом и вовсе фантастические слухи, что Павел то ли уже бежал, то ли собирается бежать в стан Пугачева.
А что же сам великий князь Павел Петрович? Понимал ли он, сколь сложные чувства вызывает у своей матери, и думал ли о собственном восшествии на престол? Уникальным источником, свидетельствующим о детских годах Павла, служит дневник его учителя Семена Порошина, который тот вел в течение 15 месяцев в 1764—1765 годах. Многие черты Павла, которыми потом будет отмечено его царствование, здесь уже вполне различимы: горячность и порывистость, доверчивость — не только в пользу кого-то, но и к наговорам против иных людей — что проистекало от некоторой неуверенности в себе, привычка к скорым суждениям, а в случае неправоты искреннее желание загладить свою вину и задобрить обиженного, часто без понимания, что же именно того так задело.
Его детские игры наполнены самыми чистыми мечтами о подвиге. Одним из своих идеалов Павел избрал мальтийских рыцарей, книгу об истории которых читал ему Порошин: «Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральской, представлять себя кавалером Мальтийским». Так уже в 10 лет в сознание юного Павла входит понятие рыцарственность, которое останется с ним всю жизнь, а благородным мальтийским кавалерам он действительно еще окажет помощь в ту пору, когда они в ней будут очень нуждаться, и даже посвятит им немало символов своего царствования.
Но чтобы быть рыцарем и защищать справедливость, нужна мощь империи. Трудно сказать, с какого момента у Павла и в самом деле появилось стремление стать императором (и как оно разительно не похоже на чувства, которые по тому же поводу будет ощущать его сын Александр!) — не с самого ли чтения той надписи на карте, которую ему преподнес Бехтеев? Однако в конце 1764 года Порошин описывает примечательную черту 10-летнего Павла:
У Его Высочества ужасная привычка, чтобы спешить во всем: спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться. […] После ужина камердинерам повторительные наказы, чтоб как возможно они скорей ужинали с тем намерением, что как камердинеры отужинают скорее, так авось и опочивать положат несколько поранее. Ложась, заботится, чтоб поутру не проспать долго. И сие всякой день почти бывает, как ни стараемся Его Высочество от того отвадить19.
Так почему же мальчик так быстро хочет идти спать, что, казалось бы, даже не подходит его возрасту? Не потому ли, что в нынешнем дне ему уже скучно и он стремится поскорее попасть в день завтрашний, ибо уже знает — однажды, в каком-то прекрасном «завтра», он вдруг проснется императором!
Конечно, Никита Иванович Панин всячески поддерживал в Павле это стремление, поскольку надеялся, что его грядущее царствование сможет наконец покончить в России с вековыми язвами деспотического самодержавия (насколько же он ошибался!). Многие историки считают, что юный великий князь не только был знаком с конституционными проектами своего воспитателя, но и давал согласие на их исполнение. В 1772 году Павел достиг 18-летнего возраста — и так совпало, что в том же году Григорий Орлов уехал из Петербурга на далекий международный конгресс, посвященный переговорам с турками, где действовал совсем неудачно, а сразу по его отъезде Екатерине II предъявили доказательства его неверности, и у императрицы от дешперации (то есть от отчаяния — это ее собственное выражение в письме к Потемкину) появился новый фаворит. В связи с ослаблением партии Орловых влияние Панина выросло, и казалось, что его планы провозгласить Павла императором или хотя бы соправителем матери близки к осуществлению (об этом тогда активно толковали в гвардии). И хотя в связи с бракосочетанием великого князя Панин лишился должности его воспитателя, но его влияние на наследника, конечно же, сохранялось.
К этому моменту относится предание о так называемом «заговоре 1773 или 1774 года», сложившемся вокруг Панина с целью свержения Екатерины II с трона: Павел тогда якобы «согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие». Проект конституции был написан рукой секретаря Панина, знаменитого русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина (а сам рассказ записан со слов его племянника, декабриста Михаила Александровича Фонвизина). Полностью проект не сохранился, но осталось его введение, открывавшееся словами: «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют». И даже если не доверять позднему рассказу декабриста, в котором имеются отдельные хронологические нестыковки, то в бумагах Павла обнаруживается рассуждение, датированное 28 марта 1783 года и написанное после его последнего разговора со своим наставником, находившимся на смертном одре — в нем еще раз виден весь комплекс политических идей об управлении государством, которые Панин хотел передать великому князю и которые были так не сходны с системой фаворитизма и административного произвола, сложившейся при Екатерине II20.
Императрица безусловно должна была знать о направленном против нее заговоре с участием сына (если таковой действительно существовал!); в любом случае характерна ее реакция после того, как Панин был отправлен в отставку с должности воспитателя: «Дом мой очищен».
Таким образом, в середине 1770-х годов российская императрица имела возможность убедиться, что с именем ее сына связаны заговоры, порождаются бунты, и едва ли не сам он готов поддержать свержение ее власти. Думается, что уже тогда определилась ее новая главная идея — дождаться рождения внука. Правда, с невесткой, принцессой Вильгельминой Гессен-Дармштадтской, в православии великой княгиней Натальей Алексеевной, Екатерине не повезло. Та не только активно включилась в планы по скорейшему возведению Павла на трон, но и вскоре продемонстрировала свою ветреность, поскольку уже через год после свадьбы изменила великому князю с его близким другом, графом Андреем Кирилловичем Разумовским. Прекраснодушный Павел никак не мог поверить в любовный треугольник, участником которого он становился; между тем приближалось окончание беременности Натальи Алексеевны и вновь вставал вопрос об отцовстве возможного наследника, буде такой появится на свет.
Ситуация разрешилась трагически: 11 апреля 1776 года ребенок умер при родах, а за ним через четыре дня и его мать. Однако надо признать: Екатерина II должна была почувствовать не столько горе, сколько немалое облегчение. Свидетельством этого явился ее разговор с Павлом сразу после смерти Натальи Алексеевны (едва ли не в тот же вечер), где мать предъявила сыну доказательства ее измены — обнаруженные у нее письма Андрея Разумовского, — и призвала Павла срочно готовиться к новой свадьбе. Великий же князь горько оплакивал супругу, несмотря на все давление Екатерины, и даже мог поверить слухам, что именно его мать ускорила кончину невестки. Сохранилась удивительная записка императрицы к врачам, по сути демонстрирующая, как та предпринимала усилия, чтобы погасить подозрения Павла по поводу насильственной смерти жены: «Велите посмотреть за тем, есть ли на котором локте [Натальи Алексеевны] багряное пятно. Сие великий князь требует знать, и что за пятно он сам третьево дни усмотрел»21.
Выбор новой жены для великого князя произошел быстро. Уже 15 сентября 1776 года он был обручен с принцессой Софией Доротеей Вюртембергской, в православии Марией Федоровной, а 26 сентября состоялось их венчание. Мария Федоровна не проявляла склонности вступать в политические игры, оказалась прекрасной супругой и, как на заказ, дважды подряд произвела на свет мальчиков — продолжателей династии. 12 декабря 1777 года родился Александр, а 27 апреля 1779 года — Константин. В виде особой награды для нее императрица разрешила Марии Федоровне, оправившейся от родов, навестить места, где та выросла — маленькое немецкое княжество Монбельяр, которое принадлежало Вюртембергскому дому и находилось неподалеку от стыка границ Франции, Германии и Швейцарии. Павлу же заодно предоставлялась возможность посетить основные королевские дворы, насладиться в Европе памятниками культуры и красотами природы. Так возникло большое заграничное путешествие великого князя Павла Петровича и его супруги в 1781—1782 годах, в ходе которого они объехали множество городов и государств, увидели различные достопримечательности, вплоть до руин Помпей и альпийских ледников.
А после возвращения в Россию великий князь и его Двор был полностью отделен от большого Двора императрицы. Павел получил в подарок Гатчину, которую мог обустраивать по собственному разумению, Екатерине же доставляло удовольствие, что ей не нужно было больше принимать «тяжелый багаж» (такое выражение она употребляла в письмах, имея в виду сына) у себя в Зимнем дворце или в Царском Селе. Весной 1783 года скончался Панин, и активных сторонников провозглашения Павла императором в окружении Екатерины II больше не осталось. Через некоторое время та затребовала к себе бумаги по делу царевича Алексея, в которых содержалось обоснование петровского Устава «О наследии престола». Как ясно резюмировала императрица: «Я почитаю, что премудрый Государь Петр I несомненно величайшие имел причины отрешить своего неблагодарного, непослушного и неспособного сына»22.
Итак, опыт, накопленный Екатериной II, привел ее к твердому выводу: царствовать после нее надлежало ее внуку, великому князю Александру Павловичу. Он должен был стать не просто преемником политики бабушки, сохранить ее достижения по расширению империи, но и вообще стать лучшим из возможных правителей на императорском троне — то есть возместить все то, чего Екатерине II не удалось добиться в отношении своего сына.
Но что же собой представляла страна, которую бабушка предназначала для внука? По площади и населению Российская империя была самым большим из европейских государств XVIII века. Ее население к концу царствования Екатерины II, по данным так называемой «пятой ревизии», произведенной Сенатом в 1795 году, составляло 37,4 млн человек — это число, округленное до 40 млн, было хорошо известно в Европе. Для сравнения скажем, что в остальных странах Европейского континента (за пределами границ Российской империи) проживало тогда около 160 млн человек: из них, например, во Франции — 30 млн, в Англии — 20 млн, в германских княжествах — 25 млн, в Испании — около 12 млн.
Большой скачок в численности населения Российской империи произошел во второй половине XVIII века, и это заметно отличало ее от других европейских стран. Если в эпоху Петра I здесь жило лишь около 15 млн человек, при том, что, например, во Франции того же времени — 21 млн, то именно при Екатерине II Российская империя стала лидировать по числу жителей среди европейских государств, а общее соотношение населения между Россией и остальной Европой составило примерно 1:4. При этом население Российской империи сохраняло устойчивый рост по экспоненте (иначе говоря, удвоение спустя определенные промежутки времени), тогда как демографические процессы во многих европейских странах показывали уже не столь быстрые темпы роста и постепенную тенденцию к стабилизации. Такое соотношение населения именно в XVIII веке породило не только образ силы и могущества Российской империи во внешней политике, но и иррациональный страх европейцев по отношению к огромной «орде на Востоке», которая именно в количественном отношении может когда-нибудь поглотить европейскую цивилизацию.
Но при этом общее количество жителей было распределено по огромной территории Российского государства крайне неравномерно. Площадь Российской империи к концу царствования Екатерины II составляла 18,6 млн км2, из них на европейскую часть — от Немана и Днестра (западных границ империи) до Уральского хребта и Каспия — приходилось чуть меньше пяти, а точнее 4,82 млн км2. Именно здесь было сосредоточено подавляющее большинство населения империи, поскольку во всей гигантской Сибири в конце XVIII века насчитывалось менее 1 млн человек.
За вторую половину XVIII века территория империи также получила приращения, хотя не столь значительные, как ее население, но все же существенные: в результате трех разделов Польши к ней отошли более 460 тыс. км2 (то есть 10 % европейской части империи), на которых жило 5,65 млн человек (а это составило прирост населения почти на 17 %). Еще около 200 тыс. км2 Россия получила по итогам войн с Османской империей, присоединив к себе Крым, Новороссию и часть Северного Кавказа. Всего же в количественном отношении европейская часть России хотя и уступала площади остальной Европы (5,4 млн км2), но ненамного. Но поскольку людей в России проживало в 4 раза меньше, то средняя плотность населения уступала европейской больше чем в 4 раза. На самом деле эта грубая оценка дает лишь самое общее представление о разнице в плотности населения между Россией и Европой: ведь и внутри европейской части страны существовала неравномерность. Значительная часть жителей (по разным оценкам, от трети до половины) была сосредоточена в центре, то есть в Москве и соседних с ней губерниях — историческом ядре Московского царства, а по мере удаления от Москвы — на север ли, в сторону Петербурга, или на юг, или тем более на восток — страна становилась все пустыннее. С «пустыней» Россию роднил и рельеф: вся европейская часть страны представляла собой равнину, плоское пространство, которое при этом 5 месяцев в году было покрыто снегом. А снега тогда в России было в избытке — в истории европейского климата завершался так называемый «малый ледниковый период», и как раз во второй половине XVIII века средние годовые температуры достигали минимума, а зимой на дворе стабильно трещали 30-градусные морозы.
Обычный путешественник преодолевал это пространство со скоростью не более 15 км/ч, и, следовательно, поездка от западной границы до центра империи, например из Вильно в Москву (800 км), занимала не меньше пяти дней с ночевками. Именно поэтому описаниями России как огромной снеговой пустыни, где никто не живет, покрытой лесом или просто являвшей собой голую равнину, пестрят первые впечатления иностранцев, приезжавших сюда. Отдадим должное и мировой литературе: в нашей книге уже упоминался барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен и его знаменитые рассказы. Так вот, первая же история, связанная с путешествием Мюнхгаузена в Россию, называется «Конь на колокольне» — как мы все помним, Мюнхгаузен ехал зимой по «бесконечной снежной равнине», где «царила глубокая тишина и нигде не было видно ни малейшего признака жилья» (а потом выясняется, что снег целиком засыпал не только дорогу, но даже целую деревню с колокольней). Однако и русская культура регулярно порождала аналогичные впечатления, и не только от зимней дороги, но в другие времена года — достаточно вспомнить Александра Сергеевича Грибоедова, которому по роду службы неоднократно пришлось пересекать Российскую империю с севера на юг и с юга на север. В монолог Чацкого из финального действия комедии «Горе от ума» Грибоедов вставил по сути отдельную элегию, посвященную российскому пространству:
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый; вот резво́
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь и степь, и пусто, и мертво…
Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.
В такой «пустыне» города были подобны редким островам в океане. На российском пространстве их действительно мало, особенно в сравнении с Европой. Лишь чуть более 2 млн человек в России к концу XVIII века жили в городах, иначе говоря, около 6 % населения. Выделялись, конечно же, обе столицы — Петербург (330 тыс. человек) и Москва (270 тыс.), а все остальные были гораздо меньше, и лишь 19 городов превышали население в 20 тыс. человек. Москва считала своими соседями Смоленск, Тверь, Калугу, Рязань — между тем расстояния до этих городов не меньше 200, а то и все 400 км; в Европе же внутри аналогичного расстояния могли располагаться от 5 до 10 различных городов. Отметим еще и особенность Петербурга: его строительство на Балтике, согласно указам Петра I, положило конец развитию многих городов Русского Севера, которые в начале XVIII века представляли собой значительные экономические центры вдоль торгового пути к Белому морю (например, знаменитые Холмогоры, родина Михаила Васильевича Ломоносова), но затем постепенно пришли в полный упадок.
Как же должна управляться такая страна? Ответ на этот вопрос можно было найти в знаменитом трактате Монтескьё «О духе законов» (1748), подробно исследовавшем зависимость формы правления от внешних параметров государства:
Обширные размеры империи — предпосылка для деспотического управления. Надо, чтобы отдаленность мест, куда рассылаются приказания правителя, уравновешивалась быстротой выполнения этих приказаний; чтобы преградой, сдерживающей небрежность со стороны начальников отдаленных областей и их чиновников, служил страх; чтобы олицетворением закона был один человек; чтобы закон непрерывно изменялся с учетом всевозможных случайностей, число которых всегда возрастает по мере расширения границ государства (книга 8, глава XIX).
Екатерина II вторила своему любимому автору: «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного Государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей в себе имеет, которые к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного Государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитая общее добро своим собственным»23.
Обратим внимание, что в 1764 году, когда императрица писала эти строки, она априори исходила из того, что самодержавие способствует «пресечению всякого вреда», установлению добра и справедливости. Но Монтескьё полагал, что деспотизм служит совершенно другим целям, а именно лишь исполнению воли государя или тех, кому он поручил распоряжаться от его имени:
В деспотических государствах природа правления требует беспрекословного повиновения, и, раз воля государя известна, все последствия, вызываемые ею, должны наступить с неизбежностью явлений, обусловленных ударом одного шара о другой. Здесь уже нет места смягчениям, видоизменениям, приспособлениям, отсрочкам, возмещениям, переговорам, предостережениям, предложениям чего-нибудь лучшего или равносильного. Человек есть существо, повинующееся существу повелевающему. Здесь уже нельзя ни выражать опасений относительно будущего, ни извинять свои неудачи превратностью счастья. Здесь у человека один удел с животными: инстинкт, повиновение, наказание (книга 3, глава X).
Монтескьё вообще видел деспотизм и связанную с ним систему всеобщего подчинения («рабства») по отношению к государству, держащуюся на страхе перед ним, чертой азиатских стран. Широко известна его фраза из «Персидских писем» (1721): «Свобода создана, по-видимому, для европейских народов, а рабство — для азиатских». Екатерина II, безусловно, считала свое правление европейским и неоднократно прямо писала об этом — достаточно вспомнить выражения из ее «Наказа» для Уложенной комиссии. Тем не менее практика ее управления империей воспроизводила черты «азиатского деспотизма», описанного Монтескьё.
Екатерина II опиралась на бюрократическую систему, которая была заложена Петром I, но своего расцвета достигла именно в ее царствование. Как и полагается при деспотизме, систему эту пронизывал дух раболепия и подобострастия по отношению к начальствующим и безразличия или презрения к интересам нижестоящих лиц. Сошлемся опять на слова самой императрицы, которая хоть и на первых порах сама критиковала эту систему, но в итоге прекрасно с ней уживалась: «Раболепство персон, в сих [присутственных местах] находящихся, неописанное, и добра ожидать не можно, пока сей вред не пресечется. Одна форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том интерес государственный страждет».
Создавая органы управления Российской империей, центральные и местные, Петр I имел перед глазами образ, начертанный знаменитым немецким философом Готфридом Вильгельмом Лейбницем (с которым царь имел возможность общаться), — «государство-часы», подражающее устройству мира в целом, который собран Богом из различных элементов как правильно сконструированный механизм и управляется единой Божественной волей. В этом смысле и место царя в «регулярном государстве» уподоблялось значению Бога для всего мира, а примеры этого мы видим в лексике петровского царствования, в стихах и речах (например, в творениях Феофана Прокоповича). Через эти произведения Петр I транслировал своим подданным мысль, что вся их судьба и жизнь зависит от царя. Петровское самодержавие не знало предела своей власти над человеком, оно вмешивалось даже в его частное пространство, и все ради «государственного блага», а о нем, по определению, мог судить только царь. Именно он — главный работник в государстве, которое все целиком, вплоть до каждой пуговицы на мундире и каждого волоска на бороде каждого подданного, принадлежит царю.
Из этой же механической модели государства вытекала еще одна его сторона: если царственный часовщик построил в нем шестеренки, тогда конкретные люди занимают лишь положение винтиков, от которых ничего не может зависеть. В этом заключена удивительная «дегуманизация государства» в России, которой мы также обязаны Петру Великому. Иначе говоря, конкретная личность с ее заботами, интересами, стремлением улучшить свою жизнь не имеет никакой ценности для государственного механизма в целом. Не будем здесь исчислять количество жертв великих «петровских строек» и прочих элементов его насильственной «модернизации» государства — заметим только, что Екатерина II, конечно же, смягчила общий дух петровского самодержавия, но нисколько не изменила его суть. Народ же, ощутивший именно благодаря Петру I свое рабское состояние по отношению к государству, беспрекословно принял последствия петровских преобразований — а произошло это еще и потому, что так называемая «модернизация» и внешняя «европеизация» не сопровождались никаким распространением народного просвещения. Первые попытки заложить в России хоть сколько-нибудь развернутую систему образования относятся лишь к середине 80-х годов XVIII века, то есть к завершающей фазе екатерининского царствования, и на эту важнейшую отрасль, ранее отодвинутую на второй план другими государственными реформами, теперь уже не хватило ни времени, ни сил.
Единственным сословием, благодаря которому существовал весь государственный механизм в России и роль которого в царствование Екатерины II лишь выросла, являлось дворянство. Повелевавшая им верховная власть, безусловно, чувствовала необходимость одновременно заручиться в его лице надежной опорой, а потому была готова предоставить дворянству немалые привилегии. В 1722 году была утверждена Табель о рангах, которая связывала получение должностей на государственной службе, как военной, так и статской, с дарованием прав на личное или потомственное дворянство. Все должности были разбиты на 14 классов, и восхождение вверх по чиновной лестнице постепенно превратилось из инструмента для повышения личного рвения в самый смысл службы. Соревнование в чинах было всеобщим, но его результат зависел не столько от способностей конкретного лица, сколько от клановых связей внутри различных ведомств — иначе говоря, от дворянских протекций (вспомним Фамусова из комедии «Горе от ума» с его желанием «порадеть родному человечку», а также упоминаемого им Максима Петровича, который «в чины выводит и пенсии дает»). То, что именно чин определял статус человека независимо от конкретного рода его занятий на службе, было справедливо даже в Зимнем дворце при воспитании юного Александра, как мы вскоре увидим на примере Лагарпа. Ярким примером этого служит отношение к членам основанной Петром I Академии наук, которые, хотя и получали жалованье, но оказались лишенными классных чинов, соответствующих их должностям академиков — поэтому во время траурной процессии на похоронах герцогини Голштинской Анны Петровны (дочери Петра I и матери Петра III) академики были поставлены по порядку рангов сразу следом за дворянскими недорослями, но перед придворными шутами24.
Если само распределение чинов на государственной службе стало привилегией дворянства благодаря складывающимся внутри него сословным связям, то в 1762 году дворянство получает также и право «вольности», то есть возможность не служить, а жить в отставке, заботясь о своем имении. Дарованная Екатериной II «Жалованная грамота дворянству» 1785 года закрепила за дворянами частную собственность на землю и ее недра. Это случилось впервые в истории России и распространялось только на дворянское сословие. Другой же исключительной привилегией дворянства, которая не была, впрочем, записана ни в каком законодательном акте, но на деле имела огромное значение, являлось владение крепостными.
Крепостное право являлось тем фундаментом, на котором в XVIII веке покоилась вся государственная система Российской империи. Понять это достаточно просто: у российской монархии никогда не было достаточно денег, чтобы содержать дворянство исключительно за счет жалованья, зато крепостное право, то есть работа крестьян на помещика приносила гарантированный доход, особенно в условиях стабильного роста хлебных цен, когда дворяне имели возможность продавать зерно за границу.
Крестьяне составляли в конце XVIII века 93 % населения Российской империи, при том что дворянство — менее 2 % (примерно такой же была численность мещанства, менее 1 % насчитывали духовенство, купечество и остальные податные сословия). Среди крестьян в среднем около 60 % принадлежали помещикам (на севере и на юге России этот процент был ниже, поскольку там проживало значительное количество государственных крестьян, зато на западе империи, особенно в новоприсоединенных после разделов Польши землях и губерниях Прибалтики, — выше, доходя до 70 %).
Повышение цен на хлеб в Европе, которое началось в XVI веке и продолжалось почти до конца XVIII века в связи с уже упомянутым «малым ледниковым периодом», привело к ужесточению крепостничества в тех областях Восточной и Северной Европы, для которых хлебные культуры — рожь, пшеница и др. — составляли основную отрасль сельского хозяйства (при отсутствии там массового товарного выращивания винограда, фруктов и др.). К этим областям относились Венгрия, Богемия, Пруссия, Дания, Польша с Прибалтикой и Россия, тогда как в странах Южной и Западной Европы (Франция, Италия, юг Германии) натуральные крепостные повинности были упразднены в целом уже в XIV веке и остались лишь денежные сборы. В России же сперва Соборное уложение 1649 года навсегда прикрепило крестьян к земле, с которой исчислялся налог в пользу государства, а затем, вследствие налоговой реформы Петра Великого, — к распоряжавшемуся землей помещику, который уплачивал за находящихся на этой земле крестьян подушную подать. За это он фактически имел право устанавливать в своем имении для крестьян те повинности, какие считал нужным, — не только денежный оброк, но и любые виды барщины, которая давала помещику натуральный продукт как для обеспечения себя, так и на продажу. При этом полученные от доходов средства не вкладывались помещиком в улучшение условий труда крестьян или расширение сельского хозяйства, а тратились в первую очередь на поддержание того «роскошного» образа жизни, которого требовали обычаи эпохи. Непроизводительные расходы помещиков постоянно росли за счет утеснения крестьян, труд которых и создавал весь «блеск Российской империи» XVIII века. По подсчетам историков, ценой, заплаченной для этого, стало увеличение за век объема повинностей в 12 раз.
Государство готово было стимулировать помещичье хозяйство. В 1754 году открылся Дворянский банк, который начал выдавать ссуды дворянам под 6 % годовых; с 1770 года государственные учреждения стали принимать также и краткосрочные процентные вклады, выбивая почву из-под ног ростовщиков. Что же касается налогов, то размер подушной подати практически не менялся в XVIII веке, а на практике, с учетом инфляции, это означало, что помещики платили все меньше прямых налогов, оставляя себе подавляющую долю доходов от крестьянского труда. В этом заключалась суть дворянской политики Екатерины II — дворянам была дана полная возможность богатеть, восхваляя императрицу.
Но надежды на то, что при этом помещичье хозяйство станет экономически расти, не оправдывались; если рост и происходил, то лишь за счет освоения новых территорий. Вся сельскохозяйственная техника, методы хозяйствования и, следовательно, производительность труда не менялись веками. Екатерина II уповала на успехи века Просвещения: в 1765 году было основано знаменитое Вольное экономическое общество, которое должно было пропагандировать научные знания по агрономии и рациональные методы землепользования — увы, все публикации общества, распространявшие идеи английских и французских просветителей, оставались лишь предметом чтения, но не доходили до практики.
Императрица понимала, что крепостное право в экономическом отношении — это непреодолимая преграда для развития страны: «Чем больше над крестьянином притеснителей, тем хуже для него и для земледелия. Великий двигатель земледелия — свобода и собственность. Когда каждый крестьянин будет уверен, что то, что принадлежит ему, не принадлежит другому, он будет улучшать это». Екатерина прекрасно видела и второй, наиболее уродливый аспект крепостничества в России — моральный.
Предрасположение к деспотизму выращивается здесь лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле; оно прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами, ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Если посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями25.
Далее Екатерина ссылалась на опыт Уложенной комиссии, где «невежественные дворяне» стали догадываться, что ее политика может «привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев», и выказали ей отпор.
В этом заключался немалый парадокс — воплощая своей персоной всю мощь самодержавия, императрица не осмеливалась-таки затронуть интересы тех, кто должен был выступать проводником ее воли. Она пришла к мысли, что именно благосостояние дворянства составляло основу и гарантию ее устойчивого положения на троне, а по сравнению с этой задачей народ способен покамест и подождать улучшения своего положения. Поэтому в окружении Екатерины II рождаются удивительные по двусмысленности формулы, способные оправдать крепостничество даже в рамках идеологии Просвещения. Близкая подруга императрицы, княгиня Екатерина Романовна Дашкова в беседе с Дени Дидро отстаивала мысль о том, что русский народ напоминает слепца, живущего на вершине скалы, окруженной бездной, — прозрев, он будет глубоко несчастен: «Просвещение ведет к свободе, свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления»26. Успокаивая себя подобным образом, Екатерина II между делом издала два указа, которые завершили строительство здания крепостного права в России, а именно: в 1765 году помещики получили право высылать крестьян на каторгу в Сибирь, а в 1767 году крестьянам запрещалось подавать жалобы на помещиков в руки Государя.
Эти указы свидетельствовали о полном бесправии крестьян, их превращении в «живую собственность». Нужно повторить: никакой правовой документ не регламентировал принадлежность крестьян помещику, и тем не менее на практике помещик пользовался абсолютной властью над крестьянами, мог их лишать земли, наказывать, отдавать в солдаты и т. д. Естественно, сюда же входила продажа и покупка крестьян, объявления о чем мы во множестве видим в русских газетах второй половины XVIII века. Они показывают довольно привычное отношение к крестьянам как к товару, включая и их распродажу без земли и даже поодиночке, то есть с разрывом семейных связей. В этом смысле, как замечали многие публицисты эпохи Просвещения, юридическое положение крепостных в России ничем не отличалось от статуса рабов — хотя даже здесь разница была, ибо, например, во Франции в XVII веке благодаря известному министру Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу был издан так называемый «Черный кодекс» (фр. Code noire), который регламентировал обращение с чернокожими рабами во французских колониях, то есть даже у рабов как у живой собственности был тем не менее определенный юридический статус и защита (например, в случае нанесения им увечий). Но в России не было и такого — и сама жизнь крестьян, по сути, ничем не была защищена.
Отсюда вытекала возможность эксцессов, то есть злоупотреблений крепостным правом, о чем мы знаем весьма мало, скорее по литературным произведениям (вроде образа Троекурова в повести Пушкина «Дубровский»), а также по редким делам против помещиков, которые все-таки доходили до суда, — но это вовсе не значило, что такие эксцессы не были распространены. Как полагала сама Екатерина II, среди нескольких сотен депутатов Уложенной комиссии «не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди».
Мыслить гуманно: на практике Российской империи XVIII века это означало — как мы можем увидеть на примере князя Михаила Михайловича Щербатова, видного вельможи и историка екатерининского времени — относиться к крестьянам разумно и бережно, как к ценному имуществу, и «не портить его». Щербатов писал в своей инструкции приказчику о наказании крестьян: «Однако должно весьма осторожно поступать, дабы смертного убивства не учинять иль бы не изувечить. И для того толстой палкою по голове, по рукам и по ногам не бить». Понятно, что этой инструкции не потребовалось, если бы наказания крестьян не приводили к смертям; впрочем, в остальном колотить помещичьих крестьян палкой не по голове, а по спине инструкция вполне себе разрешала.
Самым известным эксцессом является, конечно же, вскрывшееся в 1762 году дело помещицы Дарьи Николаевны Салтыковой («Салтычихи»). 30-летняя вдова жила на виду у всех, преимущественно в Москве и в своем подмосковном имении (в районе нынешнего Теплого Стана), производя впечатление доброй и набожной женщины. На самом деле примерно за пять лет своего вдовства она собственноручно убила, по разным показаниям, 75 своих крепостных (из них доказанных на суде случаев было 38, но всего же из ее имений в различных губерниях пропало 139 человек). В основном среди ее жертв были женщины и девушки, но попадались и мужчины. Главными поводами для истязаний служили недобросовестность в мытье полов или стирке: она била провинившихся поленом, могла облить жертву кипятком или поджечь волосы на голове; обладая недюжинной физической силой, могла разбить голову жертвы об стену и т. д.
Безусловно, Салтыкова была маньяком, то есть страдала психическим расстройством личности, заставлявшим убивать снова и снова. Но важно, что делала она это практически открыто на глазах у собственных дворовых, которые были ею настолько запуганы, что не сопротивлялись, а помогали укрывать улики; сама же Салтыкова сохраняла полную уверенность в собственной безнаказанности и праве творить то, что она делает. Одному из крестьян, жену которого она убила, помещица прислала тело, велев схоронить, и заявила: «Ты хотя и в донос пойдешь, только ничего не сыщешь, разве хочешь, как и прежние доносители, кнутом быть высечен». И он, «убоясь того, что и прежде по разным убивствам доносители высечены кнутом и сосланы в ссылку, а другие с наказанием кнутом отданы для жесточайшего мучения к ней в дом, затем и не доносил»27. То, что жалоба на ее зверства дошла-таки до только что вступившей на престол Екатерины II и была ею дальше доведена до показательного судебного процесса, — это скорее стечение благоприятных, в том числе политических обстоятельств.
Именно возможность полнейшего произвола помещиков в отношении крестьян и делала крепостное право в России даже не столько экономической, сколько моральной проблемой, изнутри подтачивавшей русское общество, поскольку рабство в моральном смысле искажает облик как раба, так и рабовладельца, оставляя длительные травмы, которые переходят из поколения в поколение.
Естественно, доведенные до полного отчаяния «рабы» вдруг вспоминали, что могут сопротивляться, то есть поднимали бунты, которых в целом по стране в 1760-х годах было столько (хотя и мелких), что Екатерина II записала тогда: крестьяне «против нашей воли сами оную возьмут рано или поздно»28. Тем не менее проблема освобождения крестьян была отложена ею, как минимум, до времени ее внука Александра, для которого этот вопрос сразу станет одним из острых и проблемных. Самый главный бунтовщик России, Емельян Пугачев, благодаря которому топорами и вилами вооружились десятки тысяч крестьян в черноземных губерниях, расправляясь с ненавистными им помещиками, был казнен менее чем за три года до рождения Александра I, но с оставшимися после этого последствиями тому придется иметь дело еще долго.
Наконец, внешнеполитическое наследство Екатерины II — в какой мере оно определяло будущие действия ее внука?
В XVIII веке Российская империя мощно выступила на международной арене, претендуя на собственное значимое место посреди общеевропейского баланса сил и интересов, соперничая с другими державами. В этом, собственно говоря, заключался один из главных смыслов провозглашения страны империей, ибо последняя по определению все время борется за расширение своих интересов и претендует на включение в свой состав новых территорий, а потому с неизбежностью постоянно ведет войны, чтобы потом завоеванные народы «склеивать вместе» с помощью имперской идеологии.
Однако именно XVIII век после Утрехтского и Раштаттского мирных договоров 1713—1714 годов, завершивших Войну за испанское наследство, принес доктрину «баланса сил» в отношениях между ведущими державами — то есть поиска такого внешнеполитического равновесия, что его нарушение в виде очередной войны повлекло бы за собой больше убытков для нарушителя, нежели выгод, которых тот мог приобрести в случае успеха. Принцип же, что войну следует вести лишь тогда, когда ее исход сулит сделать страну богаче, чем та была раньше, прекрасно применялся на деле — например, именно следуя этому принципу, больших успехов на европейской арене добился король Пруссии Фридрих II, прозванный Великим.
Но для Российской империи эти принципы не работали. Ее внешние успехи происходили на фоне неуклонного ухудшения жизни русского народа, именно он «расплачивался» за очередные войны и их расходы. Особенно хорошо это заметно во второй половине XVIII века. Собственно уже участие России в Семилетней войне стоило весьма дорого и привело к массовой порче монеты и, как следствие, исчезновению полновесных денег из обращения, перебоев в выдаче жалованья в городах и т. д. Войны же екатерининского царствования стали возможны только благодаря глобальной финансовой уловке — введению бумажных денег, ассигнаций, которые по сути образовывали внутренний долг государства перед подданными, а погасить его можно было только за счет реального экономического продукта, создаваемого основной массой тружеников, то есть крестьян.
Поэтому внешнеполитические успехи империи и ее войны, даже самые удачные, негативно сказывались на экономическом состоянии России — так, к концу царствования Екатерины II курс бумажных денег по отношению к серебру упал на треть. Но и в международном контексте у многих успехов в перспективе ближайших десятилетий оказалась обратная сторона. К таковым, безусловно, следует причислить участие России в ликвидации Польского государства по Второму и Третьему разделам (1793—1795). Увеличение территории империи отнюдь не могло компенсировать здесь приобретенные проблемы, значение которых станет ясно уже в ближайшем будущем и сильно повлияет на политику Александра I. Вместе с территориями императоры Всероссийские впервые получили в свое подданство большую массу католиков — около 2 млн человек, живших в основном на землях Литвы и Западной Белоруссии, а также польско-литовскую шляхту, лелеявшую пылкие патриотические идеи по возрождению своего государства.
Чрезвычайно важен и еще один пример успешного выступления Российской империи на международной арене, чреватый огромными негативными последствиями для Александровской эпохи. В 1779 году был заключен Тешенский мирный договор, которым завершилась Война за баварское наследство между германскими княжествами — не самая крупная среди прочих, по не слишком уж важному поводу (территориальные споры после прекращения младшей, баварской, ветви династии Виттельсбахов), — которая дала почти что незначимые результаты, а именно к Австрии прирезали небольшой кусок территории, Иннфиртель (кто его отыщет на карте?), ранее принадлежавший Баварии; амбиции же престарелого Фридриха Великого, уже угасавшего на троне, на сей раз потерпели неудачу. Однако этот мирный договор рассматривается часто как одна из вершин екатерининской внешней политики. Официальный Петербург, не желая допустить полного поражения Фридриха, предложил свое посредничество и успешно руководил переговорами на конгрессе по заключению мира, а затем добился того, что Россия (наряду с другой участницей конгресса, Францией) была объявлена в договоре страной, берущей на себя гарантии дальнейшего сохранения мира. И не только мира — но и вообще соблюдения конституции Священной Римской империи германской нации, ибо одной из подписывающих сторон был германский император из австрийской династии Габсбургов, а новый акт подтверждал принципы отношений между отдельными немецкими княжествами, входившими в империю, и прежние договоры между ними, начиная с основополагающего Вестфальского мира 1648 года. Таким образом, без участия России теперь невозможны были никакие политические изменения внутри Германской империи, ни изменения границ отдельных государств, ее составляющих. Это резко возвысило и без того значимый статус Российской империи в европейских делах — к явному неудовольствию ее противников; так, широко известна фраза французского министра Шарля-Мориса де Талейрана: «Появление России при заключении мира в Тешене стало большим бедствием для Европы». Однако еще большее бедствие ждало в скором будущем саму Россию — именно условия Тешенского мира вовлекут Александра I в глубокий конфликт с Наполеоном, которого, как казалось многим в первые годы XIX века, можно было бы избежать…
Подведем итоги исторического обзора событий и отношений, предшествовавших появлению на свет старшего внука Екатерины II. Воспитанная на идеях Просвещения бабушка, безусловно, считала себя европейской правительницей и разделяла основные убеждения своего века — как для общественной, так и для личной жизни. Она твердо знала, что все люди по рождению равны и свободны, что частная собственность и возможности ее приумножения есть лучший двигатель для развития экономики, что семейные христианские добродетели предписывают любить мужа и внимательно заботиться о сыне и т. д. Но на практике, как и было написано у ее любимого Монтескьё, Екатерина претворяла в жизнь систему «азиатского деспотизма» (пусть и лишенную внешней жестокости, присущей другим российским правителям): административный произвол государства во всем и презрение в адрес простого народа, кумовство и коррупция, обогащение государственного класса, то есть дворян, за счет тружеников-крестьян, ведение разорительных завоевательных войн ради укрепления статуса империи — и все это покоилось на незыблемом фундаменте крепостного права, то есть по факту всеми признаваемого, но нигде не узаконенного рабства. Что касается семьи, то и здесь Екатерина едва ли не с самого своего появления в России убедилась, что нравственные нормы легко нарушать, и не только по соображениям «поиска счастья», но по тем, которые для нее становились гораздо важнее — а именно ради захвата и прочного удержания собственной власти. И это напрямую касалось ее отношения как к мужу, так и к сыну.
Просвещение на словах, крепостное право на деле — вот что представляла собой Екатерининская империя, вот какое наследство бабушка оставляла Александру. Тому предстояло расти в атмосфере лицемерия и двоедушия, когда громко провозглашаемые слова и нормы резко расходились с окружающей действительностью. Посмотрим теперь, какие из бабушкиных уроков и как он будет воспринимать уже в первые годы своей жизни.
В Российской империи действовал юлианский календарь, или так называемый «старый стиль», по которому датируются события, упоминаемые в книге. Для событий в Европе приводится дата по григорианскому календарю («новому стилю») или двойная дата по обоим календарям. Разница между ними в XVIII веке составляла 11 дней, в XIX веке — 12 дней.
Все уставы, указы, манифесты и другие законодательные акты цитируются в книге по их публикации в многотомном «Полном собрании законов Российской империи», при этом отдельные ссылки из экономии места не приводятся.
Это подчеркивалось в специальном сочинении, опубликованном в 1722 году под заглавием «Правда воли монаршей», которое было составлено Феофаном Прокоповичем в качестве развернутого комментария к петровскому указу о престолонаследии.
Глава 2
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ
Двадцатого декабря 1777 года Правительствующий сенат торжественно объявил подданным Российской империи Высочайший манифест:
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ, ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ,
и прочая и прочая и прочая,
объявляем всенародно.
При должном благодарении Господу Богу за благополучное разрешение от бремени НАШЕЙ любезной Невестки, Ея Императорского Высочества Великой Княгини, и дарование Их Императорским Высочествам первородного сына, а НАМ внука, АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, что учинилося в 12 день сего Декабря, определяем писать во всех делах в Государстве НАШЕМ, по приличеству до сего касающихся: Его Императорским Высочеством, Великим Князем АЛЕКСАНДРОМ ПАВЛОВИЧЕМ; и сие НАШЕ определение повелеваем публиковать во всем НАШЕМ Государстве, дабы везде по оному исполняемо было.
В тот же день в церкви Зимнего дворца состоялось крещение младенца. Таинство совершилось при участии духовника императрицы, протоиерея Иоанна Памфилова, крестной матерью являлась сама Екатерина II, а крестными отцами объявлены сразу два крупнейших монарха Германии (которые через полгода начнут между собой войну за баварское наследство) — австрийский император Иосиф II и прусский король Фридрих II.
Факту рождения своего первого внука Екатерина, таким образом, сразу придала общеевропейский масштаб. Неудивительно, что больше всего сведений об Александре в пору его младенчества и раннего детства до нас дошло из писем Екатерины II, адресованных в Европу, — барону Фридриху Мельхиору фон Гримму (публицисту и дипломату, эмиссару герцога Саксен-Гота-Альтенбургского в Париже) или монархическим особам, например, королю Швеции Густаву III. Переписка Екатерины с Гриммом имела особое значение, поскольку в эти же годы барон являлся автором «литературной переписки» (фр. Correspondance littéraire, philosophique et critique): своего рода малотиражной газеты, которую Гримм в количестве 15 экземпляров рассылал ведущим европейским дворам, в том числе петербургскому, сообщая о культурной — литературной, театральной, салонной и др. — жизни Франции. Все, рассказанное Гримму, сразу же становилось предметом обсуждения в парижских салонах и расходилось по всему высшему свету. Екатерина поддерживала в своих письмах чрезвычайно дружеский тон, подчеркивала особую доверительность, называя Гримма своим souffre-douleur (то есть тем, на кого можно обрушить свои переживания, своего рода «жилетка для плача»), между тем большей частью вовсе не жаловалась ему на жизнь, а, напротив, писала ему с большим юмором и оптимизмом.
Именно из такого письма, написанного всего спустя два дня после рождения Александра, 14 декабря 1777 года, выясняется смысл его имени, которая выбрала сама Екатерина. Сперва она в шутку сравнивает его с именем, мелькнувшим в повести Вольтера «Простодушный», — тем «господином Александром», начальником канцелярии министра, которого никто никогда не видит, потому что тот все время чем-то занят. Отбивая ложные ассоциации эпохи Просвещения, Екатерина посвящает своего корреспондента в потрясающую тайну — на свет появился другой «господин Александр», о котором вскоре предстоит услышать всей Европе, если «справедливы бабушкины предчувствия, предсказания и толки». Он носит «пышное имя» (фр. nom pompeux), получив его от Александра Невского, святого покровителя Петербурга, который «поколотил шведов», но, конечно, это имя сразу вызывает в памяти Александра Македонского и его великие подвиги, а Екатерина придерживается мнения, что название определяет суть вещей. «Ах, Боже мой, что же выйдет из мальчика?», — вдруг восклицает императрица, переходя на немецкий29.
Смысл имени, выбранного Екатериной для первого внука, окончательно разъяснился через полтора года, когда на свет появился ее второй внук, названный Константином. С его именем связывались надежды на возрождение Греческого царства, новой Византийской империи, и возвращение в лоно европейской христианской цивилизации Стамбула-Константинополя, основателем которого был Константин Великий, знаменитый римский император IV века н.э. Таковы были контуры так называемого «Греческого проекта» Екатерины II, которым она особенно плотно занималась в конце 1770-х и начале 1780-х годов. В ее широкомасштабных замыслах один внук, Константин, должен был стать греческим царем, другой, Александр, — естественно, царем русским, а вместе они стали бы править всем православным миром. Символическая красота идеи здесь значила больше, нежели ее практическая реализуемость. Тем не менее для Константина нашли кормилицу-гречанку, с детства он учил греческий язык. А в качестве программной иллюстрации Екатерина II заказала приехавшему в Петербург в 1781 году английскому портретисту Ричарду Бромптону парный портрет обоих мальчиков, который сейчас находится в Эрмитаже. Они там совсем еще маленькие (Константину всего 2 года, а Александру исполнилось 3 с половиной), поэтому черты лиц и фигуры весьма условны, но зато символов предостаточно: это и античный шлем Александра Македонского, и меч, которым тот перерубает гордиев узел (намек на успешное решение в будущем правлении Александра всех проблем Российской империи), и главное — знамя, увенчанное крестом, один из главных символов победы императора-христианина Константина Великого над неверными (который, как известно, уверовал после того, как увидел в небе крест, ставший знаком того, что он одержит верх над своим соперником Максенцием в 312 году).
Для воспитания своего собственного Александра Македонского Екатерина II собиралась даже основать достойную того резиденцию, назвав ее Пелла, то есть так же, как называлась древняя столица Македонии, где родился великий полководец. Имение располагалось в сорока километрах от Петербурга, выше по течению реки Невы, у ее больших порогов[4]. В 1785 году здесь был заложен дворцовый ансамбль из 23 отдельных зданий (жилых и служебных), соединенных между собой галереями, аркадами и колоннадами, — самый большой в России, если не во всей Европе, который сравнивали по своим пропорциям и размерам с крупнейшими постройками периода Римской империи (термами Диоклетиана и др.). «Все мои загородные дворцы только хижины по сравнению с Пеллой, которая воздвигается как Феникс», — писала Екатерина. Дворец был ориентирован на Неву, внизу располагалась парадная пристань с широкой каменной лестницей, а с другой стороны дворца был разбит парк. Императрица, впрочем, не успела довести до конца этот свой замысел: уже спустя 4 года из-за нехватки средств в казне после начала новой войны строительство было приостановлено, а Павел I затем велел полностью разобрать все, что успели построить.
Пообещав внуку славу Александра Македонского, Екатерина II, естественно, подчеркивала, что выращивает русского царя: если у Константина кормилицей была гречанка, то у Александра — русская крестьянка (точнее, жена одного из царскосельских садовников, Авдотья Петрова). Екатерина же настояла, чтобы мальчик с детства говорил по-русски. Его старшей гувернанткой была Софья Ивановна Бенкендорф (бабушка Александра Христофоровича Бенкендорфа, начальника III отделения и шефа жандармов при Николае I), а няней, к которой мальчик привязался и всю жизнь питал самые теплые чувства, — Прасковья Ивановна Гесслер, по происхождению англичанка, поэтому другим языком, который Александр часто слышал и научился понимать с самого раннего детства, был английский. Первым камердинером юного Александра станет муж няни, Иван Федорович Гесслер, который затем будет сопровождать его как императора почти всю жизнь, выполняя самые деликатные поручения, о которых никто другой во дворце не должен знать (детские привязанности Александра, таким образом, могли играть колоссальную роль в его жизни!).
Впрочем, с европейской, и особенно с германской точки зрения Александр являлся принцем Ольденбургского дома из династии Гольштейн-Готторп-Романовы (именно так российская Императорская фамилия обозначалась в Готском альманахе, наиболее уважаемом издании, издававшемся с 1763 года, где перечислялись все родословные связи европейских правящих домов и титулованных родов). Это позволяло некоторым близким к Александру людям — например, его наставнику, Лагарпу — указывать в разных политических ситуациях на важность того, что Александр принадлежит к немецкой династии. Действительно, от Петра I по женской лини
...