автордың кітабын онлайн тегін оқу Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI в
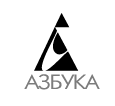
Книги Александра Степанова
Искусство эпохи Возрождения.
Италия. XIV-XV века
Искусство эпохи Возрождения.
Италия. XVI век
Искусство эпохи Возрождения.
Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия
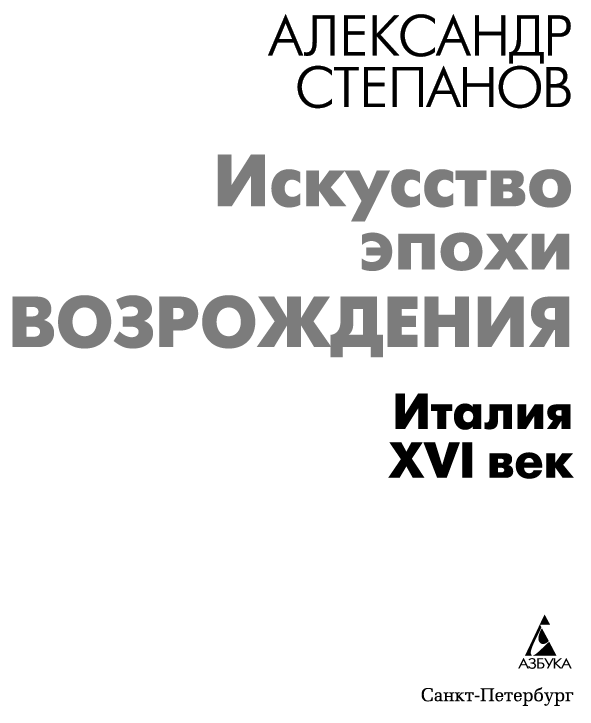
Оформление обложки Ильи Кучмы
Подбор иллюстраций Екатерины Мишиной
Степанов А.
Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / Александр Степанов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023.
ISBN 978-5-389-23417-8
16+
Книги петербургского искусствоведа Александра Викторовича Степанова, посвященные искусству эпохи Возрождения, неизменно пользуются любовью читателей. Помещая творчество прославленных мастеров Ренессанса в широкий исторический и культурный контекст, автор находит новые, неожиданные ракурсы для каждого из них, благодаря чему произведения, за которыми за многие века существования закрепился статус хрестоматийных, вдруг обретают шанс быть увиденными и переосмысленными заново.
В книге, посвященной искусству Италии XVI века, рассматривается творчество подлинных титанов Возрождения — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана и других, — а также история его восприятия вплоть до XX столетия.
Книга А. В. Степанова обладает универсальностью в лучшем смысле этого слова: в то время как динамичное, увлекательное повествование будет интересно самому широкому читателю, академическая глубина исследования помещает ее в один ряд с работами крупнейших мировых специалистов в области искусства эпохи Возрождения.
© А. В. Степанов, 2007
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
Введение
«Львы» и «лисы»
В XVI столетии Италия остается раздроблена на ряд небольших государств. В начале века между ними время от времени вспыхивают войны, вызванные наступательной политикой пап. Таковы завоевания Чезаре Борджа в Средней Италии, происходящие с благословения Александра VI; война Юлия II во главе Камбрейской лиги против Венеции и присоединение Болоньи, Пармы, Пьяченцы к Папской области; захват Урбино Львом X. Позднее итальянские междоусобицы оказываются не более чем эпизодами грандиозных войн, которые ведут на полуострове Франция и Испания.
Начало Итальянским войнам кладет французский король Карл VIII в 1494 году, а заканчиваются они лишь в 1559 году миром в Като-Камбрези. Между этими датами — несколько крупных вторжений, сражений, временных перемирий. В сравнении с этими невзгодами Треченто и Кватроченто кажутся благополучной эпохой. Конечно, междоусобных войн, неурожаев, эпидемий чумы, мятежей, погромов, пыток, казней, изгнаний, заговоров, убийств, поджогов, грабежей — всего этого и тогда было предостаточно. Но если вспомнить, что Франция пережила за это время Столетнюю войну и Жакерию, Англия — Войну Алой и Белой розы, Чехия — Гуситские войны, а Византия и вовсе перестала существовать, то придется признать, что в XVI веке Италия прямо-таки благоденствовала.
По Като-Камбрезийскому миру Милан, Неаполь, Сицилия и Сардиния оказываются под испанским протекторатом. Папское государство, Флоренция, Феррара, Мантуя, Генуя формально суверенны, но вести независимую от Испании политику они не могут, да и не хотят. Победа Испании впервые придает Италии известное политическое и культурное единство. Неинтегрированными остаются только Венеция и Пьемонт с Савойей.

Рафаэль. Портрет Юлия II. 1512
Трагической кульминацией Итальянских войн был 1527 год, когда Шарль Бурбон, командовавший имперскими войсками в Италии, спровоцировал их на взятие Рима. Они подвергли Вечный город ужасающему разгрому. Винить в катастрофе надо не только Бурбона и его наемников. Не говоря уж о протестантах, в чьих глазах папская столица была блудницей вавилонской, во всей Европе не нашлось бы доброго католика, который не был бы убежден, что римское духовенство погрязло в пороках. Честолюбие, жадность, изнеженная жизнь духовенства особенно отвратительны у тех, чье бытие, по их словам, отдано Богу, — писал Франческо Гвиччардини, признаваясь, что, не люби он папскую власть ради собственного интереса, он любил бы Лютера как самого себя «ради того, чтобы видеть, как скрутят эту шайку злодеев, т. е. как им придется или очиститься от пороков, или остаться без власти» [1].
В жизни пап, которым Рим более всего обязан своим превращением в средоточие Высокого Возрождения, — Юлия II, Льва X, Климента VII — перечисленные грехи проявляются в различных пропорциях. Менее всего можно заподозрить кого-нибудь из них в жадности. Честолюбие — черта Юлия, но не в этом суть его натуры. Изнеженная жизнь — идеал двух других, из рода Медичи, но достичь его удается только Льву. Присмотримся к этим папам, главным заказчикам Браманте, Микеланджело, Рафаэля.
Папу-воителя Юлия II звали Юлием Грозным. Задолго до того, как кардинал Джулиано делла Ровере стал папой, Мелоццо да Форли, изображая церемонию основания Ватиканской библиотеки, поставил его посередине, возвышающимся над всеми, на фоне колонны, внушая современникам провидческую мысль, что среди людей, которыми окружил себя Сикст IV, только этот кардинал сможет быть надежной опорой Церкви. Там ему тридцать три года. Пройдет еще двадцать семь, прежде чем он взойдет на престол Св. Петра благодаря скоропостижной смерти своего давнего врага Александра VI. Редкий случай в истории конклавов: делла Ровере избирают без подкупа.
Характер у Джулиано пылкий, властный, воинственный, неукротимый. Имя Юлия II он принял с двойным умыслом: не только в честь Юлия I, прославившегося строгой жизнью, твердостью в отстаивании первенства Рима и заботой об украшении города новыми церквами, но и в честь Цезаря, которого он избрал образцом в своей деятельности «духовного монарха». Взойдя на престол, он издает буллу, запрещающую симонию. Оружию своих предшественников — яду и кинжалам наемных убийц — «Второй Юлий» (как называет его Ариосто) предпочитает меч. Не книгу, но меч вкладывает Микеланджело в руку бронзовой статуи папы.
Юлий II смел и тверд, но замыслы его непомерны. Он держится, по мнению Гвиччардини, скорее своим авторитетом, распрями князей и милостью фортуны, нежели благоразумием. Макиавелли объясняет успех его военных авантюр привычкой идти напролом: «Фортуна — женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать» [2].
Трудно сказать, что для Юлия II важнее — личная слава, величие Католической церкви или спасение собственной души. Желания его меняются часто и резко. И каждое должно осуществиться, даже если бы сам он погиб ради очередной захватившей его идеи. Горя нетерпением прибрать к рукам Перуджу, он вступает в город безоружным, не дожидаясь своего войска, и такова оказывается сила воли этого человека, что тиран Перуджи ему подчиняется.
В войне Камбрейской лиги против Венеции, когда армия его союзника Людовика XII выходит к лагуне, французские ядра долетают до города и венецианцы готовятся к борьбе насмерть, Юлий II вдруг решает покончить с французским влиянием в Ломбардии. Он перенимает у венецианцев идею борьбы с иноземцами и грозит интердиктом всем государям и народам, не примирившимся с республикой св. Марка. Объединив Италию, Рим возвысится над всей Европой! Эта мечта определяет политику Юлия в последние годы его понтификата. Завербовав шесть тысяч непобедимых швейцарских пехотинцев и провозгласив лозунг «Вон варваров!», он возглавляет антифранцузскую Священную лигу.
Весной 1512 года герцог Гастон де Фуа дает под Равенной сражение войскам Священной лиги, по большей части испанцам. Французский полководец погибает, но войска лиги теряют 12 тысяч человек убитыми, они разбиты наголову. Однако приближение папских швейцарцев заставляет французов отступить, а под Рождество Массимилиано Сфорца, сын Лодовико Моро, вступает в Милан. Вскоре на итальянской земле не остается ни одного французского воина. Папа восстанавливает во Флоренции власть Медичи, сажает в ней правителем Джулиано, младшего сына Лоренцо Великолепного.
А Рим Юлий II стремится превратить в архитектурную и художественную столицу христианского мира. Ни на экономической, ни на политической карте того времени Рим отнюдь не конкурент таких центров промышленности, как Флоренция, Тулуза, Руан, Валансьен, Лейден, таких центров торговли, как Венеция, Генуя, Барселона, Нюрнберг, Страсбург, Антверпен, таких банковских центров, как те же Флоренция, Генуя, Антверпен, Аугсбург, таких центров формирования национального самосознания, как Париж или Лондон. Тем не менее притягательность Рима для художественно одаренных людей возрастает настолько, что именно здесь, при дворе Юлия II, обозначаются основные черты новой эпохи — Высокого Возрождения. Если флорентийские гуманисты XIV–XV веков видели в Риме лишь символ великого прошлого, то при Юлии появляется надежда, что Рим станет оплотом «renovatio» («обновления») для всего христианского мира.
Надо было обладать убежденностью Юлия II в правоте своего дела, чтобы вместо бережного воссоздания обветшавшей базилики Св. Петра, где над мощами апостола вот уже более тысячи лет благоговели поколения паломников, начать строить на ее месте грандиозный центрально-купольный храм — величайший архитектурный символ Церкви воинствующей и торжествующей. В 1506 году закладывают фундамент, и две с половиной тысячи рабочих принимаются за возведение опор нового храма. Противники Юлия называют Браманте «maestro ruitante» («мастером разрушения») и рассказывают анекдот, в котором св. Петр обещает зодчему впустить его в рай лишь по завершении строительства. В течение многих лет (собор будет окончен в 1614 году) это сооружение напоминает циклопические руины, приводя в ужас добрых христиан, приходящих прильнуть к святыням.

Карадоссо. Медаль в честь основания собора Св. Петра. 1506
Для художников, работавших на Юлия II, было большой удачей, что их щедрый покровитель, по его собственному признанию, не разбирался в искусстве. У него не было пристрастий или идей, которые вынуждали бы его оказать предпочтение одному из непохожих друг на друга гениев и диктовать им свою волю. Зато папа прекрасно понимал, что искусство — это «оружие массового поражения». Никогда еще в Риме не осуществлялись столь грандиозные художественные проекты.
Собор Св. Петра — образцовый храм для христианского мира. Гробница самого понтифика — новый тип мавзолея. Роспись потолка Сикстинской капеллы — новое «зерцало истории». Росписи Станцы делла Сеньятура — новое «зерцало веры». Соблазнительно видеть в этих главных заказах, выполнявшихся в 1505–1512 годах Браманте, Микеланджело, Рафаэлем, звенья единой программы Юлия II по обновлению основных форм католического искусства.
Одновременно Браманте реконструирует папский дворец и расширяет Ватиканскую библиотеку. В Бельведерском саду он устраивает по желанию Его Святейшества хранилище древних статуй — «антикварий» [3], прообраз садов-музеев, мода на которые распространится из Рима по всей Европе. Здесь выставлены знаменитейшие античные статуи, на которых будет оттачиваться мастерство скульпторов от Микеланджело до Кановы. И вокруг Ватикана тоже кипит работа: выпрямляются и расширяются старые улицы, пролагаются новые, строятся мосты, проводятся акведуки и клоаки, укрепляются стены Вечного города.
Пример папы побуждает римскую знать соревноваться в возведении дворцов и мавзолеев. Современникам хочется верить, что Древний Рим воскресает. «Рим, Вечный Град, божество земель и языков, коему ничто не равно и никто не подобен... коего власть пресекается у западного Океана и у затигрийских царств», — захлебывается от восторга автор путеводителя по новым римским достопримечательностям, посвящая свой труд Юлию II [4].
Исполнив программу жизни до конца, в феврале 1513 года Юлий Грозный умирает. Он оставляет Папскую область умиротворенной и расширенной. Система управления не потребует улучшений в течение четырех столетий. Благодаря отделению церковного права от светского Церковь освобождена от притязаний со стороны светских властей. Денежная реформа спасает папство от банкротства. Папская казна пополняется за счет наследства духовных лиц, умирающих в Риме. Но опустошается она быстрее, поэтому пущена в ход продажа индульгенций — теперь уже не только в Риме, но и по всей Европе.
В глазах Лютера Юлий II — «ужасающей силы чудовище». Ульрих фон Гуттен называет его «смертоносной язвой человечества», «бандитом, носящим в себе всевозможные пороки». Иероним Босх в «Поругании Христа» украшает шапку одного из палачей веткой дуба с желудем — эмблемой рода делла Ровере. Но для большинства соотечественников Юлий II — укротитель льва св. Марка (то есть Венеции) и избавитель от нашествия варваров.
Кардинал Джованни Медичи подкупает конклав 1513 года на деньги банкирского дома Фуггеров в Аугсбурге. Помня предсказание Марсилио Фичино, составлявшего гороскопы для детей дома Медичи, что Джованни станет папой Львом X, новый понтифик принимает это имя. Его отец Лоренцо Великолепный, мечтая о соединении в руках Медичи светской и духовной власти, готовил Джованни к духовной карьере. Иннокентий VIII возложил на него кардинальскую шапку, когда ему было тринадцать лет. «Это величайшее достижение нашего дома», — писал сыну Лоренцо, поясняя, что теперь тому «нетрудно будет помогать и Флоренции, и нашему дому» [5].
«При Александре царствовала Венера, при Юлии — Марс; теперь наступает владычество Паллады» — гласила надпись на триумфальной арке, построенной в Риме накануне торжественного въезда Льва [6]. «Если его предшественники возвеличили папство силой оружия, — писал Макиавелли, — то нынешний глава Церкви внушает нам надежду на то, что возвеличит и прославит его еще больше своей добротой, доблестью и многообразными талантами» [7]. Это не пустые комплименты. Лев одарен жизнерадостным нравом, гибким умом, тонким политическим чутьем. Но он не озабочен укреплением доставшегося ему государства. Ему дороже интересы дома Медичи. Он правит Флоренцией через своего брата Джулиано, герцога Немурского, и через своего властолюбивого племянника Лоренцо, для которого он отобрал у Франческо делла Ровере герцогство Урбино.
«Насладимся же папством, раз уж Бог даровал его нам», — записывает со слов папы венецианский посол [8]. Изнеженный и умный, говорящий о себе, что он вырос в библиотеке и любит искусство с колыбели, натура эгоистичная и чувственная, Лев хочет, чтобы всё, что он читает и слушает, было живым, изящным, «истинно латинским». Активность духовных поисков, творческая дерзость сменяются после смерти Юлия II требованиями хорошего вкуса, инициатива — осторожностью и умеренностью, творческая смелость — ученостью, археологической точностью, эстетством.

Джулио Романо. Портрет Льва X. Между 1513 и 1521
Лев X кладет конец практике разрушения древностей Рима. Рафаэль, его любимец, не только руководит после смерти Браманте строительством собора Св. Петра, но и надзирает за сохранностью мраморов с латинскими надписями. Папа назначает его суперинтендентом древностей Рима. Рафаэль составляет археологическую карту Вечного города.
Великие писатели для Льва X — норма жизни и утешение в несчастье. Говорят, он не читает посланий апостола Павла, чтобы не испортить язык, привыкший к классике. В приобретении классических манускриптов и поощрении гуманистических исследований он видит высшую пользу, какую может принести человечеству. Он пополняет профессуру Римского университета знатоками Античности, учреждает коллегию для издания греческих классиков. Всякий, кто прикосновен к науке или искусству, стремится в Рим — новую столицу Возрождения.
По утрам из Ватикана доносятся пение и музыка, призывающие populus romanus к наслаждению жизнью. Виртуозов-музыкантов сменяют славящие папу поэты. Они не отступают от него ни на шаг — и Лев, презирая деньги и любя видеть вокруг себя счастливые лица, щедро награждает их. То он смотрит из окна своего дворца корриду, устроенную во дворе Ватикана, то присутствует среди зрителей на конских скачках и бегах буйволов, то, подобно Нерону, выступает вместе с приезжими певцами, то с азартом играет в карты, то любуется балетом или развлекается непристойными комедиями Ариосто, кардинала Бибиены, Макиавелли. Перед началом представления он стоит в дверях зала, и входящие гости подходят к нему под благословение. Обмирщение культуры и порча нравов, в которых обличал флорентийцев Савонарола, — пустяки по сравнению с атмосферой празднеств и наслаждений, царящей в сластолюбивом и галантном кругу сына Лоренцо Великолепного, где на все лады обыгрываются идеи Фичино о согласии любви небесной и земной.
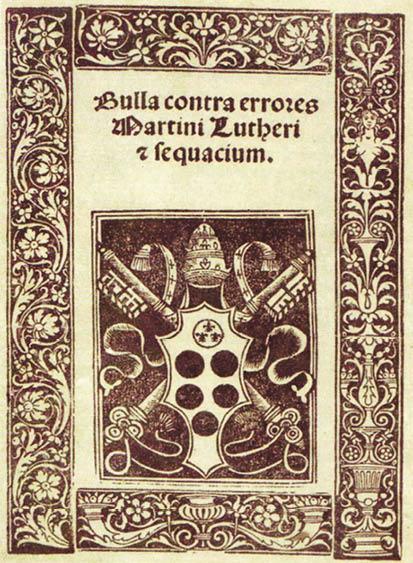
Титульная страница папской буллы «Против заблуждений Мартина Лютера». Рим, 1521
Римская элита при Льве X состоит из трех групп. Самая импозантная — окружение папы: родственники Льва, кардиналы, иностранные дипломаты, толпа привилегированных лиц. Они живут по-княжески, стараясь затмить друг друга пышностью быта. Большинство с молодости покровительствует искусствам, даже если это обрекает их на долги и тайную нищету. Они нанимают художников, чтобы прославить свои имена подношениями Церкви либо строительством и украшением дворцов. С ними пытаются соперничать новые люди, которым Рим, этот центр всемирной финансовой системы папства, обеспечивает чрезвычайно благоприятную конъюнктуру: крупные банкиры, богатые купцы, администраторы — все те, без чьей предприимчивости не просуществовала бы и дня атмосфера ослепительной роскоши и великолепия. Среди них один из самых щедрых меценатов — папский банкир Агостино Киджи, по чьим заказам трудится не только его друг Рафаэль, но и Содома, Перуцци, Себастьяно дель Пьомбо, Джулио Романо, Пенни. Третья группа — старые обедневшие аристократы, почти не принимающие участия в художественной жизни и занятые поиском выгодных партий для своих благородных отпрысков [9].
Наблюдая беспечную жизнь папского двора, трудно поверить, что в эти годы в Италии идет война, а за Альпами назревает Реформация. Правда, Лев X успеет умереть до самых страшных событий — вероятно, не предвидя их.
Осенью 1515 года королем Франции становится принц Ангулемский. Похвала ему, которую произносит Джулиано Медичи в книге Кастильоне «О придворном», звучит провокационно: «Он не только статен телом и красив лицом, но и всем своим внешним обликом являет такое величие, соединенное, впрочем, с милосердием и человеколюбием, что Французское королевство всегда будет казаться тесным для него» (курсив мой. — А. С.) [10]. Став королем Франциском I, этот влюбленный в Италию темпераментный и артистичный юноша, зерцало всех доблестей и недостатков французской аристократии, решает первым делом отобрать у Сфорца Милан — щит Италии. С невероятной смелостью он переходит через Альпы. При Мариньяно путь французам преграждает швейцарская пехота герцога Массимилиано и папы. Французы атакуют. Битва, не закончившись к ночи, длится весь следующий день. Не раз швейцарцы упускают победу. К исходу второго дня им приходится сдать поле битвы, оставив на нем 20 тысяч лучших воинов. Потери Франциска тоже велики, но щит Италии становится его триумфальной аркой. Милан и Генуя у его ног. Массимилиано Сфорца, как и его отец, умрет в плену. Миф о непобедимости швейцарцев развеян.
Лев X просит мира и спешит навстречу Франциску I в Болонью. Там они подписывают конкордат: папа отдает королю право замещать церковные должности во Франции, король отдает папе право на сбор повинностей с Французской церкви.
Строительство собора Св. Петра, меценатство, урбинская авантюра, непрерывная череда охот, театральных представлений, маскарадов, пиров — все эти затеи блистательного «леонийского века» требуют колоссальных средств. Одна только кухня Льва X поглощает половину доходов с Папской области. Приходится восстановить в самых широких масштабах симонию и увеличить сбыт индульгенций: верующие могут выкупать умерших из чистилища. По подсчетам императора Максимилиана I, доход Папской курии в сто раз превышает его собственный. Но до самого папы доходит не многое — бóльшая часть добытых средств оседает в кошельках сборщиков. Умрет Лев X неоплатным должником, его тиара пойдет с молотка, римские банкиры окажутся наполовину разорены его банкротством.
В Германии индульгенциями особенно ревностно промышляет доминиканец Тецель, на которого возложен и сбор пожертвований на строительство собора Св. Петра. «В Риме строится церковь Петру и Павлу, которой равной не будет во всем свете, — взывает он. — В ней будут положены тела святых апостолов и многих мучеников. Теперь же эти тела не прикрыты и не защищены, они остаются без всякого призора, на них лежит пыль, падает дождь и град. Неужели вы захотите потерпеть, чтобы их святой прах долго еще терпел такое поношение?» [11] Его деятельность побуждает другого монаха к поступку, с которого начинается Реформация: в 1517 году, в День Всех Святых, Мартин Лютер [12] прибивает к дверям соборной церкви Виттенберга девяносто пять тезисов против индульгенций. «Бред упившегося пивом немецкого монаха», — презрительно отзывается Лев X. Но через три года веротерпимый папа вынужден осудить Лютера специальной буллой. Тот торжественно сжигает буллу при стечении профессоров и студентов Виттенбергского университета.
Одновременно с выступлением Лютера высокопоставленные деятели Римской католической церкви, озабоченные ее будущим, учреждают «Ораторий Божественной любви». Не подвергая сомнению ни догматы, ни таинства, ни авторитет папства, они хотят вернуться к «евангелизму» апостольских времен христианства, культивируя аскетизм в миру, самосовершенствование, благотворительность. Они мечтают опоэтизировать культ, чтобы пробудить душевное участие в каждом верующем. «Евангелисты» воодушевляются протестантскими идеями священства всех верующих, их непосредственного общения с Господом и спасения только верой.
Тем временем назревает конфликт между Франциском I и императором Священной Римской империи Карлом V (испанским королем Карлом I). С точки зрения императора, Милан и Генуя — клин, вбитый между его испанскими и австрийскими владениями, который ему хочется превратить в плацдарм для действий против Франции. Для Франциска же, чьи земли со всех сторон, кроме моря, окружены землями императора, итальянские приобретения — форпост, защищающий Прованс и Бургундию. Война, развязанная в 1521 году Франциском, не приносит ему успеха. Он великолепный воин, но плохой военачальник. Испанцы, союзники Льва X, входят в Геную и Милан. «Щит Италии» становится «щитом Испании».
Лев X скоропостижно скончался в 1521 году. «Голландский варвар» Адриан VI за два года своего понтификата вызвал всеобщую ностальгию по беззаботным временам Льва. На конклаве 1523 года имперская партия обеспечила победу кардинала Джулио Медичи. Изощренный интеллектуал и эстет, обаятельный и блестяще образованный, истинный аристократ духа с живым интересом к наукам и искусствам, он очень популярен у римлян. Подтверждая свою репутацию гедониста и либерала, Джулио выбирает имя Климента VII [13].
В личной жизни Климент VII скромен, благочестив, щедр на подаяние бедным и даже злейшим своим врагам не дает оснований для упреков в безнравственности. Он покровительствует Рафаэлю, Микеланджело, Челлини. Воздействие рафинированной интеллектуальной культуры папского двора на работающих в Риме художников столь значительно, что стиль произведений, созданных в этот период Джулио Романо, Перино дель Вага, Пармиджанино и Себастьяно дель Пьомбо, историки искусства иногда называют «стилем Климента VII» [14].
Потомки, третирующие Климента VII за слабоволие и нерешительность, едва ли осознают в полной мере серьезность проблем, с которыми ему пришлось столкнуться. Папство не в состоянии погасить свои долги. За Альпами ширится Реформация. В Риме тоже осознается необходимость церковных преобразований. Чтобы не допустить господства в Италии Габсбургов или Валуа, приходится постоянно лавировать между их интересами. Оттоманы рвутся на Адриатику. Старинные враги папства постоянно держат Рим под угрозой нападения.
В 1525 году в результате успешных действий испанских войск французы терпят близ Павии сокрушительное поражение. Взятый в плен Франциск I в 1526 году подписывает в Мадриде договор, по которому уступает Карлу V Милан и Бургундию.

Себастьяно дель Пьомбо. Портрет Климента VII. 1526
Опасаясь, что в руках Карла V будет теперь вся Италия, Климент VII совершает роковой шаг: как только Франциск оказывается на воле, Климент освобождает его от обещаний Мадридского договора и присоединяется к Коньякской лиге — союзу Франции, Англии, Швейцарии, Венеции и Флоренции против Карла. Император, возмущенный вероломством папы, вербует в Ломбардии армию под командованием Шарля Бурбона. Войска Бурбона вторгаются в Папскую область. На соединение с ним идут ландскнехты Фрундсберга. Среди них много лютеран, возмущенных тем, что папа выступает против императора, когда султан Сулейман стоит под Веной. Нет ли тайного сговора между владыкой мусульман и главой Римской церкви? Фрундсберг везет с собой золотую цепь, на которой собирается повесить папу. На улицах и площадях городов появляются проповедники, пророчащие гибель Италии и всего света. Климента они называют антихристом. Бурбон замышляет завоевать себе королевство в Италии. Разжигая алчность своих наемников невыплатой жалованья и уверяя императора, что их невозможно удержать в повиновении, он ведет их к Вечному городу. 7 мая 1527 года они с ходу берут Рим. Бурбон погибает при штурме (впоследствии Бенвенуто Челлини припишет себе сразивший его выстрел из аркебузы) [15]. Климент VII укрывается в замке Св. Ангела.
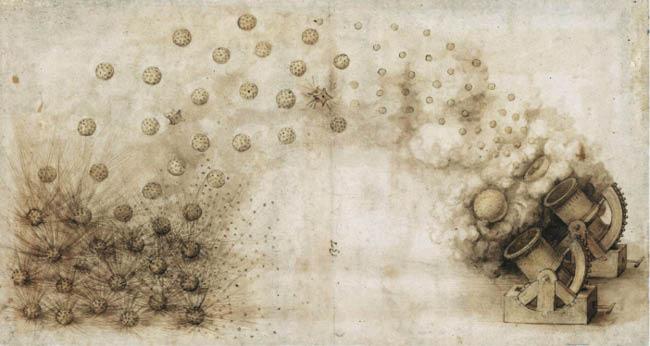
Мортиры, стреляющие взрывающимися ядрами, — фантазия Леонардо да Винчи. Ок. 1490
Начинается страшное опустошение Рима — Sacco di Roma. Солдатня — католики наравне с протестантами — грабит церкви и монастыри, убивает священников и монахов, насилует монахинь, превращает собор Св. Петра в конюшню, Ватиканский дворец — в казармы, фрески Рафаэля — в фон для граффити, уничтожает библиотеки, разрушает виллы. Бегут из Рима прелаты и банкиры, разбегаются кто куда блестящие «мальчики Рафаэля». Из пятидесяти пяти тысяч жителей Рима три тысячи убито. Солдаты разъезжают на ослах переодетыми в кардинальские одежды, рядятся перед замком Св. Ангела в папские одежды, провозглашают папой Лютера. Потрясенный Фрундсберг умирает от апоплексического удара. Лишь на восьмой день удается отчасти обуздать утомленных бесчинствами победителей. Папа выплачивает огромный выкуп Карлу. Тот не выпускает его из добровольного заточения, но папе удается бежать. Люди истово религиозные воспринимают Sacco di Roma как кару, обрушенную Богом на папство, на Римскую церковь. Но орудие этой кары — взявшая Рим армия почти вся погибает — ее косит чума. И когда в феврале 1528 года завоеватели поодиночке разбредаются, их грабят и добивают местные жители. «Падение Рима явилось падением не города, а всего мира», — говорит Эразм Роттердамский [16].
В событиях 1526–1528 годов итальянские войска не уступают в бесчеловечности иностранным. «Грабежи, пожары, насилие над женщинами и девушками, убийства, множество ваших крепостей разграблено вашими же солдатами с большей жестокостью, чем это сделали бы враги», — свидетельствует Гвиччардини, подчеркивая, что никогда еще во время войны в Италии солдатам не платили так дорого [17]. Пытаясь вслед за Гвиччардини охватить взором всю Италию этой поры, мы видим опустошенную страну, превращенную в захолустную провинцию Европы. Ничуть не бывало! Историков, считающих 1527 год точкой перелома в истории Италии, концом Высокого Возрождения и началом конца Возрождения вообще, озадачивает контраст между политическим унижением страны, трагически переживаемым такими патриотами, как Макиавелли и Гвиччардини, и отсутствием хозяйственной разрухи, не говоря уж о немеркнущем блеске культуры, которая хоть и изменилась после Sacco di Roma, но не утратила ренессансного характера.
Как это понять? Если верить во всеобщую связь явлений, то надо присмотреться к тому, какими были Итальянские войны.
На каждом их этапе война шла в границах какого-то одного итальянского государства, оказываясь на руку его соседям. Для противников папства — Венеции, Феррары, Мантуи — Sacco di Roma и невзгоды, обрушивающиеся на Папскую область, — подарки фортуны. Будь Италия целостным государством, она оказалась бы втянута в войну вся. Последствия были бы неизмеримо тяжелее.
Театр Итальянских войн — почти исключительно сельская местность. Осады больших городов редки и, за исключением блокад Неаполя, Флоренции и Сиены, непродолжительны. В панораме бесчинств, из которой мы взяли у Гвиччардини только маленький фрагмент, городов нет. Гвиччардини возмущен в большей степени тем, что итальянские солдаты свирепствуют на своей земле хуже иноземцев, нежели ущербом, который терпят крестьяне. Совокупный этот ущерб, по оценкам нынешних специалистов, в сравнении с Sacco di Roma невелик [18].
Шок от Sacco di Roma длился недолго. Уже в 1535 году Микеланджело назначен главным архитектором, скульптором и живописцем Апостолического двора. На следующий год он приступает к работе над «Страшным судом». Подтверждая славу Вечного города, Рим с каждым годом все явственнее приобретает черты имперского великолепия. С 1526 по 1600 год его население возросло с 55 до 100 тысяч человек.
В 1527 году, как только весть о падении Рима и унижении Климента VII дошла до ушей флорентийских республиканцев, они изгнали Ипполито и Алессандро Медичи, навязанных им папой. Собранный по савонароловской конституции Большой совет избрал верховным правителем Флоренции самого Иисуса Христа. После того как Климент VII примирился с Карлом V и в феврале 1530 года короновал его в Болонье, объединенные силы папы и императора сжимают кольцо осады вокруг Флоренции: «Готовь для нас золотую парчу, Флоренция! Мы купим ее, отмерив копьями». Их тридцать четыре тысячи человек против тринадцати тысяч у флорентийцев. В осажденном городе вспоминают пророчества Савонаролы о том, что Флоренция за свои грехи будет наказана и осуждена папой по имени Климент, но ее спасут ангелы. Однако ангелы на помощь не приходят, и в августе 1530 года главнокомандующий Малатеста Бальони, у которого хватает ума и ответственности поставить само существование оставшихся в живых флорентийцев выше манящего их призрака Царства Божия на земле, сдает неприятелю измученный голодом город, выставив условием «забвение обид». Немного выждав, чтобы усыпить осторожность республиканцев, папский кардинал Валори при поддержке отряда испанцев начинает террор. Казнят, изгоняют, конфискуют имущество противников Медичи. Четыреста шестьдесят эмигрантов приговорены к смертной казни заочно. По всей Италии читают объявление о назначенной за их головы награде.

Тициан. Портрет Франциска I. 1538–1539
Правителем города император и папа сажают Алессандро Медичи, пожаловав ему странный титул «герцога Флорентийской республики». Герцог Алессандро — разнузданный деспот и дальновидный политик. Опираясь на новую государственную элиту — придворный нобилитет, он укрепляет господство рода Медичи. Республиканская молва приписывает ему убийство главы оппозиции, кардинала Ипполито Медичи. Исполнить акт общественного возмездия приходит в голову Лоренцино Медичи — образованному юноше с наклонностями литератора. При дворе герцога он играет роль льстеца и сводника. Опозоренный памфлетом, обвиняющим его в порче древних статуй в Риме, он измышляет поступок, шок от которого мог бы заставить всех забыть этот его позор. В 1537 году он закалывает своего родственника и государя, заманив его к себе домой обещанием ночи с красивой женщиной. «Педантизм убил герцога Алессандро», — скажет об этом преступлении Пьетро Аретино. Педантизм в глазах Аретино — это умственность запоздалых гуманистов, способных воодушевиться идеей подвига при чтении древнеримских авторов. Лоренцино сравнивал себя с Брутом. Через девять лет агенты герцога Козимо I выследят его в Венеции и убьют [19].
Соперничество с возрождающимся Римом выдерживает только Венеция — город, по численности населения не уступающий Риму и Флоренции, вместе взятым. Венецианцы ни от кого не зависят, богатеют от колоний и, благодаря своей военной мощи, своим оборонительным укреплениям, своей искусной дипломатии, позволяют себе выдерживать раздражающий всю Европу нейтралитет в раздираемом противоречиями христианском мире. Но в качестве владычицы Адриатики Венеция — желанный партнер всех, кто обеспокоен турецкой экспансией. От неблагоприятных последствий перемещения мировой торговли на Запад венецианцы заблаговременно защитились, инвестировав капитал в экономику Террафермы [20]. Сохраняя свое богатство, могущество и стабильность, олигархическая республика св. Марка и в XVI веке — предмет всеобщего изумления и зависти.

Джорджо Вазари. Коронование Карла V папой Климентом VII в церкви Сан-Петронио в Болонье. Интерьер церкви оформлен в подражание собору Св. Петра в Риме. 1560
Если до конца XV столетия вклад Венеции в культуру Возрождения был относительно невелик, то теперь энергия венецианцев, переключенная с крупномасштабной внешней коммерции на обустройство и украшение собственного жизненного мира, на преодоление культурной маргинальности, творит чудеса. Венеция XVI века — крупнейший центр книгопечатания в Европе [21]. В архитектуре Сансовино и Палладио, в живописи — Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе (если упоминать только самые славные имена) создают свой вариант Возрождения, в большей степени, нежели римско-флорентийский, обусловленный заказами общественных корпораций и частных лиц, более чувственный, теплый, человечный, гедонистический.
Наряду с претендующими на мировое значение Римом и Венецией, а также оттесненной на второй план Флоренцией существуют «камерные» очаги Возрождения: затерянный в глухих горах Урбино, уснувшая среди низменных равнин Феррара, потонувшая в болотах Мантуя, эти «изумительные маленькие столицы, с их дворцами, переполненными живописью, с их садами, населенными вырытыми в далеких землях антиками, с их библиотеками, кунсткамерами, театрами, типографиями, залами академии и кабинетами музыки» [22].
Культура этих маленьких столиц сугубо придворная. Тон в ней задают в начале Чинквеченто не мужчины, а женщины. В Мантуе блистает Изабелла из рода д’Эсте Феррарских, в Урбино — Елизавета из рода Гонзага Мантуанских, в Ферраре — дочь Александра VI Лукреция Борджа. В отличие от Рима, Венеции, Флоренции, где господствует мужская воля, Ренессанс в окружении этих выдающихся женщин выглядит порой как запоздалая метаморфоза северной куртуазной культуры. В сфере влияния их интересов и вкусов возникают и расцветают новые жанры литературы, распространяющиеся затем по всей Италии с быстротой и всеохватностью, немыслимыми для новшеств в архитектуре и изобразительных искусствах.

Джулио Кловио. Карл V в окружении побежденных соперников. Ок. 1550
Первые драматургические произведения — комедии в современном понимании этого слова, сменяющие средневековое литургическое действо и площадную мистерию, — ставятся в Ферраре («Шкатулка» и «Подмененные» Ариосто) и Урбино. Они имеют шумный успех и в течение XVI века достигают в Италии невероятного размаха; комический театр становится предметом настоящего культа. Премьера комедии Бибиены «Каландро» при урбинском дворе в 1513 году — первый в истории европейского театра спектакль, о сценографии которого мы узнаём благодаря Кастильоне, оставившему его описание: «На сцене был представлен прекраснейший город, с улицами, дворцами, церквами, башнями; все было сделано выпукло, но вместе с тем помогала превосходная живопись и правильно примененная перспектива. Между прочим, там был восьмиугольный храм... <...>. Он был весь в гипсовых барельефах, изображающих прекраснейшие истории, с алебастровыми простенками для окон, с архитравами и карнизами из золота и ультрамарина, а кое-где со стеклами, будто из драгоценных каменьев, которые казались настоящими; вокруг стояли рельефные статуи» [23].

Джованни Страдано. Аллегория мира в Като-Камбрези. Ок. 1560
Другое «культовое» произведение эпохи — трактат Кастильоне «О придворном» — вдохновлено впечатлениями от двора Елизаветы Гонзага. Кастильоне работает над ним в Урбино и Мантуе.
Поэму феррарца Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд» называют в наше время единственным подлинно ренессансным романом, одной из вершин мировой поэзии. А ведь это настоящий рыцарский роман. Популярность его была такова, что в 1530-х годах именами его героев и героинь называли детей. Насчитывая столько же стихов, сколько «Илиада», «Одиссея» и «Энеида», вместе взятые, этот роман тем не менее в одной только Италии выдерживал на протяжении следующих полутора веков в среднем по три—пять изданий каждые три года.
Но в свое время Ариосто был еще более знаменит как постановщик придворных спектаклей, далеко опережающих своим фантастическим великолепием все, что только можно было видеть при дворах других итальянских государей. Неудивительно, что в его поэме рыцари, прекрасные дамы, феи, добрые и злые волшебники напоминают фигурки из кукольного театра.

Йост Амман. Процессия в Венеции в честь отплытия дожа. Ок. 1570
Там, где тон задают женщины, на первом плане стоят искусно разыгрываемые зрелища и звучные речи, то есть живые картины, будь то беседы изысканнейших кавалеров Италии, или постановки комедий со знаменитыми феррарскими «интермецци», или же фантастические сцены «Неистового Роланда». Всеобщая страсть людей Возрождения к зрелищам достигает в этих придворных обществах апофеоза. А культ зрелищ — благоприятная почва для эстетизации рыцарства, невозможной там, где нет «прекрасной дамы», предмета поклонения и верховного арбитра поступков рыцарей.
Общеевропейский феномен рыцарского возрождения возникает в начале века в Испании и Италии. Это как раз те страны, где впервые начинают вести войну, подчиняя неуправляемые рыцарские порывы военной тактике, и перестают церемониться в выборе средств, ведущих к успеху. Разница лишь в том, что испанцы, не успев еще остыть от Реконкисты, воюют сами; итальянцы же, предпочитая загребать жар чужими руками, призывают для решения своих проблем иностранных государей, приглашают иностранных полководцев, нанимают солдат и при первой же возможности пользуются огнестрельным оружием, так что не личная рыцарская доблесть, а бюргерская искусность артиллеристов, инженеров, литейщиков выступает у них на первый план [24].
Беспрецедентная популярность «Амадиса Гальского» [25] и «Неистового Роланда» говорит о дефиците таких куртуазно-рыцарских доблестей, как великодушие, храбрость, благородство, и о трезвом признании того, что наступает конец беспредельной инициативе одиночки, которая у героев рыцарских романов ограничивается только их собственным чувством меры. Мириться с этими прозаическими истинами трудно. И вот рыцарские романы теснят прочую литературу на книжных полках; старая и новая аристократия бьется на турнирах с азартом, какого не знало Средневековье; оружие и доспехи являют собой произведения искусства, создаваемые по эскизам придворных художников и с удовольствием изображаемые в качестве атрибутов и аксессуаров в живописи.
И на войну предпочитают смотреть эстетически, как на спектакль. «Не говорю об истреблении хлебов, не говорю о том, как пьяные солдаты разбивали винные бочки и вино разливалось по подвалам, превращавшимся в озера, не говорю о том, как они уводили скот на продажу в другие области, если не могли съесть его на месте, о том, как бесчисленное количество трупов животных валялось на полях и досталось на съедение волкам» [26]. Этот великолепный пассаж из уже цитированного нами текста Гвиччардини отнюдь не похож на репортаж с места событий. Скорее это дальний план аллегорической картины на тему «Бедствия войны», патетическая панорама театра военных действий с подразумеваемой фигурой Марса на переднем плане. Итальянские войны — театр войны с ударением на слове «театр», грандиозный «турнир», который затягивается на 65 лет, потому что его участники понимают: так они красуются в последний раз. Прекрасная дама Италия, мать всех искусств, родина красоты и утонченной жизни, смотрит на могущественнейших монархов христианского мира. Кому достанется ее благорасположение? Королю? Императору? А может быть, папе?
Кастильоне не боится упрека в абсурде, утверждая, что идеальный придворный должен отказываться даже от важных, сопряженных с опасностью и самопожертвованием задач, если они некрасивы и бесстильны; и не долг сам по себе побуждает его участвовать в войне, а честь. Зачем же государям быть прагматичнее придворных? Война на Севере — событие местного значения. А в Италии за спинами главных действующих лиц стоят тени Пирра и Ганнибала, Сципиона и Цезаря, Карла Великого, Роланда и Амадиса Гальского. Мотивы чести и престижа противоречат соображениям выгоды, но еще выше может оказаться красота поступка, которую по достоинству оценят искушенные свидетели.
Сколь бы ни были испанцы и итальянцы прагматичны, даже циничны в способах ведения войны, порой и они проявляют себя истинными рыцарями. В 1552 году восставшие сиенцы принуждают испанский гарнизон очистить город. «Синьор дон Франсезе... — говорит один из них капитану, выходящему из городских ворот последним. — Теперь ты мой враг, но объявляю тебе, что ты поистине достойный рыцарь и что, кроме того, в чем был бы вред для республики, я, Октаво Соццини, останусь навсегда во всем твоим другом и слугой!» Тот смотрит на него со слезами на глазах и обращается к собравшимся на стенах сиенцам: «Храбрые жители Сиены, вы еще раз совершили славный подвиг, но берегитесь же, ибо вы оскорбили очень могущественного человека!» Речь идет о Карле V. Через три года, взяв Сиену измором, испанцы уничтожат ряд башен сиенских палаццо, но невольное уважение победителей к мужеству осажденных спасет город от полного разорения.
Итальянские войны не могли быть восприняты современниками как трагедия Возрождения. Они воспринимались как войны ренессансного мира.
Возрождение Рима после Sacco di Roma — заслуга Алессандро Фарнезе, представителя старинного аристократического рода, избранного папой в 1534 году под именем Павла III. Ему 66 лет. Образованность и вкус, приобретенные им в молодости в окружении Лоренцо Великолепного и в Пизанском университете, сочетаются в нем с предприимчивостью и талантом организатора. Будучи еще кардиналом, Фарнезе окружил себя учеными и писателями, центром деятельности которых была Ватиканская библиотека. Он друг Римского университета и энтузиаст издательского дела, щедрый покровитель художников и архитекторов. Антонио да Сангалло, затем Микеланджело строят для него дворец, который станет образцом ренессансных княжеских палаццо. В 1536 году, после того как триумфальное шествие Карла V не смогло подняться на Капитолий из-за запущенности священного холма, Павел поручает Микеланджело украсить это почитаемое место архитектурным ансамблем. Туда переносят конную статую императора Марка Аврелия. Обновляют Пантеон, выравнивают и расширяют римские улицы, разбивают новые площади. Сменив Сангалло на строительстве собора Св. Петра, Микеланджело предлагает папе свой проект — и тот принимает его. В недрах папской римской монархии восстанавливается Римская империя [27].

Парис Бордоне. Праздник вручения дожу кольца св. Марка. 1534
Но Рим слишком много выстрадал, чтобы снова, хотя бы и при таком папе, каков Павел III, превратиться в веселый и беспутный Рим времен Льва X. В том, что верховный понтифик одобряет беспощадную критику, которой Микеланджело подвергает всё сделанное до него на строительстве собора, и санкционирует возвращение к центрическому плану, требующему разборки уже возведенных Сангалло частей, видна метафорическая параллель затеянной папой реформы Церкви: за год до начала реконструкции собора Св. Петра, в 1545 году, приступает к работе Тридентский собор.

Тициан. Портрет Павла III. 1543
До его созыва Павел III назначает новыми кардиналами только энтузиастов церковной реформы. Некоторые из них заседают в созданном им Консилиуме об обновлении Церкви. «Мы успокаиваем нашу совесть надеждой на то, что под Вашим понтификатом увидим Церковь Божию исправленной, — говорится в отчете Консилиума. — Вы взяли имя Павла. Мы надеемся, что Вы будете подражать его милосердию. Он был призван для насаждения имени Христа среди язычников. Вы, мы надеемся, призваны для того, чтобы возродить в наших сердцах и делах это имя, так долго забытое среди мирян и среди нас, духовенства» [28].
В 1541 году Павел III по приглашению Карла V посылает кардинала Контарини легатом на Регенсбургский рейхстаг. Контарини и Меланхтон приходят к согласию. Но Павел III и Лютер отказываются признать взаимные уступки Контарини и Меланхтона. В умонастроении Павла III происходит переворот. Чтобы устоять в борьбе с протестантами, ему необходим не компромисс, а безусловное повиновение верующих папскому авторитету. Свободомыслие грозит ересью, а потому должно быть уничтожено. Начинается Контрреформация [29] — реставрация католицизма на основе авторитета папства средствами репрессивной политики. В 1542 году папа учреждает в Риме Священную канцелярию — высший апелляционный суд по делам, связанным с ересью, который призван осуществлять надзор за инквизицией. В следующем году вводится цензура на печатную продукцию. Начинается преследование «евангелистов». Веротерпимость дольше всего сохраняет Венеция, следующая давнему правилу: не позволять Церкви возвыситься над светской властью.

Мартин ван Хемскерк. Строительство собора Св. Петра в Риме в 1534
Ничто не характеризует ситуацию лучше, чем поощрение Павлом III деятельности иезуитов. Вначале эти люди, объединившиеся вокруг Игнатия Лойолы, учившего следовать бедному и страдающему Христу с горячим сердцем, но холодной головой, сочетая истовое благочестие с военным уставом, не вызывали у папы симпатии. Санкционировав в 1540 году «Компанию Иисуса», он запретил им иметь более шестидесяти членов. Но после расторжения Регенсбургского компромисса Павел III возложил на иезуитов главную роль в осуществлении католической реформы. Они стали действовать по его прямым приказаниям, получив неограниченное право вербовки в свой орден. Они обращали язычников, возвращали заблудших, но главной их задачей было давать образование. «Дайте мне мальчика семи лет, и он будет моим навсегда», — сказал св. Игнатий. Все считали, что иезуиты придерживаются тактики «цель оправдывает средства». Несмотря на вызываемые ими страх и неприятие, они легко проникали во все слои общества в качестве педагогов, духовников, советников знати и самого папы. Орден стал очень влиятельной религиозной и политической силой [30].
Тридентский собор, проходивший тремя сессиями в 1545–1547, 1551–1552 и 1562–1563 годах, был тем Вселенским собором, о созыве которого давно уже молились церковные реформаторы. Собор выработал учительные определения и организационные структуры, позволившие Католической церкви выжить в условиях вызова, брошенного ей протестантами. Их возмущение безмерной гордыней, алчностью и безнравственностью, царившими в начале века в папской столице, в конечном счете оказалось стимулом к укреплению католической веры. «Есть все основания утверждать, что со стороны нравственной папство было спасено своими смертельными врагами» [31].
Духовным лицам и профессорам университетов всей Европы вменено в обязанность присягнуть «Тридентскому вероисповеданию», утвержденному буллой Пия IV от 26 января 1564 года. Этот документ прежде всего объявляет Римско-католическую церковь «матерью и наставницей всех церквей», утверждает идею иезуитов о непогрешимости папы и ставит его авторитет выше авторитета соборов.
Все догматы Католической церкви оставлены в силе. Созданный св. Иеронимом латинский перевод Библии (Вульгата) утвержден в качестве канонического. Только Церковь может толковать Священное Писание. В качестве источника истины в вопросах веры принято также церковное предание. Сохранены традиционные взгляды на первородный грех, на искупление и заслуги. Отвергнуты протестантские толкования пресуществления в таинстве евхаристии. Единственным видом причащения мирян оставлено вкушение гостии. Больше внимания уделено чудотворному характеру таинств, культу Девы Марии, заступничеству святых, а также отвергаемым протестантами сторонам культа: почитанию реликвий мучеников и святых и использованию образов. Принята единая форма мессы. Выдвинуто требование регулярной исповеди как знака подчинения Церкви. Утверждается безбрачие духовенства, присяга на верность папам, детализированы правила и система наказаний.

Тициан (?). Заключительное заседание Тридентского собора в 1563
Тридентский собор привел западное христианство к окончательному расколу. Дух католического фанатизма проявился в создании новых монашеских организаций, в аскетизме, в появлении новых подвижников Церкви — таких, как архиепископ Миланский кардинал Карло Борромео и основатель римской конгрегации ораторианцев св. Филиппо де Нери. Путем создания структур контроля за «вольнодумием», за образованием, за распространением знаний, за пропагандой Церковь монополизирует любую деятельность в области веры — от наблюдения за умами духовенства до религиозно-философской мысли вообще. Авторитет духовенства в толковании вопросов веры возрастает по мере того, как утверждается представление о человеке как о наивном, невинном и полном веры ребенке, доверяющем свою судьбу Богу и уповающем на его милосердие. Строгая регламентация религиозной жизни и принуждение верующих к коллективным акциям — участию в паломничествах, церемониях и процессиях — способствуют преобладанию внешнего конформизма, показного благочестия при внутреннем равнодушии. В спасении души собственные нравственные усилия человека обесцениваются упованием на чудо. Протестантские теологи указывали на то, что Тридентский собор пренебрег этическими вопросами, не дал католикам столь действенного морального кодекса, каким были вооружены протестанты.
Приоритеты в деятельности папства постепенно изменяются. Вместо того чтобы держаться за светскую власть в Папской области, существование которой непрочно, ибо всецело зависит от более или менее удачного лавирования пап между интересами могущественных держав, папство принимает доктрину иезуитов: Рим возлагает на себя миссию помощника любой католической державы. А чтобы этой помощью дорожили, надо господствовать не над землями, а над умами, над волей и сознанием каждого человека. Христос учит: «...Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21).
Несмотря на ригоризм «Тридентского вероисповедания», так испугавший некоторых католических монархов, включая Филиппа II Испанского, что они свели на нет публикацию этого документа в своих странах, оно никоим образом не враждебно искусству. Утвержденное на последнем заседании Собора «Установление о заступничестве святых, молении, почитании реликвий и надлежащем употреблении изображений» было призвано в первую очередь ответить на обвинение в идолопоклонстве со стороны протестантов. Поручая искусству важную роль в почитании Бога, Церковь оставалась верна изобразительной традиции Средних веков и Возрождения и тем самым настаивала на своем неприятии еретического иконоборчества протестантов. Кроме того, она позаботилась об удержании христианского искусства в границах ортодоксии и о его благопристойности [32]. Подспорьем для составителей программ и художников явился Список запрещенных книг [33].
Переориентация папства с политики укрепления своей светской власти на программу строительства Царства Божьего в человеческих душах поставила перед религиозным искусством новую задачу: вместо того чтобы утверждать легитимность папской власти и служить ее триумфальным художественным обрамлением, искусство должно стать инструментом душевной инженерии. Опираясь на положения Цицероновой риторики, Тридентский собор потребовал, чтобы произведение церковного искусства трогало, поучало и доставляло удовольствие (movere, docere, delectare) [34].
Во Флоренции убийство герцога Алессандро прерывает линию наследования, шедшую от Козимо Медичи Старшего. На место нового герцога патриции ищут такую фигуру из младших Медичи, которая стала бы послушным орудием в их руках. Выбор падает на восемнадцатилетнего Козимо, сына знаменитого кондотьера Джованни делле Банде Нере. Бедного застенчивого юношу никто из местных политиков не воспринимает ни достойным соратником, ни серьезным противником. Но он находит поддержку у бюрократов из окружения покойного Алессандро. Фортуна ему благоволит: его отряд наносит поражение республиканцам-изгнанникам. Победа сопровождается конфискациями, казнями и воспринимается флорентийскими гражданами как знак способности Козимо самостоятельно принимать правильные решения. Флоренция готова наконец поставить благополучие выше политики и мистических упований. Это позволяет молодому герцогу сосредоточиться на четырех целях: на освобождении герцогства из-под императорской опеки, на укреплении новой управленческой элиты, на более тесной интеграции Флоренции с ее тосканскими владениями и на мифологизации правления Лоренцо Великолепного как «золотого века» Флоренции. Современники всё лучше видят, что у Козимо подвижный и цепкий ум, многообразные познания, феноменальная память и фантастическая работоспособность.
Пока прелаты заседают в Тренто, Козимо I перековывает свой флорентийский принципат в «региональную монархию» [35]. Собранность натуры герцога, его страсть к ведению всевозможной учетной документации, его умение вникать в детали всякого дела служат примером каждому, кто хочет участвовать в принятии решений. Его поддерживают уже и патриции, готовые пожертвовать клановыми интересами ради работы на благо государства. Благодаря активному участию в уничтожении испанцами независимости Сиены Козимо в 1557 году совершает крупнейшее территориальное приобретение, когда-либо единовременно осуществленное Флоренцией: откупает у Филиппа II Сиену и бóльшую часть ее контадо (владений). Он создает в Тоскане систему укреплений, строит дороги, водопроводы и осушительные каналы, воспринимая свои владения как целое, а не как господствующий над округой город-государство, каким была Флоренция прежде. И вот он уже слывет самым богатым государем в Европе. Демонстрируя нераздельное экономическое и политическое единство Флоренции и всей Тосканы, Козимо принимает в 1569 году от Пия V титул великого герцога Тосканского.
Все, что Козимо делает с присущими ему целеустремленностью и «буржуазной» тяжеловесностью [36], должно служить вящей славе дома Медичи. Не испытывая личной склонности ни к литературе, ни к изящным искусствам, он хочет, чтобы в нем видели настоящего Медичи не только по крови, но и по вкусам. Во Флоренцию съезжаются известные литераторы, философы, проповедники. Покровительством Пизанскому университету, а также основанной в 1540 году Флорентийской академии и Академии рисунка, образованной в 1563 году по инициативе Вазари (сам герцог и Микеланджело — ее почетные председатели), как и сравнениями в ангажированных «историях» правления Козимо I с правлением Карла V и Франциска I, — всем этим подтверждаются идеи легитимности абсолютистского режима Медичи. Любя по-настоящему только охоту, войско и канцелярские дела и имея, по словам Челлини, «обычай скорее купца, чем герцога», Козимо I тратит большие деньги на украшение своей столицы, обеспечивая работой зодчих, ваятелей, живописцев: Понтормо, Бронзино, Амманати, Бандинелли, Челлини, Монторсоли, Вазари, Буонталенти, Аллори. Что бы ни создавали они по его заказам — мост Санта-Тринита или фонтан Нептуна, Уффици или набережные Арно, реконструированный палаццо Веккьо или превращенный в резиденцию герцога палаццо Питти, сады Боболи или обновленные виллы в Кареджи, Кастелло и Поджо-а-Кайано, — все делается с желанием поразить современников. Когда Челлини, окончив «Персея», открывает его на всеобщее обозрение в Лоджии деи Ланци, герцог, спрятавшись за окном палаццо Веккьо, часами подслушивает пересуды толпы и только после этого, удовлетворенный, хвалит Бенвенуто [37].
Ущемленное недостаточно высоким происхождением самолюбие герцога заставляет его не только множить собственные изображения в образе благородного и победоносного правителя, написанные красками, отлитые в бронзе, запечатленные на медалях, но и заполнять свою гардеробную, кабинет редкостей и апартаменты палаццо Веккьо бесчисленными портретами представителей дома Медичи, чтобы подчеркнуть преемственность своей власти от старших Медичи. Он умело использует пассеистское умонастроение, возникшее во Флоренции после антимедичейского и тем самым антигуманистического бунта Савонаролы, — идеализацию времени правления Лоренцо Великолепного. Катастрофа республиканской Флоренции в 1528–1530 годах только усилила это умонастроение. Деятельностью академических учреждений под покровительством Козимо I пассеистский взгляд превращается в систематически насаждаемый государственный миф.
В беседе с Вазари по поводу множества персонажей, изображенных вокруг Лоренцо Великолепного на фреске в палаццо Веккьо, герцог заметил, что Флоренция никогда не была так богата «искусными людьми», как при Лоренцо, и что никто из Медичи не мог сравниться с ним в щедрости, с какой он покровительствовал талантам. Подхватывая эту мысль, Вазари в жизнеописании Боттичелли назвал времена Лоренцо Великолепного «золотым веком».

Бронзино. Портрет герцога Козимо I Медичи. Ок. 1545
Не забывая, что народ хочет хлеба и зрелищ, герцог разнообразит календарь Флоренции многочисленными праздниками, связанными с текущими и минувшими событиями в жизни правящего дома и во все большей степени отражающими вкусы двора, поскольку их устройство зависит от отпускаемых герцогом средств. Неудивительно, что и самому Вазари Флоренция кажется «такой же полной художественными свершениями и предчувствиями, такой же неиссякаемой, неисчерпаемой и вечно длящейся, какой мы готовы представить себе лишь Флоренцию Козимо Старшего и Лоренцо Великолепного» [38].
Жена герцога Козимо Элеонора Толедская, дочь неаполитанского вице-короля, налагает на придворный уклад испанскую печать. Молчаливые, надменные, презрительные испанцы занимают придворные должности, постепенно прививая свои нравы, свою замкнутость, свой строгий этикет, свою жестокость верхушке тосканского общества. Но не будем спешить с обобщениями и видеть в придворной культуре Флоренции или в ее испанизированных чертах антиренессансную реакцию. Вероятно, нигде взаимодействие старого и нового не могло проявляться так ярко, как при дворе, который, с одной стороны, демонстрировал перед подданными верность «добрым старым традициям», а с другой — нуждался в эффектных новшествах. Упреждая культурную политику монархов XVII столетия, герцог Козимо I одним из первых среди европейских государей сумел придать идеологии абсолютизма художественное великолепие.

Джорджо Вазари. Лоренцо Великолепный в окружении философов и ученых. Фреска в палаццо Веккьо во Флоренции. 1559
В последние десять лет жизни Козимо I отходит от дел из-за болезни. Тосканой фактически правит его старший сын Франческо. В 1574 году он наследует герцогство. О его интересах можно составить некоторое представление по записи Мишеля де Монтеня в путевом журнале 1580 года: «Мы видели дворец герцога, где он копирует восточные камни и делает искусственный хрусталь: так как это Князь, весьма старательный в занятиях алхимией и механическими искусствами» [39]. Эзотерические опыты герцога магически соотносятся с его интимной жизнью. В 1579 году, когда завершается украшение аллегориями стихий «студиоло» Франческо в палаццо Веккьо, внезапно умирает его жена Иоанна Австрийская, открывая путь к трону его любовнице Бьянке Каппело, чей муж погибает незадолго до этого. У Франческо и Бьянки нет сыновей. Законным наследником остается брат герцога, кардинал Фердинанд. Бьянка притворяется беременной и симулирует роды, взяв где-то новорожденного мальчика низкого происхождения и выдав его за своего. Мать ребенка и все знающие об этом уничтожены. Ненавидя друг друга, Фердинанд и Бьянка иногда вступают в перемирие. В 1587 году герцог приглашает брата в гости на виллу в Поджо-а-Кайано. Во время интимного ужина герцогиня настойчиво угощает гостя пирожным, изготовленным в знак внимания к нему ее собственными руками. Тот отказывается. Герцог, шутя, съедает кусок пирожного, герцогиня, улыбаясь, съедает свою долю. Вскоре оба умирают в мучениях. Люди кардинала не пускают в комнату доктора. На другой день кардинал Медичи становится правителем Тосканы Фердинандом I. Правление его благодетельно: он поддерживает традиции меценатства, заботится о земледелии и торговле, облегчает налоги и мирно правит до своей смерти в 1609 году.

Джорджо Вазари. «Студиоло» герцога Франческо I Медичи. 1570–1573

Неизвестный художник. Устройство, облегчающее подачу книг ученому. 1588
После Като-Камбрезийского мира и Тридентского собора Европе легче сплотиться в борьбе против турок. В 1571 году, когда они нападают на Кипр, Венеция, Филипп II Испанский и Пий V создают новую Священную лигу. На рейде Коринфского залива, при Лепанто, флот Священной лиги — 208 галер под командованием Дона Хуана Австрийского — дает грандиозное сражение турецкому флоту (210 галер и множество поддерживающих их мелких судов). У турок погибает тридцать тысяч человек, у христиан — девять тысяч. Многие турецкие галеры идут ко дну, 117 кораблей победители уводят с собой. Но в течение года с верфей Стамбула сходит на воду почти столько же галер, сколько турки потеряли при Лепанто [40]. Из-за неспособности победителей прийти к согласию друг с другом турки захватывают Кипр.

Джованни Страдано. Алхимики. Картина в «Студиоло» Франческо I Медичи. 1570
В 1581 году в Ферраре, истощенной утехами герцогского двора до такой степени, что ее широкие прямые улицы зарастают травой, потому что многие дома на них уже пусты, выходит в свет «Освобожденный Иерусалим» последнего великого поэта итальянского Возрождения Торквато Тассо. Тема Первого крестового похода переплетена в ней с приключениями рыцарей, многие мотивы которых заимствованы из «Неистового Роланда» Ариосто. Но у Тассо все контрастно по отношению к Ариосто: и идея Божественного промысла; и злободневный призыв к сплочению Запада для отражения турок; и изображение рыцарских деяний как религиозных, а не любовных подвигов; и осознание того, что невозможно отвоевать Гроб Господень доблестью отдельных рыцарей — необходим подвиг христианского воинства, скрепленного нравственным превосходством над сарацинами, аскетическим самоограничением каждого рыцаря, чувством долга, дисциплиной; и, наконец, то, что война изображается без зрелищных красот начала века, но как «кровь и пот». Симптоматично для конца Возрождения, что поэму публикуют вопреки воле Тассо, отрекающегося от нее как от сочинения еретического, и что вторую ее редакцию, «Завоеванный Иерусалим», Тассо превращает в поэтическое выражение идей Блаженного Августина и св. Фомы Аквинского. В 1598 году герцогство Феррара перестает существовать, будучи включено в состав папских владений. Рим торжествует: его противники д’Эсте вынуждены удалиться в Модену.
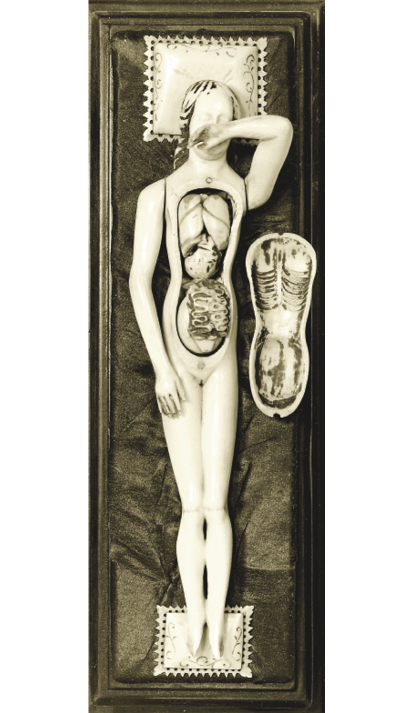
Анатомическая фигура из слоновой кости. Конец XVI в.
Единственным понтификом второй половины XVI столетия, который мог бы соперничать с Павлом III размахом преобразовательной деятельности в Риме, был Сикст V — сын крестьянина, францисканский монах, один из величайших проповедников своего времени и большой знаток схоластической науки и римской литературы, избранный в 1585 году благодаря поддержке Медичи. Символ своей миссии он видит в воздвигнутом Микеланджело куполе собора Св. Петра: устремляться к небу, не покидая земли. Сикст V улучшает систему церковного управления и судопроизводства, ограничивает расходы на содержание папского двора, держит в отдалении от себя иезуитов и проявляет умеренность в заботах о родственниках. Он уничтожает бандитов в Папской области и создает собственный флот для борьбы с пиратами. Сикст V рассекает средневековые кварталы Рима прямыми улицами, расходящимися трезубцем от обелиска на нынешней Пьяцца дель Пополо; водружает обелиск перед собором Св. Петра; возводит Святую лестницу, равную той, по которой Христос шел на суд Пилата; сооружает водопровод Аква Феличе и фонтаны, украшает город множеством монументов, строит великолепное здание Ватиканской библиотеки, основывает типографию для издания трудов церковных писателей. Симптомом конца Возрождения является его отношение к астрологии: если Юлий II советовался с астрологами о дне коронации, а Лев X основал кафедру астрологии в Римском университете (аналогичные кафедры существовали в Падуе, Болонье и Париже), то Сикст V запрещает астрологию, а заодно и всю практическую магию. Бурная деятельность папы требует огромных средств. Он утяжеляет бремя налогов, продает в беспрецедентных масштабах церковные должности, прибегает к огромным займам. Усугубляется и без того тяжелое финансовое положение курии. В 1590 году, услышав о его смерти, римский народ, ожесточенный тяжестью налогов и подстрекаемый иезуитами, низвергает статую, воздвигнутую ему сенатом на Капитолии.

Паоло Веронезе. Аллегория битвы при Лепанто. 1572 (?)
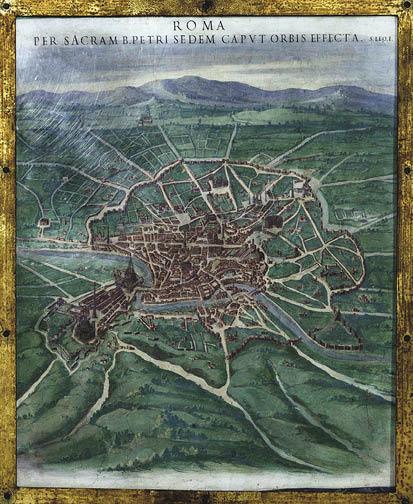
Вид Рима на фреске в Галерее географических карт в Ватикане. Ок. 1580
На совести последнего папы XVI века Климента VIII лежит мученическая смерть доминиканского доктора теологии Джордано Бруно, вернувшегося в Италию в надежде на покровительство понтифика. В руки инквизиторов Бруно попадает в Венеции по доносу своего ученика. Бруно обвинен в ереси. Восемь лет его держат в тюрьмах в Венеции и Риме, подвергая допросам и пыткам.
Возрождение приходит к самоотрицанию в «философии рассвета» Бруно и в страшной казни, уготованной ему Римской церковью. Бруно строит свою космологию, опираясь на неоплатоническую традицию Возрождения. Но он заходит в своих выводах так далеко, что ни в его представлении об одушевленности природы, ни в его картине Вселенной как множества самодостаточных звездных миров, образующих бесконечную совокупность в бесконечном пространстве, ни в его мысли о возможности разумной жизни на других небесных телах не остается места традиционному ренессансному антропоцентризму. Земной человек заменен фантастической фигурой всемогущего мага-мудреца, имеющего власть над звездами и формирующего стихии.
В этике Бруно исходит из ренессансного неприятия религиозного аскетизма и из ренессансного представления о достоинстве человека, обеспечиваемом не благородством происхождения, а личной доблестью. Но в его концепции «героического энтузиазма» идеальный человек, способный посредством магического акта принять в себя бесконечную Вселенную и расширить себя до ее пределов, решительно перевешивает человека реального. В этой концепции нет места ни ренессансному наслаждению радостями земной жизни, ни озабоченности личной выгодой, ни здравого социального инстинкта взаимополезности обычных («пресных», по выражению Бруно) людей.
Его гносеология продолжает традицию возрожденческого свободомыслия, но в отрицании Бруно исторической обусловленности настоящего прошлым и в его отказе от ссылок на авторитет любого, сколь угодно великолепного и знаменитого, мужа не остается места пафосу гуманизма, пронизанного ощущением течения времени и жившего «воспоминанием» античного знания и мудрости.
Неприятие и осуждение учения Бруно Климентом VIII и его окружением — это защитная реакция обыденного ренессансного сознания на экстремальные выводы философа-мага, которые воспринимаются противниками как извращение истин о месте человека в природе, обществе и истории. Но в их карающем усердии жестокость выходит за пределы пресловутого ренессансного аморализма. Было немало жестокого и в прежней итальянской истории. Однако такими злодеями, как Висконти, Малатеста или Чезаре Борджа, руководила страсть, все равно какая — любовная или политическая. Но когда в центре католического мира держат восемь лет за решеткой, а затем заживо сжигают на костре католика, не отрекающегося от Бога; ученого, философа, богослова, который вел диспуты в Женеве и Камбре, читал курс философии в Тулузе и Париже, Оксфорде и Виттенберге, издавал свои сочинения в Париже, Праге и во Франкфурте; человека с европейским именем, которым Италия должна была бы гордиться, — это не пароксизм страсти, а методично проведенная в назидание всей интеллектуальной Европе пропагандистская акция.
Это трагическое событие происходит в последнем году Чинквеченто — 1600-м. В Италии есть еще люди, обладающие ренессансной энергией, предприимчивостью, пытливостью. Портные и фармацевты, чулочники и мельники все еще создают литературные, научные и философские сочинения, проникнутые гуманистическими идеями. Торговцы и вельможи еще собираются вместе на заседаниях академий и обсуждают проблемы языка и философии, искусства и науки.
Но к концу века жизнь замирает в равновесии, складывается в стабильные формы, становится привычной. Всякого рода борьба: за господство в Италии, за абсолютную власть, за правильную веру, за чистоту Церкви — все это уже не ново. Нов лишь итог: усталость от свободы индивидуального поступка и желание жить благополучно и по регламенту. Обильная еда и дорогая одежда, дворец и вилла, огромное приданое, толпа ливрейных слуг, роскошная карета — предел мечтаний каждого, кто хочет и может разбогатеть в еще сохраняющем вертикальную мобильность обществе. Все увлечены составлением генеалогических древ, доказывающих древность происхождения.
Молодежь из патрицианских семей не хочет уступать сверстникам из дворян в рыцарской доблести, а образумившись, каждый ищет почетной должности при дворе государя, где заведен четкий испанский этикет. В такой атмосфере свобода поступка сменяется внутренней свободой цинического ума. Цинического — потому что конкретный жизненный опыт, насыщенный амбициями, корыстными желаниями, суеверными страхами, пристрастиями и привычками, отлично уживается посредством умственных уверток, лицемерно-учтивых масок и ритуальных жестов с моралью, нацеленной на спасение души. «Время приобретать прошло, пора сохранять приобретенное» — эта формула идейного вождя контрреформационных политических мыслителей Ботеро в его трактате 1589 года «Государственный интерес» звучит как отходная по Ренессансу. В эпоху прочных государственных границ и законного наследования власти, в эпоху кристаллизации политических структур апология индивидуальной экспансии воспринимается уже как анахронизм [41]. Наивному Бруно с его «героическим энтузиазмом» не оставалось места в регламентированной жизни Нового времени.
На Кампо деи Фьори трещит костер под нераскаявшимся еретиком из Нолы, а на расстоянии одного лишь квартала, в галерее палаццо Фарнезе, высятся леса, построенные для Аннибале Карраччи, выполняющего по заказу могущественного кардинала Одоардо Фарнезе, внука Павла III, роспись плафона с откровенно эротическими сценами из жизни олимпийских божеств — эффектный контраст к строгому регламенту аудиенций кардинала. Разумеется, в день казни художник, не говоря уж о его клиенте, — на Кампо деи Фьори. Это финальная сцена Возрождения.
* * *
В знаменитом трактате «Государь» Макиавелли изучает политическую практику итальянских тиранов как способ правления, с помощью которого якобы можно добиться единства и независимости Италии. Нет ничего общего между частной и гражданской нравственностью. Нет такого преступления, которое не было бы оправданно, если оно пошло на пользу государству, персонализированному в лице единовластного государя. Аргументация Макиавелли пронизана примерами из Античности. Мечтая о возрождении величия и славы Древнего Рима, Макиавелли смотрит на христианскую нравственность с сожалением и презрением, так как она, по его убеждению, повинна в ослаблении гражданской доблести.
Макиавелли замечает, что государь, как и всякий человек, действует по своей воле в меру отпущенной ему доблести. Успех зависит также от фортуны, то есть от природных склонностей человека и от инерции движения по более или менее удачно выбранному пути. Природные склонности — это то, в чем человек близок зверю. Макиавелли хочет, чтобы государь уподобился льву и лисе. «Лев боится капканов, а лиса — волков, следовательно надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам» [42]. Выигрывает тот, у кого лисья натура. Государю нет необходимости быть прямодушным и честным, но он должен казаться средоточием этих добродетелей.
Историю Макиавелли понимает как результат индивидуальной формообразующей деятельности, тем самым (может быть, неосознанно) сближая ее с художественной практикой. Ведь «являться в глазах людей» — то же самое, что изображать себя, работая над собой так, как художник работает над произведением. Возможно, охудожествлением тактики «нового государя» Макиавелли обязан Аристотелю, согласно которому вещи можно изображать «так, как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть». Изображать людей «так, как они были или есть» — значит показывать их или «хорошими» (добродетельными), или «дурными» (порочными) [43]. Почти буквально повторяя аристотелевские формулировки, Макиавелли переносит их из художественного творчества в творчество политическое.
«Новый государь» порочен — такова уж удачливая лисья натура. Предъявлять подданным правдивый автопортрет для него самоубийственно. Аристотель предлагает ему две другие возможности: создавать добрую молву о себе и соответствовать мифическому образу идеального государя. Надо, чтобы подданным ты постоянно казался человеком мужественным, щедрым, справедливым, удачливым, благочестивым. Кроме того, надо постоянно убеждать их в том, что ты — любимец богов.
А если государь по натуре лев? Выглядеть львом не так рискованно, как выказать лисью натуру. Но открытость, какую львиная натура может позволить себе без ущерба для государства, имеет свои пределы. Лев страшен, самоуверен, неосмотрителен. Признать его силу добродетелью можно лишь с оговорками. Лев по природе ни щедр, ни справедлив. Значит, и для львиной натуры жизненно важно различие между «являться» и «быть».
Проходит два десятка лет, уже нет в живых автора «Государя», но вот Климент VII в разговоре с кардиналом Контарини словно цитирует Макиавелли: «Мир пришел в такое состояние, что кто более лукав и более изворотливо обделывает свои дела, того больше хвалят, считают более достойным человеком и больше прославляют, а кто поступает наоборот, про того говорят, что хотя человек он хороший, а цена ему грош» [44]. Желаемое стало действительным — мог бы резюмировать Макиавелли, будь он жив.
Его политическая философия имела прямое отношение к искусству Чинквеченто. Художники — специалисты в деле первостепенной важности, в создании того, что мы назвали «автопортретом» государя, то бишь государства. Если государю нет нужды быть добродетельным, но необходимо таковым казаться, то с какой стати художники будут показывать других людей такими, каковы те «на самом деле»? Важно лишь, чтобы облик любого персонажа, помимо легкости узнавания, доставлял эстетическое удовлетворение [45]. В Италии XVI века нет и не могло быть искусства, которое изображало бы людей львиной породы простаками, не замечающими капканов, а людей лисьего нрава — лицемерами, не прикрытыми масками милосердия, доброты, верности, человечности, благочестия.

Пьеро ди Козимо. Строительство дворца. 1515–1520-е
Различие между «являться» и «быть» оказывается актуальным в жизни и в искусстве как раз в то время, когда в Италии особенно быстро расширяется сфера театра — по существу, лицедейства. Чем горше и обманчивей жизнь, тем сильней и настойчивей героизируется образ человека. Героическим почитают теперь любое превышение обычной меры человеческих сил и возможностей. Героическая доблесть — все, что удивляет энергией, мощью, искусностью или необычностью. На каждом шагу встречаются выражения «сверхчеловеческий», «бессмертный», «божественный», «великий», «величественный», «высший», «возвышенный», «грандиозный», «торжественный», «роскошный», «пышный», «гордый», «триумфальный», «исключительный», «превосходный», «знаменитый», «доблестный». Эти слова относят к домам, мебели, одежде, к любым проявлениям человеческой жизни — от «великолепного завтрака» до «роскошных похорон». Проявляющаяся в этой лексике любовь элиты к декору, возвышенности, монументальности определяет собой формы общения, предметы обихода, литературу [46]. В ренессансной Италии, этой «стране мощнейших развратников и величайших насмешников» [47], героический профиль на аверсе медали, звенящий древнеримской или рыцарской доблестью, не имеет ничего общего с тем же самым человеком на реверсе. Впрочем, второе лицо предпочитают скрывать.

Никколло дель Аббате. Игра в Таро. Ок. 1550
Другой полюс тотальной театрализации жизни — нищие. Поднятый папами престиж католической столицы сделал ее привлекательной для богачей и знати со всего света, а нищим имеет смысл быть только там, где есть у кого просить, как актерам стоит играть только на публику. Священник Фатуччи писал в 1601 году: «В Риме ничего не видно, кроме нищих, и они так многочисленны, что невозможно пройти по улице, не будучи при этом окруженным ими со всех сторон». Как-то раз стражники арестовали в церкви Сан-Джованни Спаньуоло, на площади Навона, юношу, просившего милостыню во время мессы. Сохранилась запись допроса, на котором пятнадцатилетний профессионал рассказал о тайных объединениях римских нищих: «сбазити», растянувшись на земле, стонут и жалуются, как больные; «бароны», изображая бедных безработных, попрошайничают стоя и в добром здравии; «гуитти», скорчившись на земле, умирают от холода; «гонси» притворяются сумасшедшими; «рабурнати» — лунатиками; «бриши» бродят голыми; «трабокки» изображают расслабленных; «абетолини» — беженцев из турецкого плена; «фамиготти» — ограбленных солдат; «бистольфи» просят в одежде священников; есть еще «бедняги, ограбленные бандитами», а также больные пляской св. Витта [48].
Настольной книгой всякого образованного итальянца становится изданный в 1558 году трактат «Галатео, или Об обычаях» флорентийского аристократа, епископа и поэта Джованни делла Каза. Черпая примеры из «Декамерона», он с неподражаемым остроумием дает наставления в правилах хорошего тона, предназначенных, в отличие от книги Кастильоне, не для придворных, а для культурного общества вообще. Симптоматично само по себе появление такого адресата, не распыленного по отдельным придворным кружкам, но образующего слой общества, интегрированный в масштабах целой страны. В трактате, который еще до конца века будет переведен на другие европейские языки, описан комплекс условностей, соблюдать которые должен всякий человек с хорошими манерами. Главное достоинство человека, согласно делла Каза, — самообладание, проявляющееся в сдержанности, ибо «наши манеры приятны тогда, когда мы хлопочем не о своем, а о чужом удовольствии». В сравнении с прежними этикетными руководствами наставления делла Каза четче очерчивают сферу приватного. За столом лучше есть из своей тарелки, а не с общего блюда; сидеть надо на стуле, а не на общей скамье. «Не советую протягивать другому бокал, из которого сам отпил... Еще менее посоветую угощать соседа грушей или каким бы то ни было плодом после того, как сам его надкусил» [49]. Может создаться впечатление, что современники делла Каза уже не опасались быть отравленными. Но история гибели герцога Франческо Медичи и Бьянки Каппело показывает, что этикет был такой же идеализацией действительного положения вещей, как и другие формы культуры Чинквеченто.

Джироламо Романино. Званый ужин в замке Мальпага. Ок. 1527

Пьерфранческо Фоски. Благочестивая семья. Ок. 1545
Культурная элита регламентирует внешнюю жизнь условностями, чтобы не дать захлестнуть себя страстям. Точно так и художники пропускают непосредственные впечатления и эмоции через фильтры идеальных имперсональных форм. Целая масса жестов и движений, наполнявших живопись Кватроченто, исчезает из картин, ибо они считаются теперь слишком импульсивными. Искусство разделяет важнейшую заповедь общества: самообладание, подавление страстей, преодоление спонтанности. Большинство его мотивов — перевод на художественный язык консервативных элитарных идеалов, моральных концепций, декорума. В искусстве, как и в литературе XVI столетия, преобладает показная жизнь с религиозной, патриотической и нравственной героикой, прикрывающей житейский практицизм, моральную разнузданность, нещепетильность в достижении целей. Если крупнейшим художникам первой четверти XVI столетия еще удавалось представить миф и реальность будто бы неделимой цельностью, то, постепенно распадаясь, искусство Высокого Возрождения выделяет в качестве продуктов распада, с одной стороны, нарочитую, лишенную глубины и полнокровности, истонченную, куртуазную одухотворенность, а с другой — живой, наблюдательный, остроумный натурализм, не обладающий духовным масштабом [50]. Во второй половине века лишь избранные — старый Микеланджело, Тициан, Тинторетто, Веронезе — не подчиняются этим тенденциям.

Аннибале Карраччи. Мясная лавка. Ок. 1583

Винченцо Кампи. Семья за едой. Ок. 1578
Регламентация религиозного искусства и господство в нем риторической техники воздействия ведут к нарастанию декларативности и показного благочестия. Встревоженная этим Церковь к концу Чинквеченто уже не столько опасается извращений духа и буквы ортодоксии, сколько озабочена насущными требованиями дня — придать яркость воинствующему католицизму, захватить чувства пропагандой веры, сделать богослужение более привлекательным и превратить Церковь в блестящий и притягательный центр духовной жизни общества. Особенно заботятся о придании религиозному искусству великолепия и выразительности иезуиты. Веря в силу воздействия искусства, они настолько доверяют художнику, что готовы смотреть сквозь пальцы на его личную нравственность, а то и на веру. Они поощряют включение в церковную живопись античных мифологических персонажей, видя в этом не возврат к идолопоклонству, а торжество всеобъемлющей религии. С помощью аллегорической интерпретации они ухитряются придать нравственный смысл даже скабрезным сценам из Овидия. Во второй половине XVI столетия католические церкви до такой степени наполняются алтарями, колоннами, статуями, херувимами, позолотой, иконами, дароносицами, подсвечниками и канделябрами, что прихожанам трудно сосредоточиться на своих сокровенных мыслях. Искусство помогает священникам принуждать паству к слепой вере.

Николас Болери. Сцена из комедии дель арте. 1595–1605
Игнатий Лойола рекомендует подражать живописцам для создания «внутренних картин», на которых надо концентрировать мысль. «Напомнив историю или мотив, являющийся предметом медитации, каждое „духовное упражнение“ рисует с помощью „трех потенций“ — памяти, разума и воли — композицию, побуждающую увидеть „воображаемым взглядом“ материальную обстановку библейской сцены и, в обличье образа, пункт доктрины, постулат веры, „созерцаемый“ читателем Писания (пещеру Рождества, дом Анны или Каиафы, „юдоль“, где человек, соединение души и тела, живет изгнанником среди неразумных тварей)». В другом месте св. Игнатий предлагает внутренним взглядом обозреть «протяженность, ширину и глубину ада». Образуется галерея внутренних картин, которую молящийся денно и нощно просматривает, методично размышляя о ней и готовясь к проповеди [51].

Персонажи комедии дель арте. Ок. 1600
Италия XVI века — источник инициатив, оказывающих глубокое воздействие на искусство всей Европы. Большой стиль Высокого Возрождения и представление о гении, камерная станковая картина и тональная живопись, «идея» как движитель художественного творчества и «грация» как критерий совершенства, коллекционный рисунок и репродукционная гравюра, меценатство и художественный рынок, первые опыты систематической истории и теории искусства, новые формы обучения искусствам и художественный дилетантизм, контрреформационная программа искусства и академизм, начало барокко и, под занавес Чинквеченто, выход на сцену Караваджо — эти новшества ставят Италию в центр европейской художественной жизни.
[51] Дамиш Ю. Теория /облака/. Набросок истории живописи. СПб., 2003. С. 82. Далее — Дамиш Ю.; Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М., 1999. С. 196–199; Соколов М. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999. С. 275, 276. Далее — Соколов М. Мистерия...
[50] Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. С. 252, 374.
[38] Муратов П. П. С. 153.
[37] Челлини Б. Кн. II, гл. LIII, XCII.
[36] По замечанию Ю. фон Шлоссера, «медичейский двор (времен Вазари. — А. С.) сохранял кое в чем буржуазный отпечаток» (цит. по: Дживелегов А. Вазари и Италия // Вазари Дж. М., 1995. С. 19. Далее — Дживелегов А. Вазари...). Этот отпечаток устойчив: через сто лет анонимный путешественник замечает, что тосканский двор немного пахнет буржуазией, как и вся знать этого государства (Ролова А. Д. Итальянское общество XVI в. и специфика культуры позднего Возрождения // Культура Возрождения и общество. М., 1986. С. 101. Далее — Ролова А. Д.).
[35] Рутенбург В. И. С. 97.
[34] См.: Аверинцев С. С. Античный риторический идеал и культура Возрождения // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
[33] В 1557 г. Павел IV составил Index Librorum Prohibitorum (Список запрещенных книг), который в Ватикане не удалось согласовать. Через два года Священная канцелярия создала второй вариант. После нового пересмотра по требованию Собора лишь Тридентский список 1564 г. был принят как образец на будущие времена. Помимо списка авторов и произведений, заслуживших неодобрение Церкви (в их числе оказались не только еретические сочинения, но и проект улучшения Церкви, выработанный в 1538 г. Консилиумом, а также изданная в 1548 г. «Такса святой апостольской канцелярии» — ужасающий своей полнотой каталог преступлений с прейскурантом отпущений грехов), в списке были указаны десять критериев для вынесения суждения о той или иной книге. Список никогда не достигал своей цели, поскольку запрещенные книги всегда можно было опубликовать в протестантской стране. В 1596, 1664, 1758, 1900 и 1948 гг. он подвергался пересмотру. В 1966 г. глава ватиканской конгрегации вероучения объявил, что отменяется запрещение публикаций. К этому времени в списке было 4000 названий (Дэвис Н. С. 191–192).
[32] Приводим выдержки из «Канонов и декретов Святого и Вселенского Тридентского собора»: «Образы Христа, Богоматери и Девы и других святых должны сохраняться в церквах, в которых они сейчас находятся, и получать надлежащие почести и почитание. Но это должно происходить не потому, что в них видят божественность и силу, ради которых их почитают. Также не следует на них полагаться, как когда-то это было у язычников, которые возлагали свои надежды на идолов. Пусть это происходит скорее потому, что почести, которые им (образам) оказывают, относятся к прототипам, которых они представляют. Тогда происходит, что мы посредством образов, к которым мы прикладываемся, перед которыми обнажаем головы или преклоняем колена, самого Христа почитаем и тем святым поклоняемся, образы которых они изображают. <...> Не нужно больше рисовать и украшать образы соблазнительной красотой... Наконец, да употребят епископы так много заботливости и предусмотрительности, чтобы ничто нарушающее порядок не признавалось и ничто невежественное или бесчестное не появлялось, ибо божьему дому подобает святость» (цит. по: Бельтинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002. С. 617, 618. Далее — Бельтинг X.). «Невежественное» — в оригинале «profano», т. е. светское, мирское, неосвященное. Образы, украшенные «соблазнительной красотой», — изображения, которые могут вызвать эротические чувства.
[31] Буркхардт Я. С. 99.
[30] «В течение первых же десятилетий существования ордена иезуиты появились повсюду: от Мексики до Японии. В каждом уголке католической Европы появился иезуитский колледж: от Браганцы до Киева». Относительной близостью Киева к границе Московии объясняется то, что нигде не был столь живуч превратный образ трусливого и подлого иезуита-интригана, как в Русской православной церкви (Там же. С. 363, 369).
[29] «Контрреформация получила свое название от историков-протестантов, которые посчитали, что она возникла в оппозиции протестантской Реформации. Иначе смотрят на это явление историки-католики: они видят здесь второй этап движения за реформу, которое растянулось от соборного движения конца XIV в. до Тридентского собора» (Дэвис Н. С. 362–363).
[28] Отчет опубликован в 1537 г. Цит. по: Дажина В. Д. Радикальные религиозные движения XVI в. и маньеризм // Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997. С. 193.
[49] Каза Дж. делла. Галатео, или Об обычаях // Сочинения великих итальянцев XVI в. СПб., 2002. С. 249–251.
[48] Delumeau J. Vie economique et sociale de Rome. Vol. 1. Paris, 1960. P. 406, 407. Цит. по: Свидерская М. И. Караваджо. Первый современный художник: Проблемный очерк. СПб., 2001. С. 67, 68.
[47] Буркхардт Я. С. 308.
[46] Баткин Л. М. Проблема идеального // Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. С. 330, 331. Далее — Баткин Л. М. Итальянское Возрождение.
[45] Chastel A. Le mythe de la Renaissance 1422–1520. Genève, 1969. P. 10.
[44] Цит. по: Дживелегов А. К. Творцы... С. 287.
[43] Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. С. 127.
[42] Макиавелли Н. Указ. соч. Гл. XVIII, XXV.
[41] Андреев М. Л. Итальянская трагедия позднего Возрождения и ragion di stato // Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981. С. 78, 79.
[40] The Thames and Hudson Encyclopaedia of the Italian Renaissance. London, 1992. P. 185, 186.
[39] Цит. по: Махо О. Г. Студиоло Франческо I Медичи — позднеренессансная трансформация идеи кабинета правителя-гуманиста // Культура Возрождения XVI века. М., 1997. С. 261.
[16] Цит. по: Эстон М. Ренессанс. М., 1997. С. 18. Далее — Эстон М.
[15] Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. Кн. I, гл. XXXIV. Далее — Челлини Б.
[14] Термин введен А. Шастелем.
[13] Избранное новым папой имя — аллюзия на Климента VI, папу в 1342–1352 гг., которого называли предшественником Льва X, т. к. он превратил Авиньонскую курию в блестящий двор, покровительствовал Петрарке и Симоне Мартини, интересовался древней литературой и, проявляя либерализм в делах веры, защищал евреев и резко осуждал религиозные излишества флагеллантов.
[12] Лютер, монах-августинец, побывав в Риме в 1509 г., был глубоко потрясен нравами папской столицы. «Даже испорченность может быть совершенной», — подытожил его впечатления Л. фон Ранке (цит. по: Дэвис Н. История Европы. М., 2004. С. 354. Далее — Дэвис Н.).
[11] Кудрявцев П. Н. Лекции. Сочинения. Избранное. М., 1991. С. 98.
[10] Кастильоне Б. Придворный. Кн. I, XLII. Далее — Кастильоне Б.
[9] Hauser A. The social History of Art. Vol. 2: Renaissance, Mannerism, Baroque. New York, 1951. P. 86, 87. Далее — Hauser A.
[8] Hale J. R. Op. cit. P. 182.
[7] Макиавелли Н. Указ. соч. Гл. XI.
[6] Гревс И. Юлий II // Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 3. М., 1995. С. 284.
[27] Шастель А. С. 446.
[26] Гвиччардини Ф. С. 407–408.
[25] Сочиненный в конце XV в. «Амадис Гальский» кастильца Гарси де Монтальво выходит в свет в 1508 г. К нему стремительно добавляются новые книги. К 1546 г. испанский цикл «Амадиса», пережив 330 переизданий, достигает 12 книг. С 1508 по 1550 г. новые произведения цикла выходят в среднем по одному в год. К концу XVI в. цикл достигает 24 книг. Читатели-конкистадоры переносят Калифорнию и Амазонку — топонимы из «Амадиса» — на карту Нового Света. В Испании появляется даже переложение Библии в стиле рыцарских романов в качестве меры борьбы против увлечения ими (Андреев М. Л. Культура Возрождения // История мировой культуры. М., 1998. С. 393, 395, 396. Далее — Андреев М. Л. Культура...).
[24] Буркхардт Я. С. 80, 81.
[23] Цит. по: Хоментовская А. И. Кастильоне, друг Рафаэля. Пг., 1923. С. 57, 58.
[22] Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 493. Далее — Муратов П. П.
[21] В первое десятилетие XVI в. в Венеции напечатаны книги 536 названий, в Милане — 99, во Флоренции — 47, в Риме — 41. Остальные страны очень отставали. В течение XVI в. в целом из 43 изданий Данте в Венеции вышло 32, из 130 Петрарки — 110 (Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения. М., 1998. Кн. 2. С. 115. Далее — Дживелегов А. К. Творцы...).
[20] Terra ferma (лат. твердая земля) — так называли венецианцы свои материковые владения.
[19] Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: Опыт. М., 2001. С. 25, 54, 55, 115. Далее — Буркхардт Я.
[18] Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне Нового времени: Очерки. Л., 1974. С. 11, 12. Далее — Рутенбург В. И.
[17] Гвиччардини Ф. С. 407–409, 506.
[5] Hale J. R. Leo X // The Thames and Hudson Encyclopaedia of the Italian Renaissance. London, 1992. P. 182.
[4] Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М.; СПб., 2001. С. 445, 447, 448. Далее — Шастель А.
[3] «Туда поместили Лаокоона, редкостнейшую древнюю статую, а также Аполлона и Венеру, затем Лев X поставил там и остальные статуи, такие как Тибр, Нил и Клеопатра, а Климент VII еще некоторые» (Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 т. М., 1994. Т. 3. С. 93. Далее — Вазари Дж., ссылки даются с указанием тома и года издания, т. к. использованы переиздания разных лет). Феличе де Фреди, нашедшему «Лаокоона» в 1506 г. в пристройках к термам Тита, была назначена крупная пожизненная пенсия. «В те времена достаточно было отыскать античный памятник, чтобы обеспечить благосостояние семьи» (Стендаль. История живописи в Италии // Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 6. С. 363. Далее — Стендаль.
[2] Макиавелли Н. Государь. Гл. XXV.
[1] Гвиччардини Ф. Соч. М.; Л., 1934. С. 146, 147. Далее — Гвиччардини Ф.
Подъем или взрыв?
Если бы после гибели Савонаролы во Флоренции нашелся человек, который захотел бы предсказать, каким будет искусство Италии в следующем веке, ему пришлось бы прежде всего составить список недавно созданных произведений, чаще всего упоминаемых сведущими людьми.
Ему посоветовали бы посмотреть «Оплакивание Христа» и «Клевету» Боттичелли, «Мадонну с Младенцем и святыми» Перуджино и фреску «Распятие», написанную им в монастыре Честелло, а также попытаться получить доступ к «Божественной комедии» Боттичелли. Затем его направили бы в Рим, где он совместил бы поклонение мощам св. Петра с осмотром гробниц Сикста IV и Иннокентия VIII, сооруженных Антонио Поллайоло. В расписанные Пинтуриккьо апартаменты Александра VI его бы не пустили. Зато у него был бы шанс полюбоваться «Вакхом» Микеланджело в саду банкира Галли и увидеть «Пьету» в церкви Санта-Петронилла. Проездом через Перуджу, чтобы бросить взгляд на фрески Перуджино в Колледжо дель Камбио, он направился бы в Венецию — к памятнику Коллеони работы Верроккьо, к «Истории св. Урсулы» Карпаччо и «Истории реликвии» Джентиле Беллини. Венцом венецианской программы стало бы знакомство с живописью Джованни Беллини. Возможно, у него хватило бы любопытства добраться до Мантуи ради того, чтобы увидеть «Триумф Цезаря» Мантеньи. Из Милана до него доходили бы слухи о колоссальном коне, которого уже много лет делал для герцога Леонардо да Винчи, но ехать туда только из любопытства к незавершенной работе не имело смысла. О «Мадонне в скалах», не удовлетворившей заказчиков, едва ли было что-либо достоверно известно. «Тайная вечеря» была скрыта от глаз публики за стенами монастыря Санта-Мария делле Грацие. Леонардо, которого Вазари через полвека назовет родоначальником «новой манеры» (то есть того, что теперь называют Высоким Возрождением), среди корифеев искусства позднего Кватроченто не значился.
Наш путешественник был бы сбит с толку пестротой этих впечатлений. Как вывести основную тенденцию из такого разнообразия? Вероятно, он склонился бы к выводу, что в искусстве и после 1500 года будет царить такая же разноголосица.
И это было бы ошибкой. В первой четверти XVI столетия в Риме, во Флоренции, в Венеции при всех различиях, вызванных как местными традициями, так и индивидуальностью художников, искусство сосредоточится на ряде общих проблем, которые будут решаться в определенной степени схожими способами, что и позволит впоследствии говорить о Высоком Возрождении как явлении более или менее однородном. Если в XV веке любой патриот гордился своеобразием местного искусства, то в глазах современников Высокого Возрождения все слишком отклоняющееся от большого идеализирующего стиля, создаваемого в Риме, во Флоренции и в Венеции, будет отдавать провинциальностью.
Пусть не сразу, но наш пытливый прогнозист сумел бы все-таки увидеть и нечто общее в многоликом искусстве конца XV века. При всем различии школ, методов и индивидуальностей у художников этого времени аналитический интерес к предметам изображения преобладал над стремлением к созданию жизненно полнокровных образов человека и целостных картин окружающего мира. Во всем, что они изображали, выпячивались, как правило, какие-то особые свойства, какой-то отдельный аспект. «Всякая же любовь, обращенная на частность, пренебрегает целым, так как все ее радости объединились в этой единственной вещи, бросая всеобщее для частности», — писал Леонардо да Винчи [52].
В XV веке культовое назначение искусства все более совмещалось с эстетическим удовольствием, но не появилось еще привычного нам взгляда на мир в искусстве и на реальный мир как на две совершенно разные области, каким-то образом связанные друг с другом. Пропасть, разделяющая искусство и действительность, еще не вполне осознанна. Художники Кватроченто убеждены, что, подражая природе и улучшая ее, они продолжают дело самой природы примерно так же, как хорошие дети наследуют и развивают достоинства родителей и приумножают добытый родителями достаток.
Частностями, заставлявшими художников Кватроченто отвлекаться от целого, у одного могло быть изучение строения человеческого тела, у другого — исследование внешних проявлений физических усилий и движений, у третьего — моделирование пространства с помощью перспективы, у четвертого — наблюдение световоздушных качеств среды, у пятого — использование суггестии линейных ритмов. Один опережал всех в создании медитативных изображений, другой — в изобразительном рассказе, кто-то превыше всего ставил археологическую точность «историй», а кто-нибудь — их событийную достоверность и т. д. Художественная продукция Кватроченто — это демонстрация высокого профессионализма в решении конкретных практических задач. На каждую задачу — свой корифей.
Может быть, нашему путешественнику бросилась бы в глаза и другая общая черта: сосредоточенность мастеров различных школ почти исключительно на внешних физических качествах предметов и людей при довольно слабом интересе к внутренней жизни человека, к его духовному миру. Индивидуалистический жизненный идеал вел к натурализму. «Если изъять человека из человеческого общества, то остается только природа, и сам он тоже становится природой» [53]. Темпераменты персонажей, то есть их природные склонности или «порода», как и смысл картин в целом, передавались с помощью различных схем расположения фигур, их поз, жестов, гримас, драпировок, символических аксессуаров, освещения, цвета — короче, через физически определенные положения и состояния. Высшим достижением в изображении человека как существа не просто индивидуального, но обладающего еще и душой, оставались вплоть до самого конца XV века портреты, созданные Антонелло да Мессина еще в середине 1470-х годов. В каждом из них сразу бросается в глаза характерное, ни с кем другим не схожее; но ни о переживаниях, ни о духовном мире этих людей говорить невозможно.
Приученные искусством XVII–XX веков видеть чуть ли не в каждом лице на картине работу «художника-психолога», мы и в портретах XV века рискуем принять физиогномическую характеристику за психологическую. Чтобы избежать ошибки, посмотрим на любое кватрочентистское изображение группы людей. Тут-то и обнаруживается, что для художников этого времени существовали только физические взаимодействия. Там, где таковых по сюжету не предполагается, персонажи присутствуют рядом друг с другом, каждый сам по себе, настолько отрешенно, как будто вокруг нет ни души.
Наш прогнозист заключил бы, что и после 1500 года художники будут культивировать отношение к человеку как к одушевленному предмету, обладающему совокупностью определенных физических свойств, и продолжат соревнование друг с другом в решении специальных технических задач, какие будут вставать перед ними при построении «оптического прибора, именуемого картиной» [54]. И он снова ошибся бы. В искусстве Чинквеченто победило стремление к художественному синтезу, к воссозданию образа человека в целостной совокупности его внешних и внутренних качеств, во всей его душевной сложности и духовной незавершенности, о которых люди Кватроченто не задумывались. Человек в картине стал не физическим, а духовным центром мира, а окружающий его мир перестал быть всего лишь хорошо обозримым вместилищем, сценической коробкой со сменными декорациями. Мир тоже одухотворился, у него появилась своя жизнь, свои темы, вступившие в смысловое взаимодействие с темами человеческими.
Хотя правила, в которых был закреплен опыт работы, накопленный в кватрочентистских художественных мастерских, — перспектива, пропорции, разнообразие, «красивая» композиция и т. д. — с переходом в новое столетие не отменялись, они утратили прежнюю власть над сознанием художников. Успешное решение специальных художественно-технических задач перестало удовлетворять как их самих, так и заказчиков. Рядом с мастерами, по старинке нацеленными на достижение совершенства в определенных профессиональных умениях, в XVI столетии появились художники нового типа — гении [55].
Представление о художнике-гении возникло на горизонте антропологического учения Марсилио Фичино, которое в популяризированном виде проникло в художественную жизнь к началу Чинквеченто. Само по себе изобразительное искусство Фичино не интересовало. Он мыслил шире: в любом креативном акте — относим ли мы его к миру искусства или техники — Фичино видел проявление присущего только человеку превосходства души (собственно божественного начала) над телом. Отсюда он выводил способность человека к совершенствованию, возвышающую его над всем тварным миром. Человек соревнуется с природой: берет то, что она дает, исправляя ее недостатки. Не подчиняясь ограничениям своей телесной природы, он стремится не только к необходимому, но и к удовольствиям, к умственным радостям, к развлечениям «на пастбищах воображения».
Благодаря Фичино в сознание художников и любителей искусства вошло убеждение, что духовная деятельность человека, не исчерпываясь раскрытием божественного начала в творчестве, проявляется также в способности размышлять о произведениях, созданных другими людьми. Не обладая соразмерным духовным даром, невозможно ни понять чужие произведения, ни плодотворно следовать им в собственном творчестве. Духовным содержанием наполнялось не только творчество; восприятие художественных произведений означало теперь нечто большее, чем только удовольствие: оно становилось интеллектуальным, возвышенным занятием. Заказчики, возвысившись в собственных глазах, уже не могли удовлетворяться всего лишь добротно сделанными произведениями, точно соответствовавшими иконографическим требованиям. Возник спрос на художников, способных выйти за пределы чисто профессионального совершенства благодаря высочайшей одухотворенности их творчества, — спрос на гениев.
Но ведь и гениальный художник занимается ручным трудом, прилагает физические усилия, проявляет усердие и терпеливость, то есть работает, в известном смысле, как работал ремесленник, не подозревавший о своей гениальности. Ясно, что превращение выдающегося мастера в гения никоим образом не могло быть легитимировано в рамках коммунальной и корпоративной жизни, в каких он жил и работал в XV веке. Гением он мог быть признан, лишь переместившись из ремесленной среды на более высокий уровень общественной иерархии. Обычно это был княжеский двор, где искусство функционировало в качестве атрибута единоличной власти. Тем самым выдающиеся художники Чинквеченто повторяли путь, типичный для гуманистов Кватроченто [56].
Отчуждение художника от мира ручного труда и его превращение в фигуру чрезвычайную оправдывалось различными способами. Первый — сближение живописи с поэзией на основании формулы «ut pictura poesis» («поэзия как живопись») из «Науки поэзии» Горация. Но римский поэт имел в виду конкретность, наглядность (по словам Гёте — «жуткую вещественность») поэтических образов, в которой он не имел равных, а в умах ренессансных апологетов искусства, ссылавшихся на авторитет Горация, его формула переворачивалась зеркально: «живопись как поэзия». Отсюда следовало: как в поэтическом произведении «образы должны соответствовать образам, замысел — силам, слова — предмету, стих — жанру, реплики — характеру, сюжет — традиции, поведение лиц — природе» [57], так и в картине все должно быть скреплено внутренней гармонией, соответствием каждой частности целому. Художник должен быть равен поэту: «чтобы понять, в чем заключается такое соответствие, поэт должен владеть философией; чтобы найти материал для такого соответствия — должен знать жизнь; чтобы суметь его выразить — должен без устали трудиться над словом». Перед ренессансным художником ставился «гуманистический идеал всесторонне развитого человека, способного создавать всесторонне прекрасные творения» [58].
Второй способ освобождения художника из мира механических искусств был намечен во второй половине XV века флорентийцами Верроккьо и Поллайоло: это научное обеспечение художественного творчества, возвышающее художника над провинциальными неучами, которые продолжали трудиться по старинке, придерживаясь навыков, передаваемых рукодельно и устно.
Третий, и самый эффектный, способ, каким художник мог противопоставить себя традиционной профессиональной среде, — это следование теории Марсилио Фичино о сатурнической природе гения, благодаря которой он якобы возвышается над обыкновенными людьми [59]. Гений уже не считает доблестью умение исхитриться в решении той или иной задачи; техническая виртуозность стала само собой разумеющимся уровнем мастерства. Художник нового типа не может оставаться всего лишь хорошо обученным профессионалом. Ему нужна уверенность в собственной гениальности: в божественном даре, в непостижимой для окружающих продуктивности воображения, в неподражаемой художественной интуиции, связывающей замысел с исполнением.
На первый взгляд кажется странным, что творчество гениальных художников и их подражателей не сделало панораму искусств Высокого Возрождения еще более пестрой. Ведь в нашем представлении фигура гения связана с безграничным своеволием, с субъективным творческим произволом. Откуда же взялось единство в искусстве Высокого Возрождения?
Оно возникло из нового отношения между представлением о должном в искусстве и тем, что художники видели вокруг себя в действительности. Художники Кватроченто тоже преображали в своих произведениях человека и окружающий его мир. Но в искусстве XVI столетия изменился самый принцип преобразования действительности. Прежде считалось, что задача художника — непосредственно подражать действительности (иное дело, что на практике «непосредственность» имитировалась с помощью искусных отклонений от натуры, вводивших в убедительный обман). Но параллельно идее подражания в кватрочентистском уме жила равносильная ей идея превосходства над природой. Это превосходство обеспечивалось путем отбора и сочетания всего наилучшего из множества природных вещей.
Чтобы произведение искусства не отступало от природы, художнику Кватроченто довольно было знания перспективы, анатомии, механики движения и равновесия тел, физиогномики. А чтобы произведение превосходило природу красотой, достаточно было найти bella invenzione («прекрасный вымысел»), то есть изобразить сюжет красноречиво, не допустить несообразностей и противоречий, добиться согласия пропорций, цвета и физических качеств предметов.
Стремясь к компромиссу между верностью природе и превосходящей природу красотой, художники работали в системе двойного стандарта. Если произведение оказывалось недостаточно верным природе, то его можно было оправдать с точки зрения красоты. Недостаток красоты мог компенсироваться верностью природе. Великое разнообразие индивидуальных решений и манер размещалось в широчайшем диапазоне между полюсами точного копирования форм природы и подчас очень причудливой «красоты» — и все это было почти всегда оправданно, свежо, остро. Недаром в XIX веке противники академической рутины в живописи противопоставили Рафаэлю «прерафаэлитов» — художников Кватроченто.
Эпоха гениев покончила с жизнерадостным разнообразием кватрочентистского искусства с помощью одной весьма возвышенной вещи, которая в нынешнем эстетическом обиходе называется «художественным идеалом», а в XVI столетии именовалась «идеей». Художественный идеал стал главным принципом и целью всякого произведения [60].
Чтобы появился художественный идеал, недостаточно кватрочентистского удовольствия от делания красивых вещей, превосходящих природу на основании ее же закономерностей. Необходима радикальная неудовлетворенность действительностью. Необходимо желание сохранять человеческое достоинство вопреки этой действительности, находя опору в том, чего в ней самой не найти. Необходимо понимание, что идея не впитывает в себя лучшие качества природы и не есть усовершенствованная природа. Идея над-природна. Необходимо, наконец, чтобы художественный ум вышел за рамки формотворческих задач и нашел для себя новые интеллектуальные предпосылки, которые помогли бы художникам осмысливать свою деятельность в терминах некоего умозрения. Таким умозрением послужили неоплатонические идеи об «интеллигибельности» высших форм космического бытия, превосходящей уровень собственно «разума». Без этих идей не могло бы возникнуть общее эстетическое основание искусства. Хотя эстетические трактаты первой половины Чинквеченто до нас не дошли [61] и неизвестно, существовали ли они, художники могли хотя бы понаслышке узнавать о том, что мы теперь включаем в понятие «эстетика» [62].
Если Альберти учил, что «идею красоты» («idea delle bellezze») «едва различают даже самые опытные» живописцы, и то лишь при условии, что они доверяют не собственному дарованию, а природным образцам, которым они следуют «глазом и умом» [63], то Рафаэль первым соединяет слово «идея» с прозрением истинной красоты, которая ничем не обязана природным образцам. В 1514 году он писал Кастильоне: «Чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц, при условии, что Ваша милость будет находиться со мной, чтобы сделать выбор наилучшей. Но ввиду недостатка как в хороших судьях, так и в красивых женщинах я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль. Имеет ли она в себе какое-либо совершенство искусства, я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть» [64].
Любопытно у Рафаэля уклончивое «я не знаю» в ответ на подразумеваемые вопросы его адресата. Идет ли «идея» от принимаемых за образцы античных мраморов, мода на которые охватила Рим при Юлии II? Или «идея» — это правила совершенства, которые можно было уразуметь, изучая эти мраморы? А может быть, «идея» — это возникший в голове Рафаэля ясный образ красавицы, который ему оставалось лишь перенести на картину? Утвердительные ответы на все эти вопросы были бы неверны.
«Идея» Рафаэля — не предвосхищение результата в фантазии художника. Будь это так, он не стал бы использовать слово «идея» (о значении коего в широко распространившемся в то время неоплатоническом жаргоне не мог не знать [65]) и не пояснял бы, что «идея» приходит на мысль. Очевидно, он был уверен в объективной природе «идеи», приходящей не из его собственной фантазии, а извне. Нет оснований связывать происхождение «идеи» с образцами античного искусства: Рафаэль в своем письме не упоминает антики и признается, что он не знает, имеет ли «идея» в себе «совершенство искусства». Очевидно, и с природой «идея» не связана. Ведь участие такого знатока женской красоты, каким был граф Кастильоне, все равно не компенсировало бы «недостаток в красивых женщинах».
Признание Рафаэля сродни убеждению Петрарки, что его друг Симоне Мартини смог явить в портрете красоту Лауры не иначе, как увидев «свет тех райских мест, где донна пребывала». «Некоторая идея» — это не готовый образ, а ориентир, следуя которому надо еще очень постараться, чтобы достичь совершенства. Это указатель правильного пути, как если бы кто-то заслуживающий абсолютного доверия велел художнику: «Делай так» [66].
Сподобиться прихода идеи — привилегия гения, возвысившая его над мастерами Кватроченто. В XV веке все, что служило теоретическим и нормативным обеспечением мастерства, могло быть передано любому человеку путем обучения. На рубеже XV и XVI столетий Леонардо да Винчи уже отличал науки, в которых ученик может сравняться с учителем, от более высоких наук, которые «не могут передаваться по наследству». Первая среди них — живопись. «Ей нельзя научить того, кому не позволяет это природа» [67]. У Леонардо здесь нет слова «талант», но речь идет не о гении, а именно о таланте, который Леонардо оценивает как врожденную способность.

Леонардо да Винчи. Автопортрет. 1514
Но воспринять мысленно идею изображаемого предмета и суметь сделать ее наглядной в своем произведении — значит подняться выше таланта, выше всего природного в человеке. Вера художника Чинквеченто в существование метафизического ориентира на пути к совершенству далеко уводила его от практических и рационалистических оснований искусства Кватроченто. Способностью воспринимать идеи оправдывалась независимость гения от эмпирического опыта [68]. Эта способность была симптомом неограниченных возможностей гения, который, в отличие от мастера Кватроченто, мог позволить себе, не считаясь с заказчиком, проявить в произведении нечто далеко превосходящее заранее поставленную цель и неожиданно отодвигающее ее на второй план. Отсюда незавершенность многих замыслов у художников Чинквеченто, чьи творческие возможности, казалось, были неограниченны.
Но почему идеи, которыми вдохновлялись гениальные художники, не способствовали — по крайней мере, при жизни Рафаэля — еще большему разнообразию в искусстве? В чем же тогда проявлялось пресловутое своеволие гения?
Ответы приходят с двух сторон. Во-первых, ориентация на идею сокращает тот диапазон художественных преобразований действительности, которые были бы допустимы при подражании природе. Мир идей совершеннее действительности. Поэтому в нем меньше эстетически приемлемых вариантов, чем среди заведомо несовершенных произведений природы и человека. Вера в художественный идеал не рассредоточивает внимание художников в бесконечном разнообразии одушевленных и неодушевленных предметов и не побуждает каждого специализироваться в излюбленном способе подражания природе или культивировать освященный местной традицией тип красоты. Красота (и это во-вторых) мыслится теперь нормативно — как неземное совершенство [69].
Красота в искусстве Чинквеченто не является ни итогом отбора всего наилучшего из того материала, которым располагают природа и искусство, ни гармоническим соединением частей и качеств, предварительно изученных аналитически, ни выражением закономерного в природе. Красота возникает как материализация мистического прозрения, как преобразование «внутреннего» рисунка в рисунок «внешний».
Но «внутренний» рисунок — это теперь не то, что имел в виду Ченнини накануне Кватроченто. Если у Ченнини «внутренний» рисунок — порождение фантазии художника, то на исходе Возрождения Федерико Цуккаро уподобит его тому, что философы называли идеей, и придет к выводу о его божественной природе, подкрепляя свой вывод фантастической этимологией слова «disegno» («рисунок») как «segno di Dio in noi» — «знак Бога в нас» [70]. Следовательно, Рафаэль в письме Кастильоне предвосхитил позднеренессансную эстетику: «внутренний» рисунок в теории Цуккаро близок по происхождению и смыслу «идее» Рафаэля, причем у обоих художников «идея» — это не готовый образ, но, как пишет Цуккаро, «внутреннее руководство понимания» [71]. Сходство основополагающих представлений Рафаэля и Цуккаро говорит о том, что на протяжении всего XVI столетия в искусстве Италии сохраняли силу одни и те же метафизические предрассудки и эстетические предпосылки, универсальность которых служила общим фоном для выработки индивидуальных манер художников разного склада, творивших в разные периоды, в разных местах, в разных обстоятельствах.
В своих внешних формах искусство Чинквеченто не имеет ничего общего с оставшейся далеко в прошлом готикой. Но отношение между художественным идеалом и действительностью, определившее характер, роль и судьбу итальянского искусства в XVI столетии, оказывается ближе к средневековым эстетическим представлениям, нежели к кватрочентистскому рационально-практичному пониманию назначения искусства.
В какой-то мере это было вызвано тем, что в начале столетия главным художественным центром становится Рим — сердце католического мира. Крупнейших заказчиков — пап и меценатов из их окружения — волнует не столько объективное и закономерное в искусстве, сколько подобающие апостольскому престолу эффекты торжественности и величественности, мощи и славы. У гениальных исполнителей — свои проблемы, но для их разрешения эстетическая ориентация заказчиков оказывается, в принципе, удобной. Поэтому именно в Риме художественный идеал Высокого Возрождения выражается с наибольшей полнотой.
Вестником этого идеала выступил философ-гуманист граф Джованни Пико делла Мирандола. В «Речи о достоинстве человека», сочиненной незадолго до начала Итальянских войн [72], он утверждал, что Адам отличается от прочих тварей Божьих беспредельной свободой воли. Он способен формировать себя как «свободный и славный мастер». Взрастив вложенные в него зародыши рациональной жизни, он сделается «небесным существом», взрастив интеллектуальные, «станет ангелом и сыном Бога» [73]. Эта хвала сугубо риторична, потому что граф Джованни мог бы при желании вспомнить, что его современники придавали фортуне не меньшее значение, чем личной доблести человека. Тогда он мог бы описать картину падения человека не менее красноречиво, чем вознесение к Предвечному Отцу.
Его младший современник Макиавелли, бóльшая часть жизни которого падает на годы Итальянских войн, разделяет веру Пико в человека, который волен стать таким, каким он хочет быть. Однако «новый государь» Макиавелли — не человек вообще, а человек политический, поэтому он обязан работать над собой в двух направлениях: «быть» — одна сторона медали, «являться» в глазах окружающих — другая. Если бы Пико дожил до появления «Государя» Макиавелли, он мог бы сказать, что человек должен уметь казаться «небесным существом», даже если по природе он «растение» или «животное».
Таким образом, искусству Чинквеченто пришлось решать задачу, в определенном смысле аналогичную той, что стояла перед средневековым искусством: изображать человека как существо непременно одухотворенное, как достойного сына Бога. Существенное различие заключается, однако, в том, что в Средние века эта задача понималась онтологически — как постижение истины о человеке. Теперь же крупнейшие мастера понимают эту задачу как сугубо художественную, нацеленную на создание убедительного образа богоподобного человека, а в руках мастеров помельче она вырождается в чистую риторику.
Если в средневековом образе человека духовное начало существовало в ущерб плотскому (хотя в готике духовность персонажа не исключает его куртуазной грации), то художники Чинквеченто избирают иной, иносказательный, парадоксальный путь. Изображается не столько итог перерождения человека в существо, равное достоинством ангелу, серафиму или херувиму, сколько та сила, без которой это перерождение не могло бы произойти, — сила духа, посредством которой человек способен формировать самого себя. Поскольку же эта творческая сила — явление бестелесное, то художественная задача заключается в том, чтобы найти для нее пластическую метафору. Таким образом, эквивалентом ни в коем случае не может быть тело безобразное или бессильное. Напротив, метафорой такого всемогущества является энергичное, деятельное тело [74], которое вызывает ассоциацию не с «тварью», но с «творцом».
Но это только половина дела. Надо еще, чтобы художественный образ внушал уверенность в благотворности волевого усилия, то есть в том, что человек хочет быть одухотворенным существом, а не «растением» или «животным». В искусстве Чинквеченто метафорами одухотворенности являются благородство и непринужденность осанки, осмысленность поз и жестов — одним словом, грация.
До этого времени гуманистические славословия человеку слышались разве что в придворной среде, а не в стенах ремесленных мастерских, где изготовлялась художественная продукция. Главную же проблему христианина — проблему спасения души — искусство Кватроченто решало, не заглядывая вглубь этой души, с несколько суетливым проповедническим практицизмом, обещая одним вечное блаженство, устрашая других вечными муками. Антропоцентризм этого искусства был умеренным, не требовавшим от художников радикального сближения «твари» с «творцом». Искусство Кватроченто не было готово удовлетворить возраставшее любопытство человека к самому себе, его потребность заглянуть в свой внутренний мир, не поддающийся никаким закономерностям. Найдись в Италии на фоне событий, начавшихся в 1494 году, смелый гений, который сумел бы откровенно передать свои впечатления от этого мира, — мы, быть может, имели бы итальянского Босха. Но босховская ироническая рефлексия была бы для ренессансной культуры гибельна.
В этот-то критический момент и явилось как манна небесная искусство Высокого Возрождения, провозгласившее иллюзорную гармонию мира и человека, личности и общества. Оно было признано и востребовано Церковью и князьями, прекраснодушными идеалистами и трезвыми прагматиками, меценатами и толпой, несмотря на отнюдь не всегда общедоступный смысл. Всеобщая признательность гениальным творцам Высокого Возрождения очевидна: на ренессансном культурном олимпе они уже при жизни заняли место рядом с Данте и Петраркой.
«Идея» Рафаэля — это ориентир не только в создании прекрасного человеческого образа, но и в осуществлении замысла прекрасной картины: ведь плохо задуманная и безобразно исполненная картина исказит сколь угодно прекрасный образ. В картине, как в эпическом сказании, части «должны быть так сложены, чтобы с перестановкой или изъятием одной из частей менялось бы и расстраивалось целое, ибо то, присутствие или отсутствие чего незаметно, не есть часть целого» [75]. Эта аристотелевская задача, которую Альберти переформулировал как построение композиции в соответствии с темой, обозначалась в ренессансной теории искусства понятием «invenzione». Определенность требований к произведению как художественному целому позволяет говорить об искусстве Высокого Возрождения как о нормативном «классическом» стиле, легко распознаваемом в произведениях любых сюжетов, любых жанров.

Рафаэль. Автопортрет. Ок. 1506
Стиль — это всегда симптом той или иной степени размежевания между искусством и жизнью, стремления преодолеть действительность, к которой относятся затрудненно, не напрямую, не желая принимать ее во всей полноте [76]. В свете отдаленного родства чинквечентистской и средневековой эстетик неудивительно, что, в отличие от пестрого, бесстильного искусства Кватроченто, искусство Высокого Возрождения обладает едва ли не каноническими чертами. Оно серьезно, высокомерно, требовательно к зрителю, не заискивает перед ним, не развлекает его всяческими подробностями, как то было в XV веке, а покоряет его своей властной красотой и возвышенным строем мыслей.
Алтарный образ становится в XVI столетии большой торжественной картиной. Снова, как в Средние века, повествование уступает главное место задачам репрезентации. Если сюжет не позволяет обойтись без повествования, то внимание сосредоточивается на важнейших моментах. Разнообразие, которому не уставали радоваться в XV веке, — трепещущие ткани, драгоценности, разноцветные мраморы, восточные ковры, изящные павильоны, балдахины с пурпурными и златоткаными занавесами, усеянные цветами лужайки — все это изгоняется из живописи. Допускаются только необходимые аксессуары и мотивы. Зато редко можно найти картину без строгой, величественной, почти всегда одноцветной архитектуры, обеспечивающей покой и уравновешенность целого [77].
Сверхъестественные явления, которые в XV веке часто изображали в отдалении, подчиняя их правилам перспективы, как если бы это были рационально объяснимые физические феномены, — в искусстве Чинквеченто, как и в Средние века, вторгаются в обыденную человеческую жизнь [78]. Созерцание таких сцен приближает наблюдателя к мистическому визионерскому опыту. Сила воздействия картины неизмеримо возрастает.
Фигуры, даже фигуры ангелов, делаются крупными, массивными, устойчивыми — под стать архитектуре. Они драпируются в тяжелые плотные мягкие ткани с мощными складками, которые свисают до земли, замедляют движение и не имеют ничего общего с модой того времени. Обильные облачения, которые персонажи картин Высокого Возрождения носят с царственной осанкой, заставляют особенно остро воспринимать все чаще появляющуюся наготу как состояние блаженной свободы. Это племя могучих свободных людей проявляет себя не в ловких действиях, какими могли гордиться персонажи кватрочентистских «историй», но прежде всего в великолепном бездействии, за которым проглядывает способность мыслить широко, чувствовать сильно. Чувства подаются сдержанно, мягко. Выражение лиц открытое, светски приветливое, милостивое. Позы непринужденны. Жесты плавны и вески [79].
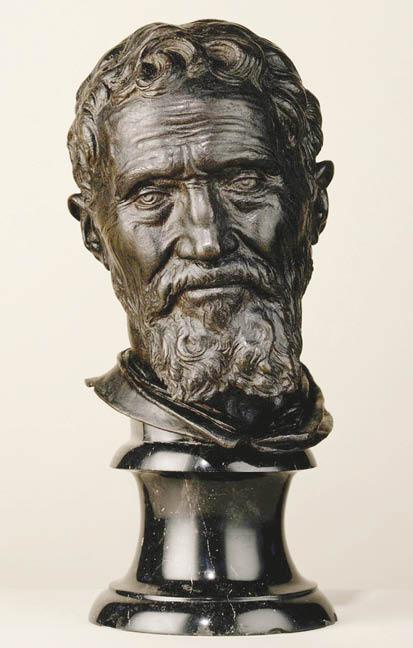
Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. Между 1564 и 1566
Напрашивается аналогия между поведением персонажей в картинах и в трактате Кастильоне. Друзья герцогини Урбинской тоже следят за тем, чтобы во всем избегать преувеличений и нарочитости. Они культивируют во всем некую небрежность и томность, скрывая неподражаемое искусство поведения и желая, чтобы все, что они говорят и делают, воспринималось как происходящее само собой, без умственного напряжения и труда. Они называют это «грацией». В речах они ценят «природу и истину», а не «старания и искусство», ибо истинное искусство для них — то, которое не кажется искусством [80]. Такая манера держать себя распространяется в искусстве Чинквеченто как на земные, так и на небесные персонажи, не исключая и ангелов: в изображении их полета возрождается средневековый мотив торжественного парения, не требующего ни усилий, ни поспешности [81].
Перед интересом к духовным импульсам, к душевной жизни человека стушевывается все остальное содержание мира. Портреты заказывают теперь реже, чем в XV веке: не со всякой внешностью обратишься к художнику, не желающему «срисовывать», «портретировать» реальный быт и реального человека как они есть, ибо нет веры в мирный союз красоты и обыденности [82]. Пишут портреты в натуральную величину, опуская линию обреза до колен или изображая фигуру в рост, придавая ей тем самым немыслимую прежде импозантность и потенциальную свободу движения. Не довольствуясь фиксацией черт лица, художники стремятся показать способность человека жить интенсивной внутренней жизнью, не ищущей выхода в физическом действии. Самодостаточное достоинство персонажей призвано убеждать нас в том, что истинные причины и цели любого действия лежат не вне человека, а в нем самом. Сравним портреты Высокого Возрождения с более поздними, на которых представлены люди, имевшие мужество смотреть объективно на мир и на свое положение в нем, — и мы поймем, что дерзновенное самоутверждение людей, которым предстоит пережить Sacco di Roma, — это способ самозащиты от непонятного, неподвластного им мира.
Поскольку художественный идеал ставится выше жизнеподобия, то в искусстве Чинквеченто притупляется кватрочентистский интерес ко всему местному, относящемуся к определенному времени, слишком характерному. Предпочтение отдается таким типам, костюмам и архитектурным мотивам, сочетание которых на самом деле редко встречалось в жизни. Не считаясь с реальным положением дел, художники создают идеальный мир, параллельный миру за окном. В отличие от неупорядоченной действительности, картина Высокого Возрождения устроена так, что мы уже издали легко охватываем ее как целое, без труда различаем существенное и второстепенное, с удовольствием убеждаемся в необходимости и уместности каждой части. Как издалека доносящаяся прекрасная речь или чудное пение, такое зрелище заставляет приблизиться, самозабвенно перенестись чувствами и мыслями внутрь картины, незаметно отождествиться с ее героями и, заразившись манией величия, высоко вознестись над действительностью.
Сила внушения этого искусства такова, что даже во второй половине XIX века — и не у какого-нибудь профана, а у выдающегося историка и социолога, знатока культуры и искусства Ренессанса — можно найти рассуждение о том, что в XVI столетии в Италии «инстинкт красивых форм, широких группировок, живописного убранства был всеобщим» и что «господствующий тип, который воспроизводит и созерцает сам себя в искусстве» того времени, — это «здоровый, хорошо сложенный человек, пышно одетый, сильный и умеющий принимать красивые позы, — такой, каким его изображают художники» [83].

Агостино Венециано. Академия Баччо Бандинелли в Риме. 1531
Идея прекрасного, воплощенная в произведениях творцов Высокого Возрождения, сыграла примерно такую же роль, какую в точных науках Нового времени выполнял эталон метра, хранящийся в Севре, близ Парижа. Пока не существовало эталонных (то есть по общему убеждению совершенных) произведений искусства, не могли появиться и объективные, всем понятные «системы мер и весов», по отношению к которым можно было бы определять позицию и репутацию каждого художника. Об этом прекрасно сказал Гёте, подводя итог искусству Кватроченто: «Правдивость и натуральность имеют в виду все, но нет еще живого целого. Во всем виден замечательный замысел, но ни одно произведение не продумано до конца, ни одно еще не достигло единства; во всем видно нечто случайное, чуждое, ибо еще не сформулированы принципы, согласно которым можно было бы судить о собственных произведениях» [84].
Ренессансная классика в ее нормативно выхолощенном виде, обеспечивающем зрительный комфорт, но не совпадающем с истинно великими произведениями, сводится к ряду легко распознаваемых признаков. В фигурах всегда чувствуется вертикальная ось, относительно которой голова, плечи, таз, руки, ноги пребывают в свободном, потенциально подвижном равновесии. Симметрия ненавязчива, контуры протяженны. Хорошо выявлено трехмерное строение тел. Нет ни бросающихся в глаза вертикалей, горизонталей или диагоналей, ни слишком острых углов, ни экстравагантных ракурсов, ни запутанных пересечений, которые заставляли бы наблюдателя дополнять воображением то, что он видит. Избегая сложных пространственных построений, картины и скульптуры тяготеют к ясности рельефа.
С появлением общепризнанных эталонных образцов и усвоением правил, по которым они созданы, заказчик, художник и зритель могли судить о произведениях уже не как о ремесленных шедеврах, а с собственно эстетической точки зрения, хотя они и не знали слова «эстетика». Становится возможна рефлексия художника, рассматривающего свое произведение как значимый поступок, как жест в пространстве объективных эстетических ценностей. Появляется определенная свобода выбора между подтверждением этих ценностей или более-менее сознательным отталкиванием от них.
Наряду с произведениями, воплощающими в себе чистый стиль, появляются вещи, в которых сознательно нарушается мера, обусловленная художественным идеалом. Тут и шокирующие сцены, и излишнее упрощение или усложнение форм, и искажение нормальных пространственных отношений между фигурами и предметами, и смелые эксперименты с фактурой и светотенью, и, наконец, карикатура [85]. Побудительные мотивы могут быть разными. В одних случаях перед нами мрачно зияют невосстановимые разрывы великолепного занавеса, которым человек Чинквеченто отгораживался от жизни, когда он был предоставлен самому себе; в других это лишь имитация таких разрывов, освежающая веру в необходимость и прочность занавеса; в третьих — художественный эксперимент; в четвертых — экстравагантная игра.

Джорджо Вазари. Зевксис, изображающий Елену. 1560-е
После краткого периода, когда усилиями Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Тициана итальянское искусство обрело известное единство, описанное Генрихом Вёльфлином под именем «классического искусства», началась стремительная дивергенция (расхождение) индивидуальных художественных манер. Исследователи, привыкшие членить историю искусства на периоды, в пределах которых наблюдается некая мера однородности материала, стали называть длительный период дивергенции «маньеризмом», пытаясь обнаружить «существенные» черты единства там, где их было меньше всего [86]. В истории искусства нет другого периода, определения которого были бы настолько разноречивыми, опровергающими друг друга. Каждый исследователь вкладывает в понятие «маньеризм» нечто свое [87].
На наш взгляд, в этот период в Италии повсеместно сохраняло актуальность и признавалось незыблемым одно общее для всех индивидуальных манер основание — «классическое искусство», по отношению к которому каждый мастер определял свою художественную тактику. Сколь бы радикально новыми ни казались нам их художественные жесты, они воспринимались самими художниками и просвещенной публикой только в отношении к нарушаемой норме, только на фоне сохранявших силу универсальных метафизических и эстетических предпосылок.
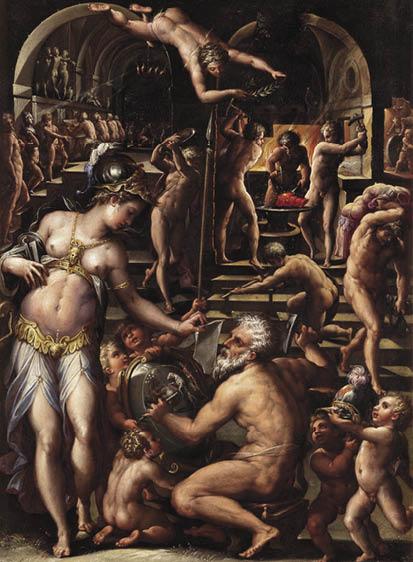
Джорджо Вазари. Кузница Гефеста. Ок. 1560
Величайшие творения Высокого Возрождения — например, статуи гробницы Медичи, созданные Микеланджело, или фрески Рафаэля и Микеланджело — в нашу эпоху мирового туризма превозносятся за универсальность их аудитории. На самом деле они адресовались более узкому кругу, чем искусство какой-либо предшествовавшей эпохи. Из-за расширившегося спроса на произведения искусства посредственностей среди художников стало не меньше, а больше, чем когда-либо. Любители искусства далеко не всегда имели возможность давать заказы знаменитым мастерам, приходилось обращаться к второстепенным. Боясь получить что-нибудь совсем уж топорное, предпочитали заказывать копии с известных произведений, чтобы на качестве копии лежал хотя бы отблеск славы оригинала. Хотя не может быть и речи о том, чтобы до середины XVI столетия традиционная система персональных художественных поручений и заказов была существенно потеснена рынком, все-таки в рамках этой системы — раньше всего во Флоренции и в Венеции — наблюдается постепенная коммерциализация искусства. Свобода художника возрастала, хотя он расплачивался за это утратой уверенности в правильности выбранной им коммерческой тактики. Коммерциализация искусства способствовала расширению его тематического диапазона и выработке художниками индивидуальной манеры в расчете на привлечение покупателей [88]. Возникала потребность в знатоках искусства, умеющих идентифицировать авторов, а также отличать копии от оригиналов и плохие копии от хороших.

Джорджо Вазари. Автопортрет. 1566–1568
Спрос на копии дал толчок репродукционной гравюре. Едва достигнув вершины, искусство Возрождения разомкнуло элитарный круг ценителей и пошло вширь, за пределы главных художественных центров. Репродукции изготовлялись в технике резцовой гравюры, которая гораздо лучше передает «рельефную» манеру живописцев римско-флорентийской школы, нежели колористическое богатство и фактурность живописи венецианцев. Это способствовало повсеместной канонизации пластических, конструктивных, основанных на рисунке достижений корифеев Высокого Возрождения [89]. Во всеобщем восхищении ими заключался, таким образом, консервативный импульс, препятствовавший установке на новизну, с которой когда-то начинался Ренессанс и которая под конец этой эпохи дала себя знать в дивергенции индивидуальных художественных манер на основе метафизических и эстетических предпосылок Высокого Возрождения.
Широко распространена эволюционная модель Возрождения как более или менее плавного процесса развертывания той или иной совокупности ренессансных признаков по мере восхождения искусства от Никколо и Джованни Пизано и Джотто к Донателло и Мазаччо и от этих последних к Рафаэлю, Микеланджело и Тициану. Сторонники эволюционной модели черпают уверенность в своей правоте из представления о Возрождении как о целостности, отчетливо отличающейся как от Средневековья, так и от Нового времени. Они видят кардинальные метаморфозы искусства на границах эпохи Возрождения, но внутри этой рамки не допускают существенных нарушений непрерывного «развития» ренессансного искусства.
На наш взгляд, нет необходимости объяснять то, что произошло в искусстве Италии на рубеже XV и XVI веков, придерживаясь какой бы то ни было заранее выбранной модели. Мы предпочитаем иметь дело с очевидными художественными феноменами и конкретными высказываниями современников. Непредвзятое ознакомление с этими памятниками убеждает в том, что в искусстве XVI столетия все было не то и не так, как в XV веке. Это был не плавный подъем мастерства, а взрыв, титаническая энергия которого не накапливалась из поколения в поколение, а обнаружилась неожиданно в искусстве нескольких гениальных художников, решавших проблемы, о существовании которых их предшественники ничего не знали.
Строго говоря, только с искусства Чинквеченто, с этой новой классики, которая, в отличие от классики античной, никогда уже не выйдет из поля зрения художников любых школ, направлений и личных убеждений, можно начинать отсчет истории западноевропейского искусства как сложно разветвленного движения, докатывающегося до наших дней. В такой ретроспективе искусство Кватроченто выглядит явлением «доисторическим» [90].
[62] См.: Шастель А. С. 11, 31, 270.
[61] См.: Габричевский А. Г. Леонардо и искусство. С. 664.
[60] Панофски Э. Idea... С. 49 и след.
[59] Conti A. S. 154–157.
[58] Гаспаров М. Л. Греческая и римская литература I в. до н. э. // История всемирной литературы. М., 1983. Т. 1. С. 463.
[57] Гаспаров М. Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 422, 431.
[56] Conti A. Die Entwicklung des Künstlers // Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte. Berlin, 1987. S. 153. Далее — Conti A.
[55] Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999. С. 51. Далее — Панофски Э. Idea...; Янсон X., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб., 1997. С. 241, 242. Далее — Янсон X., Янсон Э.
[54] Габричевский А. Г. Леонардо и искусство // Габричевский А. Г. Морфология искусства. М., 2002. С. 661, 662.
[53] Берковский Н. Я. Леонардо да Винчи и вопросы Возрождения // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. М.; Л., 1962. С. 13. Далее — Берковский Н. Я. Леонардо...
[52] Леонардо да Винчи. Избранные произведения. М., 1995. Т. 2. С. 172.
[73] Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса. Т. 1. С. 249, 250.
[72] «Речь», написанная в 1486 г., была впервые полностью опубликована через десять лет.
[71] Цуккаро Ф. Идея живописцев, скульпторов и архитекторов // Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т. 2. С. 532.
[70] Мастера искусства об искусстве. М., 1966. Т. 2. С. 296.
[69] В предисловии к третьей части «Жизнеописаний» Вазари формулирует с помощью категорий Витрувия свой стандарт совершенства: regola, ordine, misura, disegno e maniera (правило, строй, мера, рисунок и манера), который он затем демонстрирует в биографиях Леонардо и Браманте (Вазари Дж. Т. 3. С. 5; Gombrich Е. Н. Norm and Form: The Stylistic Categories of Art History and their Origins in Renaissance Ideals // Gombrich on the Renaissance. Vol. 1: Norm and Form. London, 1999. P 84. Далее — Gombrich E. H. Norm...).
[68] См.: Панофски Э. Idea... С. 43.
[67] Цит. по: Зубов В. П. Леонардо да Винчи. 1452–1519. М.; Л., 1961. С. 201. Далее — Зубов В. П. Леонардо...
[66] В этом отношении наша трактовка расходится с толкованием понятия «идея» Э. Панофски (Панофски Э. Idea... С. 51, 52) и Э. Гомбрихом (Gombrich Е. Н. Ideal... Р. 87–95, 113–124; Gombrich Е. Н. Raphael: A Quincentennial Address // Gombrich on the Renaissance. Vol. 4: New Light on Old Masters. London, 1998. P. 129. Далее — Gombrich E. H. Raphael...).
[65] См.: Шастель A. C. 505–514.
[64] Цит. по: Гращенков В. Н. Рафаэль. М., 1975. С. 202. Э. Гомбрих полагал, что это письмо, написанное при участии какого-то ученого из круга Рафаэля, достаточно верно выражает мысли самого художника (Gombrich Е. Н. Ideal and Type in Italian Renaissance Painting // Gombrich on the Renaissance. Vol. 3; The Heritage of Apelles. London, 2000. P. 89. Далее — Gombrich E. H. Ideal...).
[63] Альберти Л. Б. Три книги о живописи // Мастера искусства об искусстве. Т. 2: Эпоха Возрождения. М., 1966. С. 51. Далее — Альберти Л. Б.
[84] Гёте И. В. Джузеппе Босси о «Тайной вечере» Леонардо да Винчи // Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10: Об искусстве и литературе. М., 1980. С. 206. Далее — Гёте И. В. Джузеппе Босси.
[83] Тэн И. Путешествие по Италии. Т. 1. М., 1913. С. 155, 157. Далее — Тэн И. Путешествие... Исключение Тэн сделал для фигур, которыми Микеланджело украсил надгробия в капелле Медичи: «Ни один действительный мужчина и ни одна действительная женщина отнюдь никогда не походили на негодующих героев, на колоссальных, отчаивающихся дев, которых великий человек выставил в погребальной капелле» (Тэн И. Философия искусства. М., 1996. С. 21, 22. Далее — Тэн И. Философия...).
[82] Осознание принципиального различия между идеально-прекрасным и обыденным ставит художника перед проблемой компромисса. Отдавая предпочтение красоте, художник ставит под угрозу правдивость своего произведения, а предпочитая правдивость, наносит ущерб красоте. Высокое Возрождение — это такое непревзойденное, «классическое» решение проблемы, которое можно повторить, но не превзойти. Отклонение не может пройти безнаказанно. Отсюда нормативная функция шедевров Высокого Возрождения для художников следующих поколений (Gombrich Е. Н. Norm... Р. 95).
[81] См.: Вёльфлин Г. Классическое искусство. С. 219, 223, 224.
[80] См.: Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990. С. 160. Далее — Баткин Л. М. Леонардо...
[79] Там же. С. 206–211, 229–245.
[78] Там же. С. 224, 225.
[77] См.: Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997. С. 246, 247, 266, 299–302. Далее — Вёльфлин Г. Классическое искусство.
[76] См.: Берковский Н. Я. Леонардо... С. 9.
[75] Аристотель. Поэтика, 151 а31–а35.
[74] «Итальянцы, восхищавшиеся bel corpo ignudo (прекрасным обнаженным телом. — А. С.), ценили его в конечном счете как средство выражения энергии, героики или победы духа (курсив мой. — А. С.)» (Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы. СПб., 2004. С. 60. Далее — Кларк К. Нагота...).
[90] «Современное понимание искусства было подготовлено Возрождением, но свое нынешнее значение оно приобрело лишь в эпоху Просвещения и романтизма. И только благодаря развитию этого понятия могла быть написана история того, что оно обозначало, — „история искусства“» (Belting Н. The End of the History of Art? Chicago; London, 1987. P. 68, 69. Далее — Belting H. The End...).
[89] Характеризуя деятельность Агостино Карраччи как гравера, Дж. К. Арган замечает: «В гравюрах колористические достоинства оригиналов были выражены посредством линий и светотеневых отношений, наиболее блестящие колористические эффекты трактовались графически и их тональная насыщенность передавалась в более или менее плотных графических сетках. Техника воспроизведения становилась также техникой анализа и структурных поисков, поэтому репродуцирование не только питало воображение, но и давало ключ к толкованию оригинала» (Арган Дж. К. История итальянского искусства. Т. 2. М., 1990. С. 133. Далее — Арган Дж. К.).
[88] Burke P. Die Renaissance in Italien. Sozialgeschichte einer Kultur zwischen Tradition und Erfundung. Berlin, 1984. S. 114. Далее — Burke P. Die Renaissance...
[87] Э. Гомбрих назвал эту ситуацию, созданную историками искусства «реалистского» (в средневековом смысле) склада ума, «вавилонским смешением языков» (Gombrich Е. Н. Mannerism: The historiographic background // Gombrich on the Renaissance. Vol. 1. P. 99). Обзор историографии маньеризма см.: Fasola G. N. Storiografia del manierismo // Scritti... in onore di Lionello Venturi. Rome, 1956. T. 1. P. 429–447.
[86] Вазари, первым придавший слову «maniera» эстетическое значение, характеризовал с его помощью как индивидуальные стили художников, так и эстетические категории. В XVII в. у Беллори и Мальвазиа это понятие становится синонимом испорченности и небрежности стиля. В 1789 г. аббат Ланци применил слово «manierismo», имея в виду склонность художников к безжизненному повторению общих мест (Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995. С. 144. Далее — Базен Ж.). Но в том же году Гёте реабилитировал понятие «манера». Спокойные, добросовестные, ограниченные люди, писал он, прибегают в искусстве к простому подражанию природе. Но обычно человек «видит гармонию многих предметов, которые можно поместить в одной картине, лишь пожертвовав частностями, и ему досадно рабски копировать все буквы из великого букваря природы; он изобретает свой собственный лад, создает свой собственный язык, чтобы по-своему передать то, что восприняла его душа, дабы сообщить предмету, который он воспроизводит уже не впервые, собственную характерную форму, хотя бы он и не видал его в натуре при повторном изображении и даже не особенно живо вспоминал его. И вот возникает язык, в котором дух говорящего себя запечатлевает и выражает непосредственно... Каждый художник этого толка будет по-своему видеть мир, воспринимать и воссоздавать его». «Если простое подражание зиждется на спокойном утверждении сущего, на любовном его созерцании, манера — на восприятии явлений подвижной и одаренной душой, то стиль покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах» (Гёте И. В. Простое подражание природе, манера, стиль // Гёте И. В. Собр. соч. Т. 10. С. 27, 28). Через двести лет В. Хофман в своих размышлениях о предыстории современного искусства нашел понимание «манеры», данное Гёте, наиболее приемлемым (Хофман В. С. 127). Гёте, сам того не предполагая, подарил историкам искусства XX в. закладной камень для возведения пантеона маньеризма, в который они поместили прах художников Чинквеченто, не нуждавшихся друг в друге и не подозревавших, что все они окажутся представителями маньеризма. Было много художников, отличавшихся оригинальной манерой, но маньеризм как якобы общий для всех них «язык» существует только в головах историков искусства. С таким же успехом можно было бы попытаться подвести под какое-то одно понятие все искусство Кватроченто, а потом озадачиться поиском «сущности» этой абстракции.
[85] Карикатура, родившаяся в конце XVI в., есть «рассчитанная регрессия», которая стала возможной благодаря эволюции стиля (Kris E., Gombrich E. Principles of Caricature // Kris E. Psychoanalytic Explorations in Art. London, 1953. P. 197, 198).
Чинквеченто

Живопись изображает «ничто»
Представляя читателю Леонардо да Винчи, Джорджо Вазари не скупится на похвалы, говоря о «преизбытке» его красоты, обаяния и таланта, о «безграничной прелести» в любом его поступке, о легкости, с какой он разрешал любые трудности, к каким бы ни обращался его дух, и даже о царственности и великодушии его помыслов и дерзаний. Но этот шумный фонтан прерывается замечанием: «Слава его имени так разрослась, что ценим, он был не только в свое время, но и после своей смерти, когда он среди потомства приобрел еще бóльшую известность» [91]. Мастер риторики едва ли случайно обронил выделенную мной часть фразы. Читая между строк, понимаешь, что о настоящей славе Леонардо говорить не приходится. Словом «слава» Вазари (которому Леонардо был антипатичен) лицемерно «скрывает», на деле же язвительно подчеркивает тот факт, что при жизни его всего лишь «ценили», а после смерти он стал всего лишь «более известен».
И в самом деле, профессиональная карьера Леонардо складывалась медленно и отнюдь не блестяще. Андреа Верроккьо так дорожил обществом и советами этого ученика, что позволил ему, записанному в 1472 году в книгу живописцев Флоренции в качестве независимого члена корпорации, еще несколько лет оставаться при себе на правах помощника. Пользуясь поддержкой богатого отца и привязанностью замечательного учителя, Леонардо не заботился о хлебе насущном. Люди тогда были вынуждены быстро останавливать выбор на той или иной профессии, а он не спешил.
Свою мастерскую он открыл в 1478 году, когда получил первый персональный заказ: синьория поручила ему написать алтарную картину для капеллы Св. Бернарда в палаццо Веккьо. Но двадцатишестилетний мастер проявил, как могло показаться со стороны, нрав большого ребенка, занимаясь только тем, что его увлекало, и беря кисть только по настроению. Получив авансом 25 золотых, Леонардо, по-видимому, так и не принялся за работу. Заказанный ему алтарь ни в каких документах не упоминается, никакую завершенную картину отождествить с ним невозможно, среди ранних графических работ художника нет ни одного наброска, который можно было бы связать с этим заказом.
Такой стиль поведения он сохранит на всю жизнь, и это сильно повредит его репутации. Первый болезненный урок он получил через три года, когда Сикст IV пригласил для росписи Сикстинской капеллы Козимо Росселли, Сандро Боттичелли и Доменико Гирландайо, тем самым дав понять, что о бывшем ученике Верроккьо он не слишком высокого мнения [92]. Однако этот урок только укрепил Леонардо в его гордыне.
Не найдя признания ни во Флоренции, ни в Риме, он направил Лодовико Моро, тогда еще только регенту герцогства Миланского, письмо, в котором представился его светлости изобретателем всяческих орудий «изумительного действия» для преследования и уничтожения неприятеля на суше и на море. Лишь после перечисления мостов, кошек, лестниц, бомбард, повозок, мортир, манганов, катапульт, средств жечь и рушить мосты, осушать рвы, разрушать любые укрепления, бесшумно проходить по подземному ходу даже под рвами или рекой, наводить «великий страх на неприятеля с тяжелым для него уроном и смятением» Леонардо добавляет: «Во время мира считаю себя способным не уступить как архитектор в проектировании зданий, и общественных и частных, и в проведении воды из одного места в другое. Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и в живописи — всё, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто б он ни был». И напоследок расчетливо затрагивает чувствительную струну своего адресата: «Смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью блаженной памяти отца Вашего и славного дома Сфорца» [93].
Письмо, говорящее о надежде Леонардо развернуть свои таланты в Милане шире, чем во Флоренции, произвело должный эффект. В конце 1481 года он оставил Флоренцию и был зачислен в коллегию инженеров миланского герцога. Но не надо думать, что своим отъездом Леонардо бросал вызов сильным мира сего. Как раз наоборот: вероятно, он удалился в Милан по рекомендации Лоренцо Великолепного, который желал угодить Лодовико Моро, искавшему скульптора для статуи Франческо Сфорца [94].
Круг занятий Леонардо в Милане до 1490-х годов неясен. В 1494 году он получил звание придворного инженера, потом художника. Его дарования находят спрос главным образом при устройстве праздничных зрелищ: составление программы дивертисментов, эскизы костюмов, установка декораций. Его боевые колесницы фантастических очертаний, самобеглые повозки, летательные аппараты предназначались, вероятно, не для боевых действий, а для торжественных шествий и турниров. В этой игровой области Леонардо был как бы аниматором живописи: силой иллюзии он без труда перемещал зрителей в мир своих фантазий, вызывая у них то смех, то страх.
Самые прославленные в наши дни произведения этого периода Леонардо создал отнюдь не по заказам Лодовико Моро. Даже если бы герцог, видевший своими глазами и «Мадонну в скалах», и «Тайную вечерю», и картон «Св. Анна», был в состоянии осознать, что он держит при своем дворе основоположника Высокого Возрождения, то слишком далек был Милан от центров ренессансной культуры, слишком самодостаточен и замкнут, чтобы информация о поразительных произведениях, создававшихся Леонардо в его стенах, могла распространиться по Италии и вызвать паломничество, как это произошло с камерой дельи Спози, расписанной Андреа Мантеньей для гостеприимных Гонзага Мантуанских.
Тем не менее вся жизнь Леонардо да Винчи убеждает в том, что ему легче работалось при дворах, с регулярным жалованьем, чем на средства от заказных работ. В «Трактате о живописи», сравнивая живопись и скульптуру, он создает идеальный образ придворного живописца, не похожего на живописцев старых традиционных боттег: «Живописец с большим удобством сидит перед своим произведением, хорошо одетый, и движет легчайшую кисть с чарующими красками, а убран он одеждами так, как это ему нравится. И жилище его полно чарующими картинами и чисто. И часто его сопровождает музыка или чтецы различных и прекрасных произведений, которые слушаются с большим удовольствием» [95]. Возможно, он остался бы в Милане навсегда, если бы город не захватили французы. Под новый, 1500 год он вместе со своим другом Лукой Пачоли, математиком-францисканцем, покинул Милан и через Мантую направился в Венецию.
Вернувшись весной следующего года во Флоренцию, Леонардо узнал, что братья сервиты из монастыря Благовещения заказали Филиппино Липпи образ для главного алтаря своей церкви Сантиссима-Аннунциата. Леонардо показал монахам привезенный из Милана картон «Св. Анна», заявив, что охотно выполнит подобную картину. «Филиппино, услыхав об этом и будучи человеком благородным, — подчеркивает Вазари, — от этого дела отстранился, братья же, для того чтобы Леонардо это действительно написал, взяли его к себе в обитель, обеспечив содержанием и его, и всех его домашних, и вот он тянул долгое время, так ни к чему и не приступая» [96]. В конце концов весной 1501 года он создал для сервитов новый картон на ту же тему. Этот картон «не только привел в изумление всех художников, но когда он был окончен и стоял в его комнате, то в течение двух дней напролет мужчины и женщины, молодежь и старики приходили, как ходят на торжественные праздники, посмотреть на чудеса, сотворенные Леонардо и ошеломлявшие весь этот народ». Хотя сервиты были восхищены и обнадежены, все же законченное живописное полотно им было суждено получить не от Леонардо, а от Перуджино (который его картоном не воспользовался), ибо Леонардо, казалось, утратил интерес к живописи. Корреспондент маркизы Мантуанской, через которого она безуспешно пыталась получить от художника свой портрет или картину с изображением отрока Христа, жаловался, что математика настолько отвлекла Леонардо от живописи, что «вид кистей выводит его из себя» [97].
В те годы во флорентийской интеллектуальной элите вошли в моду разного рода мистические настроения. Леонардо должен был чувствовать себя чужим в этой среде. Его, как и Макиавелли, заинтересовала фигура Чезаре Борджа, которого он мог видеть в недалеком будущем властителем объединенной Средней Италии. Весной 1502 года он тайно предложил герцогу свои услуги, и тот немедленно пригласил его к себе, дав указание всем чинам сообщать «архитектору и генеральному инженеру Леонардо да Винчи» сведения о фортификационных сооружениях и следовать его советам по их улучшению [98]. Леонардо находился при Чезаре в Урбино, когда туда прибыл посол Флорентийской республики Никколо Макиавелли. Они сблизились и вместе сопровождали Чезаре в осенней кампании 1502 года. Почувствовал ли Леонардо отвращение к зверствам Борджа, или просто вышел срок контракта, но с марта 1503 года он снова во Флоренции.
Через полгода Макиавелли выхлопотал у гонфалоньера Пьеро Содерини заказ для Леонардо на роспись одной из стен Зала Большого совета в палаццо Веккьо [99]. Заставив заказчика понервничать из-за своей медлительности, Леонардо летом 1505 года закончил картон «Битва при Ангиари» [100] и приступил к росписи масляными красками. Приготовленная им мастика, которую он подмешал в грунт, темнила краски и сохла слишком быстро, а плохое льняное масло, подсунутое ему жуликом-поставщиком, напротив, никак не хотело сохнуть и местами оплывало. Пришлось развести в зале огонь для просушивания, но жар не достигал до верха стены. Леонардо удалось-таки закончить центральную часть росписи, изображавшую схватку за знамя, но, видя, как работа разрушается, он ее бросил и уже никогда к ней не возвращался.
При таком отношении к своей профессиональной репутации Леонардо да Винчи недолго довелось первенствовать в ренессансном художественном мире. Рядом неудержимо росла слава ненавидевшего его Микеланджело, которому поручили роспись противоположной стены. Микеланджело еще работал над своим картоном, когда в марте 1505 года неожиданно был вызван Юлием II в Рим. Это лишало Леонардо малейшего шанса получить какой-либо папский заказ. По-видимому, для него стало невыносимым пребывание во Флоренции, которая не могла соперничать с Римом ни в культурном, ни в политическом отношении и не имела ни смелости, ни средств для осуществления обуревавших его больших технических идей. К тому же флорентийский Совет придерживался мнения, что Леонардо должен был либо закончить «Битву при Ангиари», либо выполнить другую роспись, либо вернуть полученные деньги.
И тут его пригласил в Милан французский вице-король маршал Шарль д’Амбуаз, граф де Шомон. По-видимому, такова была воля Людовика XII, который еще в 1499 году был так потрясен «Тайной вечерей» Леонардо, что мечтал снять фреску со стены и перевезти ее во Францию [101]. Не осмеливаясь отказать могущественному союзнику, флорентийцы отпустили Леонардо, но только на три месяца и при условии, что он заплатит 150 флоринов, если не вернется в означенный срок для завершения «Битвы при Ангиари» [102].
Французы платили Леонардо хорошо, ничего от него не требуя. Вероятно, они считали, что его присутствие украшает миланский двор. Через три месяца граф де Шомон попросил у флорентийцев отсрочки для художника. Раздраженный Содерини писал флорентийскому послу: «Леонардо относится к республике не так, как она того заслуживает. Он получил крупную сумму денег и только лишь приступил к работе; он поистине действовал как предатель» [103]. Тогда Людовик XII вызвал к себе посла и сказал: «Напиши Совету, что я желаю извлечь пользу из службы маэстро Леонардо здесь... так как хочу иметь несколько его работ, и проследи, чтобы Совет дозволил ему приступить к выполнению немедленно и повелел оставаться в Милане до тех пор, пока я туда не приеду» [104]. Содерини пришлось проглотить эту пилюлю. Леонардо был освобожден от обязательств перед Флоренцией.
Отношения с графом де Шомоном сложились как нельзя лучше. А в мае 1507 года, когда Людовик XII вошел со своей армией в Милан, Леонардо да Винчи стал королевским живописцем и инженером. Но по существу, к 1508 году его карьера живописца подошла к концу. Хотя король и упоминал, что хотел бы получить от Леонардо несколько маленьких изображений Богоматери и свой портрет, никаких следов таких работ не сохранилось. Леонардо вполне устраивал своих высоких покровителей как инженер, архитектор, консультант по вопросам искусства и устроитель великолепных зрелищ. А будучи предоставлен самому себе, он все более погружался в научные исследования [105].
Людям нового вкуса — тем, кто видел в Риме свежие фрески Микеланджело и Рафаэля, осуществлявших в столице католического мира титанические замыслы Юлия II, — казалось, что Леонардо разменивает свой дар на придворные забавы. Что же касается его живописи, то они видели, что она нравится либо «варварам» (ибо для них все французы были «варварами»), либо таким властительницам маленьких столиц, как Изабелла д’Эсте, с их устаревшими взглядами на искусство, сложившимися под сильным влиянием французской куртуазной культуры. В 1504 году маркиза Мантуанская просила Леонардо написать для нее образ двенадцатилетнего Христа «с той мягкостью и воздушной нежностью, что столь присущи вашему искусству» [106]. Глядя на далекий Милан из Рима или через Рим, разве можно было поставить такого Леонардо на один уровень с молодыми римскими гениями?
А для Леонардо этот период был, наверно, самым счастливым в его жизни. Увы, его и на этот раз ждала катастрофа. В сентябре 1511 года умер граф де Шомон. Юлий II, возглавив Священную лигу, изгнал французов из Италии. В Милан вошел Массимилиано Сфорца. Наступила пора смут, мести и всеобщего разорения. В шестьдесят лет, едва понадеявшись провести остаток жизни в почете и благополучии, художник оказался без средств к существованию, без покровительства. Казалось, новый правитель не замечал его. Но действительно ли ему простили былую близость к королю Франции?
Надо было уезжать из Милана. Но куда? Во Флоренции у Леонардо была скверная репутация. О заказах Юлия II и его окружения в Риме нечего было и мечтать — там царили Микеланджело и Рафаэль. Но фортуна неожиданно пробуждает надежду: скончался Юлий II, его преемником стал Лев X. Микеланджело теперь не в фаворе. Джулиано Медичи, отправляясь на инаугурацию брата, берет Леонардо с собой. Но в Риме после пылкого Юлия II привыкли к тому, что самые обширные предприятия в области искусства быстро доводились до конца благодаря людям решительным, как Браманте, Микеланджело или Рафаэль [107]. Шлейф недоверия сопровождает имя Леонардо. Лишь однажды Лев X позволил убедить себя дать ему заказ. Леонардо «тотчас же начал перегонять масла и травы для получения лака, на что папа Лев заметил: „Увы! Этот не сделает ничего, раз он начинает думать о конце, прежде чем начать работу“» [108]. К этому времени живопись Леонардо настолько вышла из моды, что даже Изабелла д’Эсте, много лет докучавшая ему попытками заполучить от него какую-нибудь картину, теперь, приехав в Рим, желала видеть только одного художника — Рафаэля [109].
Леонардо и в Риме не избежал упреков в дружбе с французским королем [110]. Но может быть, как раз по этой причине ему оказал покровительство Джулиано Медичи, полжизни проведший в Париже, где ему был пожалован титул герцога Немурского. Джулиано, «питавший большое пристрастие ко всякой философии, в особенности же к алхимии» [111], устроил Леонардо в штат Бельведера. Ему назначили жалованье в тридцать три дуката в месяц (Рафаэль получал за работу в Ватикане тысячи) и отвели комнаты для занятий. Мастерская Леонардо наполнилась зажигательными стеклами и вогнутыми зеркалами, которые он делал для своего патрона собственноручно [112]. Другой предмет занятий Леонардо — анатомия — стал поводом для клеветнических доносов, адресованных папе и директору госпиталя, откуда Леонардо получал трупы.
В начале 1515 года Джулиано Медичи покинул Рим, чтобы сочетаться браком со своей невестой из Савойского дома. Вскоре Джулиано умер. Леонардо снова остался без поддержки. Но французы помнили о нем. Франциск I после победы при Мариньяно предложил ему свое покровительство, и Леонардо, надо думать, с благодарностью принял предложение. В Павии он присоединился к королю, направлявшемуся в Болонью, куда явился и Лев X хлопотать о мире. Почтительное отношение Франциска к художнику (король обращался к нему не иначе как «отец мой...») изумило соотечественников Леонардо. Это было ему вознаграждением за испытанные в Риме унижения. В 1516 году Леонардо был уже во Франции. Жить ему оставалось чуть больше двух лет...
Охватывая единым взглядом творческий путь Леонардо-художника, мы видим с пятисотлетнего расстояния, что его трудности и неудачи на этом пути были оборотной стороной беспрецедентной в ту пору личной свободы. Микеланджело настаивал на своем во что бы то ни стало, яростно противоборствуя заказчикам. Рафаэлю удавалось без особого напряжения делать то, что нравилось любому заказчику. А Леонардо вообще мало считался с заказчиками, берясь за живопись только по собственной воле. У него очень мало начатых картин и еще меньше законченных. Но было бы ошибкой заключить из этого, что живопись была для него чем-то второстепенным. Как раз наоборот. Слишком высоко он ставил это искусство, слишком дорожил своим персональным призванием живописца (отнюдь не совпадающим с публичной репутацией), чтобы позволить каким бы то ни было внешним обстоятельствам влиять на его замыслы и их осуществление. Он относился к живописи так ревниво, как если бы право владеть ею принадлежало только ему одному на всем свете. Живопись была для него не ремеслом, а таинством.
С одной стороны, свобода творчества, которую сумел сохранить Леонардо да Винчи, а с другой — его великий скептический ум, который никогда не мог остановиться на том или ином решении как вполне удовлетворительном и все время стремился дальше, — вот две взаимосвязанные причины того, что процесс творчества захватывал его сильнее, чем необходимость прийти к окончательному результату. Со стороны это выглядело как безответственность или даже как творческая немощь. Впоследствии же стало ясно, что Леонардо первым утвердил положительную ценность «незавершенности» («non finito») — одного из главных принципов искусства Нового и Новейшего времен.
* * *
Самое раннее из сохранившихся произведение Леонардо — тосканский пейзаж, нарисованный тушью во время прогулки вдоль берега Арно между Флоренцией и Пизой, близ родного городка Винчи, в ту счастливую пору, когда он, только что закончив учение у Верроккьо, мог не думать о тяготах жизни ремесленника-живописца. При взгляде на рисунок вспоминается восхождение Петрарки на гору Вентоза в Южных Альпах, описанное самим поэтом. Петрарка мало говорит о впечатлении, произведенном на него природой, зато подробно описывает трудное восхождение. Его восхождение — аллегория нравственного развития человека [113]. А Леонардо риторически спрашивает: «Что побуждает тебя, о человек, покидать свое городское жилище, оставлять родных и друзей и идти в поля через горы и долины, как не природная красота мира, которой, если ты хорошенько рассудишь, ты наслаждаешься только посредством чувства зрения
