автордың кітабын онлайн тегін оқу Верь/не верь

Оглавление
Создано при участии «Литагенты существуют» и агента Уны Харт
В книге упоминаются различные наркотические вещества, издательство предупреждает о недопустимости их применения и распространения.
Книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Изобразительные описания не являются призывом к совершению запрещенных действий.
Двойственный, даже тройственный мир романа, где сосуществуют бандитский Петербург городок начала девяностых и мистические убийства с ритуальным подтекстом. С первых страниц Инна Борисова создает интригу, добавляя в обыденные события потусторонние краски. Странные посетители, необъяснимые звуки, пугающие описания — реальность или сумасшествие?
Здесь достаточно убедительно передана реальность девяностых, то, как вершились судьбы на судах законных и воровских. Как одно слово могло решить все проблемы.
«Верь/не верь» — роман, который не оставит равнодушными даже черствые сердца, так как кульминация романа и развязка первой части слишком неожиданны и болезненны. Порой за наши ошибки платят наши близкие.
ISBN 978-5-386-15222-2
© Инна Борисова, 2025
© Издание. ООО Группа Компаний «Рипол классик», 2025
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2025
Посвящается Разуванову Р. А. и удивительным местам, в которых удалось побывать
Традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу.
Пролог
— Ты потерялся?
Толику Лебедеву уже шесть с половиной, и он считает, что он достаточно взрослый, чтоб ходить в соседний двор, пока бабушка занята разговорами на лавочке. В соседнем дворе играют дети постарше, и наблюдать за ними интереснее. Настоящий футбол, как в Ленинграде! В Ленинграде каждый уважающий себя мальчик должен уметь играть в футбол. Толик задирает голову, щурит светлые глаза на незнакомку.
— Вы тоже потерялись? — Ему очень хочется казаться взрослее, чем он есть.
— Может быть. Пойдем, я тебя к бабе Шуре отведу. — Незнакомка протягивает ему руку. Толик смотрит на нее с подозрением.
— Мама говорила, что нельзя с незнакомыми ходить. Как вас зовут? — Он выпячивает губы, хмурит жидкие светлые брови.
— Эмаг. А тебя как?
— Мама говорила не говорить незнакомцам своего имени. — Толик чувствует себя очень умным. Все сделал, как мама сказала, его не проведешь.
— Хорошая у тебя мама. — Она присаживается, мальчик аж рот открывает. Какая красивая! — А что сделать, чтоб ты пошел?
Толик тянет вперед руку, хватает густые волосы и дергает за них, пытаясь вытащить из косы тополиный пух, но Эмаг лишь тихо смеется.
— Хочу сказку. Но для взрослых, мне скоро в школу.
Женщина задумывается.
— Тогда обещаешь, что пойдешь к бабушке?
Толик кивает с очень важным видом.
— Обещаю.
Эмаг стряхивает пыль с его маленькой маечки, платком вытирает лицо. Все правильно, чтоб баба Шура была довольна.
— Жил давным-давно один мужчина, и звали его Ижанд. Был он страшно охоч до власти, а потому жену свою разорвал на куски и раскидал по лесу, чтоб не мешалась. Но жена у него непростая была. Была она матерью всех мертвых, — Эмаг переходит на шепот, Толик распахивает глаза, прикрыв рот ладошкой. Вот это да! Вот это сказка! Мальчишки обзавидуются. — И каждая капля ее крови, что пролилась, расцветает чудесными плодами там, под землей, где мертвые живут. Представляешь?
Толик представляет. Воображение ему очень живо рисует картинку.
— А что с ней стало дальше? — он шепчет в восторге.
— Говорят, теперь она бродит по земле и ищет себе нового мужа, чтоб после смерти с ним воссоединиться, только умереть не может, пока все кровяные плоды не соберут ее дети. — Эмаг ему очень ласково улыбается.
Толик задумывается. Бабушка как-то сказала про него, что жених растет.
— Я бы стал ее мужем, если она такая же красивая, как вы. — Толик искренне считает, что после такой истории он точно станет королем двора, когда вернется от бабушки обратно в Ленинград.
— А не пожалеешь о своих словах? — Эмаг хитро щурится.
— Не-а. Вы красивая. Вот я вырасту и всех победю, и дядьку этого кровожадного! — Толик выпячивает грудь колесом, чтоб показать, какой он смелый.
— При жизни можешь на ком-то другом жениться. Но после смерти — на мне. Договорились? Бабушке не скажешь?
Толик жует губы, раздумывая.
— Договорились!
— Тогда я тебя подожду.
1
Привет.
Извини, что не позвонил, но тебе, наверное, уже доложили. Я теперь в армии и надеюсь, что не дам дуба за эти два года. Если тебе интересно, как так получилось, одно слово: майор. Это была спланированная подстава, так что радуйся: я признаю, что был не прав. Ты говорил, что красным верить нельзя. Алина не в счет, само собой. Лучше расскажи мне, что там в городе происходит, тут каждый день как предыдущий.
Все изменилось за два года. Кроме здания вокзала, оно как было на реставрации завешено строительными сетками, так и осталось. Толпа рвется на выход, Гриша оглядывает станцию в надежде, что кто-то приехал его встречать. Кому бы, с другой стороны? Только Володька был в курсе времени возвращения, святоша проклятый. У него лицо было такое смешное, немного щекастое, рябое от не прошедших тогда подростковых прыщей, речи про Господа через слово. Провожал его тут же, на перроне, чихал от холода и храбрился, обещал молиться каждый день. Советскому человеку должно быть это чуждо. Но какие уж они теперь советские люди. Так, россияне.
Бог. Слово такое странное. Гриша бы все же поостерегся писать его с большой буквы. Мало ли, черти обидятся.
Володя обнаруживается на другой стороне платформы, поезд пронзительно сигналит и медленно трогается с места. Вроде цикл завершился, и не изменилось ничего, а на самом деле механика реальности перестала работать как прежде. У Володи теперь очень серьезное лицо, эдакий поп с советских карикатур: с хлипкой бороденкой, скуластым лицом и удивленными глазами. Гриша машет ему, болезненно искривив губы. Так и рвется гадкий комментарий, но нужно быть благодарным, что хоть кто-то пришел.
Черносвитов писал ему очень многословные письма. О том, что Союз рухнул, о том, что церковь восстанавливают с отцом. Да много о чем. Девочку бы лучше себе нашел, а не иконы лобызал. Очень красочно Володя выражал обеспокоенность ментальным спокойствием Гриши, переживал, что в их возрасте смерть видеть нельзя. Ну, ему хорошо говорить, его-то папаша отмазал. Он писал, что армия ломает людей, а если не ломает, то превращает в скорбящих на пьяную лавочку, замкнутых в себе и покалеченных навсегда. Может, и не ошибается, Гриша не знает. Он подходит ближе, не зная, как себя вести. Обнять? Но прикосновения кажутся неуместными. Пожать руку? Может, просто кивнуть? Черносвитов берет инициативу, крепко обнимая.
— Я так рад тебя видеть. — Улыбается тепло. У него улыбка видавшего жизнь старика, какая-то особенная, такой хочется верить, но больше не пронимает. Теперь вообще все кажется пластиковым и ненастоящим, тронешь, и мир пойдет рябью, а ты снова проснешься в горячей точке. — Поехали, я тебе церковь покажу. Автобус нормальный пустили, представляешь? Теперь можно по два часа не ждать. Добрейший Андрей Павлович пожертвовал на купола, вот, поставим скоро, уже заказали. И иконостас тоже делают.
Гриша кивает. Раньше он ходил с Володей на сходки верующих, но так ничего и не понял. Библия была одна, переписанная вручную, передавалась на ночь от одного к другому. Очередь до него не дошла, чему он был крайне рад, а потом все стало легальным.
— А Евангелие купили? — задает вопрос невпопад, переминается с ноги на ногу. Чувствует себя очень неуютно, как будто камуфляж выбивает его из общей композиции вокзала. Черносвитов кивает. Очень уж повзрослел, непривычно. Гриша, наверное, тоже, но Гриша на себя и не смотрел толком, зеркала не выдавали вместе с винтовкой. Мельком только вгляделся пару раз в мутном, заплеванном зеркальце вагонного сортира и махнул рукой — дома успеет налюбоваться. Володя поджимает губы, растягивая их в улыбку, и снова как-то неловко обнимает, похлопав по плечу. Это типа их в церкви так науськивают на доброту и любовь к ближнему? Гриша непроизвольно дергается. Не надо. Володя пожимает плечами и разворачивается, по-детски перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, чуть не подвернув ногу на выбоине. В подряснике это кажется совсем уж каким-то абсурдом. Как он, такой добродетельный, умудряется жить и радоваться, пока там, далеко, умирают люди? Как люди вообще могут существовать, не замечая этого?
— Аккуратнее. — Гриша хмурится. Вокзал тут совсем небольшой, больше номинальный из-за реставрации, они обходят его и пролезают в разорванную сетку-рабицу, топают вглубь города.
Тихвин. Вечером в декабре тут совсем темно, недавно как раз самый короткий день был, Бог точно забыл об этом месте, а может, даже не в курсе, что оно есть. Черносвитов вон уверен, что это не так, но кто его, блаженного, слушает в своем уме? Кобальтово-синяя вечерняя улица с яркими янтарными всполохами фонарей. Днем всего лишь очередной серый город с бетонными зубами прямоугольных хрущевок. Армейские ботинки месят грязный декабрьский снег, хорошо хоть с неба не капает. Подозрительно ясно для Ленобласти. Они добираются до автовокзала без приключений. Гриша стреляет сигарету у какого-то помятого похмельем мужика, затягивается с удовольствием. Вкус свободы.
— Так и не бросил? — Володя делает наивное лицо, а глаза хитрые-хитрые, как будто и не осуждает вовсе. Гриша мотает головой, быстро добивая до фильтра.
— После махорки это, как после дерьма повидло. — Сплевывает на пол скорее по привычке, хотя никакой горечи во рту нет. Долго придется к этому привыкать. И купить себе пять кило конфет, медовик, пельменей налепить. Планов на еду в сотню раз больше, чем на жизнь.
Они грузятся в красное брюхо автобуса. Черносвитов со всеми здоровается, как будто они знакомы, невзирая на безразличие в ответ. Пропускает Гришу к окну, мол, полюбуйся на красоты. Облезлые зимние деревья, ветер катает по площади пакет, разномастная собачья свора трется рядом с ларьком в надежде на скорую наживу.
Автобус с ревом заводится, дрожа не хуже рук бывалого пропойцы, нехотя трогается с места и медленно ползет в сторону дороги на Линдград. В стекле Гриша видит свое отражение в свете желтого глаза лампы. Темные тени под глазами, сухие тонкие губы, обветренное белое лицо, ежик едва успевших отрасти волос. Синие глаза превратились в серые. Может, от скорби?
— Чем заниматься-то планируешь? Ты же в ментовку хотел. — Жизнерадостный Черносвитов достает из сумки пухлые румяные пирожки и сует один в руки, не интересуясь даже, надо ли оно Грише. Может, и надо. Гриша крутит угощение в пальцах с каким-то недоверием, как будто там не капуста, а цианид. Неопределенно пожимает плечами, откусывает. Как это вкусно… Да, муку тоже нужно будет купить.
— Не знаю. Может, в бандиты пойду. Где еще деньги зарабатывать, не продавцом же становиться, — говорит с набитым ртом. Хватается за второй пирожок, поднося к лицу и с наслаждением нюхая. В армии за подобную роскошь что угодно готов был отдать. — В отделе же этот майор ублюдочный работает. — Лицо мрачнеет. — Стану Робин Гудом, буду красть у богатых и отдавать бедным.
— Можешь к нам в церковь пойти. — Володя снова улыбается, наблюдая, как стопка пирожков стремительно испаряется. — Работа по восстановлению, живем на пожертвования. Не шик, но на еду хватает.
Гриша морщится, как от зубной боли.
— Не, ш меня швятой не полушится. Я ше не ты.
Черносвитов обводит всех присутствующих максимально одухотворенным взглядом, даже открывает рот, чтобы что-то сказать, но решает, что для одного вечера хватит мудрости.
— Володь, без обид. Я лучше что-то полезное сделаю, чем кадилом махать. Котенка там сниму с дерева, бабку через дорогу переведу. А ты о душах заботься. Каждому свое место в мире. — Третий пирожок залетает на ура. Черносвитов кивает, ничуть не обидевшись, и достает термос. — Ты там кухню оборудовал, что ли? Знал, собака, что все сожру? Давай сюда свой чай.
Автобус чуть покачивается на повороте и медленно вползает в город. Ничем от Тихвина не отличается, кроме размеров. Все те же серые здания, замершие в снежном мареве деревья, люди в темной одежде. Но все равно два года назад было немного иначе. Расплодились ларьки, цветастые вывески на каждом доме, мирная советская жизнь закончилась. Гриша с Володей доезжают до церкви. Наполовину покрашена, пристройку отремонтировали, даже ступеньки вон мощеные сделали. Красота.
— Зайдешь? У нас просвирки остались с утренней службы, может, кагор тоже найдется.
И хочется, да только сил на это нет. Гриша мотает головой, пожимает Володьке руку.
— Не сегодня. Я сразу домой. Отоспаться хочу наконец.
Володя скрывается в церкви и тут же возвращается, вручив сигареты и зажигалку.
— Хорошо. Вот я специально тебе купил. Заходи на неделе, поможешь к Рождеству все украсить.
Гриша кивает. Опять ангелов рисовать… Из него художник не бог весть что, конечно. Машет рукой и удаляется в сторону центра. Ларьки натыканы на каждом шагу, в оранжевой оконной пасти — по угрюмой морде. Не могли народ поприветливее найти? Хотя это ж Линдград, тут все недовольны. Гриша с интересом тормозит у комиссионки, из которой прыткая старушонка тащит огромный железный таз. И зачем ей?..
Магазин, ларек, аптека, еще ларек, кафе. Откуда тут кафе? Не было раньше ничего. У дверей стоит парочка роскошно одетых барышень, которые вальяжно раскуривают одну сигарету на двоих. Шубы, полупрозрачные колготки, сапоги лаковые на тонкой шпильке и чуть смазанная помада. Сколько же ты пропустил, Гриша? Даже воздух пахнет как-то иначе, как будто грязью и бензином.
В одном из дворов школьники передают друг другу что-то маленькое, с такого расстояния не рассмотреть. Гриша ловит взгляд белобрысой девчонки с красными, как у матрешки, щеками, та лишь морщится, пряча руки в кармане потертой дубленки. Да понял-понял, шел бы отсюда и не совал нос не в свои дела.
Заворачивает за угол, прислоняется к пыльному боку гаража, пытаясь пропитаться новым духом этого места. Что-то черное, липкое, как смола, с ядовитым запахом денег. Сигарета подрагивает в руках, ребята со двора воровато пробегают мимо, залетая в подъезд с уродливым рисунком желтой утки. Следом вяжется ободранный дворовый пес, тявкая и подпрыгивая. Гриша не понимает, что происходит. Раньше такого не было, по вечерам в такое время года шлялись только бандитского вида личности, а теперь будто весь город не спит. Бродячие собаки, кошки, дети, просто протокольные рожи. Нужно идти дальше.
Пара дворов с гротескными железными скульптурами, облезшими от времени, еще одна сигарета, и он у цели. Проверяет карманы, ничего ли не потерял, рука ложится на пояс, но там больше ничего нет. Гриша даже вздрагивает рефлекторно, сердце пропускает удар, и только через три глубоких вдоха удается успокоиться — оружие больше не нужно.
Улица Советская затеряна в самом центре, совсем узкая, всего на одну полосу проезжей части. С одной стороны четырехэтажный монстр под аренду, который безуспешно пытаются привести в более современный вид, с другой — трехэтажный ребенок насильственной любви хрущевки и брежневки, рожденный с отклонениями. Туда-то Грише и надо. Следящая оранжевым глазом лампочка над блестящей от коричневой глянцевой краски дверью приветственно мигает. Это они так вандализм закрашивали или решили обмазать иным продуктом?.. Вроде не воняет. Но на вид, конечно, навевает мысли. Интересное художественное решение, дом будто сам себя с каждым годом все больше уродует. В сумке находятся ключи, Гриша просачивается в подъезд тихо, зная, какие тут стены, чтоб никого не разбудить. Внезапной встречи с милицией сегодня он не переживет. Наскальная живопись за два года приобрела потрясающий размах: стали рисовать не только ручками и красками, но и… А что это такое? Черное, блестящее, с фиолетовым отсветом и острыми концами. Такая линия аккуратная. Никогда раньше не видел.
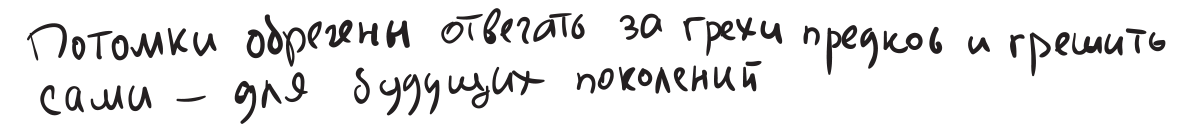
Гриша останавливается, нахмурившись и ногтем пытаясь сковырнуть кусок надписи. Ничего. Языком касается подушечки пальца, трет. Снова ничего. Да что за краска… И что за смысл. Подростки возомнили себя мудрецами? Слово из трех букв на заборе было более привычным способом самовыражения, его бы на карте нарисовать вместо слова «Россия». Рос-си-я. Слишком длинно. СССР был короче, но не звучно. Написать бы такой вот черной линией слово «ХУЙ» на весь глобус, сразу бы у всего мира вопросы отпали, что тут происходит. Гриша взлетает по лестнице на второй этаж, решив полюбоваться на живопись поутру. Может, еще какие умные мысли для себя подцепишь, солдафон. С металлическим лязгом ворочает ключом в замке, открывая дверь несмело. На кухне горит свет, тихие шаги, а потом…
— Гриша! — Толик орет и сразу бежит обниматься. Брат как-никак. — Мудак мелкий, я думал ты сдо… — осекается, заметив форму. — И не сказал, что сегодня приедешь. За такое не стыдно и по зубам получить. — Мелким он Гришу всю жизнь называет, хоть сам на полголовы ниже, а старше всего на четыре года. Компенсирует первое вторым. — Пойдем, у меня как раз водочка стынет. Думал в одно рыло нажраться, а тут такой повод.
Анатолий Лебедев за два года обзавелся бритой головой, немного усталым взглядом и мешками под глазами. Его тощее, тщедушное тельце с вопросительной формы позвоночником так рахитным и осталось, видимо, решив, что его хозяину девушку заводить пока рано и будет пора после сорока, чтобы смаковать оставшихся разведенок. Но Толик, кажется, не унывает, складируя бутылки от беленькой прямо на кухне и о бабах даже не думая, вон у него в телевизоре какие. Стоп, чего? Какие-какие? Настолько детально женщин раньше Гриша не видел даже на рисунках. А тут еще и угол съемки такой интересный, будто в самую душу оператор заглянуть хочет.
— Ты чего, порнуху раньше не видел? Хотя в армии вам, наверное, другое порно показывали. — Усмехается, суетясь по небольшой кухне и стараясь порадовать дорогого гостя, чем послал Бог. Бог, видимо, щедр сегодня с Анатолием не был, но селедка с картошкой в небольшом количестве остались, а Гриша и тому рад. Селедочка, да под самогоночку, что может быть лучшим окончанием этого дня? Прозрачная жидкость льется в рюмку, Гриша кивает.
— Ну что, помянем?
— Кого? — недоумевает Анатолий, чуть приоткрывая рот и обнажая квадратные крупные зубы.
— Бабку твою, кого. Она же померла уже.
Лебедев крестится и сплевывает через плечо.
— Гриша, еб твою мать, она еще жива. Совсем ебнулся в своей армии?
— Извини. — Кривит губы. — Просто ее не видно, не слышно и вещей в коридоре нет. Думал, схоронил ты, сделал все как надо…
— Ай, — Толик машет рукой, — она лежачая, я привык уже. По ночам буянит, я выпью побольше и в кровать, чтоб не слышать, как она там стены мажет дерьмом и орет. Соседи вон мусоров вызывают, те уже и не реагируют. В дурку ее надо, а мне ж даже отвезти самому никак, работа на заводе сама себя не сделает, машины в наследство никто не оставил. — Закуривает, тут же предлагая вторую Грише. Тот не отказывается. — Все стонет, мол, зовут ее. Пора ей. А нельзя, чтоб внучок не мучился. То, что внучок мучится, оттирая мочу с вонючего матраса, думать ей не хочется. Вся в пролежнях, они воняют, гниют, там такой смрад стоит… Только водка и спасает. А бросить я ее не могу, я же не сволочь. — Замахивает рюмку. — Твое здоровье, Гриша. Я в следующем году тачку планирую себе взять. Ты столько всего пропустил… Но ничего. Все к лучшему. Вот будет у меня две «Волги», так я одну продам, а на второй девчонок катать буду.
Гриша хмурится, глядя в недоумении в голубые глаза брата. Из всей его немного странной внешности выделялись только глаза — чистые, что родник в погожий день. Но щетина, общая неопрятность и похмельное амбре портили это чудное впечатление.
— А где деньги ты возьмешь на две «Волги»? — Водка проваливается в желудок ядовитой раскаленной лавой. Уже и забыл, как это. — Ты же хуйню всякую на заводе собираешь, неужели хуйня трансформировалась в… — Он на секунду задумывается. Какой антоним к слову «хуйня»? — Солидный заработок?
Глаза Толика как-то подозрительно блестят энтузиазмом. Сейчас начнется.
— Ваучер, друг мой Гриша. Я же говорю, ты все пропустил. Теперь все принадлежит всем… — Гриша поднимает руки, начиная махать ими, как ветряными мельницами, лишь бы Анатолий остановился. — Да ладно тебе, в следующем году он как раз будет стоить как две «Волги». Вот там-то я и разойдусь. — Мечтательно так щеку опирает о кулак со сбитыми костяшками.
— Я даже знать не хочу. Ты же в курсе, это не мое. Я всю жизнь прожил в деревянном доме, куда свет только десять лет назад провели в количестве одной лампочки на кухне и одной в коридоре. Поэтому, пожалуйста, остановись. «Ваучер», что за слово такое? — Устало трет переносицу. Селедка очевидно пересолена, но даже так она кажется вкуснейшим из тех блюд, что ему удавалось попробовать за последние два года. Мысль о том, что надо было взять просвирки с кагором, не покидает, но уже поздно возвращаться. Хоть было бы чем закусывать, а то насолил, как в последний раз. Удивительное время. Умный человек лучше промолчит, чтобы не обидеть глупого, вот и Гриша старается не обсуждать с Толиком вопросы денег. Тот, сколько Гриша его помнил, как настоящий русский человек, искал халявы, ничего не желая при этом делать. Национальная идея нового времени.
— А че там в армии? Страшно? — Толик сморкается в засаленную майку-алкоголичку. — Я бы обоссался еще в поезде.
— Родина всегда бросит тебя. — Улыбка выходит какой-то слишком кровожадной. — Я думал, что подписываю отказ, а подписал… Верить людям меньше надо. Думал, что меня отмазали, а на деле — наоборот. Российский доброволец, как тебе? — С презрением морщится, выдыхая дым носом и тыча сигаретой в хрустальную переполненную пепельницу. — Нас там не было, никого там не было. Ага. — Замахивает еще рюмку, не чокаясь. Толик смотрит немного недоверчиво.
— А ты в Югославии был? Тебе разве разглашать можно?
— Нельзя. Но мне плевать. — Льет водку мимо рюмки. — Просят, просят, смотри. Давай помянем друзей моих. Заждались, поди, когда за них вздрогнем.
Желанное опьянение так и не приходит, Гриша все еще слишком трезв, а вот Лебедев уже начинает подплывать. Как мало для счастья надо человеку: уверенность в двух «Волгах» и бутылочка. За стенкой постукивают часы, Гриша помнит их еще с детства. Там в двенадцать два медведя лупят молоточками по облезлому грибу. Толик потягивается, захрустев спиной.
— Пойдем спать, а? Началось в колхозе утро. — Брат поднимается, почесав промежность привычным ленивым жестом. Гриша вскидывает левую бровь в немом вопросе. — Слышишь? Проснулась старуха проклятая. Щас начнет голосами разными орать и топотать. Давай мы бутылку докончим, а… — Прикладывается прямо к горлышку.
— Ты погоди, это разве не часы? — Рука вновь опускается на пояс, не находя там ничего, только раздосадованно хватая воздух дрогнувшими пальцами. Сука. Когда ж эта привычка пропадет. — Ну те, прабабкины еще.
— Два года, как те часы накрылись женским половым органом, а это она стену ковыряет, будто дырку в ней сделать пытается. И отсчитывает всегда тринадцать, а не двенадцать. Все, короче, я спать пойду, не хочу это слушать. Ты оставайся. — Собирается как-то сильно быстро. — Что в холодильнике найдешь — ешь смело. Спокойной ночи.
Гриша остается наедине с дымящимся окурком и остатками водки в рюмке. Толик хлопает дверью, включает телевизор у себя достаточно громко, чтобы не слышать, что происходит через две комнаты. Гриша задумчиво вслушивается в звуки за стенкой, из любопытства приложив ухо. Только скрежет и очень тихое шушуканье, будто бабка там с кем-то активно переругивается, боясь разбудить внучка. Гриша поднимается мягко, пружинистым шагом направляется в свою комнату. Вскрывает пол в нужном месте, сует руку. Как хорошо, что не нашел никто. На всякий случай прячет замотанное в тряпку нечто вытянутой формы в карман. Мало ли что. Зря, что ли, сушили и собирали, а потом разбрасывали по местам важным? Он аккуратно подходит к двери комнаты бабы Шуры. На ней ногтями выцарапана рожа какая-то не совсем человеческая и запекшейся кровью нарисовано схематичное дерево. Как детки в садике палочками рисуют, так же и тут. Осина. Кто бы сомневался. Ладонью надавливает на дверь, она открывается совсем легко, тихо заскрипев. Полоса света из коридора попадает на бабку, скрючившуюся в углу.
— Я думала, ты сдох, — шамкает почти беззубым ртом. Совсем старая, сморщенная, как будто ей лет двести. Впрочем, почему «как будто»? — Чего приперся? Жили без тебя хорошо. Безбожник.
— А я думал, что сдохла ты. — Гриша останавливается на пороге. В комнате и правда непередаваемо смердит старостью и мочой. — Ты же знаешь, что тебе придется это сделать. Как я и говорил. Введи его в курс того, что происходит. — Складывает руки на груди. Бабка скалится деснами, смотрит злобно крошечными глазками.
— Мои бесы, меня пусть и мучают. Он хороший мальчик…
— Он спивается, баб Шур. — Гриша щелкает выключателем, прикрывая за собой дверь. Старуха закрывает глаза ладошками. — Я бы тебе потолок разобрал, да ты не на том этаже поселилась. Давно бы уже отошла. А так себя изводишь, его изводишь. Богомолица. Где твой Бог сейчас? Почему не заберет? Потому что ты людей портила. Грехов на тебе столько, что не отмолить. — Проводит пальцами по изрезанным ногтями обоям, всматриваясь в символы.
— Не так, как сестрица моя. Все грехи ейные терь на тебе. Толик не заслужил так жить и так умереть.
— Толик, может, помогать бы стал. Сердце у него золотое, доброе. Хоть и наивным вырос. Ты все упрямишься, жадничаешь, за жизнь цепляешься. Сколько прожила-то уже, ну? А все помереть не можешь. Сдаст тебя внук в дурку, там секрет долго не продержится. Знаешь ведь, что за это бывает. — Гриша приоткрывает окно, чтобы проветрить. Бабка замирает, а потом быстро на коленях ползет к кровати, засовывая голову под свисающее одеяло. Копается там, грохочет чем-то.
— Они скоро опять придут. Помоги мне, а? Ты же можешь. — В сухих трясущихся ручках оказываются две вырезанные из дерева фигурки. — А я тебе расскажу, куда Маня записи про вису краденые спрятала. Хочешь?
Гриша отрицательно мотает головой. Какие еще записи?..
— Отдай. Отдай ему и отойди с миром. Мы дальше разберемся. Только отдай уже.
Старуха мотает головой, вешая на себя деревянные сокровища. Что, крест святой не помогает? Подобное подобным выгоняют. Гриша вытаскивает из кармана сверток, мягко разворачивая, чтоб не повредить высушенные стебли.
— Смотри, что у меня есть. Тебе ночь даст продержаться. Ты только отдай, тогда они тебя не тронут. Ты им что обещала?
— А ты как думаешь? Молодая была, глупая. Сто лет служения в обмен на сто лет служения. А я не хочу. Они же меня измотают. — Быстро рассыпает вокруг себя круг из соли. — Толику прохода давать не будут, за штаны дергать. Дай нам дело, мы без дела не можем, — бормочет себе под нос. Гриша фыркает. Вот же противное создание.
— Отдай, и я обещаю, что помогу тебе отойти, не выполнив условий. — Помахивает скруткой. — Всего-то поджечь надо.
— Нет! — бабка шипит рассерженной кошкой. — Не отдам. Таким же бесовым отродьем станет, как ты. Таким же гадким, мерзким богохульником. Это проклятие нашего рода, и он не должен принимать его на себя. Пусть живет. — Задирает голову, пялясь в угол. Ее лицо мнется, словно пластилиновое. — Они пришли, пришли. Мучить меня будут, кости пересчитывать. Помоги мне, пожалуйста, что тебе стоит. Не будь такой же тварью, как Манька была.
Гриша молча выключает свет и покидает комнату, возвращается на кухню с мыслями, что нужно было отлить себе водки на всякий случай. В телевизоре продолжается задорное сношение, из комнаты старухи доносится только тихое постанывание. Интересный аккомпанемент. Гриша закуривает, положив скрутку перед собой.
Грохот, топот маленьких ножек, тишина. Он слышит хриплое дыхание старухи, по-звериному злое. Не желает она принимать положение вещей таким, какое оно есть. Пусть помучается тогда, однажды должна устать противиться.
— Гри-и-иша-а-а-а, — старуха стонет из комнаты. — Помоги мне, они же мне всю кровь выпьют.
Он лишь фыркает, смачно затягиваясь сигаретой. Подождем. Собирает грязную посуду по армейской привычке, выбрасывает все недоеденное в переполненную мусорку. А Толик-то не торопится делать уборку, раковина уж плесенью черной подернулась. Да. Много работы предстоит. Гриша принимается отмывать тарелки и счищает налет с чугунных сковородок, посвистывая, пока баба Шура медленно увеличивает громкость воя, как будто кто-то крутит радиоприемник. Он смотрит на часы. Через полчаса как раз дойдет до нужной кондиции.
Звон, грохот, вскрик. Топот по прилегающей к кухне стене. Быстрые, торопливые шаги в коридор и обратно. Учуяли, надо же, даже проверять не стали. Гриша посматривает в телевизор, к обнаженной паре присоединились еще двое подкачанных мужиков. Это ж куда они ее собираются? Неужели, так сказать, во все самое дорогое? Дверь в бабкину комнату содрогается от удара, старуха хрипит, матерится на бесовом наречии.
— Что, все еще хочешь сказать, что я не прав? — перекрикивает шум воды, повернув лицо к коридору, чтоб услышала. — Они так десятилетиями могут.
Вляпывается рукой в размякшую в воде котлету, брезгливо стряхивая с пальцев. Анатолий, кто ж тебя учил еду замачивать? Псинам бы отдал, занялся благотворительностью. Еще один мощный удар в дверь, громкий скулеж. Не могут из комнаты вытащить, все предусмотрела, дверь-то вроде на соплях держится, а все никак.
Гриша выключает воду, садится на табурет натирать тарелки полотенцем. Время еще есть, упрямству старых поем мы песню, особенно тех, что войну пережили. В Шимвери еще родились, когда деревня была, это потом Союз город выстроил вокруг завода. Во время войны они все по лесам прятались да немчуре помогали благополучно в болоте упокоиться. Несгибаемое поколение.
— А хочешь, я сам ему передам? А то подустал, понимаешь. Баба Маня меня сутки почти за руку держала, пока не отошла, все просила позвать еще кого-то. Мне одному столько не надо. — Раскладывает посуду по полкам, параллельно сгребая мусор со стола в ведро. Пол бы протереть, да только чем? То, что Лебедев считал тряпкой, валялось в углу, старое, серое, с проплешинами. — Ты подумай, я пока мусор вынесу. — Открывает окно на кухне, вылетает с ведром на лестничную клетку. Останавливается в пролете, закатив глаза. Надпись, что привлекла его внимание до этого, благополучно пропала. Начинается. Это мы так скучали?
Мусорка тут только в соседнем дворе — массивные контейнеры с намороженными ледяными шапками сверху. Гриша добегает до нее за минуту, тут же стартуя назад. В кухонном окне стоит фигура: тощая, длинная, как будто женская, медленно покачивается из стороны в сторону. Вот же… Гриша присматривается, но ничего, кроме очертаний, разглядеть не получается. Знакомый силуэт. Так, спокойно. Нужно будет решить вопрос радикально — решим.
Взлетает по лестнице, вбегая в квартиру, и сразу спешит на кухню. Никого. Скрутка так и лежит на столе, чуть раздербаненная. Ага, значит, все-таки нервирует даже в сухом виде. Замечательно.
— Гриша-а-а-а-а, — новый стон из комнаты, переходящий в визг. Он лишь отмахивается, хватая ведро и набирая в него крутой кипяток из-под крана. — Помоги-и-и-и! — последнее уже совсем хриплое, высокое, почти нечеловеческое. Но от страха и не такие звуки издавать будешь. Гриша льет кипяток на линолеум, отпрыгивая в коридор и решив подождать, пока грязь отходить начнет. А то ботинки прилипают… Подходит к двери, прислушивается. Детский голос отсчитывает до десяти шепотом, бабка повизгивает от ужаса, снова топот, снова удар прямо рядом с лицом, но дверь ничего, держится.
— Так ты согласна? Либо я, либо они, выбирай. — Включает второй светильник в коридоре, придирчиво осматривает. Пока тут все отмоешь, от вони уже сам состаришься.
— Согласна, согласна, только пусть они уйдут, — верещит, заходясь в рыданиях. От-лич-но. Гриша идет до комнаты Толика, аккуратно приоткрывает дверь. Лебедев храпит на диване в одежде, приобнимая недопитую бутылку. Вот и славненько… Возвращается на кухню, залезая ботинком в кипяточную лужу, поджигает скрутку мастерским движением, дует, заходит в комнату, выставив перед собой, и врубает свет.
Рядом с бабкой сидит голая девка, вся в угольной пыли, только лицо чистое. И глаза белые-белые, треугольные острые зубы, широкая, радостная улыбка. Почуяв запах, она кричит раненой птицей, пытается кинуться, но не может. Отползает в дальний угол, трясясь всем телом.
— Так нельзя, — шипит, скалится. Голос густой, не мужской и не женский. — Моя она, моя! Кто платить будет?
— Найдем мы, как с тобой расплатиться. — Гриша спокоен. Зверобой чадит так, что слезы из глаз градом льются. — Иди уже. — Чихает, взмахнув скруткой для пущей убедительности. Девка подскакивает к нему, сунув что-то в карман, и с визгом на четырех конечностях выбирается из комнаты, хлопает входная дверь. Фу. Гриша оставляет дымящиеся травы на столе, легко подхватывает бабу Шуру на руки. Ох и смердишь ты, старуха, сил нет… Давит рвотный рефлекс, аккуратно вынося из комнаты. — Давай я в ванну тебя положу и его позову, чтоб помог? Вот и отойдешь спокойно, не в тряпках обоссанных.
Бабка трет маленькими кулачками глаза, всхлипывает. Страшно, да, а что поделать.
— Только обещай, что за ним присмотришь. А то я тебя с того света достану, — говорит тихо, как будто еще больше сморщиваясь. Гриша только фыркает, включая воду и аккуратно подсадив на бортик, расстегивая пуговицы на ободранной запачканной пижаме.
— Не достанешь. Если сунешься, тебя эта вон найдет. Глупостей не делай. — Старуха быстро-быстро кивает и тянет руки. Гриша аккуратно укладывает ее в ванну, включая воду. Все тело в красных пятнах, местами в корках и гное, он без капли брезгливости поливает ее душем, мягко намыливая. — Нормально все будет. Научится, людям помогать станет. С этой мы как-нибудь договоримся, да и с остальными тоже. Не переживай. Я его не оставлю одного. Семья все же.
Бабка кивает, жалобно вздохнув.
— Слушай, а сколько тебе лет, а? Признайся напоследок.
— Такое неприлично у дамы спрашивать. — Старуха улыбается смущенно. В молодости красотка была, старые фотографии подтвердят, румяная, с ямочками на щеках… Всех извела. И деда, и с сестрой переругалась, лишь бы все по ее воле было, и сын сбежал, как только школу окончил. Толик вон пять лет назад только вернулся, когда родители заживо в квартире сгорели. Говорит, голоса ночью слышались, с ума родителей и свели. Так и его бы довели, если бы бабка продолжила упорствовать.
— Я виновата во всем. Что Анька с Ванечкой погорели, это все потому, что умирать не хотела. Ты же понимаешь, это хуже проклятия. — Откидывается на бортик ванны, смотрит пронзительно, трет нос в пигментных пятнах. Только исповеди не хватало… — А Толик, он же чувствительный ко всему. В детстве все с кем-то по ночам разговаривал, даже я не видела. С ума сойдет, когда откроется правда, — скрипит как несмазанная дверь. Гриша качает головой. Да, он помнит, как это. Сам чуть дуба от ужаса не дал, когда осознал, насколько раньше был слеп.
— Я за ним пойду. Ты давай не раскисай раньше времени. Успеется. — Отстраняется, смывая мыльную пену с рук. Не повезло нам с тобой, Анатолий, лучше бы в нормальной семье родились, теперь за грехи стариков до смерти расплачиваться.
Толик просыпается от легкого потряхивания по плечу, дергается весь.
— Тихо. Это я. Я бабку умудрился успокоить, помоги ей помыться, пожалуйста.
Лебедев кивает, на автомате поднимаясь и следуя по нужному маршруту нетвердой походкой. Закрывается дверь, Гриша возвращается на кухню, встает на колени и начинает собирать подстывшую воду с пола старой майкой, выжимая в ведро. В ванной совсем тихо, да Гриша и не прислушивается. Не его дело. Грязную жижу сливает в раковину, тут же набирая новую и натирая тряпку мылом, чтоб пену дало. Сначала отмочить, потом отмывать.
Гриша не уверен, сколько прошло времени, когда, наконец, скрипит дверь. На пороге — Толик, по виду совсем трезвый, губы трясутся, глаза красные-красные.
— Умерла. — Всхлипывает. Да неужели?!
Гриша неловко подходит, кладет ладонь на плечо. Не умеет утешать, что поделать. Толя быстро моргает и выходит из комнаты, слышно, что возится с телефоном. Гриша заглядывает в ванну, бабка лежит с открытыми глазами и мягкой, теплой улыбкой.
Спи спокойно, старая сволочь.
2
Квартира бабы Шуры представляла собой типичный для семидесятых советский шик. Бордовые и горчичные обои в ромбик и полоску, югославская стенка бургундского оттенка, огромное количество хрустальных фужеров и посуды на все случаи жизни, особенно выделялась переливающаяся бензином рыбница, которую бабка специально хранила под стеклом на видном месте, чтоб завидовали родственники; коричневый линолеум на кухне и паркет-елочка в остальных комнатах, голубая плитка в ванной, потертая от времени чугунная купель с изогнутым краном и прозрачными пластиковыми ручками горячей и холодной воды.
Типовые шторы во всех комнатах, двери из ДСП, белая изначально, но пожелтевшая от времени кухня. И можно было бы назвать эту квартиру обычной, если бы не одно «но».
Каждая дверь исцарапана знаками. Символы в виде примитивной рисовки человечков, деревьев, можжевельника и всевозможных растений были нанесены хозяйкой очень скрупулезно. В гостиной, где она доживала свои последние дни, на обоях красовались те же знаки, но тут, без сомнения, постарались бабкины ногти, сломанные от усердия до крови, поэтому впечатление складывалось просто потрясающее в своем безумии. Подобная наскальная живопись точно отпугнет всех, кто приедет старуху проводить, не дай бог пойдут слухи. С другой стороны, всегда все можно списать на сумасшествие бедной Шуры, но и тут есть небольшая оговорка. В Линдграде старуху знали как колдунью, мол, и проклясть может, и приворожить, и даже со свету сжить. А если слух пошел, то бедному Анатолию эту квартиру больше не продать, только приезжим, и мечты о возвращении в Петербург можно забыть. Кто в своем уме поедет жить в Линдград? Впрочем, квартира ему и не светит по очереди наследования.
Приехавшие менты и скорая ничего не говорят, только лейтенантик глаза округляет и выражает подозрение, что все неспроста, за что оказывается безжалостно избит скрученной в рулон газетой старшего товарища. Лейтенант Иван Фурсов долго рассматривает знаки и символы, даже пытается сковырнуть пальцем и попробовать на зуб штукатурку в комнате, точно ли в крови. Судмедэкспертиза вкусовых рецепторов Ивана результата не дает, посему он с очень грустным лицом удаляется заполнять протоколы. Гриша все это время стоит в коридоре, скрестив руки на груди, и дает показания. Анатоль совсем от горя загрустил, поэтому во всех подробностях рассказывал товарищам милиционерам, сколько он с бабой Шурой натерпелся, как по ночам она скакала по стенам и спать ему не давала. Лейтенантик очень усиленно кивал, стенографируя, за что получил газетой второй раз. Его щекастое, почти детское лицо так куксится, что Грише хочется дать ему конфетку, чтобы не расплакался. Толика спать укладывают все вместе, добрейший врач скорой помощи с усталыми красными глазами и черной мохнатой родинкой под глазом колет ему снотворное, чтобы прервать поток откровений Лебедева обо всех чертях, что навещали по ночам покойницу. Шок у человека, понимаете ли.
Остаток ночи они вместе с пришедшим соседом и по совместительству собутыльником братца драят квартиру, двигают мебель, чтоб закрыть знаки, Гриша ножичком счищает с дверей символы, прерываясь на горевание и слезы Анатолия, который периодически просыпается от кошмаров. Он только вздыхает и молча приносит еще водки, пока под утро дорогой брат не вырубается мертвым сном.
Гриша отправляется в лавку гробовщика на рассвете, который в это время года наступал не раньше девяти утра. За ночь подтаявший вечером снег заморозило в лед, и город превратился в каток под открытым небом. Сизые рассветные сумерки, полупрозрачные молочные облака, тающие в ночной синеве чуть повыше, под ногами вьется поземка, ветер прошибает до костей. Дом, милый дом. Уже и забылось, как оно.
Осинового гроба в наличии не оказывается. Гробовщик не теряется и задирает цену вдвое. Гриша в расстроенных чувствах топает на автобус, чтобы доехать до домиков на окраине, в которых живет одно старичье. Не все при основании города были готовы переселиться из своих халуп, то ли по глупости, то ли потому, что так привычнее, на них плюнули и оставили небольшой островок деревенской цивилизации, обозвав Красногвардейским микрорайоном.
В автобусе слишком жарко, печка высушивает воздух до слезящихся глаз, Заболоцкому приходится расстегнуть ватник, усевшись на просиженное кресло с жесткой обивкой. Пассажиров всего трое, помимо него, и все старики: нахохленная круглая бабка в мутоновой шубе с мешочком зеленого цвета, помятый с похмелья дед, севший на задний ряд и потягивающий маленькую чекушку, и тощая сморщенная старушка с добрыми карими глазами, зевающая в кулачок у окошка. Водитель стартует так, будто все черти бабы Шуры за ним погнались разом. Ну и хорошо, быстрее доберется.
Красногвардейский за два года еще больше обветшал. Покосившиеся старые домики теперь, кажется, держатся на одном слове божьем, изб с пустыми черными глазами заметно прибавилось. Население умирает, а молодежь старается уехать или в центр, или вообще прочь из города, чтобы попытаться хоть где-то нормально пожить.
Подкупив какого-то деда бутылочкой, Гриша забирает старые ненужные осиновые доски и второй бутылкой организовывает их перевозку до города на машине того же самого старикашки. Лебедев как раз просыпается и отправляется в морг на подготовительные мероприятия. Ночь накануне похорон полагалось провести с покойной, чтобы попрощаться, поэтому остатки родственников уже устремились в Линдград. Нужно успеть все подготовить. Гроб Гриша колотит в квартире при помощи радостных соседей, которым впервые за последнее время удалось поспать спокойно. Да, выражают сочувствие, но не очень успешно сдерживают счастье от того, что сумасшедшая старуха их, наконец, покинула. Когда Лебедев возвращается, он обнаруживает Гришу спящим прямо на полу в обнимку с бабкиным гробом и каким-то чудом обходится без инфаркта.
Сегодня вечером, когда Шуру привезут, все должно быть на своих местах. День они благополучно продрыхли, очнувшись только в сумерках. Гриша тащит клетчатый мешок на спине, в бабкиной комнате на столе стоит гроб, остается в него упаковать старуху.
Он пытается отдышаться, скидывая мешок на пол. Вроде не тяжело, но из-за массивности груза тащить его, не сломав содержимое, крайне неприятное занятие.
— Это что? — Толя бледный, как будто сам помирать собрался.
— Березовые веники. — Поджимает губы. — Ну чтобы украсить листьями. Ты же знаешь, что так принято.
— Принято не принято. Мне эти твои традиции уже, знаешь, где. Она меня заколебала своим храмом, своими свечками, молитвами… Ты еще… Что вообще это символизирует? Что Христос был русский и распяли его на березе?
Гриша хихикает, закусывая губу, и стараясь не начать ржать в голос. У человека горе, рано пока.
— Некоторые люди в нашей стране удивились бы, если бы узнали, что это не так. Ну те, которые евреев ненавидят, а крест животворящий носят. Но сейчас не об этом. Береза же священное дерево — чтобы ничего страшного не случилось, покойница там не сбежала…
— Сбежала? Это шутки у тебя такие дебильные? — Толик смотрит с глубочайшим скепсисом.
— Нет. Просто так говорят. Тебя в детстве не пугали этими байками? — Гриша садится на пол, отрывает листья от веников аккуратно, чтобы не повредить.
— Нет. У меня родители так-то физики оба были, отец от бабки свалил сразу после школы, потому что устал от этого бесконечного потока бреда. Ай, похуй. Делай, как считаешь нужным. — Машет рукой, закуривая прямо в комнате. Через час доставят покойную, через два все соберутся. И соседи тоже… А с утра на кладбище, и дело с концом.
Гриша в ответ лишь пожимает плечами, продолжая шуршать листьями. Анатолий нервно перебирает мраморных слоников, пытаясь расставить их в каком-то логическом порядке на полке, но занятие это заранее провальное.
— А кто приедет? — Гриша откидывает ветки в мешок. — У нас кто вообще остался? Я путаюсь в родственниках.
— Ну, смотри. — Толя поджимает губы. — Баба Шура и баба Маня были сестрами. Так? Так. У бабы Шуры было двое детей — мой отец и тетка Зоя. У бабы Мани только дочка, мать твоя, тетя Жанна. Если с твоей стороны никто не собирается сбежать с кладбища, посетит нас только тетя Зоя вместе со своими детьми и мужем. Ну, может, еще мой папаня из могилы восстанет, чтоб порадоваться. Еще соседи придут, коллеги с работы… Ты знал, что она работала на заводе в свое время? Я вот только недавно узнал. Думал, у нее образования не было, а она, оказывается, Ленинградский техникум окончила, за выслугу лет квартиру дали. Чего ей только не сиделось в самом Ленинграде, не понимаю, все равно сюда вернулась. Проклятое место. Говорила, сюда все всегда возвращаются, живые или мертвые, потому что место нужное, земля особая. Кому оно нужное, не понимаю. — Укладывает чистую простыню в гроб. — Как думаешь, вонять будет?
— Не знаю. Ты же ладан поджечь хотел, чтоб все по-христиански было, как она любила. И гроб головой в красный угол разверни.
— Хотел, только отпевание ей в церкви так и не заказал. С Володиным батей там что-то случилось, болен вроде, а может, и помер вообще. Как все не вовремя. — Хмурит жидкие брови, расправляет подушку. — А накроем чем? Надо ж, чтоб красиво.
— Ага, штору новогоднюю на нее положи, она с того света вернется, чтоб тебе по лбу надавать. — Гриша усмехается.
— Знаешь, я бы не удивился. Сейчас главное — успеть ее переодеть.
Гриша заканчивает с вениками, рассовывает по разным пакетам ветки и листья, подметает за собой сор. Выходит на балкон, кинув на плечи ватник и затягиваясь сигаретой. Анатоль остается в комнате. Отлично. Хоть время поразмышлять о насущном есть. Как донести до братца простую истину, он пока не придумал, зато нашел бабкин похоронный наряд в специальном чемодане. Красивый такой, тонко обметанный, не порвать бы невзначай. Фиолетовый дым вьется колечками, с неба смотрят редкие звезды — глаза волчат. Новолуние. Без луны совсем тоскливо. К подъезду подъезжает черная машина из морга, вылезает санитар с матом, задирает голову.
— Ваша покойница? Спускайтесь давайте, мы не дотащим. — И бежит открывать заднюю дверь. Ну да. Ей, в принципе, уже все равно, не замерзнет. Не дотащат они, как же. Все дурачками слабенькими прикидываются, а как денег заплатишь, так сразу земля силу дает, не иначе. Он вон бабку давече один таскал и ничего, а тут два лба здоровых. Гриша возвращается в квартиру, кивая Толику, мол, собирайся. Пора.
Лебедев бежит вперед, даже не подумав, что нужно одеться, но Гриша ничего ему не говорит. Шок дело такое. Бабку на носилках затаскивают вдвоем, старуха как будто потяжелела после смерти, санитары скалятся приветливыми улыбками протокольных рож из УГРО и прыгают в машину, тут же уезжают. Лебедев идет впереди, стараясь смотреть куда угодно, только не на черный мешок.
— Я сам переодену. — Гриша поджимает губы. — Успокойся. Сходишь пока в магазин за водкой, она тебе еще пригодится сегодня. — Толик в ответ коротко кивает, они заходят в квартиру. — Слушай, а почему они ее не переодели?
Лебедев открывает и закрывает рот, его взгляд выражает полнейшую растерянность.
— Они сказали, что это платно. А у меня денег только на кладбище хватило, а на них нет. Они еще грим предлагали, формалином накачать, чтоб как живая была, припудрить носик, но это все таких денег стоит, что я даже не знаю. Откуда им у меня взяться? — Чешет череп, лицо кривится в болезненной гримасе, в желтом свете хрустальной люстры делая его похожим на демона с рисунков, которые Черносвитов показывал как доказательство существования ада. — Типа я за перевозку туда-назад заплатил, клятвенно пообещал, что носилки вернем. Может, отвезет кто из родственников, я не знаю.
Гриша качает головой.
— Иди за водкой, Толя.
Когда дверь хлопает, Гриша внутренне подбирается. Что ты, Гришенька, трупы не видел? А чего ж тогда так готовишься, будто не видел? Расстегивает мешок, закусив губу. Баба Шура с открытыми глазами, губы потемнели, из розовых превратившись в бордовые. Совсем белая, лицо похоже на восковую маску. Вскрытие показало, что старуха скончалась от остановки сердца, так брат говорил. Ну что ж. Санитары даже не потрудились ее накрыть, так и упаковали в мешок нагишом, шов кривой, как будто патологоанатом был пьян. Впрочем, это ожидаемый поворот событий, и к нему как раз вопросов никаких.
Подготовленная вода и мыло уже стоят в комнате, Гриша быстро омывает ее не без брезгливости. Какая же она холодная, черт возьми. Мыло сует в карман, воровато оглядевшись. Пригодится.
Он снимает с вешалки платье, критически осматривает. Как-то они не подумали, что на располневшую с возрастом Шуру оно может не налезть. Надо поторопиться, пока Анатолий не вернулся и не впал в очередной нервный приступ. Старуха совсем мягкая, но очень тяжелая. Может, так влияет груз ее грешков? Кто бы знал. Продевает ледяные руки в рукава, голову придерживает, кривится, заметив зубчатый шов поперек черепа. Ну хоть зашили… От нее исходит совсем легкий трупный запах, гниение остановлено чудесами холодильного аппарата. Бабка валится на Гришу, впериваясь невидящим взглядом, его аж передергивает от могильного холода; он трясущимися руками застегивает железные крючки на спине и подхватывает на руки. Сука… В нее что, в качестве бонуса зашили пару гирь? Сваливает в гроб с грохотом, переводя дыхание. Быстро расправляет легкие складки платья, с трудом натягивает на разбухшие ноги туфли из тех, что поприличнее, завязывает передник, водружает на голову расшитый повойник и накрывает белым холстом. Поправляет волосы так, чтобы шов не видно было, подбивает края платья для опрятности и стартует в ванную, сдирая с себя одежду по пути и подставляя ладони под кипяток из крана. Сука-сука-сука.
Гриша залезает в душ, сгрузив одежду в таз под ванной, мылится обильно, будто пытается кожу живьем содрать. Нужно, чтобы ничего не осталось, иначе точно придет во сне и будет кошмарить, тянуться скрюченными руками, пытаться до кадыка дотянуться длинными когтистыми пальцами, проколоть кожу, вырвать трахею.
Наваждение рассеивает громкий стук.
— Толь, принеси мне шмотки из комнаты! — Из одежды осталось только армейское. Черт с ним, бабка не обидится. Лебедев шаркает ногами по паркету, покашливает, стучит дверями. Сука, ну какой же ты медленный… Гриша выключает воду, кутаясь в жесткое старое полотенце, еще раз умывает лицо. Лебедев все шарится по квартире, что слепой котенок. Нажраться уже успел, зараза? Гриша чистит зубы на всякий случай, предвкушая огромное количество сигарет и спиртного, Анатоль быстрой перебежкой топает мимо ванной и затихает. Чтоб тебя. Завязав полотенце на бедрах, Гриша открывает дверь, выпуская плотные горячие клубы пара.
— Толь, ты глухой? Или уже наклюкался по пути?
В квартире тишина. Гриша в недоумении обходит комнаты, но брата не находит. Странно. Ладно, может, соседи. Из зала убирает трупный мешок, заталкивает в мусорку на кухне, закуривает, решив придать дражайшей бабе Шуре финальный вид, и замирает с сигаретой в зубах. Бабкино платье свисает с края осинового гроба.
Сука, поправлял ведь специально.
Входная дверь хлопает, слышится знакомый тихий матерок. Анатолий идет сразу в зал, остановившись на пороге и взглянув на Гришу тяжелым взглядом.
— Ты некрофил? — Как-то слишком сильно сжимает стеклянное горлышко вожделенной бутылки. Гриша аж теряется, разводя руки.
— Ты идиот?
— А почему тогда голый? В зале с трупом. По телевизору есть передача про маньяков. Чикатило, если ты не знал, тоже был некрофилом. И ожерелье ей надел, посмотри-ка.
— Какое ожерелье?
Гриша возмущенно хватает ртом воздух, но нужных слов не находится. Толик подходит к гробу, критически осматривает бабу Шуру, а потом резко поворачивает голову уже без тени издевки.
— Ты че, реально некрофил? Хули у нее юбка задрана? — Перекатывает бутылку в пальцах, переворачивая. Теперь она похожа на крошечную стеклянную биту, по голове получить очень не хочется. А что ему сказать? Я тут мылся, а бабка по квартире бегала?
— Я не успел поправить, сразу в душ пошел. Трупная вонь — дело тонкое. Ладан свой поджигай лучше. Носилки еловые сделал, как я просил позавчера? — Отмахивается с напускным спокойствием. Сам пусть поправляет. Где там мешок с березовыми листьями? Самое время переодеться и ими воспользоваться. В дверь звонят. Пока Гриша натягивает разбросанный армейский скарб, в коридоре слышатся голоса. Сколько лет он родственников не видел? Десять?
— Толечка, ты так возмужал! — Грузная тетя Зоя с огненно-рыжими волосами расцеловывает брата, оставляя на щеках маслянистые следы розовой помады. — Гришка! — Прет с напором локомотива, ему остается только замереть испуганным зайцем перед неотвратимым приближением медведя. Очень, кстати, дружелюбного. От тети Зои пахнет, как от всех женщин ее возраста: едкая «Красная Москва» с сигаретным послевкусием. Она сжимает его в могучих объятиях, оцарапав руки расшитой бисером блузкой. — Жених вырос какой, девки вешаться будут.
Гриша неуверенно кивает. Пусть так, любимая тетушка, вы только не вешайтесь так активно, а то вас не удержать. Ее муж, долговязый смуглый армянин с усами-щеткой, предпочитает ограничиться рукопожатием. Сколько таких пар в этой забытой богом стране? Она — круглая хохотушка и он — длинный, несуразный и косноязычный.
— Теть Зоя, а где…
— В магазин побежали, сигареты кончились. Ночь длинная предстоит, — ее румяное улыбчивое лицо вдруг становится серьезным. — Ничего странного?
— Нет, что вы, — Гриша обворожительно улыбается. Ладно обои прикрыли, но двери-то не успели заменить. — Сами понимаете, бабушка уже не в своем уме была, так что ничего такого, что могло бы удивить.
Женщина кивает, почесав круглый зоб.
— Вот и хорошо. А гроб…
— Осиновый, — улыбка шире. — Вот только березовые листья еще не разложили. Вы не волнуйтесь так, — Гриша — само обаяние, проскальзывает мимо тетки и утекает в зал, — смотрите, сами можете убедиться.
Зоя подходит к гробу, натужно вздыхая.
— Я сама с листьями, хорошо? Хочется побыть с ней наедине, — сует толстые пальцы под холстину, явно в поисках бабкиной руки. Поздно, дорогуша, поздно. — У меня там овсяный кисель и кутья в сумке, разбери, пожалуйста. — Гриша кивает и удаляется восвояси на кухню, где Анатолий вместе с армянином разливают водку по рюмкам.
— Арсен, — тянет руку, — соболезную вашей утрате…
Лебедев открывает рот, чуть не разразившись длинной тирадой обо всех своих страданиях, но Гриша делает ему большие глаза. На поминках постенаешь. Рано.
— Гриша. Спасибо. — Лучше бы денег дал. — Мы очень ценим, что вы приехали. — Оставив бабку на произвол судьбы много лет назад. — Тетушка, наверное, очень расстроена…
Арсен кивает, с тоской глядя на рюмку.
— Да. Она так торопилась, как будто не успеет. Я говорил, мол, без нас не закопают, что ты так переживаешь. В первый день хотела приехать, так распереживалась, как вы тут одни. А кто гроб колотил?
Анатолий замахивает рюмку, прикладывая кулак к носу и жмурясь.
— Я колотил. Толе очень тяжело, она на его руках умерла, — Гриша присаживается на косой табурет, жестом отказываясь от алкоголя.
— Понятно, — коротко подводит итог Арсен. Хлопает дверь, Зоя залетает на кухню с красным от ярости лицом, впившись взглядом в Гришу. Лебедев внимания не обращает, продолжая откушивать горячительное вместе с дядей, который голову вжал в плечи, увидев жену в недобром настроении.
— Да? — Гриша вежливо улыбается. — Покурим?
Зоя поджимает губы. Сейчас она ему эту сигарету сунет прямо в… Идет в коридор грузно, походкой выражая недовольство. Ее бы воля, она бы Гришу в паркет закатала, да только нельзя. Вряд ли Арсен в курсе. Оказавшись на балконе, Зоя вытаскивает тонкую сигарету, особенно комично выглядящую в ее жирных наманикюренных пальцах, и подкуривает, не дожидаясь, пока Гриша поднесет ей зажигалку.
Он смиренно ждет, поглубже зарываясь в одежду, как воробей в песочную ванночку.
— Кто? — выдавливает из себя тетка, выпуская дым носом.
— Толя, — Гриша смотрит наверх, чтобы не напороться на полный ненависти взгляд родственницы. Редкие звезды перемигиваются, серая облачная хмарь плавно течет по небу.
— Ты его надоумил, мразь? — Она плюется словами, с хрустом затягиваясь и нервно подергивается всем телом. — Это тебя старая перечница научила, да? Ты соврал, что разобрал потолок, я поняла. На ее похоронах еще ясно было, что что-то не так. Не должны у нас мужчины этим заниматься, это против правил.
Гриша устало вздыхает.
— Теть Зой, каких правил? Которые вы сами себе придумали? Кто успел, тот и съел, вам ничего не светит. Только грызть локти, что пошло не по вашей родове. Обычно же через поколение, — сжимает кулак в кармане. — Вы березовые листья разложили?
Женщина свистяще выдыхает.
— Разложила. А ты подумай, что теперь с ним делать. Он же не понимает ни черта, только в водке и смыслит. Какой с него нойд? Смех. А с тебя? Колдун с винтовкой? Позорище. — Она брезгливо отряхивает шубу. — Вырождение. Столько поколений, и теперь вы… — Сплевывает с балкона. — Чем старухи думали?
Гриша переводит на нее свои мутные, водянистые глаза.
— Надеюсь, что вы правильно разложили листья. А то она уже вставала, — говорит равнодушно и выходит в тепло, раздраженно скидывая верхнюю одежду в прихожей. Началось в колхозе утро.
Гости прибывают. Женя и Веня, дочь и сын тети Зои, несут массивные клетчатые сумки, вслед за ними подтягиваются соседи, имена которых Гриша даже не помнит, последними приезжают парочка стареньких коллег с платочками. Вот кто действительно скорбит.
— Александра Владимировна была замечательной женщиной, — старушка держит в своих сухих ладонях руки Гриши и трясет их, будто это поможет доказать ему этот факт. — Столько раз меня выручала, помогала! А ее подарки приносили удачу, мы это всем заводом знали.
Он в ответ рассеянно кивает, неловко приобнимает бабушку и направляется в зал. Вокруг гроба толпятся люди, но никто не решается начать. Скоро полночь, а они так и не могут решиться. У изголовья стоит тетя Зоя в черном платке с лицом самой несчастной женщины на земле и принимает скромные соболезнования. Так, хватит уже. Гриша хлопает в ладоши, заводя:
— В среду, во вторник умер покойник, пришли хоронить — он руками шевелит.
Толпа подхватывает знакомый местным мотив, запевая нестройным хором.
— В среду, во вторник умер покойник, пришли хоронить — он ногами шевелит.
Хлопки в ладоши, толпа приходит в движение, начиная пританцовывать и натужно смеяться. На Гришу наваливается тело, оказавшееся Анатолием. Тот уже достаточно пьян, но недостаточно, чтобы выкупить суть.
— Гриш, это что за хуйня такая больная происходит? — шепчет на ухо, цепляясь за плечи. — Они че, совсем ебанутые?
Гриша выдыхает. Как бы тебе так объяснить…
— Она официально не была замужем. Это очень порицалось. — Помогает Анатолию удержаться на ногах. — В нашей семье все, кто считается носителем знаний, не должны связывать себя узами брака. Потом как-нибудь расскажу почему. Поэтому их хоронят как юных и непорочных, как будто они не успели отгулять свое. Это просто традиция.
— …пришли хоронить — а покойник сидит!
Толя фыркает, крестится на всякий случай и отваливает, не выдержав такого потока информации. Гости бросают в гроб монеты и цветы, тетя Зоя бледнеет с каждой минутой, как будто и правда сейчас грохнется в обморок. Соседи обступают бабу Шуру, начиная прощаться. Они не должны сидеть до утра, но проститься и обрести уверенность, что старая стерва к ним не вернется даже из ада, были обязаны.
— В среду, во вторник умер покойник, пришли хоронить — он за нами бежит!
Один за другим мужчины и женщины подходят к гробу, кладут в него цветы и звенят монетами, говорят последние слова для покойницы. Вряд ли приятные, но тут уж кто как жил. Входная дверь хлопает, и хлопает, и хлопает… Люди снуют туда-сюда, большую часть из них Гриша видит впервые, они даже не здоровались, когда пришли. Когда они вообще пришли? Чашку с белым киселем передают из рук в руки, новоприбывшие кланяются покойнице.
В квартире слишком много народа. В зал заходят несколько молодых девушек, шурша длинными юбками, протискиваются через толпу. Рядом с гробом народ веселится и пляшет, кто-то притащил баян. Откуда тут баян? Гриша отходит в угол, трет глаза. Неизвестные продолжают выходить из коридора, кружат вокруг покойной, но цветы не опускают. Лемба. Так вот кто ей служил… Мог бы сразу догадаться. Лучше с Крестовым, чем с ними. Парень вжимается в угол, стараясь не дышать. Тетка не обращает на это внимания, позволив себе, наконец, начать тихонько плакать и отойти от изголовья. Хлопки, стройный хор, хохот. Люди хотят коснуться гроба, но останавливают руки в нескольких миллиметрах, невозмутимо проходя дальше по очереди. Соседи пытаются пройти к выходу, но толпа, подобно морским волнам, сносит их назад. Гриша не знает, сколько пришлось так простоять. Может быть, пять минут, а может быть, пять часов.
Очнувшись от наваждения, он взглядом выхватывает в толпе вытянутое, истощенное девичье лицо. Где он мог видеть ее раньше? Черные как смоль волосы заплетены в толстую тугую косу, дорогой заячий полушубок серого цвета, кровяно-красная помада. Девушка зло поджимает губы, прорываясь к покойной, ее лицо корчится в гримасе. Когда она поднимает серые, почти белые глаза, полные ненависти, на Гришу, в голове что-то щелкает.
«Моя она, моя! Кто платить будет?»
Гриша нервно выдыхает. Скрутка-то последняя была. Черт тебя возьми, старуха, удружила. Девка прорывается через толпу медленно, а он выскакивает в коридор, с грохотом врезаясь в вешалку и шаря глазами вокруг. Толпа в коридоре перешучивается, все такие опрятные, красивые, белоглазые. Гриша нашаривают ручку двери в комнату Анатолия, вваливается туда, пока девка не выбралась, и щелкает замком. Анатоль снова в обнимку с бутылочкой, весь в слезах. Кажется, он и правда не понимает, что тут происходит. В гостиной бабы начинают оплакивать бабу Шуру, взвывают так, будто их разом резать начали.
— Толь, — присаживается рядом, поглядывая на дверь, — ты как?
Лебедев поднимает розовые, блестящие от слез глаза, трясущимися руками пытается поджечь сигарету. В комнате дым, хоть топор вешай.
— Вы все ненормальные, — истерически всхлипывает. — Превратили прощание с бабкой непонятно во что. Какие песни, какие анекдоты, какое, к черту, веселение покойника? Хули они там орут? — Закусывает губу до крови, шмыгая носом. — Я хочу вернуться в Петербург и забыть об этом кошмаре. Как она стены царапала, ты слышал? И так каждую ночь. Умоляла меня ее зарезать, не давала себе помочь перевернуться, истерила, просила Бога ее забрать. И после всех мучений вы как будто глумитесь. Зоя еще приехала, ни разу ее не навестила, а тут воспылала дочерней любовью. Это один сплошной пиздец, — ручка двери дергается, но нежеланный визитер не может войти. Анатолий не реагирует, пока Гриша прикидывает, как им сваливать в случае чего. Из окна не хотелось бы.
— Че ты замолчал? Я, знаешь, как заебался ее мочу оттирать с пола? Обоссытся, обосрется, орет, что Бог ее не забирает. И в дурку не сдать, потому что она не угрожает своей и чужой жизни. Родителями дети должны заниматься, а не внуки. Катька бы, может, не сбежала, семью там, детей, дом бы построил, — тычется носом в кулак с зажатой между пальцев сигаретой. — Это ты сглазил ее. Сказал, что за упокой пьем. А надо было за здравие.
Как удобно верить в приметы, когда хочется кого-то обвинить в своих бедах. Гриша аккуратно приобнимает Толю за плечи, в дверь продолжают яростно ломиться.
— Вынос! Вынос! — раздается из коридора голос тети Зои. Вынос? Гриша в недоумении смотрит на часы. Половина шестого. Зараза. Сколько он там простоял?
— Давай пошли, — тянет брата за рукав. — Тебе еще речь на кладбище говорить. Давай-давай, — Толя мотает головой, вырывается. — Перестань вести себя как еблан, закопай бабку и делай что хочешь, — Гриша встряхивает его за плечи. — Последний рывок.
Анатолий ведет нетрезвым глазом по комнате, кивает без энтузиазма. Гриша помогает брату опереться о себя, аккуратно открывает дверь, выглядывает. В коридоре лишь недовольная Зоя окрапляет водой порог, остальных уже нет. Пахнет жженой берестой.
— Давайте уже, у нас электричка в Петербург скоро, — она выходит из квартиры, поправив пышную шубу. Гриша только вздыхает, одевая Анатолия в куртку и помогая зашнуровать ботинки, тот еле на ногах стоит, все стену обнять пытается. Дерьмово это. Гриша вытаскивает его в подъезд, не успев даже застегнуться. У дверей дома Толика подхватывает Веня, кивает понимающе, мол, не боись, все решим. Вот и славно. Мужики стоят с гробом, готовясь к неблизкому пути, Женя водружает сверху погребницу. Раньше надо было, все не слава богу в этой семье. Гриша подходит к тетке, дергает за рукав. Толпа лемба завывает впереди, девки надрываются, сморкаются в платки, сипло задыхаясь.
— Не подходи к ним. Они на кладбище не зайдут, но ты же понимаешь, — тихо шепчет Гриша, касаясь ладонью пушистого шубного меха. Зоя дергает плечом, скидывая руку.
— К кому? Мы уедем сразу после похорон. Сорочины уж как-нибудь сами.
Ну сами так сами. До кладбища идут молча, только Анатолий периодически мычит и пытается пристроиться поблевать в ближайших кустах. Толпа незнакомцев и правда сворачивает в противоположную сторону, но никто внимания не обращает. У кладбища стоит девка, всклокоченная, незнакомая, Женя как ответственная за погребницу свистит, мужики останавливаются. Срывает тряпку с гроба, вручает девушке.
— Это вам.
Та смотрит непонимающе, но процессия уже движется дальше. Так принято, дорогая, в этом городе, не нужно ничему удивляться.
Копщики ждут у свежей могилы, освещая лица оранжевыми огоньками от сигарет.
— Толечка хочет последнее слово сказать, — тетка зябко ежится. Судя по Толечке, он уже ничего сказать не хочет, только устроиться молча под кустом.
— Я… — Подходит покачиваясь. — Баба Шура была очень хорошей. Помогла мне, когда мои сгорели, потом, правда, с ума сошла, но это ничего, она старенькая была. Сколько ей было? Сто? Сто пятьдесят? — Пьяненько улыбается. — Прожила долгую жизнь. Спасибо, — Веня подхватывает Лебедева, бабку медленно опускают. Одна из веревок срывается, и гроб с грохотом падает, Гриша морщится от звука, нащупывая в кармане круглый предмет. Вытаскивает на свет — уголек. И откуда? Переводит взгляд на могилу: крышка треснула вдоль, копщики активно работают лопатами, делая вид, что ничего не случилось.
— К еще одному покойнику, — безрадостно констатирует тетя Зоя.
3
Привет!
В Линдграде все как обычно, мать пилит вдвое больше, меня это задолбало. Как в армии? Не обижают тебя там? Я определилась с поступлением после школы, решила стать режиссером. Маме пока не говорила, она не одобрит, считает, что мне нужно на филологический, а я чем больше читаю наших классиков, тем больше понимаю, что мне там нечего делать, я слишком позитивно смотрю на мир. Возможно, это потому, что я еще не сильно много видела в жизни. Нет, парня я себе не завела, ты же знаешь, что скажет мой папаня. Недавно видела Толю и Глеба, они опять занимаются чем-то не очень правильным, звали с собой, но я не согласилась. От алкоголя меня все еще тошнит, но я честно стараюсь найти тот, от которого не будет, я очень расстраиваюсь, потому что меня никто не зовет пить пиво за гаражи. Я бы, может, и пошла, если бы позвали, но фактор отца-мента и та история, когда я заблевала парту в школе после сивухи, делают свое черное дело.
Есть другая история про пиво. Женькина мама завела обезьяну, не знаю, откуда она ее вытащила, но история получилась захватывающая. Мы с Женькой пришли к ней домой и попробовали напиться, раз нас никто не зовет, мне опять стало плохо, поэтому мы решили остатки отдать обезьяне. Она блевала фонтаном, прикинь.
Володя говорит, что церковь полностью восстановят через несколько лет, теперь можно верить в любого Бога. Пока не знаю, как к этому отношусь, но за него рада. На улицах стало невыносимо грязно, как будто после развала Союза все забыли о существовании мусорок.
Если придется поступать на филологический, я напишу книгу о наших приключениях в детстве, зуб даю.
П.С.
Майор женился и обзавелся потомством. Видишь, даже злые люди находят свое счастье, значит, найдешь и ты.
Алина языком смачивает кисточку и активно возит ей в черной коробочке, аккуратно красит ресницы. Вечером в кинотеатре показывают Тарковского по инициативе Дома культуры, туда придут максимум пять человек, потому что американские боевики вытеснили сложное советское кино, что крайне беспокоило нафталиновое старичье, которое обильно страдало в каждом номере крошечной еженедельной газеты города множественными статьями. Мол, молодежь совсем сошла с ума, наслаждается просмотром разврата и убийств, не тянется к высокому. Алина не то чтобы сильно наслаждалась, но ей нравились современные фильмы, что не отменяло тяги к изучению кинопленок прошлого, в которых таилась загадочная мистерия чуждого ей времени. Посмотреть «Андрея Рублева» на большом экране, а не в квадратном выпуклом глазу телевизора давно было ее мечтой, поэтому она выпросила у отца билеты на все сеансы Тарковского на месяц вперед. Выглядеть надо соответствующе, не то чтобы Солоницын и Лапиков начнут причитать с экрана, что она не накрасилась, но посещать столь волнующее мероприятие без боевого раскраса казалось неуважением к труду режиссера. Он старался и снимал, значит, надо постараться, чтобы посмотреть. В руках оказывается иголка, девушка аккуратно разделяет ей ресницы. Каждый раз страшно, что воткнется в глаз, но красота кажется ей чуточку важнее таких рисков.
— Опять в кино? Отцу пора перестать идти у тебя на поводу, — маменька, замотанная в махровый халат и с пластиковыми бигуди на голове, заходит в комнату, усаживается на новенький красный диван, пристально наблюдая за сборами. Алина сталкивается с ней глазами в зеркале.
— Я же на классику, а не на боевик, — машет на лицо, чтобы глаза скорее просохли. — Помаду можно взять?
— Нет, она дорогая. И чтоб после кино сразу домой пошла, — мама снова недовольна. В школе, наверное, довели. — Или опять с мальчишками гулять пойдете?
Алина закатывает глаза, откладывая тушь.
— Мам, со мной никто не хочет гулять, все знают, кто мой папа, — хмурится, роется в косметичке в поисках «Балета». — Это правда, что Елена Витальевна сильно заболела? Ты поэтому такая расстроенная?
Мама заламывает руки.
— Да. Нагрузки вдвое больше в школе будет после каникул, с вашим поколением обсуждать Толстого — настоящая пытка.
Алина замазывает пару прыщей на лбу, чтобы не выделялись так сильно.
— Вам же не надо ничего, кроме жвачки и журналов. И не обвиняй во всем папу. Ты вон как распухла, мальчики на такую и не посмотрят.
Алина не ищет в словах матери логику, но однозначно уверена, что та хочет ей хорошего. Для их поколения высшим счастьем было найти одобряемую советским обществом работу и выйти замуж, а она пока не уверена, кем хочет стать, когда вырастет. Непоступление в институт стало настоящей трагедией для их семьи, мать кричала, что этот позор не смыть, отец сидел бледный молча. Мать его долго потом песочила за потакание капризам дочери: режиссером она станет, литературу она хает, видите ли, не хочет исполнять свое предназначение; а фильмы — они же для дегенератов, которые читать не умеют. Алине Отеговой больше хотелось быть похожей на принцессу Лею из «Звездных войн», чем на Татьяну из «Онегина». А вот мама считала Татьяну идеалом женщины, ее же сам Пушкин запечатлел.
— Ну куда ты это платье, в нем живот вываливается! — Мать всплескивает руками. — Алина, прекрати меня позорить!
Алина сжимает зубы, продолжая натягивать платье. Герои фильма через экран ее живот не разглядят, да и не такой уж он и большой, так, подвисает немного. У Монро вон тоже был, а ее все красоткой считали.
— Мам, дай, пожалуйста, помаду. Это очень важный для меня вечер.
— Так ты скажи, что на свидание собираешься, зачем врешь? Опять с бандитом этим гулять будешь, как его там, Гробовецким? Он уголовник, я запрещаю. Что люди скажут, ты подумала? Итак все в отделе отца жалеют, что у него дочка такая дура оказалась.
— Мы с Женькой идем, она мне «Сильмариллион» обещала почитать принести.
Мама закатывает глаза.
— Толкин написал книгу для глупых западных подростков, зачем вы его читаете? Нет бы нормальные книги, что за дети пошли… — Ее брюзжание начинает надоедать. Алина задирает платье, до пупа натягивает теплые колготки, делающие ей некое подобие осиной талии. Не Монро, конечно, но сойдет.
— Читала я твои «нормальные». Херня занудная, одни томные барышни, заламывающие руки и находящие счастье в материнстве, — Алине восемнадцать, она пока не может себя представить в роли матери. До этого надо дорасти, институт окончить, на работу пойти, а потом уж думать о любви. С любовью у нее никак не клеилось: весь подростковый возраст в отделе под присмотром батиных оперов просидела, сильно отец волновался, что ее кто-то обидит. Доволновался до того, что мальчишки ее за километр обходят теперь. Только Володю, сына местного попа, мать одобряла, а от упоминания остальной дворовой компании впадала в неистовство. Других слов и не найти для сатанеющего педагога по литературе.
— Ты пока ребенка не родишь, не поймешь. Лишь бы по ночам шастать, порченая-то кому нужна будешь, не подумала? Без образования, без перспектив… Отец за тобой заедет.
— Тогда пусть заезжает в ДК, там дискотека сегодня. Мы хотели сходить.
— Так бы сразу и сказала, а то все кино да кино. Только до десяти.
Алина выходит из комнаты, нагло хватает мамину сумку и вытаскивает оттуда дорогую карминовую помаду. Мама ради нее в Петербург ездила и очередь стояла в «Березке», гордилась, что смогла достать. Ей-то она уже зачем, папа ее и без помады любит. Сокровище прячет у себя в сумке, пока мать не заметила, поверх платья натягивает дурацкий теплый свитер, чтобы не замерзнуть, и заворачивается в шубу. В зеркале кажется себе немного несуразной из-за круглых щек и тонких губ, но ничего, макияж исправит все проблемы наследственности.
— Ты ничего не забыла? — Мать медленно выходит из комнаты с зажатой в зубах, но пока не подожженной сигаретой. Девушка клюет ее в щеку и сразу выходит из квартиры, покачнувшись на каблуках. В подъез
