автордың кітабын онлайн тегін оқу Литературный оверлок. Выпуск №2/2018
Литературный оверлок
Выпуск №2/2018
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Авторы: Евсеенко (мл) Иван, Сычиков Яков, Всеволодов Роман, Корбутовская Оксана, Белаяр Сергей, Митрофанова Анна, Лутченко Александр, Вебер Саша, Чеботарёва Лера
Главный редактор, редактор-составитель Иван Иванович Евсеенко
Редактор отдела прозы Яков Михайлович Сычиков
Иллюстрации к рассказам Сергея Белаяра Сергей Белаяр
Иллюстрации к статьям Якова Сычикова Яков Сычиков
Иллюстрации к повести Романа Всеволодова "Прозрение" Владимир Задвинский
Иллюстрация к рассказу Ивана Евсеенко (мл) "Двойник" Светлана Ефимовна Евсеенко
© Иван Евсеенко (мл), 2018
© Яков Сычиков, 2018
© Роман Всеволодов, 2018
© Оксана Корбутовская, 2018
© Сергей Белаяр, 2018
© Анна Митрофанова, 2018
© Александр Лутченко, 2018
© Саша Вебер, 2018
© Лера Чеботарёва, 2018
Здесь все имеет смысл с рождения до смерти —
Великие дела и сотни пустяков.
Мне выпало пожить на голубой планете —
На Родине Любви, страданий и стихов.
CАША ВЕБЕР
18+
ISBN 978-5-4490-7260-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Литературный оверлок
- От составителя
- ПРОЗА
- Виктор Кречетов
- Право на свой взгляд (предисловие к повести Романа Всеволодова «Прозрение»)
- Роман Всеволодов
- Прозрение (повесть)
- часть первая
- часть вторая
- Оксана Корбутовская
- Танечка
- Сергей Белаяр
- Последняя электричка
- Неудержимый
- Анна Митрофанова
- Следующие
- Иван Евсеенко (мл)
- Двойник
- Виктор Кречетов
- ПУБЛИЦИСТИКА
- Яков Сычиков
- Статьи из ЖЖ
- Как Иван Иваныч за хлебом ходил?
- Об антиутопиях и топях
- Развенчание нервов
- Тренд на обиду
- Исторический этюд
- Секрет
- Яков Сычиков
- ПОЭЗИЯ
- Александр Лутченко
- От поэта поэту
- Тебе
- Рассвет
- Мы одно
- «Смотрюсь в практическое размышленье…»
- Целостность любви
- «В чернила синие небес…»
- Безмолвие
- «О тишь — первоначальное сознание!..»
- «Мокрыми пальцами дождь постучался в стекло…»
- «Покрыты горы снежной белизною…»
- «Тропинка петляет познанием длинным…»
- «Всяк ли внемлет лучам мудрословия?..»
- Саша Вебер
- СИМФОНИЯ ЛЮБВИ (цикл)
- Весенняя фантазия «Место встречи — Весна»
- Женская фантазия «Тебе»
- Мужская фантазия «Она»
- Рассветная фантазия «Встреча»
- Вечерняя фантазия «Свидание»
- Ночная фантазия «Любовь»
- Уходящей осени мотив
- Весенняя душа
- Сужение пути
- «Не спрячется от Бога ничего…»
- Поэт
- Рождественская ночь
- Дыхание розы
- Голубая фреска
- Август
- Александр Лутченко
- ДРАМАТУРГИЯ
- Лера Чеботарёва
- Табуретка

От составителя
Следует пояснить, что альманах русской поэзии и прозы «Литературный оверлок» не является коммерческим проектом, невзирая на то, что активно продается по всему Интернету. Потому как не все, что продается — покупается, так же как и наоборот! Скорее всего наличие альманаха в Интернет-магазинах — есть побочный эффект проистекающий от самого процесса издания. Ridero весьма удобная платформа для этого. Сие уместно сравнить с библейской историей про Иисуса Христа запросто пошедшего однажды по водам. Ведь даже не христианину понятно, что в мир человеческий Сын Божий пришел не для демонстрации подобных чудес. Хождение же по воде, на мой взгляд, своего рода побочный эффект его святости.
Альманах «Литературный оверлок» издается мной и моими соратниками для собственного удовольствия, отчасти, может быть, для удовольствия авторов, если таковое время от времени накатывает. Но если даже на минуту представить, что подобное чтиво начало успешно продаваться, уверяю, мы бы нашли на что потратить несчастные деньги. Скорее всего их трата была бы связана с продвижением альманаха (для тех, кто не в курсе, поясню: в системе Ridero существует множество платных и отнюдь не дешевых услуг), хотя пивка, тоже, наверное, попили бы всей редакцией на вырученное!
Тем не менее, настоятельно советую приобретать литературно-художественный альманах русской поэзии и прозы «Литературный оверлок» несмотря ни на что, и здоровье со счастьем непременно настигнут вас!
Редактор-составитель Иван Евсеенко (мл)
ПРОЗА
Виктор Кречетов

Виктор Николаевич Кречетов родился в 1942 году в Тамбовской области. Работал плотником, рабочим сцены, резчиком по металлу, воспитателем в детской колонии. Окончил философский факультет ЛГУ (1968) по специальности этика и эстетика. Преподавал в вузах Ленинграда, работал редактором в газете, на телевидении, в издательствах. С 1994 по 2011 г г. руководил детско-юношеским литературным клубом «Дерзание» при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных.
Первая публикация — в 1969 г. Выступал в качестве литературного критика в газетах, журналах, сборниках. Был делегатом чрезвычайного съезда Союза писателей РФ и IX съезда Союза писателей СССР (1992). Избирался ответственным секретарем Ленинградской областной писательской организации. Профессор Международной Славянской академии наук, искусств и культуры (1997). Член Союза журналистов СССР (1986). Награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Член Союза писателей России с 1989 г.
Право на свой взгляд (предисловие к повести Романа Всеволодова «Прозрение»)
Роман Всеволодов — писатель молодой, но уже давно не нуждающийся ни в каких предисловиях. Тем не менее, мне все же захотелось сказать несколько слов о его новой повести «Прозрение». Впрочем, повесть можно назвать романом, но это не меняет отношения к данному произведению.
Главный герой повести, художник Яков прочитал в детстве «удивительную книгу Пришвина «В краю непуганых птиц». О чувствах, испытанных Яковом при чтении этой книги, Р. Всеволодов пишет: «Есть книги, от которых веет теплом. Переворачиваемые трепетными пальцами страницы — словно поленья в камине. Уютный огонь слов нежит душу». Да, есть такие книги.
Повесть Романа Всеволодова — не из них. Она скорее обдает холодком, а иногда от нее веет жутким, замогильным холодом. Но когда читаешь ее — не можешь оторваться, и мучаешь себя страницу за страницей.
Для кого же она? Думаю, не для читателей моего весьма преклонного возраста. Для них она слишком необычна, смела, сомнительна и раздражающа. Она написана человеком, отстоящим от изображаемых им событий (война, блокада) более чем на полстолетия и знающим эти события от очевидцев — точно, болево, но все-таки не бывшим свидетелем тех лет. А писать о них, кажется, лучше человеку, прошедшему сквозь этот ад и знающему цену всему всем своим существом.
Против правды и Правды с большой буквы писатель, наверное, ничем не погрешил. Но я, бывший по времени ближе к тем событиям, воспитанный на иной литературе, иной оценке событий, не хочу этой правды. Я предпочитаю правду художественную, а не реальную. Прав ли я? Едва ли.
Роман Всеволодов — писатель новейшего времени, и на многие вещи он смотрит из наших дней, порой, может быть, не считаясь с тем, как это воспринимали современники описываемых им событий.
И повесть его адресована прежде всего современнику, молодому читателю, не знающему ни блокады, ни многих условий жизни советского человека до войны, во время ее, и после. Но, несомненно, он имеет право на свой взгляд.
И, наверное, я бы не принял той реальной жизни, которой наполнена повесть, если бы не главный герой ее — Яков, художник, пронесший сквозь всю свою жизнь поиск какого-то высшего прозрения, оправдывающего все его земное существование, со всеми его тяготами, трагедиями и светом — божественным светом, придающим жизни человека высокий смысл.
Читайте эту повесть, и вы согласитесь со мной.
Виктор Кречетов
член Союза писателей России
Роман Всеволодов

Всеволодов Роман Сергеевич родился в 1977 году, в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский Университет Московской Государственной академии печати.
Активно публикуется с 1994 года. Первая книга вышла в 1998 году (сборник рассказов «Гемофилия», издательство «Дума»).
С 2003 г. — член союза писателей России, с 2004 года (по настоящее время) — руководитель литературного объединения «Молодой Петербург», с 2005 г. — член мастерской драматургов при Спб. отделении союза писателей России, с 2014 г. — член международной ассоциации писателей «Светоч»,
с 2015 г. — член союза писателей Санкт-Петербурга.
Как прозаик, журналист, поэт, драматург, публицист имеет более тысячи публикаций в газетах, журналах, альманахах («Юность», «Балтийские сезоны», «Северная Аврора», «Невское время», «День литературы», «Пять углов», «Искорка», «Питер», «Молодой Петербург», «Молодой Санкт-Петербург», «Аврора», «Аргументы и факты», «Профессия», «Илья», «Дети Ра», «21 век», «Ленинград», «Коростель», «Питер», «Светоч», «Мгинские мосты», «Криминал», «За решеткой», «Фактор успеха», «Второй Петербург», «Литературная Вена», «Германия плюс», «Адреса Петербурга», «Парадный подъезд», «Молодость», «Новые писатели», «Мир криминала» и еще целый ряд изданий, с которыми сотрудничал на протяжении нескольких лет на постоянной основе). Кроме того, и сам долгое время издавал журналы «Вокзал» и «Другие люди», на страницах которых открыл ряд авторов, впоследствии получивших широкое признание.
Дважды официальный стипендиат Министерства культуры как драматург и четырежды как прозаик.
Лауреат Всероссийского конкурса драматургов «Мы дети твои, Россия», международной премии им. Ильи Тюрина, международного фестиваля им. К. Пруткова, Всероссийской литературной премии «Молодой Петербург», международной премии им. Д. С. Лихачева
Произведения Р. Всеволодова вошли в шорт-лист премии Гоголя, шорт-лист премии «Дебют», лонг-лист международного конкурса драматургов «Евразия — 2014», лонг-лист Международного конкурса современной драматургии «Время драмы — 2015», лонг-лист XIV международного Волошинского конкурса — 2016», лонг-лист Третьего Международного фестиваля русскоязычных писателей «Литературная Вена», лонг-лист международного конкурса «Русский Гофман», лонг-лист международного конкурса «Сказка сегодня».
Автор книг «Переплетение», «Зарисовки», «Любить людей», «Моя королева», «Ты больше не моя женщина», «Живые мишени»
В издательстве «Мир ребенка» в 2015—2017 году вышли научно-популярные книги для детей: «От Олимпа до Тартара», «Там, где наши истоки», «Когда вода не в радость», «Как рождаются города», «Волшебство над водой», «Прогулки с призраками», «Путешествие императрицы за тридевять земель», «Где живут чудеса», «Как дорога становится проспектом», получившие широкий читательский отклик.
В 2014 г. институт Пушкина (Таллин) организовал литературный конкурс среди школьников Эстонии на лучший перевод прозы Р. Всеволодов и поэзии Е. Полянской.
На протяжении ряда лет Р. Всеволодов — один из руководителей конференции молодых писателей Северо-Запада, Международного фестиваля детского литературного творчества, городской литературной конференции, Всероссийской Ассамблеи «Адрес детства — Россия» в номинации «Слово».
Прозрение (повесть)
часть первая
1
— Что, страшно? — спросил он, и Агния сразу почувствовала себя виноватой. Виноватой за то, что бросившись ему навстречу всем существом своим, отшатнулась испуганно, увидев его обезображенное лицо, виноватой потому что за весь вечер так и не смогла совладать с собой, и полным, жадным взглядом сумела взглянуть на него всего единственный раз. Да и то, столько панической муки, болезненного сочувствия было в этом ее взгляде, что Юрий брезгливо усмехнулся в ответ.
Он спросил ее, страшно ли ей, когда пришло время стелить постель и ложиться вместе. Юрий застал ее врасплох этим своим вопросом. Она ведь изо всех сил старалась не думать каково это будет, — лечь с ним вместе теперь. Сможет ли она вытерпеть рядом с собой присутствие абсолютно чужого, ужасающего существа, в котором уже совершенно невозможно было узнать молодую любовь ее, статного красавца, вместе с которым они вышли из загса 21 июня 1941 года.
И той руки, под которую она тогда держала его, той руки, тепло которой она ощущала всем телом, твердой, надежной руки его, что давала ей не только уверенность в том, что он обязательно удержит ее, как бы сильно она не споткнулась, но и ощущение, что дома ждет непременное, уютное счастье, руки этой больше не было.
Он скупо объяснил ей, что горел в подбитом немцами танке, был уверен что не выживет, поэтому не писал ей из госпиталя.
— Но я выжил, — с каким-то вызовом сказал он.
Когда Агния провожала его на фронт, он предупредил: «Только ты смотри! Не закрути с кем-нибудь без меня. Я специально неожиданно вернусь, когда ты меня ждать не будешь. Вернусь, даже если меня убьют»
— Дурак! — закричала она тогда на него, — что ты глупости такие говоришь?!
— А глупости — это что, — улыбнулся он, — про то что «закрутить с кем-то», или то что меня убьют?
Она хотела зло пожурить его, попенять на ненужную сейчас браваду, но внезапно почувствовала, что земля расходится меж ними, словно расколовшаяся надвое льдина, части которой водные потоки уносят далеко-далеко друг от друга, и обязательно нужно что-то успеть сказать ему, что-то очень-очень важное, такие слова, без которых им, возможно, не суждено будет встретиться вновь.
И глупые юрины шутки, неподходящая расставанию улыбка, вдруг оказались жизненно необходимыми. Улыбка эта раскачивалась на ямочках его щек, словно детские качели, и сама Агния стала маленькой девочкой, бегущей к этим качелям, как к самой главной радости своей.
Оба они (как и все тогда, впрочем), были уверены, что война закончится очень скоро, и те, кто идет на фронт, через месяц-другой вернутся в свои дома гордыми победителями, приструнившими распоясавшихся иноземцев. Но время измерялось не листами календаря, а собственным расставанием. И продлись эта война пусть даже всего несколько дней, они бы все равно показались им вечностью.
— Ты не думай, — Агния все-таки не смогла сдержать слез, — не думай, дурачок, что я могу тебя не дождаться.
Она вспомнила эти свои слова, когда усталая, изможденная ежедневным трудом на сталелитейном заводе, где сорокакилограммовые стальные болванки для опорных мин приходилось вручную снимать с верстака, и поднимать с токарного станка сотни раз за день, столкнулась случайно на улице с давним своим ухажером, нынче ставшим солидным начальником спиртоводочного завода.
Он посочувствовал ее усталому виду, а она, торопясь пойти дальше, буркнула в ответ, дескать какой у нее еще может быть вид после 12-часового рабочего дня на заводе.
— Я могу устроить тебя на другую работу, — сказал он, — у нас никто по двенадцать часов не работает. Устрою тебя в цех розлива, будешь спирт по бутылкам разливать. Это тебе не стальные балки тягать.
Агния хотела ответить очень грубо, чтобы он больше не смел обращаться к ней с подобными предложениями, но внезапно ноги ее подкосились, воздух закачался, и задрожали дома. Очнулась она у него дома.
— Не бойся, — сказал он, — ты сейчас просто встанешь и уйдешь. Мой дом рядом был. А ведь когда-то я мечтал взять тебя на руки. Но я давно уже не об этом мечтаю. У меня семья, жена, дети. Слышишь? Это они шумят в соседней комнате. Мне от тебя ничего не надо. Просто я считаю, что надо уважительно относиться к своей первой любви. И я хочу тебе помочь. Не думай, что за это мне нужно будет как-то угодить. Я просто хочу, чтобы ты жива осталась. И мужа своего дождалась.
Слезы посыпались из нее, словно монеты из доверху набитой, разбившейся копилки.
— У нас же ничего еще с ним не было, — глотая слезы, прошептала она, — ничего! Мы так и не легли в одну постель. Я устала его ждать. Когда закончится эта проклятая война?!
— Когда-нибудь, наверное, закончится, — выдохнул он в ответ, и добавил: «а еще знаешь, у нас каждый месяц по целых два литра спирта можно по государственной цене покупать, а спирт сейчас попробуй за любые деньги достань».
И за этот бережно хранимый спирт, который Агния достала из буфета и поставила на стол к горячей картошке, Агния тоже чувствовала свою вину перед вернувшимся с фронта мужем.
— Что?! Что ты так смотришь на меня?! — внезапно вспыхнула она, — в чем я виновата перед тобой?! Пока ты там воевал, у нас здесь жизнь тоже не сахар была. Знаешь, в нашем русском языке раньше даже не было таких слов, как «сталеварша» или «вальцофщица», потому что никому в голову не могло прийти, что на заводах женщины работать будут! Попробуй по двенадцать часов от раскаленных печей не отходи! И пока ты там воевал, у нас здесь тоже, между прочим, не в празднике жили! Этот вот спирт, что я покупала, чтобы к встрече сберечь, другие тайком хотели пронести. Знаешь, к каким срокам их приговорили? Двоих расстреляли даже.
— Геройская смерть, — усмехнулся муж.
И Агнии так мучительно захотелось, чтобы он замолчал, чтобы не говорил больше ни слова, что она встала из-за стола, подошла к нему, впилась губами в его рот.
Губы ее завязли в его рту словно в болоте. Было дурно, страшно, но она длила этот мучительный поцелуй, потому что только им сейчас могло быть куплено спасительное молчание, без которого Агния просто сошла бы с ума.
— Хочешь, я лягу на полу? — спросил он, вытерев губы.
— Нет, нет, — испуганно замотала она головой, боясь того, что это сейчас самое сильное желание ее.
— Скоро ведь конец, да? — спросила Агния, когда они лежали, прижавшись друг к другу.
И хоть ясно было, что говорила она о том, что скоро закончится война благодаря победоносному наступлению советских войск, подходивших к Берлину, слова ее прозвучали так, как будто речь шла о конце мира, о затихающей боли, о том, что все их тревоги, страхи, и сами они, пройдут, как до них проходили целые поколения.
— Скоро, — произнес Юрий, и больше они не сказали друг другу ни слова.
Каждый из них ждал, когда уснет другой, чтобы наконец вздохнуть свободно, оставшись наедине с собой.
2
Радостные возгласы вылетели из распахнутых настежь окон, словно звонкие птицы, и вскоре ночные московские улицы наполнились счастливыми детьми. Миллионами электрических солнц вспыхнул во всех домах комнатный свет после того, как по радио диктор Левитан, главный голос всех побед и поражений этой бесконечной войны, объявил о «безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил».
Всю ночь по радио крутили эти слова, подобно пластинке, под музыку которой пустилась в пляс вся советская страна, вдруг почувствовавшая себя по-настоящему счастливой.
С каждой минутой людей на улицах становилось все больше. Счастье огромным людским потоком лилось к рубиновым звездам Кремля.
И те, кто, замешкавшись, еще оставался дома, спешили в исступленном блаженстве влиться в этот общий поток, как изнуренные сильной жарой ныряют в благодатную прохладу чистой реки.
Такую силу тогда чувствовали в себе все эти люди, что казалось им, — они, как живого человека, поднимут сейчас на своих руках целый Кремль и будут восторженно подбрасывать его вверх, в благодарность за то, что война наконец-то закончилась. Так подбрасывали к небу встречавшихся на пути военных, на следующий день, 9 мая, которое объявили выходным днем. Для женских рук, натруженных на заводах, бросать и ловить мужские тела, увешанные орденами, было теперь не труднее, чем качать колыбель.
В небе, расцвеченном праздничными огнями разноцветных прожекторов, летели самолеты, сбрасывавшие из ракетниц веселые воздушные шары. И незнакомые люди празднично целовались друг с другом под дождем из этих шаров.
Диктор Левитан, чьим голосом долгожданный Мир сообщил о своем пришествии из всех советских репродукторов, был вызван в Кремль, где ему вручили для прочтения текст о полном разгроме фашистской Германии. Текст этот диктор должен был прочитать в 21 час, 50 минут. Для того, чтобы выйдя из Кремля, дойти до радиобудки, стоило только пересечь Красную площадь. И вдруг Левитан с ужасом понял, что он никуда не успеет. Сквозь ликующую толпу невозможно было протиснуться ни на шаг.
— Товарищи! — нервно воскликнул Левитан, — мне очень нужно срочно, по делу. Очень важно.
Счет до назначенного эфира шел на минуты.
— Да какое важное дело в такой день у тебя может быть?! У нас сегодня одно важное дело на всех — Победа. Куда тебе спешить? Салют и отсюда хорошо будет виден. Сейчас и Левитан по радио сообщение прочитает.
Протиснуться сквозь бесконечное количество счастливых людей невозможно было даже с помощью милиции. И тогда главный диктор страны, лоб которого уже больно колол холодный пот, понял, что единственный выход — бежать обратно в Кремль и просить, чтобы ему предоставили ту студию, которая недавно была специально оборудована для того, чтобы Иосиф Виссарионович Сталин обратился ко всему советскому народу.
Услышавший об объявлении салюта, увешанный орденами и медалями, полковник-танкист на углу Петровки и Столешникова переулка купил у мороженщицы весь ее товар и стал бесплатно раздавать детворе.
В один миг вокруг него образовалась целая прорва мальчишек и девчонок. Были среди них и взрослые, надеявшиеся на щедрое угощение дорогим лакомством. Купленного мороженого на всех не хватило, и веселый полковник, за которым уже следовала целая процессия, нашел еще одну продавщицу мороженого.
— Давайте, все, что есть, — сказал он ей.
— А не жалко потом будет, что так потратились? — вдруг ощерилась усталая женщина.
— Хочу, чтобы мальцы эти тоже самое чувствовали, что и я сегодня. Хочу, чтобы они тоже счастливыми были.
— А мне что купите? — спросила она.
— Тебе? — не понял полковник.
— Тоже счастливой очень хочется быть, — объяснила она, — только никак не получается. У меня муж, сын, брат, — все в этой войне проклятой погибли. Сын еще мальчик совсем был.
Мальцы, не вслушивавшиеся во взрослые разговоры, нетерпеливо тянули руки к мороженому.
В этот день было много горьких слез. Но те, кто хотел быть счастливым, уверяли себя, что чужие слезы — это слезы счастья.
3
В последний раз Вера была здесь еще до войны. Одинокая Клавдия Степановна славилась своим умением так ловко раскинуть на столе колоду, что всевозможные карточные персонажи обретали четкое лицо грядущей судьбы.
— Ты по любви замуж не выходи, — предостерегла тогда Веру гадалка, — скоро война будет. Большая. Сгинет твой любимый. Измаешься потом. А нелюбимый жив останется. Выбирай сама: с нелюбимым жить или любимого оплакивать.
Вера пожалела, что решила доверить свою судьбу гадалке. Не тех слов она ждала от вещуньи, которую посоветовала ей знакомая. Но уже на следующий день, такой теплый, звонкий, летний день, Веру ждал у служебного выхода из театра статный красавец в военной форме.
— Это вам, — протянул он ей огромную охапку роз, — не поверите, я первый раз кому-то цветы дарю. Вы меня, конечно, со сцены не углядели никогда, но я уже столько раз на ваших спектаклях был. И, главное, не помню о чем они. Как только вас вижу, все уплывает.
— Красивые цветы, — сказала Вера, — очень красивые.
Она уткнулась в них, словно котенок в блюдце с молоком, лакая их запах. Никто никогда не считал ее хорошей актрисой, и цветы каждый спектакль доставались другим.
— И… давно вы ходите к нам? — спросила Вера.
— Уже год почти. Первый раз случайно попал. Вообще, я думал, что ничего не боюсь. Все-таки человек военный. А к вам подойти робел. Как мальчишка. Никогда бы не поверил, что такое может быть.
— А почему сегодня решились? — улыбнулась она.
— Не знаю, — сказал он, — но сердце и сейчас стучит как сумасшедшее. Не верите?
Вера коснулась ладонью его груди, а он накрыл ее ладонь своею, и сразу стало так спокойно, так уютно, как никогда раньше в жизни не было. Его убили через семь месяцев, когда она уже была его женой. Похоронка пришла за четыре часа до начала спектакля. Она выла от боли в гримерной. Директор театра выразил ей сочувствие и попросил не срывать спектакль.
Не раз в сердцах проклинала она ту гадалку, к которой пошла, измучившись долгим одиночеством. И уж точно знала, что никогда не придет к ней вновь, — больше не хотелось знать свою судьбу наперед.
— На суженого будем карты раскладывать? — спросила Клавдия Степановна.
— Нет, — зло предупредила Вера, убежденная в правде пророчеств гадальных карт, — не надо мне больше никаких суженых. И судьбу свою тоже знать не хочу. Мне только одно важно знать, пусть карты ваши правду скажут. Когда нам в театре зарплату наконец выдадут? Третий месяц обещают. А потом опять говорят, что время тяжелое. А раньше оно что, не тяжелое было? Выходит, в войну лучше было? Мне знать нужно, дожидаться ли мне зарплаты своей, или из театра на другую работу идти?
— На это я гадать не берусь, — отвела глаза гадалка, — ты меня, милая, под арест не подводи. И так чудом на воле живу. О счастье женском скажут тебе все мои карты, а о чем другом ты не у меня узнавай.
— А какое счастье у меня женское может быть, если мне зарплату третий месяц не платят? И если муж мой на фронте погиб?
— Горька наша женская доля, — вздохнула гадалка.
— Спасибо, утешили, — с ненавистью посмотрела Вера на старую женщину.
4
Даже через дверь Агния слышала, как скрипит пол под его ногами. Тяжела стала его поступь. Невозможно было узнать в теперешнем Льве того задиристого, смешного, белобрысого юнца, с глазами навыкате, которым он был пять лет назад. Он стал выше ростом, и при этом смотрел на всех так, как будто это были не люди, а едва различимые черные точки, что едва видны с высоты его «истребителя», на котором он летал почти всю войну. Полученную на войне медаль «За отвагу» он надевал, даже если появлялся на кухне на несколько минут. В любую комнату он теперь входил без стука.
— Поздравляю, — выкрикнул Лев, ввалившись в комнату к Агнии.
— С чем? — не поняла Агния.
— Как — с чем? — возмутился Лев несообразительностью соседки, — мы сегодня Японии войну объявили. Нам останавливаться нельзя. Мы теперь весь мир под себя подомнем. Зря, что ли, воевали?! Слушай, соседушка, выпить есть у тебя? Все-таки отметить надо событие такое.
— Что отмечать-то? — пожала плечами Агния, — что опять война?
— Я что-то удивляюсь такой несознательности, — процедил Лев, — или тебе просто спирта жалко? Я же знаю, вам там, на заводе, дешево продают.
— Давай, что ли, выпьем, — подал голос Юрий.
— Вот видишь, — облегченно усмехнулся Лев, — накрывай на стол, хозяюшка.
— За войну! — радостно произнес тост Лев, — Гитлеру мы хвост прищемили, теперь и узкоглазых самураев дрожать заставим. Я все-таки рад, Юр, что мы теперь за одним столом с тобой. Чего греха таить, не любили наши ребята друг друга.
Это была правда. Танковые и воздушные войска ревновали эту войну, словно любимую женщину. Постоянные стычки и ссоры между танкистами и летчиками случались чаще, чем в довоенное время столкновения болельщиков двух соперничающих футбольных команд.
— Мы эту войну вместе выиграли, — Агнии казалось, что от взгляда выпученных глаз Льва на вещах в ее комнате останутся царапины, — вы там, на танках своих, мы — в воздухе. Это не то что Яшка. Я его до войны уважал. В газете работает, солидный человек. С таким в одном доме и жить почетно. А сейчас смотреть на него противно. Тоже мне мужик. Всю войну карикатурки на Гитлера прорисовал. Нет, конечно, он смешно малевал, ничего не скажешь, но Гитлер и без шаржей всяких, с этими усиками его мудацкими, как полный идиот выглядит. Чего на него карикатуры-то рисовать! И пока он для газеты рисуночки свои рисовал, мы с тобой кровь проливали. У тебя вон, считай, и лица теперь нет, и рука одна оттяпалась. Мне, правда, больше повезло, но тоже еще как мог попасть. А ведь Яков на фронте был. Я его спросил, держал ли он хоть раз оружие в руках? И знаешь, что он мне ответил? Что его оружие — это карандаш. Тоже мне мужик, называется. Как таких уважать можно?! Давай лучше за тебя выпьем. За жену твою, которая, несмотря на то, что ты …таким неказистым с войны вернулся, все равно с тобой в одну постель ложится. Налей еще, хозяюшка. За ваш семейный очаг хочу выпить.
— Спирт кончился, — раздраженно ответила Агния.
— Как это — кончился? — и без того, выпученные глаза Льва, казалось, выкатились еще больше.
— Так, — грустно улыбнулась Агния, — это только война, похоже, никогда не заканчивается.
5
Это был другой страх. Не тот, все обжигающий страх, что впервые испытал Яков в засыпанной под сильным артобстрелом воронке. Теперь он боялся не смерти.
Для поднятия духа бойцов Красной Армии был организован журнал «Фронтовой юмор», выпускавшийся в формате полевой сумки. Броские карикатуры призывали солдат со страниц журнала поверить в то, что воюют они не с могущественным врагом, а с убогим отребьем жалких доходяг. Поначалу редактор не был доволен работой Якова.
— Это же наши враги, — отчитывал он художника, — им такие рожи малевать нужно, чтобы блевать хотелось. А у тебя что?! Не фрицы, а какие-то овечки заблудшие. Не тот ты им страх в глазах рисуешь. Это враг! Враг, понимаешь? Его, ублюдка, карандашом, как клопа поганого, давить надо. Чтобы кровью со страниц пахло. А у тебя овечки какие-то. Без слез не взглянешь. Это хорошо я тебя давно знаю. А другой твои рисуночки провокацией бы счел. Поди доказывай потом, что ты не на немцев работаешь.
Через неделю редактор устроил ему экскурсию по отбитой у немцев деревне.
— Вот, смотри… видишь, вот здесь немцы при отходе жителей расстреливали. А вот это тебе как? Здесь дом стоял, где хозяев заживо решили сжечь. Посчитали, что они с партизанами связаны. А вот тут господа фашисты развлекаться любили, по живым мишеням стрелять. Ну, как хороша экскурсия? Ты чего молчишь-то?
— О, вот это то что надо! — воскликнул редактор, получив от Якова новые рисунки, — даже у меня мороз по коже. Рожи так рожи. Научился наконец хари мерзее некуда рисовать. Пойдет у меня теперь дело с журналом.
Сегодня Якову, всю войну рисовавшему яростные карикатуры, стало страшно. Он вдруг понял, что больше не видит перед собой обычных человеческих лиц.
Даже в разговоре с близкими, добрыми знакомыми взгляд цепко выхватывал в их облике какую-нибудь самую непривлекательную деталь, и в голове тут же возникал отталкивающий шарж собеседника.
Рука, пытавшаяся нарисовать возвышенный профиль, не слушалась, и вела рисунок к очередному уродству. Это мучило Якова. Ведь до войны он видел все по другому. Он даже писал иконы.
6
Агния знала, что муж, вновь спешно закрывший глаза, едва только они легли в постель, опять не спит. Тяжесть его дыхания, словно навалившимся камнем, сдавливала ей грудь. Он боялся, что Агния догадается о том, что он не спит.
Еженощное обреченное молчание вымотало ее.
— Юра! — позвала она мужа, — я ведь знаю, что ты не спишь. Я не могу так больше. Сколько времени уже прошло, как ты вернулся. И кому сказать, мы так с тобой и не… Я женщина, Юр! Ты до меня не дотрагиваешься, как будто я чумная какая-то. Мы муж и жена, ты забыл об этом? Да, так красиво, как мы мечтали, уже не будет. Но все равно! Неужели я заслужила, чтобы ты до меня вообще не дотрагивался?! Я привыкла к тебе. Такому, какой ты есть, — привыкла. Ты мой муж. Муж. Слышишь?
— Муж, — с болью повторил за ней супруг, — знаешь, когда я в госпитале очутился… Четверо нас было, тяжелораненных. И один рядом со мной лежал. На койке соседней, совсем близко. Красивый еще был очень. И на медсестру он такими глазами смотрел… Он еще мальчишка, в общем-то, и младше нас всех там, а ему уже умирать. В живот его ранили. Мы уснуть не могли, потому что он все время воды просил. Ему не давали, потому что еще спасти надеялись. Нельзя воды давать. Но вошла медсестра вечером, и принесла ему пить. Потому что им там понятно стало, что его не спасти. И он с такой тоской, с такой болью на медсестру посмотрел, и попросил ее, знаешь о чем? Если он выздоровеет, замуж за него выйти. И таким голосом он это попросил, что… Мы ведь там уже очень много всего видели, а все равно от такого голоса вздрогнули. «Не успеем мы пожениться», — сказала ему медсестра, и от ее голоса тоже жутко стало. Она попросила нас закрыть глаза, и легла к нему в постель. Он умер счастливым. Только мы-то там остались. И видели, что у этой медсестры уже другие заботы.
— Зачем ты мне это рассказываешь? — спросила Агния.
— Я не хочу, чтобы ты со мной вот также, из жалости… Я себя в зеркале вижу.
— Ты сейчас мне про себя рассказывал? — спросила она.
— Что значит — «про себя»?! — еще больше нахмурился он.
— Тот, с кем медсестра твоя в постель легла, это …это был ты?
— Ты вообще, меня слушаешь или нет?! — раздраженно воскликнул он, — я говорил, что он умер. В госпитале. Я, что, по твоему, умер?
— А я уже и не знаю, умер ты там или нет, — сказала она.
7
Быть может, не укради у нее кто-то продовольственные карточки, никуда бы не пошла с ним. Но от него пахло хлебом.
В последнее время Вера жила со спутанными мыслями. Она терялась в выученных словах своих ролей, и опаздывала на репетиции. Режиссер отчитывал ее за нерадивость, а она в ответ спрашивала, скоро ли им выдадут зарплату.
— Что ты все на деньги меряешь! — воскликнул режиссер, — какая меркантильность! Тебе бы только мольеровских скупердяев играть! Люди на войне кровь проливали. И в тылу тоже, знаешь, у станка стояли. Ничего, живут, не жалуются. Государству после войны, как человеку после болезни, восстановиться нужно. А ты здесь подрывную деятельность ведешь.
— Мне просто жить надо, — тихо ответила Вера, — у вас всех семьи, вы друг на друга опереться можете. А я одна. У меня нет никого.
Днем спустя, режиссер, при всех, устроил ей головомойку после спектакля, во время которого Вера упала в обморок на сцене.
— Это была сознательная провокация с твоей стороны, я уверен! — возмущался он, — актерский дар в себе почувствовала, да? Хотела нас тиранами перед зрителями выставить, — дескать, посмотрите-ка, как нас тут недокармливают?! Ты не понимаешь, что в своем лице ты все государство наше компрометируешь розыгрышами своими подлыми! И не думай, что все тебе с рук сойдет. Не сойдет.
Веру, которой и прежде никогда не доставалось главных ролей, теперь и вовсе перестали пускать на сцену. Она хотела написать заявление об увольнении, но ее останавливал страх, что она нигде не сможет устроиться.
Лев увидел ее, когда она плакала прямо посреди улицы, обнаружив пропажу продовольственных карточек. У него в руках был хлеб, он только что вышел из магазина. И запах свежего хлеба заслонил перед ней его выпученные глаза, его скользкое лицо.
— Чего рыдаете, гражданка? — спросил Лев, оценив ее стройную фигуру.
— У меня и так денег нет, а тут еще все карточки украли, — не поднимая глаз, прошептала Вера.
— Давайте я вас до дома, пожалуй, провожу. А то еще в голодный обморок упадете.
Он взял ее под руку, не дожидаясь согласия.
— Чаем не угостите? — спросил он у дверей ее дома.
— У меня нет ничего, — растерялась она.
— Не беда, — весело ответил Лев, — зато у меня все есть.
У нее закружилась голова от запаха хлеба, что он дал ей в руки.
В постели он так суетливо двигался, что задел стоявший рядом с кроватью портрет.
— Кто это? — спросил он потом.
— Муж. Убили его на фронте.
— Так ты вдова фронтовика! — воскликнул Лев, — нет, тут разобраться надо. Я вижу, в театре твоем эти крысы тыловые тебя притесняют. Будет им на орехи. Я крыс этих знаю. Тыловых. Ты ведь как вдова фронтовика на особое отношение к себе рассчитывать можешь, а они наверняка тебя зажимают. Ведь зажимают, да?
— Не бойся, — подмигнул он покойнику на портрете, — я твою женщину под свое крыло возьму. Со мной она не пропадет.
8
Даже посреди ночи ему хотелось встать, выйти на улицу, и пересохшим от тоски горлом хлебнуть воздуха улиц, наполненных всевозможными увечными.
Юрию казалось, что они и ночью не расходятся по домам, скрипят своими протезами, катятся на самодельных деревянных тележках, опираются на грубо сколоченные доски, беспомощно всматриваются во тьму слепыми своими глазами.
Днем он наслаждался видом этих искалеченных войной людей. Их было очень много. Они просили милостыню, звали выпить с ними, отчитывали «тыловых крыс», пели заунывные песни, порой пытались лезть в драку, и почти всегда были сильно пьяны.
Если Юрий встречал тех, кого война, превратив в чудовищный отголосок человека, все-таки чуть пощадила, изуродовав не до конца, ему сразу становилось тревожно, и тревога эта могла дойти до паники. Он, словно охотник крови дичи, жаждал паноптикума самых безнадежных уродств, чтобы успокоиться своим собственным существованием, чтобы почувствовать себя еще человеком.
Он с нарочитым сочувствием расспрашивал запойных калек об их роковых битвах и безвозвратных потерях, громко, тяжело вздыхал в ответ на очередную историю уже такой обыденной боли, но интересовало его только одно — нужно было быть уверенным, что изувеченный его собеседник, превратившийся лишь в слабый отзвук человека, будет здесь завтра, на этом же месте, когда они с Агнией пройдут мимо.
И тепло становилось на душе Юрия, когда затравленный взгляд жены его, наткнувшийся на обезображенное чужое тело, искромсанное войной как бумага ножницами, возвращался к нему самому, Юре, словно к теплу родного дома. Его обезображенное лицо больше не пугало, оно стало привычным, а культя пряталась в рукаве. Это не тело, лишенное всех конечностей, катящееся на деревянной дощечке.
— Наконец-то, наконец-то, — радостно шептала Агния, и руки ее благодарно ласкали лицо мужа.
Сброшенное нечаянно одеяло так и валялось на полу. Их тела впервые не испугались друг друга.
— Родной мой… И у нас все еще может быть, как у других. И будет, у нас все еще обязательно будет очень хорошо. Еще лучше, чем у других. Ну и что, что война, она же кончилась, эта проклятая война… и мы теперь имеем право быть счастливыми. И те мы, которыми мы были до войны, мы никуда не делись. Верь мне, пожалуйста. Мы такие же.
Агния счастливо улыбалась. Она не догадывалась, что еще несколько мгновений назад он представлял ее, обезображенную, с отрубленными конечностями, беспомощную. И представлял так ярко, так живо, что впервые не испугался ее в постели.
9
— Дело серьезное, — сказал редактор, но это было и так ясно.
Если он вызвал к себе одновременно Якова и Родиона, то это давно уже значило, что речь пойдет о каком-нибудь важном задании.
— Вы молодцы, — счел он нужным лишний раз похвалить их сегодня, — каждый ваш репортаж — это классика просто. И, главное, вы так творчески срослись друг с другом, такой дуэт у вас прямо артистический! И так органично все, точно… Прямо в цель. Я вот уверен, Яш, что у тебя Гитлер смешнее, чем у Кукрыниксов. Такой он ничтожный у тебя, такой гадкий на твоих карикатурах. Если б их с самолетов вначале войны разбрасывать, она бы и месяца не продлилась, таким бы смешным он всем своим приспешникам показался. А у тебя Родь, подписи к рисункам всегда такие уморительные, куда до тебя Салтыкову-Щедрину! Честно скажу, многие материалы уже из памяти выскочили, столько их было, а вот все ваши работы — все как одна перед глазами. Мы с вами святое дело делали. Столько ребят наших полегло, но благодаря вам они хоть перед смертью вдоволь насмеяться успели. И сейчас, честно скажу, задание непростое, деликатное. Потому вас и вызвал. Знаю, что вы справитесь. Японцев мы разбили-таки, и вот готовим большой номер в честь этой победы. Но в этом же номере пойдет у нас материал про блокаду Ленинграда, про то, чем город жил во время войны. Но написать нужно тонко, с юмором…
— С юмором? — уставился на редактора Родион.
Стекла его очков даже, казалось, дрожали от напряжения зрачков.
— Ну, не так выразился, — махнул рукой редактор, — нам нужен материал честный, правдивый, но не сгущающий краски. Да, люди страдали, но сгущать краски не надо, надо развеять эти ужасы, эти мифы, которые наши враги могут использовать в своих коварных пропагандистских целях.
— А кто теперь наши враги? — спросил Яков.
— Победа — вещь сложная. Кто с тобой ее разделил, тот тебе и враг. От союзников наших так называемых всяко можно ножа в спину ожидать. И ни к чему в руки им мифы разные давать.
— А о каких мифах речь? — решил уточнить Родион.
— Ну, там просто уже до наглой лжи доходит. Есть такие проходимцы, которые о том говорят, что в блокаду люди друг друга ели. Очень здорово! А потом прочтем в какой-нибудь вражеской газетенке, что мы нация каннибалов. В общем, нужен хороший материал о героях блокады, о мужестве, благородстве, свершениях. Съездите, посмотрите, с людьми пообщайтесь. Красивый город. Сейчас полным ходом восстановление идет. Я уверен, это будет лучший ваш материал. Справитесь? Впрочем, чего я спрашиваю, знаю, что справитесь.
И пожав им обоим руки, он, уже другим голосом, почти шепотом, будто признаваясь в чем-то очень личном, сказал им:
— Хорошо все-таки, что вас на войне этой не убило. И что оба вы живы.
Ни Яков, ни Родион не думали, что доживут до последних дней войны.
Яков хорошо помнил тот день, когда впервые увидел своего будущего верного соавтора и товарища.
В сентябре 1941 года в Колтушах разместили тыловые подразделения штаба армии. Вместе с ними в поселке обосновалась и редакция армейской газеты, в которой работал Яков. Тогда он еще не карикатуры для армейского журнала рисовал, а создавал портреты первых героев войны, которые выходили лучше фотографий, потому что Яков придавал их глазам особенное, неземное величие. Пришло время новых икон, и прежний иконописец создавал галерею святых в солдатских шинелях.
С прибытием редакции ночную тишь поселка стал дробить стрекот ротационных машин, устроенных в кузове грузовика. Грузовик поставили между деревьями, для пущей сохранности от авиационных налетов.
Наутро редактора ждал скандал. К нему яростно подошла пожилая женщина и стала отчитывать его, как мальчишку. В разговоре она широко, волнительно размахивала руками, будто тонула и отчаянно пыталась выбраться на берег.
— Нашли где грузовики свои расставлять! — кричала она, — что, в другом месте гараж нельзя было устроить?!
— Это не гараж, это редакция.
Есть такие особенные люди, едва увидев которых возникает необходимость оправдываться, еще не зная даже ни должности их, ни того, имеют ли они право требовать у тебя ответа. Подошедшая к редактору (между прочим, человеку бывалому), женщина была как раз из таких.
— Ваш грузовик прямо в стену упирается. А вы знаете, что за этой стеной? Там песики!
— Какие песики? — редактор уже было подумал, что видит перед собой сумасшедшую.
— «Какие песики», — зло передразнила его женщина, — нет, я вам поражаюсь просто. Мы как будто в разных государствах живем. Ваша редакция, молодой человек — это не бродячая цирковая труппа. Культуру своей страны надо знать.
Обращение «молодой человек» кольнуло 52-летнего редактора сильнее, чем сравнение его редакции с бродячей цирковой труппой.
— Вот вы сюда приехали, а что вы о нашем посёлке знаете? Вы мне честно скажите, вот выйдет номер газеты вашей, и будет ли там хоть один материал об академике Павлове? А?! Здесь все им пропитано. И мы его дело продолжаем. Нельзя оставлять незаконченными опыты, которые проводил наш великий ученый. А вы… вы… своим грохотом, своим грузовиком расшатываете психику псов, над которыми мы проводим опыты. Мало того, что бедных собак жалко, которым от вас теперь никакого покоя нет, так еще и опыты могут дать неправильные результаты. Ох, не одобрил бы вас академик Павлов, ох, не одобрил бы!
— Послушайте, вы! — редактор тщетно искал какое-нибудь оскорбительное, но вежливое слово, — вы… дамочка! — подходящее слово наконец пришло ему на ум, — а вы вообще знаете, что сейчас идет война?
— Вот именно — война! — дама задвигала руками еще размашистее, — а вы за что воюете? За жизнь собственную, за теплое, насиженное, довоенное местечко? Или все-таки страну нашу защищаете, историю ее, культуру, науку? А у нас в стране немного найдется ученых, которые бы так много сделали для страны, как академик Павлов. А вы… вы… здесь находитесь и даже память его не почтили. Даже никакой статьи о нем делать не собираетесь. А здесь каждый, каждый буквально его помнит. Он для всех нас как живой. Здесь каждый вам рассказал бы и об опытах его, и лично показал бы, где Иван Петрович на коньках кататься любил, где велосипед оставлял, на котором в обезьянник ездил.
— Обезьянник? — переспросил редактор.
— А вы что, хотите и обезьянам жизнь испоганить? — совсем рассвирепела женщина, — вы, выходит, только об условных рефлексах собак Павлова слышали, да и то краем уха. Вы совсем ничего не знаете про его опыты?! Я начинаю совершенно не понимать, кто поставил вас на такую ответственную должность. Послушайте, у вас хоть какое-то образование есть? О чем вы в газете своей пишите?
— Не о «о чем»! А о ком! — вышедший из себя редактор говорил повышенным голосом, — О тех, кто кровь свою проливает! О тех, кто жизнь свою не жалеет! Враг Ленинград измором берет. Весь левый берег Невы, от устья Тосны до Ладожского озера, весь, слышите меня, весь! Немцами занят! Один крохотный пятачок меньше чем в два километра у Московской Дубровки остался. Только он не дает врагу себя полным хозяином почувствовать. Там скоро целая армия наша поляжет. Немец со всех сторон бьет. А вчера чудо случилось: дивизия командира Алексеева на целых пятьдесят метров вперед продвинулась! Ему наш номер и будет посвящен, а не собакам вашим! Если о таких героях сейчас не писать, то скоро немцы на нас с вами опыты ставить будут.
Репортаж о командире Алексееве поручено было сделать Якову. Задание было не из легких. До первого эшелона штаба идти не так страшно, поскольку шоссе было укрыто лесом, а вот за КП командующего армией шоссе уже выходило на прогалину. И здесь ноги, словно в болоте, увязали в мёртвых телах. Из человека ты превращался в маленькую муху, которую могут прихлопнуть в одно мгновение.
И Яков почувствовал не просто страх, а нечто еще более глубокое, сильное, безысходное. Даже искореженные деревья, с переломанными ветвями, все равно укрывали его от вражеских глаз, лаская спасительным теплом воспоминаний. И как идут в атаку, Яков к тому времени знал не понаслышке. Даже в самом безнадежном бою ты ощущаешь рядом других, и разухабистый мат за спиной в такую минуту может приободрить тебя, подарив сознание того, что ты все-таки не один предстал перед лицом смерти.
Но сейчас Яков испытал чувство абсолютного, вселенского одиночества, и оно оказалось хуже, чем страх. Рядом не было больше ни милосердных ко всему живому деревьев, ни людей, общим порывом несущих тебя в атаку. Было только ощущение абсолютного, потустороннего одиночества. Как будто ты еще находишься в утробе матери, и тебе показали, как вспышку света, весь будущий мир, а потом сказали, что тебе так и не суждено родиться.
Яков шел через бесчисленные трупы, словно по тонкому канату, натянутому над бездной. Оцепеневшие ноги не давали двигаться быстрее, хотя каждая секунда промедления могла стоить жизни. Но казалось, что мгновения сцеплены друг с другом, словно карты в карточном домике, и одно лишь неосторожное движение может разрушить время, а вместе с ним и твоя жизнь рассыплется на мелкие атомы, ничего от тебя не оставив.
И когда ощущение абсолютного одиночества стало совсем невозможным, когда бездна задышала в лицо будто заклятый недруг перегаром после пьяного кутежа, на котором сосудами вина служили кровавые реки, Якова кто-то окликнул.
— Эй! Друг!
Эти слова пролетели над ним словно тяжелые птицы. Будто мир уже начал отвыкать, отдаляться от него, и первым полетели в иные края слова, предваряя вечное безмолвие. Но удар по плечу вывел Якова из оцепенения. Перед ним стоял щуплый, невысокий человек в очках, которого он никогда раньше не видел.
И они, не говоря друг другу ни слова, побежали вперед, вместе. Потому что бежать вдвоем было уже не так страшно, не стыдно. Это когда Яков шел один, ноги его прирастали к земле.
— Родион, — представился Якову его новый товарищ, когда они добежали до Невской Дубровки, где располагался главный штаб переправ на нужный им пятачок.
Здесь, в блиндаже можно было поговорить спокойно.
— Я только сегодня в редакцию прибыл. Меня вместе с тобой направили — репортаж делать. Мне объяснили, что ты рисуешь прекрасно, а статья у меня может лучше получиться. Но, думаю, ерунда это все. Редактору просто боязно стало, что ты обратно не вернешься. Вот и решил шансы увеличить, чтобы хоть кто-нибудь из нас жив остался. Как думаешь, хоть кто-то из нас уцелеет сегодня?
— Хотелось бы, — усмехнулся Яков, сразу же почувствовавший не только благодарность, но и доверие к своему новому товарищу.
Сделанный ими репортаж о командире дивизии Алексееве получился настолько ярким, живым, полным художественной силы, что вскоре Яков и Родион стали постоянными соавторами.
За все долгие годы войны Родион ни в чем не подвел своего друга, не сделал ничего из того, что заставило бы Якова хоть самую малость усомниться в нем. И тем тревожнее было ему сейчас отправляться вместе с ним в долгую командировку.
Яков не мог отделаться от мысли, что отчего-то и самый верный, самый надежный друг его глядит на него изменившимися чертами лицами, будто кривое зеркало преобразило их. Гордый профиль Родиона теперь кажется заготовкой для карикатуры.
Из-за этих порочных мыслей Якову впервые было неуютно с Родионом. Он уже чувствовал какую-то вину перед ним.
10
Льва разбудили громкие всхлипы и тихие возгласы, доносившиеся из коридора. Вера еще спала. Так долго остававшаяся одинокой и беззащитной, и нашедшая наконец приют в крепком мужском теле, она уснула ночью рядом с ним самым безмятежным сном. Лучистый сон ее жаждал продлиться как можно дольше.
Кинув довольный взгляд на ее счастливую улыбку, Лев поспешил одеться и выйти в коридор. Не из любопытства. Ему необходимо было указать место царапающим его слух посторонним звукам.
В коридоре плакала молодая девушка, согнувшаяся будто от сильного удара в живот. Уголки губ ее взмывали надо ртом, словно бурные волны над морем. Перед рыдавшей девушкой, скрестив руки на груди, стоял Верин сосед. Взгляд его как будто пытался поднять юную особу, закружить в вихре и унести от этого дома как можно дальше. Сосед этот был военный врач, и Лев уже успел познакомиться с ним.
— Что здесь происходит? — резко спросил Лев.
— Да вот, — объяснил врач, — гражданка хочет вломиться в наш налаженный быт. Утро еще, а она не брезгует всю мою семью своим зареванным видом напугать. Я ей объясняю, что у меня дети маленькие, а ей хоть бы что.
— Но это моя комната, — вскинула голову девушка, — моя! Я же здесь прописана.
— Послушайте, — глаза врача сделались совсем злыми, — я сюда не самовольно вселился. Меня сюда государство вместо вас поселило. Вы, надеюсь, по советским законам живете. Тот, кто во время войны в свое отсутствие никакой квартплаты не вносил, тот, извините, жилплощади своей лишился. Сами себя вините, нечего было в эвакуацию уезжать.
Слезы заметали красивое, юное лицо, словно тяжелые хлопья снега, и слова выли как вьюга.
— Я… я… но это моя комната. В ней и отец мой умер.
— Послушайте, барышня! — взвился врач, — что вы мне за трагедии здесь разыгрываете?! Ваш папенька, небось в теплой постельке на тот свет отбыл, со всем возможным комфортом?! А знаете, в каких муках люди от ранений умирают?! Вас бы хоть на один день да в госпиталь, к тяжелораненым. Дайте-ка мне ваш паспорт, — потребовал он.
— Зачем? — растерялась девушка.
— Дайте, — еще более категорично сказал он.
Она протянула ему свой паспорт, не сразу найдя его в своей сумочке.
— 1920-го года рождения, — усмехнулся он, — это значит — сколько вам исполнилось? Двадцать шесть? И лицо-то ваше блеска не утратило. Даже и в слезах вон сияет. Все потому что в тылу отсиживались, пока ровесницы ваши здесь от тяжелого труда в настоящих старух превращались.
— Да чего с ней церемониться-то, с крысой тыловой, — смерил презрительным взглядом обреченную девушку Лев, — поганой метлой ее надо. Человека, который раненых на фронте лечил, с семьей в ее комнату вселили, а она еще вопит что-то. Ты спасибо скажи, что тебя к ответу не призывают. Вместо того, чтобы в обороне родного города участвовать, сбежала, как крыса.
— Вера Николаевна! — воскликнула девушка, увидев вышедшую из комнаты соседку — здравствуйте, Вера Николаевна! Объясните же им…
Проснувшаяся Вера, не увидев рядом с собой Льва, вскочила, спотыкаясь об одеяло и подушки, накинула на себя халат, чтобы выбежать поскорее, догнать хоть тень своего внезапно исчезнувшего мужчины.
Таню Вера хорошо помнила. Она часто приходила к отцу, с которым была разведена Танина мать. Сама Таня жила с матерью, но прописана была у отца. После его смерти Таня сказала Вере: «думала что поживу здесь. Но за матерью надо ухаживать. Сильно болеет она у меня».
Через месяц радостная Татьяна делилась с ней: «теперь комната пустовать не будет. У меня сокурсница, из другого города, ей жить негде. Так я ей сказала — пусть у меня поживет. Чтобы тепло никуда не делось. У нее денег нет, чтобы комнату где-нибудь снимать. А здесь ей хорошо, уютно будет».
— Скажите, скажите им, Вера Николаевна, — на коленях умоляла Татьяна, — я же не для себя. Я же маму в эвакуацию увозила. Я за нее боялась. Я не могла ключи отбирать у человека, которого к себе пустила. Но я же не знала, что она за комнату платить не будет. Я ей деньги оставила. На два года вперед. А она только за первый месяц заплатила. Мне же теперь идти некуда!
— Гражданка! — одернул девушку врач, — вы не могли бы кричать потише?! У меня дети маленькие спят еще.
— Вера Николаевна! — взмолилась Таня, так и не встав с колен.
— Пойдем, — сжав руку Льва, Вера потянула его за собой, обратно, в комнату, — без нас разберутся.
Вера боялась сейчас только одного — что даже заплаканное лицо давней ее соседки покажется Льву привлекательным.
И еще ей было очень неприятно, что она при нем называет ее по имени и отчеству, подчеркивая свою юность в сравнении с Вериным возрастом.
11
Долгое время Яков истово верил, что главный смысл его пребывания на фронте — запечатлеть войну не в лубочных картинках, на которых и над мертвыми светило солнце, и не на бравурных агитационных плакатах, где кровь зачастую пахла клюквенным соком.
Яков чувствовал себя живописцем, спустившимся в ад, где художнику моделями служат не обнаженные тела прекрасных натурщиц, а разрушенные города с посиневшей от побоев кожей. Обе воюющие стороны он ощущал как части единого ада, и в кромешной тьме войны он рвался к Свету, где бы ни встречал его: в обращении к небу еще не закрытых навечно зрачках убитого героя, теплоте молитвенных слов незнаемой прежде старухи из случайного дома на пути, или даже глазах иного военнопленного, на ломаном русском объясняющего, что он отправился воевать только, чтобы не тронули его семью, и что Достоевский ему дороже Гитлера.
Что касается пленных, то на милость врага отдавались пока еще считанные единицы, но винили в этом не отступавшую краснознаменную армию, а тех художников, что вместе с Яковом трудились над листовками, призванными убедить чужих солдат в том, что там, где кончается верность своей злополучной родине, начинаются кисельные берега и берут свои истоки кисельные реки.
Когда не хватало оружия, а то, что имелось, выходило из строя, когда то и дело подводила техника, приходилось рассчитывать на листовки. Ими начиняли снаряды, сбрасывали с бипланов, не забывали взять с собой разведроты. Бывало, что пачки листовок клали на плоты и отправляли на другой берег, как письма врагу.
До сентября 1941 года все листовки составлялись только в Москве, при центральном «7-м управлении по работе в войсках и среди гражданского населения». Вдали от Москвы сочиненные в столице листовки могли лишь распространять, а не придумывать сами. Оттого случались нелепости. Листовка говорила о сокрушительном разгроме наступающих немецких дивизий и там, где могли похвастаться только одним лишь захваченным у врага автоматом. Как-то близ Новгорода распространили листовки о полной победе над 11-ой немецкой пехотной дивизией. Оказалось, что именно эта дивизия еще вовсе не участвовала в наступлении. Дабы избежать подобной путаницы, в сентябре 1941 года отделам политического управления на фронтах было наконец разрешено составлять свои собственные листовки.
Во время первого артобстрела, в который он попал, Яков увидел, как по разному отвечают лошади и кони гибельному небу. Молодые животные заходились в неистовой пляске, беспомощно прыгали с места на место, ржали испуганно, тогда как бывалые лошади ложились на землю и замирали неподвижно. Вокруг них словно останавливалось время. Рядом бегали, кричали, суетились все остальные, но все это было отгорожено от них некой магической чертой. Все мгновения всеобщей паники они жили в коконе остановившегося времени.
Вечером политрук застал Якова за рисованием лошади.
— Это что? — растерялся политрук.
— Лошадь, — объяснил Яков, — разве не похоже?
— А зачем нам сейчас лошадь?! — политрук окончательно перестал понимать происходившее, — зачем нам сейчас лошадь?
— Просто рисую, — с вызовом посмотрел на него Яков.
— А… вот оно что! — недобро захохотал политрук, — рисует он, видите ли! А то, что война сейчас, это ничего?! Война, что, она подождет, пока он своих лошаденок рисовать будет! Не на то вы талант свой употребляете! Ох, не на то! Немец, всей мощью своей поганой, на нас прет. И художники ихние, между прочим, еще как в этом участвуют! То и дело с самолетов нам листовки свои сбрасывают. У нас бойцы, конечно, сознательные, вместо туалетной бумаги их используют. Но стараний художников ихних не признать нельзя. А вы тут лошаденок каких-то рисуете. Каждый на своей линии фронта врагу отпор дает. Если у вас карандаш в руках лучше держать получается, чем оружие, так от других не отставайте, карандашом их разите, а то с каждого потом спросится, в конце войны, сколько фрицев на его счету, и как бы вам потом стыдно не стало, что вы черт-те чем в войну занимались. Поизучайте-ка вражеские агитки, да повнимательнее! И сделайте лучше!
Вражеские листовки большей частью отличались топорной работой. Счастливые советские семьи как будто были скопированы с плакатов во славу социалистических строек, только на немецких агитках текст был другой. «Эта счастливая жизнь ждет тебя, если ты поможешь нам свернуть шею жидобольшевизма».
Едва ли не каждая немецкая листовка призывала сдаваться в плен. «Твое рабочее место разрушено большевиками. В Германии ты найдешь работу и хлеб. Зовите с собой ваших братьев, сестер и друзей! Вы только подумайте: ведь вместе можно ехать, вместе работать и вместе в свободное время петь ваши красивые народные песни, играть ваши прекрасные мелодии, веселиться и танцевать ваши народные танцы!».
Стихи на рисунках, обратная сторона которых служила официальным пропуском в добровольный плен, были не лучше рисунков:
«Большевики вас погнали
Защищать жидов проклятых,
А чтоб правды вы не знали —
Комиссары Вас пугают,
Будто немцы убивают
Русских пленных, и как будто
Хотят немцы Вашу родину забрать,
И к себе в карман покласть».
Одна из листовок была напечатана в форме большой бутылки, на этикетке которой красовался текст секретного приказа №0999, согласно которому «под личную ответственность командиров частей» следовало «обеспечить снабжение каждого бойца, действующего на передовой линии фронта, водкой. Водку выдавать преимущественно перед атакой». «Не подлость ли, — вопрошали на другой стороне бумажной бутылки, — напоить человека водкой, чтобы он, одурманенный ею, не отдавая себе ни в чем отчета, лез в бой, в котором предстоит верная смерть».
Но бойцы, к которым тщетно взывали немецкие пропагандисты, считали это не обманом, а милостью. Идти в бой все равно надо, так лучше, если водка затопит страх.
— Держи, — сказала Якову Зоя Кудинова, протягивая ему флягу, — я раньше и в рот не брала, а тут пристрастилась. И я не стыжусь. Не то время, чтобы стыдиться. Пей. Хорошая, трофейная. Такую неизвестно еще когда попробуешь.
Зоя Кудинова была снайпером. Яков должен был написать про нее очерк. Днями напролет лежала она в белом маскхалате, почти неподвижно, на снегу, держа на мушке очередной предполагаемый немецкий блиндаж и надеясь прибавить к списку убитых ею врагов еще одну человеческую жизнь.
— Я до войны в планово-экономическом отделе училась, — рассказывала Якову Зоя, и взгляд ее становился все более неприкаянным, — до войны больше всего о ребенке мечтала. Это я не для статьи тебе, не пиши об этом. Когда столько на снегу лежишь… Застудила я себе все. Да так застудила, что, похоже, не будет у меня детей. Никогда уже не будет. Слушай, а вот ты рисуешь, я знаю хорошо, а можешь меня с ребеночком нарисовать? Пусть он хоть на картинке живет, если в настоящей жизни не довелось ему родиться.
Яков для нее не рисунок нарисовал, а целую картину сделал. Три вечера старался, привез потом, специально. Когда увидела мальчоночку, глазками на нее своими так трепетно глядящего, не выдержала, в слезы ударилась. Она, 16 человек из снайперской своей винтовки уложившая, слов не могла найти.
— Это же… Это же… как живой. Я… Я… в нем… Как же ты сделал так, что все, что внутри меня, все в глазах этого крохи теперь… Это… это же… Я раньше о ребеночке думала, мечтала. Больно думать было, больно мечтать… но ты мою мечту живой сделал. Так и кажется, что крохотка эта сейчас «мама» мне скажет. Именно мне. Но ведь этого не будет никогда. И потом, когда война кончится, когда ни одного фрица проклятого не останется, для меня все равно ничего не изменится.
Ее убили на следующий день. Даже статья о ней еще не успела выйти.
И Яков, узнавший об этой смерти, боялся, что причина ее не роковая промашка опытного стрелка, а пренебрежение к собственной жизни, которого прежде, до портрета ребенка, у Зои не было.
12
— Ну, вздрогнули? — по-хозяйски разлив спирт в два стакана, спросил Лев.
Он теперь часто заглядывал к соседу. С Агнией у него отношения не заладились, но в ее отсутствие Юрий всегда выставлял соседу припрятанный женою спирт.
— Я, кажись, женщину хорошую нашел, — поделился Лев новостью с собутыльником, — Красивая она. Такая, что рядом идти не стыдно. И еще актриса она. Это получается, что я через нее тоже теперь к искусству как бы приобщен. Правда, зажимают ее. Роли главные не дают. Но я знаю отчего это. Потому что красивая. И там, в театре, среди режиссеров всяких, точно тьма охотников до нее. А она не такая, чтобы с кем попало, за рольку в постель лечь. Ну, ничего, порастрясу я их театр, заходит он ходуном. Ну, давай еще по одной, — смачно крякнув, Лев потянулся за графином, — ох, ну тебе-то, конечно, воевать теперь не с руки, — взгляд Льва скользнул по пустому рукаву собутыльника, — а я бы еще полетал. Высоты не хватает мне. Зря все-таки столько ребят демобилизовали. А вдруг вот как с Японией… Мы же готовы должны быть. Чтобы всей огромной армией, если что, навалиться. Нельзя нам к мирной жизни привыкать. Хотя у меня еще тут цель появилась — машину хочу купить. Глаз любуется. Раньше, до войны, поди увидь автомобиль на улицах, а сейчас они по улицам бегут, как кровь по венам. Куплю себе обязательно «москвич четырехсотый».
— А ты знаешь, сколько он стоит? — угрюмо ответил радужным мечтам соседа Юрий, — на таких машинах только директора разъезжают.
— Ну, и я каким-нибудь директором стану, — рассмеялся Лев, — не лыком шит.
13
Никогда еще молчание между ними не длилось так долго. Уже с целых полчаса, наверное, взгляд Родиона не отрывался от мелькавших за окном поезда, пейзажей.
Яков понимал, что обманчиво сосредоточенный взгляд его товарища — спасительное средство, призванное защитить его мысли от чужого вмешательства. Что-то сильно тревожило его, что-то такое, чем он не хотел делиться даже с другом. Несмотря на то, что знакомы они были давно, доверяли друг другу как мало кому, и, случалось, вместе рисковали жизнью, оставалась какая-то часть их прошлого, о которой каждый из них рассказывал очень скупо, в двух-трех словах, давая понять, что очень не хочет лишних, тягостных расспросов.
Для Якова отзывалось сильной болью любое напоминание о далеком времени. Самые детские годы были окрашены ощущением особого, нежного уюта, который так умело создавала в доме мать. Особо всегда помнилась икона над ее кроватью, перед которой неизменно светлел мамин взгляд, и перед которой отец нередко становился на колени. Икону эту отец Якова, регент церковного хора, бросил в печь после смерти жены.
— Умерла наша мама, сынок, — сжав зубы, сказал он сыну.
Яков думал, что не выдержит тяжести рук, доверительно положенных отцом ему на плечи. Злая, непосильная тяжесть была сейчас в его руках.
— Уж я старался по богову жить. Ничем, кажется, его не обидел. А он мне в ответ такую оплеуху. За что он так нас?! Ей еще жить, да жить, а она в один час сгорела. Кто в чести у него? Отец Никодим, который на пожертвованиях жирует?! Я же видел, как он деньги берет. И щеки только розовеют.
Не прошло и нескольких лет, как бывший регент церковного хора явился в родную церковь в тяжелых сапогах, с револьвером в кобуре. Он теперь был комиссар. Нескольких священников (и в первую очередь отца Никодима) арестовали, а золото церковных куполов пошло на службу дела революции.
Никогда не забыть Якову тот день, когда отец пришел домой, очень усталый, нервный. Сапоги его были в пыли, одежда — в крови.
— Подь сюда, — позвал он сына.
Яков осторожно приблизился к нему, предчувствуя что-то недоброе. Отец резким движением сорвал с него крестик, сжав его в кулаке, как пойманную муху.
— Запомни, сын, Бога нет, — глаза отца налились кровью, — этот мир насквозь гнилой. И если ты во всякую чушь верить будешь, никогда сильным не станешь. А сейчас время такое, только сильный выжить может. Ну, все, все, иди спать, хватит с тебя на сегодня уроков.
Всю ночь Яков не мог заснуть, ворочался с бока на бок, невыносимо было чувствовать, что в доме сейчас, в соседней комнате, находится не родной, любящий папа, а какой-то незнакомый человек. Хотелось встать, пойти к нему и попросить, чтобы он отдал обратно крестик. Как будто немытым чувствовал себя Яков без крестика. И он встал, посреди ночи, чтобы пойти в соседнюю комнату, из которой пробивался свет сквозь полуоткрытую дверь.
Крестик лежал на полу, прямо под ногами задохнувшегося в веревочной петле отца.
И как бы сильно не доверял Яков Родиону, он знал, что никогда не расскажет другу о той давней, страшной ночи. Да и о первых своих иконах тоже не скажет, которые Яков стал писать не из-за истовой веры, а лишь ради надежды вернуть хоть на мгновение чувство уюта, покоя, заботы, связанные в памяти во многом именно с иконой, стоявшей рядом с маминой кроватью.
— Вроде мир уже, — Родион наконец оторвал взгляд от окна, — а на душе такое чувство, будто война еще не кончилась.
— Ты что, Ленинграда страшишься? — удивленно спросил Яков, и получив утвердительный ответ, воскликнул: «Там, конечно, всем не сладко пришлось, но мы с тобой столько всего видели, что не тебе встречи с выжившими ленинградцами бояться. Или дело не в них?».
— Не в них, — с неожиданной откровенностью ответил Родион, — я думал, меня в 39-м арестуют. Меня, в общем-то не за что было арестовывать, а вот приятеля моего, причем близкого, было за что. Он роман написал, почти антисоветский, и друзьям и знакомым главы из него читал. Я оказался одним из тех немногих, кто эти главы слышал и куда надо не сообщил. Взяли меня в тиски. Будь здоров ситуация… Или друга до конца топи, или свою собственную голову на плаху клади. Только чудо меня спасло. А так бы мы сейчас здесь с тобой не разговаривали. Талант мой понадобился, ну, или то, что они посчитали талантом. Еще в Финскую войну мое положение выправилось, потому что я писал то, что они хотели, и именно так, как им было нужно.
— А Ленинград здесь при чем? — спросил Яков.
Вопрос этот прозвучал грубо, но они были давно и близко знакомы, чтобы иметь право задавать друг другу такие вопросы.
— Ленинград, — рассеянно повторил название города Родион, — я же там жил, в Ленинграде, пока все это не случилось, и пока меня московские друзья не вытащили. Роман у меня был. Страстный, безумный, такой, что до обмороков. Не просто роман. На всю жизнь единственная любовь моя. Только она замужем была. Причем за офицером. Ничего не мог с собой поделать, любил ее безумно. Я бы все для нее сделал, и на мужа бы не посмотрел. А тут история эта. С моей опалой. Одно дело — журналист известный, и другое — подозреваемый в антисоветской деятельности любовник. С которым еще не просто кому-то изменяешь, а верному отечеству офицеру. Бежал я от нее. Бежал, чтобы репутацию ее не замарать. Я уверен был, что благо для нее делаю, гордился тем, что своими чувствами ради нее жертвую. У меня костяшки пальцев все стерты были, потому что о стены бил. По ночам плакал. Да, плакал. Подушку, словно лицо ее, в ладонях сжимал. Потом письмо получил. Нашла она меня как-то. Уж как, не знаю. Не читая, выбросил. Чтоб не искушаться. Я под расстрелом ходил, а она за офицером своим как за каменной стеной была. Я все чувства к ней из себя вытравил. Думал, геройский поступок совершил. Ее от себя спас. Только письмо ее, которое я думал, что выкинул, среди книжек нашлось. Плохо я его выбросил. Вчера я это письмо прочел. Она мне писала, что очень боится. Чувствует, что грядет что-то очень страшное. Она в письме умоляла… Представляешь, умоляла меня забрать ее из города. Письмо это в начале 41-го было написано. В марте. Она уже тогда умоляла меня забрать ее. Умоляла. А я даже письма ее не прочел. Я ничего ведь о ней не знаю. Спрятался, отгородился малодушно от жизни ее, от судьбы. Страшно мне. Для меня Ленинград не просто город, в котором люди от голода подыхали. Это город, в котором я оставил Ее.
14
— Ты не рад? — беспокойно спросила Агния.
— Рад, рад, — раздраженно ответил Юрий.
Когда он, вняв ее словам, прислонился к ее оголенному животу, то показалось ему, что внутри жены не новая счастливая жизнь зарождается, а таится коварный враг, который только и ждет удобного случая, чтобы, появившись на свет, лишить собственного отца с таким трудом завоеванных им недавно прав. Ведь только-только жизнь начала поправляться. Многих его новых знакомых искалеченных собутыльников ВТЭК или вовсе лишил инвалидности, или поменял группу, оставив без очень существенных пенсионных выплат. Юрия несколько раз вызывали на переосвидетельствование, и оставили за ним прежнюю группу инвалидности. Полученная пенсия, верная, любящая жена, приличные бытовые условия, — все это помогало ему чувствовать себя уверенно и уютно. Другие калеки кончившейся наконец войны, торгующие на базарах, просящие милостыню, казались ему неудавшимися людьми, хилыми, беспомощными противниками собственных судеб, не способными тягаться со своими увечьями.
Но теперь Юрия мучило чувство, что жена его живет мыслями о будущем ребенке, мечтая о сотворении улучшенного образа мужа. Сердце сдавливало ощущение, что и зачала Агния только потому что не могла довольствоваться видом искалеченного супруга. Юрий ведь явно видел, что она думает уже не о нем, а о будущем ребенке. Она теперь, казалось, боялась прикосновений мужа, как будто внутри нее был хрусталь, который он мог разбить каким-нибудь неловким движением.
15
Она поразила Якова тем, что за долгое время оказалась единственной, чей образ не сложился в его сознании в едкую карикатуру.
В тусклом свете вагона лицо ее показалось ему целым миром, где глаза, как теплые звезды блестят над чистой рекой улыбки. Золотистые пряди волос заливали ее лицо, словно мягкий, лунный свет, а ямочки на щеках чудились тихими заповедными озерами. Голос ее был свеж, как утренняя роса, каким бы старомодным ни было это сравнение.
Когда уснул утомленный собственными признаниями Родион, Яков почувствовал, что ему самому уснуть удастся не скоро, и вышел, чтобы успокоить пересохшее горло горячим чаем. Теперь разжиться им в мчащемся поезде было легко. Это до войны в вагонах в помине не было никаких титанов с кипятком, и у проводников можно было купить лишь заварку, а кипяток приходилось добывать самому, выбегая с чайником в руках на какой-нибудь станции.
Но не до чая уже было Якову, увидевшему проводницу своего вагона. В рассеянном разговоре с товарищем, в людской толпе при посадке в вагон, Яков еще не успел увидеть ее такой, как сейчас. Но теперь казалось, что жизнь существует только там, где есть она, а все, что вдали от нее, — призрачный, ненастоящий мир.
— Почему же вы на меня так смотрите? — спросила она, и от смущения будто легкий ветерок всколыхнул гладь ее ямочек-озер.
— Я вам напоминаю кого-то?
— Нет, — ответил Яков.
— А то я подумала… Сейчас время такое. Кто только кого не потерял в эту войну, вот и ищут хоть отзвук близких даже в случайных прохожих.
— Нет, вы ни на кого не похожи, — сказал Яков, — я уверен, вы одна такая на свете.
— И что же во мне необычного? — удивилась она.
— Не знаю. Только вот еще минуту назад было как-то неуютно на душе, недобро, неприкаянно. Казалось бы, благодарным надо быть за то, что нам с товарищем редакция отдельное купе определила… Ан нет. Ничто не в радость. А вышел, вас увидел, вот и на душе сразу легко стало. Спокойно.
Яков раньше не говорил никому таких слов, и не числился никогда среди тех ловеласов, что с легкостью заводят разговор с очередной женщиной и с плохо скрываемым возбуждением осыпают цветастыми фразами очередную жертву своей похоти. Но сейчас, пожалуй, впервые в жизни, Якову было легко говорить такие слова незнакомой девушке. Легко, потому что он был уверен, что никогда не увидит ее больше. Легко еще и потому что война приучила его к тому, что надо успеть сказать человеку что-то хорошее прежде чем его не станет.
— А вы в редакции работаете? — заинтересованно спросила девушка, — вы журналист?
— Художник.
— Художник?! Настоящий?!
— Да. Кажется, да.
— И… и вы меня вот… портрет мой нарисовать бы могли?
— Да. Не только бы мог, но даже и хотел бы.
— Но я позировать не смогу. У меня тут работы много.
— Позировать и не надо. Мне кажется, я вас на всю жизнь запомнил.
— И что, прямо вот так и нарисуете?
— Да. Только здесь простой карандаш не подойдет. Слишком тонкие у вас черты. Такие только на холсте изображать. В самых редких сочетаниях красок.
— Ну, на это время нужно. А вы его на меня вряд ли тратить станете.
Яков хотел сказать, что с радостью потратил бы на нее все то время, что у него есть, но подумал, что это уже прозвучит как пошлость, как банальнейшие, плоские слова, с помощью которых многие ловеласы добиваются расположения понравившейся им девушки.
— А вот вы в Ленинград едете… Я там через три дня тоже буду. Недолго, правда. Но все равно, не то что в этот раз. Сейчас-то сразу обратно. И если у вас найдется минута свободная…
— Да, да, конечно, найдется, — спешно заверил ее Яков, спеша найти в кармане пиджака записную книжку.
Ни с кем еще Якову не было так уютно, так легко и празднично. И больше всего ему сейчас хотелось, чтобы они увиделись вновь.
16
Лев желал показать Вере, что не чужд искусству и поэтому когда он увидел афишу, сообщавшую о выступлении Бориса Пастернака и Анны Ахматовой в Колонном зале Дома союзов, то решил спросить в кассе, хорошие ли это поэты, и если его уверят, что хорошие, то взять билеты. У кассы уже была огромная очередь, в которой каждый волновался только о том, что продажа билетов закончится именно на нем.
Вера никогда не была в числе ценителей ни Ахматовой, ни Пастернака. Стихи их обоих казались ей вычурными, надуманными, но на выступление она пошла с любопытством, ей было интересно посмотреть, как встретит их публика.
Все происходившее в этот вечер в Колонном зале Дома союзов раздражало Веру. Раздражал седовласый поэт, гордо заискивающий перед собравшейся публикой. С подчеркнуто вытянутой спиной он метался по разным частям сцены и говорил в зал: «а теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам». Но еще более тошно ей было от приторных слез поэтессы, демонстративно смахнувшей их с ресниц, когда Пастернак читал «Реквием» Цветаевой.
Ахматова казалась Вере постаревшей и уже ни на что не годной актрисой, вышедшей на сцену только для того чтобы получить цветы и аплодисменты за роли, сыгранные много лет назад. Сколько самой Вере приходилось репетировать, переживать, волноваться, пробовать на вкус каждое слово, ради единого, брошенного великодушно из зрительного зала цветка или благосклонного взгляда, которым порой удостаивали не только тех, кто играл главные роли.
А тут, стоило только этой поэтессе выйти на сцену в своем черном платье и белой шали с длинной бахромой, и не успеть еще сказать ни слова (ни слова!), как весь зал вскочил со своих мест в радостном исступлении и принялся аплодировать так, как будто каждый хотел стереть свои ладони до крови.
Вере казалось, что она оглохнет от этих сумасшедших аплодисментов. Даже на премьере лучших спектаклей в ее театре она никогда (никогда) не видела, чтобы зал аплодировал так долго, громко, исступлённо. Выверенная и вдохновенная игра целой труппы, самые сложные декорации, искрящаяся музыка, сложнейшая работа сотни людей проигрывали одному лишь вычурно величественному выходу на сцену горбоносой стареющей кокетки. Ей не надо было ничего говорить, делать, читать стихи. Достаточно было явить себя, но зал уже не мог уняться от рукоплесканий.
Все раздражало Веру в этой женщине: и горбатый нос, и ее полнота, не мешавшая мужчинам смотреть на нее с истовым обожанием. Черное платье с белой шалью раздражало тоже, но более всего тяготило то, что проклятые аплодисменты никак не кончались. Ничего еще не было сказано, а они все длились и длились.
Льву показалось, что Вере дурно, и он предложил ей выйти на улицу.
— Все хорошо, — сказала она, — просто душно стало.
Вера не хотела никуда уходить. Она напряженно ждала, когда эта оранжерейная царица в чем-то споткнется, сфальшивит, разоблачит свою мнимую царственность. Но чаяния Веры были напрасны. С каждым новым прочитанным стихотворением упоение зала росло. На последних строчках каждого из них неизменно в едином порыве стаей птиц взлетали восторженные рукоплесканья. А в одной из посланных на сцену записок поэтессу назвали новой Екатериной Второй. И выспренняя благодарность в ответ на эти слова настолько разозлила Веру, что она не могла больше сдерживать себя. Она тоже написала записку, и Лев не понимал, почему она прячет ее от него.
«Я здесь случайно, — написала Вера в записке, — но сейчас слушаю ваши стихи, и не понимаю, за что вас так любят».
Волнуясь, передала записку, и уже не слышала никаких стихов, только и думала о том, когда же та, что сейчас на сцене, развернет скомканный листок и прочтет пощечину себе. Поэтесса улыбнулась, держа развернутую записку бережно, словно древний свиток. Она посмотрела в зал.
— Вы здесь случайно? А я — нет. Есть и другие места. Те, где поэзия не в чести. Наверное, там вам будет уютнее. А пока я желаю вам, чтобы вас тоже любили.
И это великодушное «тоже» прозвучало так грубо, так унизительно больно, что Вера мигом вся потерялась, затравленно вжавшись в кресло. Сидящие рядом видели, какое впечатление на нее произвел ответ Ахматовой, и, конечно, догадались, кто писал эту проклятую записку.
Лев чувствовал себя неуютно. Он видел, что Вере явно пришлось не по душе это поэтическое выступление, и думал, что она станет корить его за купленные билеты. На улице она спросила его: «Скажи мне только честно. Тебе понравились эти стихи?».
— Не знаю, — пожал он плечами, — честно говоря, я ничего в них не понял. Не умеют они мысль по простому выразить.
Никогда еще Вера не целовала его так страстно, так исступлённо-благодарно, как в этот раз.
И каким наслаждением для нее было прочесть несколькими месяцами спустя в сентябрьском номере «Правды» стенограмму выступления товарища Жданова, на котором он громил ту самую поэтессу и вдобавок к ней популярного юмориста Зощенко. Вера несколько раз перечитала всю стенограмму, в строчках которой ее взгляд плавал, словно измученное жарой тело в чистой, холодной воде. «Анна Ахматова принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократически-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, … мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой. Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой»,
Читая эти строчки, Вера чувствовала себя отомщенной. Ведь это были страстные, резкие слова не какого-нибудь ополчившегося на поэтессу рядового критика. Центральная газета опубликовала официальную стенограмму товарища Жданова на собрании партийного актива. Это значило, что теперь поэтессе не уцелеть, несмотря на все рукоплесканья. Вера чувствовала себя счастливой.
17
Яков ничего не сказал Родиону о захватившем его чувстве. Праздник укромно поселился под сердцем. Яков понимал, что слова радости будут сейчас не к месту. Было непривычно, неуютно, странно видеть Родиона, одержимого страхом. Прежде Якову казалось, что ничто на свете не может вселить страх в его товарища, не раз на его глазах с легкостью рисковавшего жизнью. Но сейчас в нем, кажется, не было уже ничего, кроме страха. В каждом движении, каждом слове. Чем ближе они подъезжали к Ленинграду, тем сильнее это было заметно. Будто все тяжелее оказывались невидимые колонны, которые, подобно атланту, держал на своих плечах Родион.
Можно было навести справки, еще будучи в Москве, и узнать судьбу оставленной в Ленинграде женщины, но он этого не сделал. Самые дурные предчувствия заставляли длить спасительное неведение. Родион малодушно оставлял для себя возможность надежды, боясь, что не выдержит предстоящей правды.
Между тем как Яков жил уже преддверием будущей встречи. Ему упоенно верилось, что наконец-то в его жизни случится что-то по-настоящему светлое, значительное, и он чувствовал, что имеет на это право, как и все, кто жил и воевал рядом с ним в эти годы. Все они заслужили счастье. И даже город, в который он ехал вместе с Родионом, этот измученный блокадой город представлялся Якову выздоровевшим после долгой, страшной болезни. И в таком городе можно было Любить.
Но при взгляде на своего товарища, сидевшего в купе напротив него, чаяния радостной встречи рассеивались. Яков сразу вспоминал, что едут они в город, которому голод остервеневшим волком вцепился в горло. И на всех чудом выживших остались следы клыков. И также Яков вспомнил еще и о том, что наверняка обязательно придется лгать, изворачиваться, ведь от них с Родионом ждут не летописи блокадного ада, а восторженных передовиц, праздничный пафос которых затушует самые страшные страницы жизни города белых ночей. И, глядя на обречённого Родиона, приближавшегося к Ленинграду словно приговоренный к плахе, уже и не верилось в скорую счастливую встречу, в щедрость наконец-то смилостивившейся судьбы. Теперь Яков долгим взглядом в окно спасал себя от лицезрения олицетворенной обреченности, воплотившейся в собственном его друге.
Первое, что они увидели на пути в гостиницу — смеющихся мальчишек, радостно раскачивавших застывшие трупы повешенных немцев.
Яков знал, что четыре дня назад на площади состоялась публичная казнь приговоренных к смерти немецких военнопленных, и он радовался тому, что они не застанут ее, иначе их непременно обязали бы присутствовать в толпе, радостно возбужденной лицезрением показательной смерти. А Якову не хотелось запечатлевать сцены казни.
— Их же вроде уже четыре дня назад повесили, — сказал Яков.
— Детям поиграться оставили, — отозвался Родион.
Мальчишки весело галдели. Они придумали новую забаву. Выбрали среди повешенных генерала с высунутым языком, и стали с расстояния в десять шагов по очереди кидать в него снежки.
18
Он так много выпил в этот вечер, что когда они легли в постель, движения его были неловки, даже грубы. Агния осторожно отдалила от себя его руки.
— Пожалуйста, — прошептала она.
— Что «пожалуйста»?! — сразу ощетинился он.
— Не сегодня, хорошо? — Агния безуспешно пыталась отодвинуть от себя навалившееся на нее тело, которое сейчас как будто принадлежало не мужу ее, а какому-то совершенно чужому человеку.
— Я для тебя сегодня плох, да? — голос его тоже был другим, резким, раздражительным, навалившимся на нее также, как тело.
— Просто, — виновато оправдывалась Агния, — у нас ведь ребенок… там внутри меня… А ты как будто этого не чувствуешь. Я уже не могу так, как раньше. Я не хочу, чтобы мы повредили ему. И если ты хочешь, то мы будем, конечно, но очень осторожно, хорошо? И не по пьяному делу.
— Ах, вот ты как заговорила! — прошипел Юрий, и, встав с постели, нервно заходил по комнате, — если я хочу… То есть получается, это теперь только мне одному нужно?! Недавно еще сама уговаривала, а теперь словно милостыню даришь. Ты уже который день сама не своя ходишь. Все о ребенке этом думаешь. Его еще и в помине нет, а о нем уже все мысли твои. А что потом будет, когда он на свете появится? Мы с тобой сколько времени не виделись? Быстро же я успел тебе наскучить.
— Не говори так, — остановила его Агния, — не надо. Неужели ты не понимаешь, что там внутри меня будешь маленький ты? Ты не понимаешь, о ком я забочусь?
Юрий не понимал. Он не чувствовал никакого маленького себя в своей жене. Его коробило, передергивало всего от мысли, что внутри нее поселилось какое-то враждебное ему существо, еще неизвестно от кого нажитое. И он хотел сделать больно этому существу, придавить, растерзать его. Он бросился к Агнии не в порыве страсти, а в одержимости желанием обуздать и наказать враждебную силу, поселившуюся в чреве его законной жены. Он сильным рывком руки попытался перевернуть ее на спину.
— Не делай этого! Не надо! — заклинала его Агния, все дальше отодвигаясь на постели, закрывая свое тело руками, будто воздвигая ограду.
— Что «не надо»?! — крикнул на нее Юрий, — ты жена моя законная.
Она очень зло посмотрела на него.
— Если бы ты не…
И этот взгляд, ее неожиданные слова вдруг отрезвили его.
— Ну, договаривай, — потребовал он, — что «если бы»?! Если бы я безруким калекой не был, то ты бы мне спуску не дала?! Пощечину залепила или того почище?! Так? Так?! Пожалела убогого, да? Но я… я же не просто так. Я таким не родился. Ты помнишь, каким я был. Я в танке горел. Я чудом жив остался. А ты знаешь, что это такое — в горящем танке оказаться?
Он, объясняющий ей свое изуродованное тело, был сейчас таким беспомощным, таким неприкаянным, что Агния сразу почувствовала себя виноватой.
— Иди ко мне, — попросила она, — иди ко мне, мой хороший. Вот так, давай.
Она взяла его руку и положила его ладонь себе на грудь, призывая забыть только что произошедшую ссору, зарубцевать открывшиеся раны семейной жизни счастливым наслаждением постели.
— Только осторожно, — попросила она, — Пожалуйста.
19
За все то время, пока Яков распаковывал чемодан и раскладывал свои вещи в гостиничном номере, Родион оставался неподвижно сидеть на кровати, обхватив голову руками. Яков, постучавшись к нему, увидел товарища с помертвевшими глазами.
— Это, конечно, не мое дело, — сказал Яков, — но, может, тебе стоит все-таки сходить и узнать. Адрес-то у тебя есть.
— Да, это ты верно сказал, мое дело! — Родион так сильно сжал кулаки, как будто начиналась большая драка, — это меня касается. Только меня. Зря я тебе рассказал все. Ни к чему это было.
— Зря? — во взгляде Якова читалось удивление. Никогда Родион еще не разговаривал с ним так зло, так грубо, — а ты что, чужому человеку открылся? Мы с тобой пуд соли вместе съели. Может, жизнь друг другу не спасали, от огня не прикрывали, как у других было, но одного и того же лиха сполна хлебнули. Рядом. А ты сейчас со мной как с чужим.
— Ты из-за работы беспокоишься? — с едкой иронией спросил Родион, — что из-за того, что я расклеился, теперь задание тяжелее выполнить будет?
— Задание? — зло усмехнулся в ответ Яков, — Нет, не боюсь. Надо будет, и сам за тебя напишу. Я не только картинки рисовать умею. Знаешь, я еще давным-давно все хотел в Ленинград приехать, белыми ночами полюбоваться, в Эрмитаж сходить. Тогда не довелось. И не думал, конечно, что вот так придется приехать — к еле живому городу, чтобы с тем встретиться, что уцелело чудом. Не до белых ночей теперь, не до Эрмитажа… Мы завтра этих людей увидим. Мне страшно им в глаза смотреть. От голода подыхать не легче, чем под пулями жизнью рисковать. Особенно когда вокруг тебя все близкие умирают. Мы все сотни раз могли погибнуть, все. И ты тоже. Я своими глазами видел, что ты от пуль никогда не прятался, не дрожал. Неужели силы в себе найти не можешь, чтобы сейчас, вот прямо сейчас пойти к ней… Чтобы не произошло, это нужно ей — чтобы ты сейчас к ней пошел. Либо память твоя о ней нужна, либо встреча живая. Если случилось что-то, о задании нашем не думай. Я сам все сделаю. Я писать умею, поправишь только потом. Если жива она, дай Бог жива, то тоже можешь командировку потратить на то, чтобы с ней… Я все сделаю. Иди. Тебе надо. Я вижу, ты с ума сходишь.
Кулаки Родиона, все более напрягавшиеся во время долгого монолога Якова, при последних словах разжались, размякли.
— Спасибо, — сказал он Якову, — спасибо. Я и, правда, кажется, схожу с ума.
20
Конечно, Лев, вернувшийся с войны, бравый молодой летчик, без труда мог завести знакомство с какой угодно девушкой, достаточно только было ответить на очередной зовущий взгляд, но все мысли его теперь были о Вере. Ему льстила ее принадлежность к другому, артистическому миру, прежде казавшемуся совершенно недоступным. Его манила ее бескрайняя и опытная чувственность в постели. И то, что она была старше, нравилось тоже. Ее возраст был вызовом его матери, которая по-прежнему называла сына «милым Левушкой», гладила и целовала как ребенка, не понимая, кажется, кем он стал. Льва охватывало сильное напряжение, едва мать выходила за ним на кухню, и открывала свою приторную, теперь уже унизительную для него ласку, соседским глазам. О Вере он еще ничего не говорил матери, но радовался тому, что с такой взрослой женщиной ей будет не справиться.
И еще тело его стало очень зависимо от Вериных ласк, как будто только в ее руках были ключи, открывающие ему двери неземного наслаждения. Он уже боялся потерять ее. И то, что она, взрослая женщина, приняла его покровительство и стала перед ним незащищенной девочкой, ему тоже ой как нравилось. Поэтому ему все время хотелось чем-то порадовать Веру. Он останавливался у каждых афиш, думая, придется ли его женщине по душе то или иное выступление. Афиш было много. Не только стены, но и заборы пестрели призывами. Больше всего было приглашений посетить ту или иную лекцию в МГУ, Доме ученых или каком-нибудь клубе. Выбор был необъятный: история западной живописи, атомная энергия, новейшие достижения медицины, астрономия, будущее музеев…
Но Лев боялся брать билеты на лекции, опасаясь показаться Вере невеждой. До войны он читал очень мало, почти ничем не интересовался, и теперь старался избегать разговоров, требующих каких-то серьезных знаний. Поэтому билеты в кино были надежнее. Шел снятый в последний год войны «Великий перелом», — о сражении города у великой реки. На афише ладонь генерала с суровым взглядом лежала на огромной карте. Понятно было, что речь в фильме пойдет не только о кровопролитном сражении, но и об искусной стратегии. Лев взял три билета, два на соседние места, чтобы вечером пойти вместе с Верой, и один дополнительно для себя, дабы заранее посмотреть фильм, и потом как будто нечаянно удивить Веру своей прозорливостью.
Лев радовался, что фильм о войне, значит, и о нем, его подвигах тоже. Пусть Вера лишний раз увидит воочию, с какой войны он вернулся.
Вера во время сеанса рассеянно отвечала деловитым репликам Льва. То, что происходило на экране, казалось скучным, фильм был не полотном живой войны, частью которой являлась и она сама, а записью поединка полководческих интеллектов. И все сильнее, ярче, отчетливее вспоминались кадры из первого увиденного ею кино. Несмотря на то, что все фильмы тогда были немыми, она как будто слышала голоса героев, доносившихся до нее из собственного далекого прошлого. «Сумерки женской души» — так называлась первая увиденная ею кинокартина. Живые картинки ослепляли, очаровывали, магнетически притягивали к экрану, разбивали окно в потусторонний мир, пуская в зал воздух иного царствия. Юную красавицу, героиню фильма, звали Верой, и это был особый знак, личный кивок иного мироздания, тайный пароль для посвященных. Героиня самого первого увиденного Верой фильма носила ее имя. И хоть картина была черно-белой, Вера чувствовала ее цвета, и даже запахи.
Изысканной красоты невеста богатого аристократа только после свадьбы призналась ему, что над ней грубо надругался грязный плебей, и она жестоко отомстила ему, вонзив, спящему, нож в грудь. Декорациями волнующего признания служила роскошная вилла, где молодожены должны были провести безоблачный медовый месяц. Но вместо сочувствия, отомстившая за себя невеста нашла у супруга только неприкрытую холодность и бесповоротное осуждение. Фильм заканчивался его раскаянием, горечью человека, видящего свою брошенную жену, усыпанную охапками цветов на сцене, где она блистательно играла очередную роль.
Фильм казался такой яркой, сбывшейся сказкой, что уже тогда пришли завороженные мечты о судьбе актрисы. Хотелось вот также стоять перед восхищенными зрителями, возвышаясь над преподнесенными ей в дар благодарными цветами. И надругательство, совершенное над юной красавицей пьяным слесарем, казалось горькой платой за будущее счастье, которым устыдившаяся судьба искупает свою вину. Пятилетняя война ощущалась как мучительное насилье на чердаке, сцена которого так потрясла когда-то юную Веру. И она считала, что также, как и другие, сполна заплатила своими лишеньями за то, чтобы стать наконец счастливой.
Лев все шептал ей на ухо, предсказывая очередной кадр.
— Ты что, уже смотрел этот фильм? — спросила она.
— Нет, ты что, — отпрянул он, — конечно, нет. Просто я воевал. Я знаю.
21
Едва за Родионом закрылась дверь, Яков ощутил сильную тревогу. Предчувствие беды сдавило грудь. Естественное волнение за друга умножалось обреченностью собственной пульсирующей радости. Страшно было не только за судьбу близкого товарища, но и за впервые вчера изведанный запах волшебства, готовый развеяться в чужих бедах и страданиях.
При мысли об отчаявшемся друге стало вдруг неловко за назначенное через несколько дней в Ленинграде свидание. А ведь Яков еще опрометчиво обещал написать к этой встрече портрет. Он надеялся, что ему удастся раздобыть холст и краски. Сейчас, в ожидании Родиона, Яков истово принялся за карандашные наброски. Запечатленный в сердце образ, казалось, должен был быть надежной натурой. Но Яков в отчаянии перечеркивал один рисунок за другим, все больше пугаясь какой-то странной силы, поработившей его искусство. Каждый рисунок возникал вопреки воле художника, как будто он только держал в пальцах карандаш, а водил им кто-то совершенно неведомый.
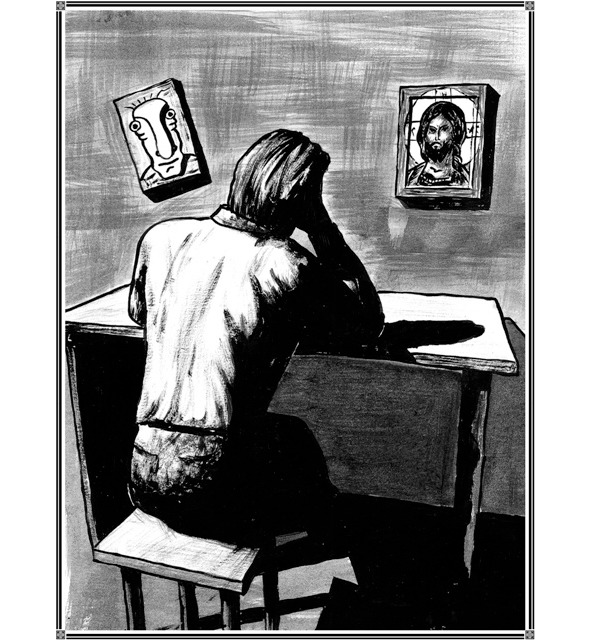
Холодный, колючий снег, поднявшийся со дна души, безжалостно заметал чудесную улыбку Лилии, которую тщился изобразить Яков. Какая-то непонятная, злая сила, что еще недавно превращала лица даже близких людей в нелепые карикатуры, добавляя, вопреки воле художника, гротеска любому его рисунку, теперь настойчиво требовала, чтобы сквозь очарование образа неизменно проступало бы мучительное, невыносимое страдание.
Яков не раз читал и слышал о том, как герои какого-нибудь писателя вдруг переставали слушаться своего создателя и бойко правили задуманный первоначально сюжет, приводя в итоге автора к такому финалу книги, который был неожиданен ему, а порой даже и чужд.
Якову до сих пор мнилось, что художник не чета сочинителю, и что образ будущей картины, возникнув в сознании, не может так круто измениться, как сюжет романа под пером писателя.
Но сейчас рисунки выходили один тревожнее другого. На последнем из них, после которого Яков в отчаянии бросил карандаш, лицо Эллы получилось особенно странным. Уголки рта на этом лице были словно крест, на котором, подобно Христу, безжалостно распята улыбка. И слышно было, как Элла смеется окровавленным смехом.
22
Как всякий праведный советский гражданин, Родион был убежден, что у человека, в сущности, нет души, но сейчас он не только готов был поверить в то, что она существует, но и, казалось, чувствовал, что с собственной его, прежде неосознаваемой душой, свершается то, что по представлению верующих, должно происходить лишь на смертном одре. Душа его отделялась от тела, и было это больно, мучительно, тревожно-непонятно. Как будто душа эта продиралась на свет сквозь ребра, подобно заблудившемуся человеку, в отчаянии ищущему выхода из густого темного леса. Ребра изнутри били тело, словно ветви раздвигаемых на своем пути Душой деревьев.
Душа уже готова была лететь вольной птицей к заветному адресу, а обездушенное тело мертвело. Жизнь уходила из тела. Страх узнать о гибели своей любимой женщины слепил глаза сильнее, чем непроглядный туман. Тяжелая тревога разъедала черты прежде хорошо знакомого, родного города, и дорога выбивалась из-под ног. Родион брел по давно известным ему улицам словно наощупь, каждый шаг его был осторожен и пуглив. Несколько раз он снимал и протирал очки, как будто и впрямь очень плохо видел. Душа его летела к Элле, неслась, мчалась, рвалась к ней, в то же время каждый шаг его становился все медленнее, все нерешительнее.
23
Раньше Агния никогда не мешала своим соседям. Она появлялась на общей кухне, словно некое мимолетное виденье, никому не докучая, никого не тревожа. Трудно было узнать в Агнии прежнюю милую, легкую, всегда и во всем уступчивую соседку.
Агния никогда бы не стала ждать, требовать чего-то для себя одной, но теперь она ощущала зародившуюся в ней жизнь, как уже появившееся на свет существо, еще совершенно беспомощное и потому постоянно обижаемое. Теперь, когда кто-то обделял, отталкивал ее, или грубил ей, прежде такой терпимой ко всему, Агнии, это казалось непереносимым кощунством, на которое обязательно нужно ответить. Прежде милые лица соседей нынче виделись грубо сколоченными масками, под которыми жила лютая злоба. Даже в шипении чужих примусов на кухне Агнии чудился желчный шепот. Она ждала от соседей, узнавших о том, что у нее скоро родится ребенок, хоть какой-то чуткости и, совершенно не находя ее, чувствовала растущую ярость к этим людям.
Как-то ее разбудил настойчивый стук в дверь. Было еще очень рано, ночь только-только становилась утром. В тревоге за свою семью, будущего ребенка, мужа, который, еще не проснувшись, ворочался сейчас на постели, Агния открыла дверь и увидела перед собой мать Льва: низенькую седую старушку, которая всегда так бойко размахивала руками, что становилась как будто выше ростом.
— У вас что-то случилось? — без всякой любезности в голосе спросила Агния.
— Я прошу прощения, — с притворной покорностью сложила голову Алла Леонидовна, — но я должна убедиться.
— В чем? — непонимающе смотрела на нее Агния.
Алла Леонидовна смерила ее таким презрительным взглядом, будто перед ней была школьница, что не может ответить на вопросы самого простого экзаменационного билета.
— Да, в том, милочка, что вы уплатили все коммунальные взносы. Да, и не считайте, пожалуйста, это пустяками. Вы очень забывчивы, милочка. В прошлый раз именно из-за вашей совершенно недопустимой забывчивости пришли и срезали телефон за неуплату. А я не могу жить без телефона. У меня больные ноги, я не имею возможности часто на улицу выходить, а вы оставляете меня без жизненно необходимого общения. Я теперь на вашу сознательность больше не надеюсь. Сама должна, лично, удостовериться, что ваша халатность не выйдет за рамки.
— И вы считаете, что можете вот так заявляться ко мне посреди ночи и будить под немыслимым предлогом? — взвилась Агния.
— Что значит «немыслимым»?! — замахала на нее руками Алла Леонидовна, — и, потом, милочка, вы считаете допустимым разговаривать со мной в таком тоне?! Я, между прочим, в два раза старше вас.
— А хотите, я скажу почему вам не спится?
— Это почему же, интересно? — усмехнулась Алла Леонидовна.
— Да потому что вы наверняка не знаете, где сейчас ваш сын, и места себе не находите, хотите и другим за беспокойство свое отомстить.
Алла Леонидовна сжалась, как от удара, но быстро оправилась, и зашипела яростно:
— Да… Не думала, что ваш цинизм так далеко зашел. Левушка говорил мне, между прочим, что у него отношения с вами не сложились, что вы его, можно сказать, третируете. А, знаете, я, пожалуй, напишу куда следует, чтобы разобрались как вы обращаетесь с героями войны. Вас желчь гложет, что ваш муженек калекой с войны вернулся, а мой Левушка красавцем из красавцев. Ничего, найдется и на вас управа. Возьмут ваш цинизм под уздцы.
Агния смотрела на соседку и удивлялась тому, что раньше не видела, насколько та обезображена, как сильно черты ее лица искажены каким-то злым уродством. Как будто Агния прежде была слепой, и только живущая в ней теперь жизнь изнутри положила целебные руки на ее незрячие очи и подарила яркое, отчетливое зрение.
Агния зло захлопнула дверь, в полном презрении к еще говорившей что-то соседке.
От стука двери проснулся муж.
— Что там? — сонно спросил он.
— Ничего, ничего, — успокоила его Агния, осторожно поправив сбившееся одеяло.
Но сейчас хотелось лечь где-нибудь на полу, только бы не с ним рядом, потому что и собственного своего мужа Агния видела уже другими глазами.
24
Сердце внутри разрывалось так, будто его, словно живого человека, привязали к двум норовистым коням, и пустили вскачь в разные стороны. С каждой секундой поезд уносил Лилию все дальше от Якова. Они еще были едва знакомы, а она уже тревожилась, что назначенное свидание не состоится.
Не раз оказывались рядом с ней те, кто относился к Лилии с вниманием, заботой, а порой и любовью, но впервые она почувствовала в чужом человеке себя. Яков поразил ее тем, что был непохож ни на одного из тех, кого она встречала прежде. При своем огромном росте и размашистых плечах он был как будто совершенно беззащитен, а его уверенность неведомым образом сочеталась с неприкаянностью. И улыбка его была совершенно особенной. Когда он улыбался, все лицо его оказывалось в этой улыбке, словно в загадочном, мягком тумане, из которого было не выйти взгляду. Это было странно, но отчего-то она сразу, в первые минуты знакомства почувствовала к нему такое доверие, какого не испытывала даже к тем, кто рядом с ней бесстрашно рисковал жизнью. Она боялась никогда больше не увидеть его, и мучилась тем, что поезд все дальше и дальше увозит ее от назначенной встречи. Она уже чувствовала себя оставленной, будто Яков передумал и отменил их встречу. Впервые это горчайшее чувство покинутости она испытала, когда не стало ее матери. Лиля тогда была еще совсем ребенком. Об отце она знала только со слов матери, что его, отважного чекиста, убили бандиты, убили подло, из-за угла.
Мама уходила от нее в другой мир, и маленькая Лиля чувствовала себя такой униженно одинокой, будто ее забыли в очереди в магазине. От выжигающего все внутри чувства сиротства она смогла освободиться только благодаря городу. Его изысканная архитектура, ласковые белые ночи, были для нее как объятья родного человека.
Легкая грусть пасмурного города казалась сочувствием ее горю, и она была уверена, что тем, кто испытал огромное потрясение, обязательно нужно жить только здесь, потому что это единственный город, который относится к твоей боли с сочувствием и растворяет ее не в бездумном веселье, а в своей красоте и величии своем. Но эта спасительная, благодарная уверенность в городе оборвалась, как голос подстреленной охотником птицы, как та светлая, детская передача, что радостно лилась из всех развешенных на стенах ленинградских зданий репродукторов. Словно острый нож вонзили под ребра светлоокому детству, и брызнула на улицы кровь голоса: «Сегодня в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну».
А потом и город ее стал исчезать, таять на глазах. В страхе перед вражескими снарядами зарывали в землю, словно хороня, и царственного Аполлона, и прекрасную Нимфу Летнего сада… Памятник Владимиру Ильичу Ленину у Финляндского вокзала обнесли деревянной опалубкой из досок и засыпали песком. Тем же песком засыпали Медного всадника, а восседающего на коне у Инженерного замка Петра Первого закопали в землю. Засыпали землей и памятник Александру Третьему в Михайловском саду.
Весь город уходил под землю, словно под воду. Вместо восхищенного шепота в залах Эрмитажа и Русского музея заслышался стук молотков: картины и скульптуры решено было отправить в эвакуацию. С города как будто живьем сдирали кожу. И не чувствовала Лилия уже никакого его спасительного милосердия, все его улицы и проспекты звучали теперь как множащийся кашель смертельно больного ребенка. С каждым увозимым в эвакуацию его жителем умножалось сиротство города.
Работа проводницы, спасающей жителей осажденного Ленинграда, не была для Лилии волшебством. Волшебство, чудо случилось давно, когда однажды она зашла на вокзал, просто для того чтобы согреться, и ее солнечно ослепил праздник прибытия поезда. Звучный, пронзительный гудок, словно рог, возвещающий выезд сказочной королевской процессии, явление паровоза, поблескивающего зеленой краской, будто свежая трава под взглядом пристального солнца. Сцепление вагонов как торжественный выезд карет. Зачарованной Лилии хотелось стать частью этого удивительного мира.
Работа проводницы пришлась ей по душе. Она летела вдаль, будто на волшебном ковре-самолете, вместе с пассажирами, порой поверявшими ей всю свою судьбу. И как непохож был этот полет на случившийся потом мучительный, вечно осторожный путь, увозящий несчастных людей из родного города, быть может, навсегда. Они метались по вагону, стонали, кричали, будто спасались от пламени невидимого пожара, которым был объят весь поезд. В вечном страхе артобстрелов, без сна и покоя.
Лиля уже привыкла слышать, как трещит и проваливается лед под составом. Жутко было видеть детей в своем вагоне и думать о том, что, быть может, не в спасительные края их везешь, а прямо на погибель. Люди спасались из города, словно с тонущего корабля, и она боялась, что с каждым покидающим его ленинградцем волны забвения все выше и выше поднимаются над обреченным градом.
Теперь, после войны, Лилия часто работала дополнительно, чтобы подольше не возвращаться домой. Ей было страшно смотреть в глаза собственному городу. И только случайная встреча с Яковом подарила ей надежду. Она почувствовала, что только рядом с ним сможет обрести свой прежний город, увидеть его таким, каким видела раньше, до войны. Ведь ни у кого она не встречала таких глаз, как у Якова. Они были похожи на распахнутые посреди темной ночи окна, в которых горит теплый свет.
25
Внезапная решимость охватила Родиона, едва он увидел дом, до которого так медлил дойти. Дом этот стоял нетронутым, спасенным какой-то неведомой силой от безжалостных вражеских снарядов, долгие военные годы измывавшихся над Ленинградом. Мысль о том, что Элла могла остаться столь же не изуродованной блокадой, как и ее дом, сдавила сердце приступом надежды так, что стало невозможно дышать, а затем, на едином выдохе обретенного радостного бесстрашия, Родион взбежал по лестнице, ощущая ступени как стрелки часов, отстающие от мгновения его встречи с Эллой.
И вдруг эти раздражающе медленно ползущие стрелки часов и вовсе лопнули. Время остановилось. Родион споткнулся, упал, и упал очень неудачно, лицом о ступени, разбившие его очки вдребезги. Без них он очень плохо видел, и тусклый лестничный свет обратился в болезненную тьму, сквозь которую можно было двигаться лишь наощупь. Очки не просто добавляли ему зрения, а спасали от грозящей унизительной слепоты. И теперь их осколки впивались в отчаянно мечущиеся по ступеням ладони. На лестнице раздались шаги, совсем близко. Родион, подумавший, что это может быть Элла, одновременно испугался и того, что она увидит его таким нелепым, смешным, неуклюжим, и того, что сам не сможет различить ее облик.
— Вам помочь? — спросил незнакомый мужской голос.
— Да, пожалуйста, — еще сильнее занервничал Родион, — мне нужна двести девятая квартира.
— Как же вас так угораздило, — посетовал незнакомый голос, беря Родиона под руку с той осторожностью, с какой переводят слепых через дорогу. Жилец дома, конечно, не представлял, что опекаемый им сейчас страдалец еще недавно участвовал в самых отчаянных сражениях.
— Вот… Квартира ваша. Я звонок нажал. А сейчас извините, тороплюсь очень.
Дверь открылась скоро.
— Вы к кому? — услышал Родион невежливый голос.
— К Элле, — объяснил Родион.
— Какой Элле?
— Элле Марутиной. Это же ее квартира? 209-ая?
— 209-ая.
— Она же здесь живет! — воскликнул Родион.
— Да не живет здесь никакая Элла, — пробурчал голос, — здесь я живу. У меня семейство большое.
— А Элла?
— Да что Элла?! Что вы пристали ко мне со своей Эллой?!
— Но как же… Я не мог перепутать адрес. Я точно знаю. Она здесь жила. Я знаю.
— Ну, может, когда-то и жила.
— А где она сейчас?
— Да откуда я знаю, где она! Вы что, не понимаете, в каком вы городе?! Вы — приезжий? Тут люди как скот вымирали, кто их считал-то уже! Если вы здесь не жили, то вам не понять, что у нас здесь было. Что нам пережить пришлось. Каждого коснулось. Меня вот не голод доконал, голод терпел. А вот когда в саду Ботаническом, где я работал всегда, стекла теплиц рухнули, и от мороза самые редкие экземпляры тропической флоры пропали, тогда и меня уже словно зарезали.
— Воды, — прошептал Родион.
— Что?
— Воды дайте мне, — сказал Родион.
26
Едва ли не сотню раз уже упрекнул себя Яков за свою нечуткость, за опрометчивый совет, данный другу, за рассеянное прощание у дверей. Надо было пойти с ним, дружески разделить радость самой важной встречи или попробовать хоть немного утешить в случае дурных вестей. Где теперь Родион? Когда вернется? Что с ним сейчас? Вопросы били наотмашь. Яков даже не удосужился спросить адрес, по которому жила та девушка, жизнь или смерть которой определяла все для его друга. И все более неловко, стыдно становилось за собственное ожидание счастливой встречи. Как будто Яков специально отослал Родиона из гостиницы, чтобы тот не мешал делать наброски портрета.
Время уже напоминало средневековую пытку. Каждая новая минута падала в мозг с тяжестью капли воды, бьющей по темени связанной жертвы. Спасаясь от невыносимой боли времени, Яков бросился к распакованному чемодану, в котором еще осталась лежать книга. Книга всегда спасала, на нее можно было опереться, когда земля шаталась под ногами. Книга — душа, которую можно подержать на ладони. Волшебство сокровенных слов.
Книга, которую Яков взял с собой из Москвы, была особенная, купленная в букинистическом магазине в Охотном ряду. Изданная 30 лет назад, в 1916 году, она хранила за своими страницами, словно за стеклами священной колбы, ушедшее время. Посвященная русской иконе, книга эта была написана не каким-нибудь советским литератором, право публиковаться которому давало удостоверение члена Союза писателей, а представителем древнейшего дворянского рода, князем Трубецким. Но странное дело, читать ее теперь, в томительном ожидании возвращения друга, было неуютно, тревожно.
Строчки вспархивали со страниц, словно беспокойные птицы, принося в своих клювах отчетливо нерадостные подробности рассказа князя Трубецкого. Яков четко ощущал (вплоть до вкуса во рту) ту тошноту, что испытал Трубецкой перед вакханалией плоти, изображённой на полотнах Рубенса.
Князь опрометчиво посетил Эрмитаж сразу после того, как, зачарованный, рассматривал иконы в музее Александра Третьего, окунаясь в них всей душой. И словно потоки грязи полились на омытую иконами душу через красками воспетую Рубенсом разжиревшую плоть, задыхающуюся от уродливого смеха наслаждения собственной земной жизнью.
Якову чудилось уже, что он задыхается в поту незнакомых тел, ловя всей душой, как воздух ртом, иконописный свет лика встреченной им недавно девушки, что возвышается не только над ним самим, но и над всем миром.
27
Разговор был тяжелый. Несколько раз Лев порывался уйти, но мать удерживала его.
— Разговор серьезный, — подчеркивала она, — мне сказали, что тебя видели рядом с женщиной гораздо старше тебя.
— Кто сказал? — зло откликнулся Лев.
— Люди. Люди уже об этом говорят. Ты, похоже, и не думаешь уже скрывать свою связь. Я гордилась тем, что у меня такой сын. Герой. Медаль имеет.
— Моя медаль никуда не делась, — с вызовом посмотрел Лев на мать.
— Голова твоя куда-то делась. О тебе уже люди судачат. Что ты с актрисой, которая тебе чуть ли не в матери годится, спутался. У них какая жизнь, у актрис-то… Не для нормальных людей. А тебе о семье пора думать. Я радовалась так, что у меня сын красавец, герой, думала, невестку в дом приведешь, она мне помощницей станет, люди завидовать будут. А ты неизвестно где, с кем, по театрам каким-то. Ну, закружила она тебе голову, ладно. Но пора уже поостыть, о нормальной семье задуматься. Столько красивых девушек вокруг, ты только оглянись. Неужели тебе нормальной жизни не хочется, ребеночка своего?! Неужели я тебя для того растила, чтобы актрисе какой-то отдать?! Актрисы хорошими матерями не становятся, да не сможет она уже родить, возраст не тот. Дети — это счастье. Я вот смотрю на тебя, какой ты красавец у меня вырос, и радуюсь. Я не хочу, чтобы ты себя такой радости лишал. И не желаю, чтобы люди обо мне судачили. Я недавно еще гордилась тобой перед всеми, а сейчас они актрисой твоей мне в нос тыкают, а мне и ответить нечего.
— Что значит «тыкают»? — осадил Лев все более горячившуюся мать, — и кто еще тыкает? Я их, сволочей, быстро на место поставлю. Они мне завидуют. Потому что я там не абы с кем, а с актрисой настоящей. Это все-таки искусство. Кто попроще — это не для меня уже, а для крыс тыловых, пороха не нюхавших. Она красивая очень, а ее и в театре теснят, потому что и там крысы бал правят. Ничего, я еще со всеми, с ними разберусь. Будет им на орехи.
— Да во что ты впутываешься? — закричала Алла Леонидовна, — ты хочешь наш позор на весь город вынести?!
— Какой еще позор? — Лев смахнул тяжелый пот, выступивший на лбу, — со своей будущей женой встречаться — это теперь позор называется?
— Что?! — всплеснула руками мать, — ты, что, хочешь мне сказать, что на актрисе этой еще и жениться собираешься?
— А что в этом плохого?
— Да… — протянула она, — раньше ты фашистов бил, а сейчас мать родную убиваешь. Вырастила сыночка.
Лев зло смотрел на мать, не говоря больше ни слова. Ее громоздкое тело расплывалось, лишаясь очертаний. Льву сейчас казалось странным, что он не замечал раньше, насколько уродлива его мать.
28
Едва Родион вошел, Яков сразу же увидел, что у него какие-то другие, неуютные очки.
— Чаю хочешь? — Яков тревожился что-то спросить у вернувшегося друга.
В этот день на улице ярко светило безоблачное солнце, но было такое ощущение, будто в этот солнечный зимний день Родион промок до нитки и теперь тщетно пытается согреться, стряхивая с себя приставшие капли.
— Холодно здесь, — сказал Родион.
— Так чаю давай выпьем, — уже решительнее предложил Яков.
— Не хочу. Ты пей, а я не хочу.
Обессиленно опустившийся на кровать Родион вдруг протянул Якову тетрадку, но жест этот был особенным, так умирающий обреченно выпускает из ослабевших пальцев самую дорогую вещь, хранимую до последней минуты жизни.
Комната стала словно стеклянная. Сделай малейшее движение, и воздух разобьется вдребезги, как хрупкое стекло. Родион, с непонятной тетрадкой в руках, превратился в неподвижный манекен. Яков чувствовал, что сейчас находится один в номере. Он прикоснулся к чужой тетради, словно к огню, неведомые страницы обжигали руки. Яков осторожно открыл тетрадь.
— Это дневник, — вдруг оборвал молчание Родион, — Ее дневник. Я к ней пришел, а ее нет. Другой человек там живет, — никогда еще Родион не говорил так медленно, паузы между словами были словно тяжелые камни, — я еще очки разбил, споткнулся. Упал лицом об ступени. Не вижу почти ничего, только голос слышу. Но на это, тому, кто там сейчас вместо нее живет, было наплевать. Он меня вытолкал.
На этом Родион замолчал. Все подробности произошедшего, которыми он уже собирался поделиться с Яковом, вдруг показались совершенно ненужными. Все образы воспоминания, еще недавно настойчиво живые, словно биение пульса, потускнели, погасли, как гаснет свет в комнате. И ничто было больше не неважно, не помнилось уже, как незнакомый жилец дома, доведший Родиона до заветной квартиры и сразу ушедший, не дожидаясь открытия двери, потом застал его, беспомощно сидевшего на ступеньках лестницы, по которой давеча разлетелись родионовы очки. Жилец этот пригласил Родиона к себе.
«Я думал, вы к этому, — сказал он, — потому и оставил вас у двери. Не хотел лишний раз видеться. Приятного для нас обоих мало. А вы, как я понимаю, вовсе не к нему, а к Эллочке, да? Вы очки разбили? Это удача. Нет, не то, конечно, удача, что очки разбили. Просто я-то как раз окулист. Я для вас быстро найду. Эх, что за человек Эллочка была, золото, а не человек! Пять минут с ней поговоришь, на душе светлее становится. Теперь в ее квартире какой-то хам живет. А от нее свет прямо исходил. Один раз я вышел из квартиры, а у нее двери открыты. Страшно стало. Ну, вы знаете, какое тут у нас время было. Каждую минуту кто-нибудь умирал. Я вошел к ней, потому что подумал, вдруг она, там одна, беспомощная, муж-то у нее уехал уже. Зашел — нет никого. Тревожно, конечно, стало. Потом второй раз опять зашел, посмотреть — не вернулась ли. Нет. У меня брат в уголовном розыске работает. Я просил его найти ее. Он отказался сначала, не то время, сказал, чтобы людей пропавших искать. Но я очень просил. И он нашел. Потом, правда, пожалел о просьбе своей, слишком страшно все вышло. Брат мой арестовал семью (мужа и жену), которые людей к себе заманивали, и ко… котлеты из них делали на продажу. Производство у них налажено было. И за три дня до того, как он накрыл их, они Эллу к себе заманили, и из нее котлеты сделали. Котлеты. Из Эллочки. Только представьте… У них, мерзавцев этих, ее вещи нашли, и дневник ее, она в последние дни с этой тетрадочкой не расставалась, я видел, — как с живым человеком ходила. Дневник этот должны были к делу приобщить, но я смог его у брата взять. Нехорошо чужие дневники читать, но я так хотел хоть через тетрадь эту ее голос услышать. А вы, выходит, и есть тот, о ком она писала? Это ведь вы?
Вопрос прозвучал для Родиона как обвинение в убийстве.
— Тогда я вам этот дневник отдам. Он, по праву, вам, наверное, должен принадлежать. Эллочка была бы счастлива, если бы узнала, что вы все-таки к ней приехали. Держите. Вот ее дневник.
29
Первый раз Юрий отказался угостить спиртом заглянувшего к нему Льва. Спирт был, но он сказал, что закончился, чтобы зачастивший к нему сосед не отягощал его своими разговорами. Завязавшееся между ними доброжелательство резко оборвалось, едва только возникла у Юрия мысль о лукавстве улыбающегося Льва. Эта мысль раздалась в мозгу как громкий крик в горных вершинах, и в ответ ей разом осыпалась необъятная снежная лавина подозрений.
Не ладивший с Агнией Лев и вечно раздраженная им жена представлялись теперь искусно маскирующей свою страсть парой. Сердце, заболевшее страхом измены, будто хлюпало в болотной грязи. Он ощущал, слышал эту едкую грязь внутри себя. Особенно обидно было, что они считают его непроходимым глупцом, не способным отличить ложь от правды, которая состояла в том, что его жена, измученная присутствием в ее жизни чужого искалеченного тела, конечно же, не устояла перед бравым военным, жившим с ними в соседней комнате. И давняя, взаимная нелюбовь авиации и танковых войск, ревновавших победы войны друг к другу, стала пульсирующей яростью. Цветущий вид Льва явно доказывал Юрию, что быть стиснутым неуютным, узким пространством танка совсем не то, что взмывать над землей, сидя в кресле пилота. Летчики с их крыльями военных самолетов казались как бы парящими над войной, с вычурным, пошлым «благородством» не марающимися в той грязи и крови, которыми захлебывалась земля.
Юрий со своими товарищами долго смеялся над ставшей известной историей про летчика, выспрашивающего сколько стоит самолет. Тот хотел скопить денег и купить его себе в личное пользование, написав на нем (по праву собственной вещи) огромными буквами свое имя: «пусть фриц видит, что это лично я его бомблю».
Даже с проклятым фашистом, с которым бился не на жизнь, а на смерть, Юрий уже чувствовал большее единство, большее родство, потому что они дрались на земле, они были частью одной войны, а жужжавший над головой самолет поднимался над этой войной вольной птицей. Обозленному Юрию летчики казались уже фальшивыми детьми, разъезжавшими по небу словно на ребяческих велосипедах. Он был уверен, что прыгнуть с парашютом из подбитого самолета совсем не то, что беспомощно пытаться выбраться из горящего танка. Медаль на груди Льва, к которой долгое время Юрий старался относиться терпимо, теперь в одержимости ревнивыми подозрениями, резала глаза фальшивым блеском, подлым светом украденной победы.
И мало было Льву украсть у него победу, ему еще и жена его понадобилась. Юрий все больше уверялся в том, что охладевшая к нему Агния так беспокоится, так боится за их будущего ребенка, всячески оберегая его, только потому что он не имеет никакого отношения к Юрию, он нажит от приторно улыбающегося Льва, которого он еще и по соседки угощает спиртом.
Приближающееся рождение чужого ребенка превращало календарь в ступени эшафота. Он ощущал злобное чудовище внутри Агнии и уже ненавидел ее раздобревшее от беременности тело.
30
Он делился своими воспоминаниями увлеченно, с вдохновением:
— …В общем, Филармонию решено было открыть. Да… Знаете, я считаю очень своевременным и целесообразным написание очерка о нас, людях искусства. Которые даже в самые голодные годы не уронили, так сказать, свой высокий дух. Только трудная у вас стоит задача. Надо же, так сказать, соответствовать масштабам времени, поймать нерв эпохи. Так сказать, пульс ее нащупать. Вы все-таки люди столичные, и у вас, считай, другая война была, хлеб на вес золота не становился. Чтоб настоящий, красочный очерк о нас написать, вам с головой надо в наши нервы погрузиться, на зуб прожитые нами дни попробовать. Я не рыцарь пера и чернил, чтоб вам живописно все обрисовать. Я все-таки не пишу слова, а пою их. Но, так и быть, попробую развернуть перед вами картину прожитых нами дней. Итак, Филармонию решено было все-таки открыть, потому что, так сказать, невозможно когда на улицах лед кромешный, трамваи, как мертвые лошади, никакой жизни, и только метроном стучит: тук, тук, тук… А тут свет, блеск, праздник, фейерверк номеров, испанские танцы, оперные арии. Вы только покрасочнее все опишите, я вам деталей сейчас накидаю. Вообразите: особый вид открывшейся Филармонии, красные бархатные портьеры сняты, люстры оголены, хрустальные подвески убраны. Тусклый свет. Горят далеко не все люстры, но зато сияет искусство на сцене. Души, так сказать, озаряет своей силой, мощью освещает. Подождите, а что же вы остановились-то? Почему записывать за мной перестали?! А, понимаю! Вы всей душой, так сказать, туда перенеслись! Мой рассказ заворожил? Да, надо, надо будет себя и в качестве рассказчика попробовать, тем более теперь, все-таки столько узрел, столько пережил.
Яков видел, с какой яростью сжимает кулаки Родион. Словно тяжелые волны во время шторма, бились все нервы изнутри о берег его тела. Тело Родиона дышало яростью, губы сжимались в немое проклятие, взгляд был горяч как раскаленное железо. Родион ненавидел бахвалившегося артиста, ненавидел за вычурность, за пустоту его слов, ненавидел за то, что сейчас перед ним сидел он, а не Элла.
31
Здравствуй, моя потаенная тетрадь, я купила тебя в надежде поверять тебе самые сокровенные тайны, но до сегодняшнего дня не написала ни строчки. Но даже бессловесную, немую тебя я пугливо прятала, как будто и чистая она могла каким-то образом выдать мою тайну, нелюбовь к мужу и тоску по Роде.
Теперь я могу писать, не таясь, не искать тебе укромного, неуютного убежища. Сегодня наконец случился сильный, честный разговор с В., два раза он здорово ударил меня по лицу, так, что пошла кровь, но я вытерпела бы и больше. Он имел право избить меня до полусмерти. Я была долгое время не честна с ним. Я любила, люблю совсем другого.
В. сказал, что договорится о моей эвакуации, но я отказалась. Он смог приехать (хоть это было и очень трудно ему) всего на день, чтобы помочь мне с эвакуацией, он боялся оставить меня в этом городе. Я отказалась наотрез, поэтому и случился этот разговор, расставивший все по местам. Я знаю, что в эвакуации мои следы потерялись бы, и Родион не смог бы найти меня. А здесь…
ОН заберет меня из этого города, я знаю. Как бы здесь ни было трудно, я буду ждать его здесь. Я знаю, что Родион уезжал, заботясь обо мне. Он боялся, что его арестуют, и это коснется меня. Но теперь, я знаю, положение его выправилось, я читала его статьи, я видела его имя на первых полосах газет. Его ценят, и теперь ему ничто не помешает забрать меня отсюда. Ради меня он сможет сюда добраться. Милый мой Родя. Как давно я не видела его.
Я призналась В. в измене. Он сильно ударил меня. Но он хороший человек. Просто мы с самого начала запутались в своих чувствах, нам показалось, что мы любим друг друга. Но это была не любовь, а часть общего восторга при нашей первой встрече в день возвращения челюскинцев, когда ликовал весь Невский, лился дождь праздничных листовок, восторгались оркестры… Мы поддались этому светлому упоению, радостному чувству, и потребовалось время, чтобы понять, что мы чужие друг другу, что нам тогда просто хотелось продолжения праздника, и поэтому мы оба поверили в те чувства, которых не было. И я безумно благодарна Родиону за то, что он помог мне порвать это многолетнее притворство.
32
Яков смотрел на Родиона, неподвижно замершего над остывшей тарелкой супа, что уже как с полчаса поставила перед ним на стол буфетчица. На предложение Якова выпить водки, Родион отказался.
Яков думал о прочитанной недавно в гостинице книжке князя Трубецкого, посвященной русской иконе. Князь вначале делился с читателем своим восторгом знакомства с фреской Васнецова «Радость праведных о Господе» в киевском соборе святого Владимира. А потом сообщал свое разочарование при сравнении васнецовской фрески с древнерусским изображением той же темы в Успенском соборе во Владимире на Клязьме.
У Васнецова праведники на пути в рай оказываются слишком телесными. Полет их «имеет чересчур естественный характер физического движения. Праведники устремляются в рай не только мыслями, но и всем туловищем», тогда как в Рублевской фреске «крестообразно сложенные руки праведных совершенно неподвижны, также, как ноги и туловище. Их шествие в рай выражается исключительно их глазами. И именно в том, что духовная жизнь передается одними глазами совершенно неподвижного облика, символически выражается необычайная сила и власть духа над телом. Получается впечатление, будто вся телесная жизнь замерла в ожидании высшего откровения, к которому она прислушивается. И иначе его услышать нельзя. Нужно чтобы сначала прозвучал призыв: когда молчит всякая плоть человеческая. И только когда этот призыв доходит до нашего слуха, человеческий облик одухотворяется. У него отверзаются очи. Они не только открыты для другого мира, но отверзают его другим: именно это сочетание совершенной неподвижности тела и духовного смысла очей в древнерусской иконописи производит потрясающее впечатление».
Яков видел в глазах Родиона отблески другого, неземного мира. Все тело его казалось не только совершенно неподвижным, но даже мертвым, и только глаза его горели, как свечи над остывающим покойником. Жили теперь только его глаза. И если на пути в Ленинград Яков со стыдом признавался себе, что и облик своего товарища представляется ему в виде, пусть и добродушной, но карикатуры, то теперь лицо Родиона изменилось до неузнаваемости. Не осталось в нем и тени чего-то смешного, ироничного. Теперь его лицо было ликом иконы.
Родион ничего не видел перед собой. Не было пред ним ни сидящего напротив беспокойного Якова, ни суетящейся у столиков дородной буфетчицы. Лишь отблески давно прошедших дней были доступны его взору. Смутной вереницей проходили они перед глазами, словно призрачные видения тяжело бредящего больного.
Война началась для Родиона с крика старьевщика, ранним утром разбудившего весь двор. Через открытое окно первого этажа Родион видел, как несут старьевщику розовые корсеты, вышедшие из моды шляпки со страусиными перьями… Почему-то на этот раз к нему вышло много народу, будто весь их двор решил проститься со своим прошлым. А затем, через несколько часов, началось Другое время. Ничто не разделяет Время на «до» и «после» так сильно, как война.
Объявление войны, бравурные марши, зловещая тишина замолчавшего к ночи радио, ночная стрельба, разрывы снарядов в сиреневом небе, утром, на улицах, — почему-то улыбающиеся женщины с синими носилками, зелеными одеялами и санитарными сумками, люди в противогазах, будто навечно потерявшие свои лица, ветер, словно кот с мышью, игравший с чьими-то неприкаянными бумагами, выброшенным кем-то архивом, литератор, требующий в Союзе писателей огнетушитель для тушения возможного пожара его рукописей…
Неприкаянные воспоминания сиротливо жались друг к другу, не ведая для чего их вызвали к жизни.
33
Сегодня, когда я хотела позвонить подруге, то услышала в телефонной трубке тишину. Потом оказалось, что все телефоны в городе отключены из стратегических соображений, и только теперь понимаешь со всей ясностью, какая это ценность телефон, когда можешь позвонить на любую улицу, самую далекую от тебя, и услышать голос того, кто тебе так важен.
Зато почта работает исправно. Я написала письмо Родиону. Мне так жутко не знать, где он. Я не знаю, забрали ли его на фронт. Я так боюсь за него. Единственное мое желание — это увидеть его. Даже дня, часа вместе с ним мне хватило бы, чтобы ничего уже не просить у жизни, и принять смерть, если мне суждено. Но я так мечтаю о том, что эта война закончится, что муж мой не только не погибнет, но и простит, а меня найдет Родион, милый мой, хороший мой, Роденька, найдет и увезет далеко-далеко… Мы будем жить с ним, и у нас будут дети, которым мы никогда не расскажем о том, что нам пришлось пережить. Мы просто будем любоваться их детским смехом. У нас будут очень красивые дети, я знаю. И река… Мы будем жить на берегу реки… Я знаю, что где бы ни был Родион, мое письмо найдет его. Мое сердце запечатано в конверт, мое сердце кочует по почтамтам, чтобы оказаться у него в руках.
34
Беспрестанно думая об Элле, Родион все сильнее ощущал вывихнутость, ненормальность, несправедливость этого мира, частью которого был он сам. И то, что раньше искупалось, оправдывалось для него естественной суровостью военного времени, теперь представлялось расхристанной жестокостью. Как разлившиеся чернила торопливо расползаются по чистому столу, так и тяжелые мысли текли по сохранившимся в памяти редким светлым дням войны, пятная их черным цветом.
Несмотря на былую дружбу с безумцем, вздумавшим читать своим друзьям и знакомым антисоветский роман, Родион оказался одним из тех немногих военных корреспондентов, которых пригласили на празднование 20-ой годовщины Октябрьской революции.
Провести ее было решено в подземном зале метро «Маяковская», чтобы налеты вражеской авиации не могли помешать торжеству. Из ближайших кинотеатров и концертных залов были принесены стулья и кресла. Из концертного зала им. Чайковского смогли доставить даже пианино. Для президиума была сооружена торжественная трибуна, покрытая зеленым сукном. Вопреки привычному направлению, от станции «Белорусская» на правый путь подошел поезд, в котором собрались члены Политбюро, секретари ЦК, МК партии…
Через окно подошедшего вагона Яков видел, как почтительно помогают этим руководителям снять зимнюю одежду. Шубы, пальто, полушубки и шинели высокопоставленных лиц висели на никелированных поручнях словно живые. Будто в оцепленном охраной опустевшем вагоне остались тени высоких начальников. В стоявшем слева от платформы метро поезде нервно суетились актеры, участвующие в праздничном концерте. Зритель сегодня был особенный.
В вагоне-буфете дымился чай, красовались бутерброды и сдобные булочки, празднично сверкали мандарины. Сегодня станция была закрыта для пассажиров. Даже буква «М», мерцавшая синим светом над входом в метрополитен, была нема, растворена во мраке. Внутрь метро можно было попасть только по специальным пропускам, которые проверял на входе милиционер с ручным фонарем. Яркий свет люстры в вестибюле метро сильно бил по глазам, уже свыкшимся с темнотой.
Председатель Моссовета в самом начале заседания предоставил слово Верховному Главнокомандующему, И. В. Сталину. Яков тогда дивился тому, что властитель страны одет в скромный китель с отложным воротничком, без всяких знаков различия. Яков воочию видел, с каким искренним замиранием сердца всем своим существом впиваются в каждое слово докладчика слушатели: и рядом стоящие начальники, и молодые лейтенанты, не успевшие ни побриться, ни выгладить гимнастерки, и опытные комдивы, и бойкие ткачихи в ярких красных косынках, и вальяжные директора московских заводов, и строгие ветераны партии…
Каждое слово произносилось докладчиком в абсолютнейшей тишине, как будто разом остановились все сердца, только бы не мешать кощунственно голосу оратора, только бы не осквернить своим биением его речь. Яков тогда восхищался этим умением подчинить себе такое огромное количество человек, объединить их общим воодушевлением, при том, что речь И. В. Сталина была лишена всяких артистических вывертов, но каждое произнесенное им слово действовало гипнотически.
Позже начальник штаба противовоздушной обороны сказал Якову, доверяя большую тайну: «представляешь, тогда вот, во время доклада товарища Сталина, мне донесли о появлении новых групп вражеских самолетов. Надо было объявить воздушную тревогу. Но это значило прервать трансляцию доклада, поэтому ее так и не объявили».
Тогда Родион не считал это чем-то преступным, и только теперь он постиг ту особенную тоску совести, что была в глазах доверившегося ему приятеля. Слепое преклонение перед властью лишало ценности любые человеческие жизни. Не прервать трансляцию доклада было важнее, чем дать сигнал воздушной тревоги.
Ставшие привычными, лютые кошмары войны, теперь резали мозг. Лозунг «победим любой ценой» вдруг превратился для Родиона из героического призыва в бахвальство цинизмом. Он не мог уже больше ничего оправдывать. Да и чем оправдать, скажем, то, что разоружать вражеские мины порой посылали не опытных саперов, а строй новобранцев, чтобы по их разнесенным в клочья телам проложить себе безопасный путь. Родион слышал об этом, но не верил, старался не верить раньше.
35
Истошный, задыхающийся крик, одинаковый крик абсолютного отчаяния. Когда слышишь его, одинаковый крик самых разных людей, точно знаешь — кто-то потерял (или скорее всего, у него их украли) продовольственные карточки. На смерть даже близких людей уже давно так никто не реагирует. Слишком много стало смертей. Каждый день тысячи людей умирают от невыносимого голода.
Когда я писала Родиону что мне страшно, неуютно здесь, то не могла представить себе, в какие пучины ужаса погрузится этот город.
Ослабев от отсутствия еды, я еле передвигая ноги, шла на работу. Никакие трамваи уже не ходят. Стоят мертвые, брошенные. Услышала шум за спиной. Обернулась. Увидела грузовую машину. Замахала руками так, как будто тонула и отчаянно пыталась выплыть. Машина остановилась. Я попросила подвести меня. Шофер сказал, что если меня устроит место в кузове, то я могу садиться. В кузове были навалены какие-то тюки с бельем, на которых сидели люди. Мне тоже пришлось сесть на один из тюков. Он был очень неудобным.
— А чье это белье? — спросила я.
— Белье? — усмехнулся в ответ один из моих случайных попутчиков.
— Да, а вы что, не в прачечную едете? — насторожилась я.
— Им теперь прачечная ни к чему, — раздвинулись в неприятной улыбке губы говорившего.
— Кому? — не поняла я.
— Посмотрите. Приоткройте тюк, на котором сидите. Взгляните, взгляните, — услышала я настойчивый совет.
Машину сильно трясло, но я встала, развязала узел.
— А вы что, не поняли, на чем едете? — усмехнулся говоривший. Кажется, он испытывал удовольствие от издевательств надо мною, находя в этом развлечение. Во всех тюках было не белье, а трупы. И не в прачечную ехала машина.
— Остановите! — попросила я.
— Остановите машину! — не найдя никакого отклика, уже настойчиво потребовала я. В конце концов, машина все-таки остановилась. Забарахлил мотор.
— Да подожди ты, — сказал шофер, — сейчас починим.
— Нет, нет, — словно в бреду, ничего уже не видя перед собой, повторяла я. Я не могла ехать в этой машине. Самое страшное, что когда я развязала узел, то увидела детей. Мертвых детей. Крохотные тельца. Я ехала, сидя на них.
Мне кажется, то, что мы сейчас переживаем в этом городе, не знала ни одна война. Люди черствеют друг к другу. На любой войне если рядом с тобой гибнет товарищ, это значит теперь тебе будет тяжелее сражаться. Здесь смерть даже близких людей больше не вызывает горя. Напротив, есть жестокая радость удачи: теперь тебе достанутся его карточки, и, может быть, удастся выжить.
Только вчера я видела, как на улице упала женщина, не могла подняться. А рядом уже стояли трое и, переглядываясь, ждали, когда она умрет. Каждый из них оценивающе смотрел друг на друга, вероятно, думая о том, сколько у него шансов первым обыскать карманы женщины, умирающей у них на глазах. Я подошла к ней. Как бы мне ни было трудно, я помогла ей дойти до дома. Они с ненавистью смотрели на меня. Я лишала их добычи.
Самое большое чудо теперь видеть, что в людях осталось еще что-то человеческое. Мне дают силы мысли о Родионе, о встрече с ним. У других нет такой сильной, светлой опоры, и потому человеческое быстро исчезает в них. Но я знаю, что в этом городе многие достойны жизни больше, чем я. Уже месяц как (в тот день я не смогла записать ничего в своем дневнике, не хватило сил), я узнала о смерти мужа. Я очень виновата перед ним. Кто знает, может быть, он не смог вовремя нажать курок только потому что его точили мысли о моих словах, о том, что я люблю другого. Надо было дождаться конца войны, чтобы иметь право на такие слова. Я очень виновата перед ним.
Но я так боюсь, что никогда не увижу Родиона, он ведь тоже может погибнуть, его наверняка призвали. В осажденном городе наша встреча кажется все более невозможной. Но она единственная, чем я жива. Каждую секунду со мной голос его, улыбка беззащитного ребенка. Я бы тысячу раз приняла самую мучительную смерть, только бы спасти его, защитить от этой войны.
Мечтая о встрече с ним, я еще первое время пыталась не быть некрасивой, как будто он мог в любую секунду оказаться рядом. Но в этом умирающем городе невозможно больше думать о собственной привлекательности. Мне уже давно все равно, какой он увидит меня. Главное для меня — хоть мгновение встречи, вдохнуть его улыбку, как последний глоток воздуха перед смертью. Я уже давно не верю в нашу долгую счастливую жизнь.
Все что я прошу, прошу у судьбы, — это мгновение (если можно, пусть их будет несколько, этих мгновений) нашей единственной встречи. Я буду самой счастливой на свете, если мне удастся еще хоть однажды увидеть его.
36
И в суетящуюся на перроне толпу ополченцев, еще совершенно не привыкшую ходить строем и подчиняться военным приказам, вбежала седая женщина, с невыносимой жаждой ища знакомое лицо. Она была мучительно осторожна в своем беге, боясь расплескать кувшин с молоком, что трепетно держала в руках. И, вдруг увидев родные черты, вся, в едином порыве нежности, отчаяния, боли разлуки прильнула к сыну.
— На, — шептала она, — так боялась, что не успею. А ты ведь любишь. Кто ж знает, когда теперь молочка-то свеженького придется попить.
Мать завороженно смотрела на сына, пьющего молоко, как будто от одного движения его губ менялся мир вокруг.
Родион тогда, на перроне, узнал этот взгляд, эту фонтаном в венах рук бьющую нежность, узнал. Точно также смотрела на него, такими же руками ласкала Элла. Руки ее, тело ее не обычного эгоистического сладострастия искали, а как будто стремились отдать ему все свое тепло в предчувствии вечной разлуки.
И там, на перроне, когда он, садясь в поезд с другими ополченцами, не ведал судьбы своей, вспыхнула память об Элле, но Родион тут же успокоил себя тем, что муж непременно позаботился о ней, отправил в эвакуацию, устроил в безопасное, уютное место. Он с какой-то совершенно дурацкой (но тогда казавшейся такой естественной) гордостью, считал, что не имеет права вмешиваться в их жизнь, что он самоотверженно пожертвовал собственным счастьем ради безопасности любимого человека. Теперь он тысячекратно клял себя за свое малодушие, позорную гордость, и все отчетливее сознавал, что просто переложил жизнь своей любимой женщины на плечи другого, даже толком незнакомого ему, человека.
Он не мог теперь привыкнуть к тому, сколько же в нем самом, оказывается, черствости, если он оказался настолько бездушен к искренне любимой женщине. Ни разу за все эти годы он не попытался ничего узнать о ней, теша себя мыслью, что пути их разошлись по разным мирам, и гораздо более счастливый из них тот, что он отдал Элле, и потому нельзя тревожить чужие жизни. Сейчас его сердце захлебывалось от стыда.
37
Второй раз за этот месяц была у Ольги. Двумя неделями раньше ходила к ней по случаю дня рождения, на который была приглашена я одна. Время сейчас не для большого количества гостей. Я тогда опоздала, потому что решила подарить свой паек, зная, каким бесценным подарком это будет. Радовалась заранее счастью самой близкой подруги, гордилась своей дружеской самоотверженностью, и не удержалась, конечно, не смогла пересилить себя. В конце концов, так набросилась на хлебушек, как будто кто-то вырывал его у меня из рук.
Потом долго плакала от стыда, очень боялась, что Ольга каким-то образом поймет, что я хотела ей подарить и чего лишила. На столе по случаю дня рождения, у Ольги было даже целых четыре конфеты. Хотя то, что нас было трое, а конфет четыре, сразу же вызывало некоторое напряжение, трудно было не думать о том, кому же достанется четвертая конфета. Вячеслава (мужа Ольги) еще не было, и мы успели поговорить вдвоем. Она спрашивала меня о Родионе. Ольга не уверена, что мы когда-нибудь увидимся.
— Я знаю, что если он на фронте, его никогда, ни за что не убьют. Не может быть, чтобы его убили, — сказала я ей.
Она странно посмотрела на меня.
— Но может, он и не на фронте. Может, у него просто другая жизнь.
— Нет! — воскликнула я, — нет! Что ты говоришь такое….Он не может забыть меня. То, что у нас было, между нами, это всегда с нами останется. Это ни на минуту забыть невозможно. Это силы дает. И мне. И ему, я уверена. Я бы умерла давно, если б в моей жизни вот этой, любви настоящей, не случилось.
Наш разговор оборвался, потому что пришел Вячеслав. Очень счастливый. Держа в двух руках полное, дореволюционное собрание сочинений Диккенса.
— Вот.., — сказал он Ольге, — ты давно хотела. С днем рождения тебя.
Ольга осторожно взяла в руки связку книг, повернула корешками, погладила их, словно спину любимой собаки, и спросила:
— Сколько это стоит?
— Ну что ты, — сразу замялся Вячеслав, — разве важно, сколько это стоит, у тебя ведь день рожденья.
— Сколько это стоит? — еще более испуганно повторила свой вопрос Ольга, и, догадавшись по виноватому, неловкому, смущающемуся лицу Вячеслава, о том, что случилось что-то непоправимое, с непередаваемым страхом произнесла: «Ты… отдал за книги свой паек?».
Вячеслав тут же начал оправдываться.
— Но сегодня можно. Ты не беспокойся, — начал он суетливо уговаривать Ольгу, — я сегодня ничего со стола не возьму. Я не голоден. Правда, я не голоден. А вам… вам хватит. Но книжки… Это же такое редкое издание. И ты мне говорила… разве ты не помнишь… Твое первое воспоминание из детства… В книжном магазине. Диккенс. Рождество. Золотые тиснения. Даже тогда у твоего отца не хватило денег тебе эти книги купить. А у меня сейчас хватило. Видишь, какой я богатый, — он счастливо засмеялся. Но смех этот тут же оборвался, перешел в кашель, — ты не бойся, — заверял он Ольгу, — я ничего со стола не возьму, я не голоден, мы сэкономим, я не голоден, — все болезненнее повторял он.
Ольга опустилась на стул и закрыла от нас руками свои слезы.
После этого я дважды видела ее на улице. Случайно, издалека. Оба раза я окликнула ее, но она не отозвалась. И я не знала, не услышала ли она меня, или только сделала вид. С каждым днем мне становилось все тревожнее за нее, и, наконец набравшись сил, я пошла к Ольге. Вдруг стало особенно важно увидеть ее, убедиться, что она еще жива.
Дверь в их с Вячеславом квартиру была не заперта, и я, не нажимая кнопку звонка, вошла, предчувствуя самое страшное. Уже с порога я услышала ее плач, и было очень жутко — радоваться плачу. Никогда не думала, что можно радоваться слезам. Но так я узнала, что она все-таки жива
— Давай же, давай, — ее голос тонул в рыданиях, — пожалуйста, милый мой, хороший, соберись, ты можешь, ты сильный, я знаю. Пожалуйста, пожалуйста, я умоляю.
Когда она увидела меня, то почему-то совсем не удивилась. Она посмотрела на меня так, как будто я давно была с ней рядом и видела, как она причитает у постели отвернувшегося к стене мужа.
— Элла, — сказала она, не тратя слов на приветствие, — если он не встанет сегодня… Он уже два месяца болеет. Сегодня последний день… Если он не встанет, то нас по закону лишат бюллетеня первой категории, переведут совсем на крохи. Нам не выжить тогда. А он… он… посмотри… он уже не встанет. Отвернулся к стене и молчит. Ему не жалко меня совсем. Ну, давай же, давай, вставай, проклятый, — вдруг закричала она, и вмиг потеряв всю нежность, со злостью ударила мужа по спине.
Он по-прежнему лежал, не шелохнувшись.
— За что мне это… За что, — голос ее уже не мог вынырнуть из слез, задыхался, захлебывался в них, как утопающий человек.
— Мне страшно, — неожиданно тихо сказала она. Так тихо, что я еле расслышала эти ее слова.
Я села рядом с ней, обняла.
— Все будет хорошо. Обязательно.
Я бы никогда не нашла в себе силы для этих слов, если бы у меня не было Родиона. Я не верю в то, что он не придет ко мне, не спасет. Он единственное во что я верю в этой жизни, что дает мне силу, свет, тепло, радость. Только благодаря Ему я знаю, что ничего плохого со мной не случится.
Если мне однажды было дано такое благо, как встреча с ним, значит, жизнь отчего-то очень благосклонна ко мне, и обязательно соединит нас вновь. Но сейчас я тоже боюсь.
Когда я смотрела на Ольгу, мне было страшно узнавать в прежней красавице полускелет с обтянутым лицом, копотью в носу, с распухшими ногами. Распухшими настолько, что в коридоре валялась неприкаянная обувь, в которую больше не влезает Ольга. Я боюсь подходить к зеркалу. Я стала совсем некрасивая. А я должна оставаться красивой для Родиона. Я знаю, что он очень очень любит меня, но уже боюсь оттолкнуть его своим видом. Я стала мало похожа на женщину. Из последних сил стараюсь следить за собой. Как-то предпочла отдать последний хлеб, только бы у меня было мыло и прочие принадлежности. Он может прийти каждый день. Я знаю, что он каким-нибудь, самым невероятным образом, найдет меня. И я должна оставаться чистой для него.
А еще даже в этом умирающем городе я обязательно постараюсь накрыть праздничный стол. Я записываю рецепты, которые слышу от знакомых. Наше время создает общую кулинарную книгу. С каждым новым днем очередной записанный рецепт приходится вычеркивать, потому что и он становится невиданным кулинарным яством, но некоторые могут еще пригодиться.
Похлебка из кожаных ремней.
Лучше брать неокрашенные ремни. Залейте их с вечера водой (предварительно ремни следует нарезать мелкими кусочками и промыть). В этой же воде — прокипятить. При наличии топлива, не менее 2 часов.
После кипячения заправить крапивой (можно, лебедой, мокрицей, что есть).
Гораздо вкуснее похлебка получится, если раздобыть уксус.
Кофе из одуванчиков
Корни одуванчика хорошо промыть, нарезать на мелкие кусочки. Далее их надо подсушить, а после поджарить на сковородке вплоть до приобретения ими коричневого цвета. Затем перемолоть в кофемолке. Также можно растолочь в ступке. Чайная ложка получившегося порошка используется на стакан кипятка.
38
С таким же внезапным, резким, шумным звоном, с каким разбиваются стекла, появился в тишине их молчания, сразу разбившегося на осколки, какой-то тип в пальто с оторванными пуговицами. Движения его были порывисты, взгляд блуждающ. Но он, сев за чужой столик, чувствовал себя очень уверенно.
— Приезжие? — спросил он сразу их обоих.
Яков неопределенно кивнул. Родион продолжал думать о чем-то своем и, казалось, не слышал вопроса.
— Да, я чувствую, что приезжие. Не, я ничего не хочу сказать, это там вы, может, и на фронтах побывали, и под пулями геройствовали, я не спорю, но у меня уже, это самое, глаз наметан. Завсегда отличу того, кто здесь всегда был, а кто только теперь погостить приехал. Наметан у меня глаз, ничего не попишешь. А вы, это самое, из какого города-то?
— Из Москвы, — сухо ответил Яков.
— Из Москвы? — сразу всполошился нежданный собеседник, — вы там, в столице, к главным новостям поближе будете. Не слыхать там ничего про какие-нибудь особенные льготы для нас?
Недоуменный взгляд Якова был принят за вопрос.
— Ну, для тех, кто блокаду перенес. Мы, хоть и не на фронте были, но почитай каждый день, как в смертельном бою. На фронте-то поди фриц не каждый день в наступление шел. А у нас голод каждую секунду за самого лютого фрица был. Так я считаю, что и нам тоже медали военные причитаются.
Яков слушал все более рассеянно, ему неприятен был человек, сидящий напротив, настолько неприятен, что раздражение на него росло с каждой минутой. Но за ним стояла история целого города, небывалая трагедия, и то, что он был частью ее, заставляло Якова сдерживать себя.
— Нам медали не меньше, чем фронтовикам положены. Тем более вот мне, например. Я-то там не просто абы кто, а дворник. У нас-то на ком каждый дом держится? На дворнике, не иначе. Он за домом следит, он каждого жильца знает, и если что там, так не иначе, в дворницкую идут. Потому что знают — дворник, оно, значит, завсегда поможет. А тут такая глыба на дворницкие плечи легла. Мы, почитай, всю войну на плечах своих вынесли. Это там не из автомата во фрица стрелять. Там, не в обиду будь сказано, большого-то ума не надо. Все на одно лицо, бери и пали по ним что есть мочи. А когда среди своих… Тут, действительно, тяжело. Тут особое чутье нужно. Звериное, можно сказать. Тут все на волосок от смерти в эту войну были. Но я чем мог, так помочь старался. Да, да, не о себе думал, о жильцах. Знал, что смерти помочь должен. Смерть-то, она сама может и не разобраться, кого забрать, а кого оставить. Ну, и я тут ей в помощь. Да, да, я порой и мертвых обирал! Да, и не стыжусь этого! Потому как если бы я для себя только, тогда да, тогда, конечно. А я всем делился с теми, кто жизни достоин. Некоторые вон до войны, мимо меня идут, так три поклона отвесят, как солидному человеку какому, а другие пройдут и не заметят, как будто я и не человек вовсе, пыль под ногами. Как будто не для них тружусь. Так почему же, если блокада многих из тех хамов, выкосила, мне их добром не воспользоваться, чтобы хорошим людям помочь? Не для себя же.
Яков, с раздражением слушавший бурную речь незнакомого дворника, увидел, что Родион вышел наконец из затяжного оцепенения и начал прислушиваться к словам.
39
Я думала, что ничто уже не сможет меня напугать в этом мире, где давно никто не смотрит друг другу в глаза. Даже те, кто сильно любит. И они теперь глядят лишь на рот любимого, как на свое тяжелое проклятие, и на руки его, в страхе, что в чужих (уже чужих! а не родных) пальцах окажется лишний кусок хлеба
Я привыкла даже к тому, что читальный зал библиотеки, в котором я работаю, превратили в морг. Но сегодня… сегодня… Даже если пальцы мои не коченели от холода, и тогда бы, я все равно с огромным трудом могла это записать.
Сегодня пришли арестовывать Нину, мою соседку, с которой мы всегда мило общались. Она еще так гордилась сыном, десять лет недавно ему исполнилось. Говорила, что ее мальчик обязательно станет великим ученым.
Ее арестовали за то, что она задушила собственного сына. Я видела, как ее арестовывают. Случайно оказалась в роли «понятой». Она кричала, оправдывая себя: «Этот гад сожрал весь мой хлеб! Ему совершенно было наплевать на собственную мать! Я ни в чем не виновата, я ни в чем не виновата», — кричала она.
Меня спасают только мысли о Родионе, иначе я бы давно сошла с ума. Только последние ночи мне снится, что он погиб, что его убили. Думать о том, что он никогда не вернется еще страшнее, чем жить в обезумевшем мире. Но я читала о сгорающих звездах. Отделенные от нас бесконечностью, они, сгорев, еще светят нам. И то, что случилось между нами, чтобы не происходило сейчас, — это тот свет, который согревает меня в самый лютый холод, светит самыми темными ночами…. И даже… даже если… с ним что-нибудь …даже если его… то этот свет, любовь наша, спасет меня, исцелит, даст силы… Милый мой. Я каждую секунду думаю о тебе. И только поэтому мне ничего не страшно.
40
— Блокадные дни, они с гордецов-то спесь-то хорошо сбили. Вон, например, была у меня, одна… Фифа такая. Павой ходит. Ну, красивая, ничего не скажешь. И я, того, голову-то, оно надо сказать, подрастерял. А она с таким гневом на меня. И ладно, я б еще понял, если б такая верная супруга была. А она… Я же видел. Да и когда мужа у нее на фронте убили, тоже не так чтобы сильно убивалась. Какой-то там Родион у нее был. Вот тоже странно… Люди, кто пропадал, никого не искали, а ее — нет. Следствие завели. Наверняка, шашни там у нее с кем-то были. Непростая штучка. Да не суть. Я о чем сказать-то хочу… Вон, в 42-м году Мытнинские бани у нас открылись. И там женщины с мужчинами, вместе. Не до стыда. Уже никто не смотрит ни на кого. А я ее там увидел. Чистенькой она, значит, для любовничка своего остаться хотела. И она там единственная была, кто переживал, смущался. Стоит, так сказать, как девочка маленькая, прямо слезы на глазах, мужиков шарахается. Шаг боится сделать. Ну, и тут я перед ней. Глаза в глаза. Вернее, я не в глаза ее, конечно, смотрел, а ниже, гораздо ниже. Ну, и она полыхнула прямо. Ручками своими закрывается, но весь стыд-то руками не закроешь.
— Эй, эй, ты чего, — испуганно заверещал дворник, вырываясь из рук Родиона, со всей силой схватившего его за шиворот, — вы чего, столичные, совсем обезумели?!
В следующую секунду Родион сильно стукнул его лицом о столик, потом еще раз. Рядом раздались крики. На стол разом брызнули и кровь, и слезы. Буфетчица сказала, что вызовет милицию. Яков все уладил, объяснив, что «этот тип» хотел украсть у него бумажник
— Такой может, — брезгливо посмотрев на потерявшего сознание дворника, согласилась буфетчица.
— Только милицию не надо, — попросил Яков, — бумажник я вернул. У нас билеты в Москву на сегодня. А еще остаться попросят.
— Жаль, вы в Москве живете, — вздохнула буфетчица, — а то заходили бы. Сейчас приятного мужчину редко встретишь. По большей части, все вот такие попадаются, — грустно сказала она, вытирая кровь со столика.
41
Вера презирала обильный грим, которым пользовались другие актрисы. Она была убеждена, что образ создается не всяческими красками, накладками и наклейками, а естественностью движений, оттенками голоса, и что на грим возлагают надежды лишь от недостатка мастерства.
Вере очень нравилась услышанная однажды история об актрисе Александринского театра, которая еще до революции играла гувернантку Телегину во «Второй молодости». Из представления в представление актриса аккуратно становилась близ боковой царской ложи, когда стрелявший в нее герой направлял на бедное создание свой пистолет. Но однажды актеров, уже перед самым спектаклем, предупредили, что в боковой ложе присутствуют царь и высочайшие особы. Направить в их сторону пистолет было бы сродни маленькой революции. Срочно меняя мизансцену, не рассчитали расстояния, и когда раздался выстрел, актриса почувствовала, как горит ее лицо. Едва опустился занавес, она побежала в артистическую уборную, к зеркалу. Чуть позже врач вынул из ее века 84 порошинки. И на лице ее не осталось на всю жизнь черных пятен только потому что она, пренебрегая гримом, никогда не накладывала белил.
Вере нравилось вспоминать эту историю, представлять на месте известной актрисы своих коллег и воображать изуродованные черты их лиц.
Однако, с недавних пор она стала прибегать к гриму, порой более часа проводя перед домашним зеркалом. Грим ей нужен был не для роли. Она стала болезненно маскировать свой возраст перед каждым свиданием со Львом после того как несколько раз столкнулась с недоуменными взглядами прохожих. Ей дорог был этот мальчик, опаленный войной, в котором она находила не только отраду, но и защиту. В нем для Веры чудесным образом сочетались и настоящая, грубая сила, и милый, детский задор. Вера боялась потерять его. Гримируя свой возраст, она зачастую опаздывала ко времени назначенной встречи, находя Льва тревожно-беспокойным, нервным, злящимся, но и это его беспокойство казалось милым, трогательным. Порой ей даже нравилось откуда-нибудь издалека немножко понаблюдать за этой его беззащитной неприкаянностью, как суетливо он смотрит на часы, как нервно покусывает губы. Ей сладостно было видеть ту жажду, с которой он всегда ждал ее.
Но сегодня она не опоздала. Радость смешивалась с любопытством, и Вера спешила и поделиться счастливым событием, и убедиться в его причастности к тому, что свершилось.
— Это ты?! — воскликнула она, ткнув Льва кулачком в грудь после торопливых (на этот раз) поцелуев.
— А ты что, не узнаешь меня уже? — принял он ее слова за непонятную шутку.
— Не притворяйся, — прижалась она к нему, — это ведь ты… Прости. Я не верила. Вернее, не думала, что они и правда тебя испугаются. Ну, хватит, хватит, не делай такие недоуменные глаза. Хотя у тебя хорошо получается. Прямо как актер настоящий. Я не знаю, что ты им сказал, но я думаю, что без тебя бы мне эту роль никогда не дали.
— Какую роль? — ничего не понимал Лев.
— Подожди… Ты хочешь сказать, что не приходил к ним, как мне грозился, не требовал для меня роли?
— Нет, — растерялся Лев, — не приходил. Я собирался. Не успел еще.
— Однако, какой ты тактичный! — засмеялась Вера, — щадишь мое самолюбие, не хочешь признаваться в том, что для меня сделал. Представляю, что ты им устроил. Ну, так им и надо. Поделом. Я уже всю роль наизусть знаю. Ее так сыграть можно! Там такой характер! А если бы не ты, ее бы непременно какой-нибудь бездарности отдали.
— Какую роль?
— Ну, хватит уже притворяться, что ты ничего не знаешь. Гертруды роль, Гертруды.
— Кого?
— Так, милый, хорошо, если тебе так уж хочется продолжать эту игру в неведение, добрый мой благодетель, принимаю условия. Прямо сейчас пойдем ко мне, и я прочту тебе роль так, как ее вижу. Ты будешь первым моим зрителем.
42
И вначале он явно не хотел ни о чем говорить с Яковом, отделывался короткими словами, каждое из которых подчеркивало его усталость, несовместимую ни с какой откровенностью. Не в многотрудный день налипшую усталость, что счастливо смывают волны благодатного сна, а совсем другую, неизбывную, неизлечимую, наполняющую глаза невыносимой мукой.
Но потом, по случайным словам узнав в Якове не просто интервьюера, а художника, и художника-собрата, оружием которого в лихие годы войны был оптический прицел искаженных пропорций, уродующих врага до отвратительной нелепости, разоткровенничался сам, почувствовав тепло к своему собеседнику.
И среди рассказов Георгия Марковича Кофмана о своей работе (например, о том, как он размножал сводки Совинформбюро, печатал их вначале на машинке прописными буквами, затем делал с них негатив, а после уже их, многократно увеличенные, печатали на метровых листах фото-бумаги) прорывались воспоминания задушевные, от которых теплели его глаза.
— Ну, вот Галыбу вы, верно, знаете. Карикатурист так карикатурист. В самом скверном настроении на его карикатуры посмотри, не сможешь не рассмеяться. И мне, когда я в Ленинград приехал, трехдневный паек выдали — банку консервов. Страшно, жутко в том городе было иметь целую банку консервов. И съесть очень хотелось, и растянуть надо было. Я с Галыбой очень сильно дружил. А дружба она, как и любовь, которую самому себе периодически доказывать надо, подтверждать. И я эту банку консервов не один хотел съесть. А с другом вместе. Я не герой. Не знай, что на фронт мне обратно, вряд ли дружба моя испытание щедростью выдержала. Я прекрасно понимал, что в блокадном Ленинграде банка консервов значит. Встретились, обнялись, расцеловались. Я сказал, какой знатный ужин нас ожидает. Идем, до дома еще далеко, вижу глаза Галыбы. Жутко в такие глаза смотреть. Кажется, он бежать уже готов, чтобы поскорей за стол сесть. Но при этом нарочно шаг замедляет, потому что гордость. Ну, и решили в первый попавшийся дом зайти. Только открыли банку, как тут же управдом к нам, — мол, вы по какому такому случаю, и не шпионы ли вы? Я документы показал, а Галыба свои в редакции забыл. В пиджаке. Управдом на него со всем подозрением смотрит. А Володя говорит ему, что он — Владимир Галыба. Знаете такого? — спрашивает.
— Знать-то я знаю, — отвечает управдом, — кто ж его карикатур не видел, многие и сейчас перед глазами стоят. Настроение, что называются, поднимают. Но так, пожалуй, и любой всяким известным именем назваться может. А я управдом, и не обязан людям на слово верить. Мне документы надобны.
И тогда Галыба раскрыл свой альбом, в одно мгновение этого управдома запечатлел. С козлиной бородкой, в ватнике его дырявом, и с таким тоскливым взглядом, с каким он на нашу банку консервов смотрел. И вот, чудо искусства! Управдом этот не только рассмеялся, болезненно, правда, но все же, без всяких документов поверил, что Владимир не самозванец какой-нибудь, а тот самый Галыба. Да что там говорить, если однажды немецких снайперов, хитрых, собаки, осторожных, только с помощью Владимира смогли обнаружить. Он такую ядреную карикатуру на Гитлера сделал, что ни для какой печати не подошла бы. Ну, у него цель другая была. Разведчики щит с этой карикатурой выставили. И, представляете, немцы, снайперы, которые словно замерши, столько времени таились, не могли не рассмеяться. Над своим же Гитлером. Ну, по смешкам их и вычислили. Так что и в самые суровые годы место шутке найдется. Только главное, чтобы шутка эта не тебе, а врагу твоему жизни стоила.
43
— Пошлость какая, — с отвращением сказал Лев.
— Тебе настолько не понравилось? — испугалась Вера, только что увлеченно представившая шекспировскую трагедию перед все более мрачневшим взглядом Льва, — ты считаешь, что я неталантливо ее играю?
— Нет, — зло выпалил Лев, — играешь ты превосходно. Это-то и ужасно.
— Постой, почему? — растерялась Вера.
— Да потому что роль отвратительная. Пошлая. Гадкая. И как можно в такой образ вживаться? Это все равно что в шкуру фрица влезть, и его глазами на мир смотреть. Гадость какая. Никогда не подумал бы, что ты согласишься подобное играть. Неприглядная мать, которая сразу же после смерти мужа выскакивает замуж за его брата, который и отравил ее супруга….Пошло-мещанские страсти просто. И совершенно безнравственная героиня. А ты так увлеченно ее играешь, что это меня пугает. Да, я о пьесе-то этой и раньше слышал, но и предположить не мог, что здесь настолько все гадко. Разврат один, словно какой-нибудь фриц ее писал. Кстати, фамилия «Шекспир» сильно на фашистскую смахивает.
— Подожди, — все более терялась Вера, — неужели это правда… и не ты помог мне с ролью, не ты вытребовал ее для меня? Я же была уверена.
— Что? — зло усмехнулся Лев, — как ты только могла вообразить такое! Чтобы я… Неужели у меня никакого представления о морали нет?! Да, я давно хотел зайти в твой театр, к директору, поговорить, и вижу, время пришло. Процветает у вас разврат-то. Вы для какого зрителя там трудитесь? А? Сейчас надо нужные пьесы ставить, современные. Коммунистические. Со стойко выдержанной идеологией. Будущее коммунизма пьесами своими надо приближать. А не рыться в нафталинных сочиненьицах, еще и самые гадкие из них выуживая. Ну что нам сейчас этот принц Гамлет?! Для чего он советскому зрителю?! Его гнилые размышления не предмет для искусства. И постановка подобной пьесы вообще на диверсию смахивает. Нет, я с режиссером вашим обязательно встречусь, на чистую воду его выведу. Что у него за душонка такая, если он не понимает, в какое время живет, какое кощунство себе позволяет, как он народное советское искусство компрометирует! Он, кстати, на фронте-то был? А?
44
Яков испугался своей улыбки. Сейчас, здесь, она была невиданным кощунством. Не улыбкой, а тяжелым, сочувственным вздохом нужно было отвечать рассказу редактора «Окон Тасс». Но подробности этого рассказа вызвали в памяти Якова нежный образ, и улыбка его была благодарным эхом ему. Яков даже вскинул голову, словно возникший в сознании образ был пролетавшей в вышине птицей, на которую он залюбовался, забыв обо всем на свете, и не видя уже своего собеседника, сидящего напротив.
Георгий Маркович рассказывал Якову об одном из личных своих потрясений, пережитых в годы блокады.
— Я по лестнице поднимаясь, жалобный такой писк услышал. Будто котенок. Но я знал, что это не может быть котенок. Не было больше кошек в городе. Потому что мясо. Дверь знакомого моего художника была, Романовского. Давно не виделись с ним, хоть и в одном доме жили. Я в дверь постучал, не открывает никто. А писк этот, жалобный все сильнее. Я спустился в подвал за дворником. Сбили мы замок. Только вошли, сразу темнота, будто запах в нос, ударила. Прямо как будто запах у этой тьмы был, физически ощущался. Кошек, конечно, никаких не было. Ребенок малый, одинокий, плакал. И худой такой, будто прозрачный. Я его на руки взял. А потом, когда в другую комнату с ним вошел, я сразу глаза ему скорей закрывать. Неловко так стало оттого, что я как будто специально принес его посмотреть на мертвых родителей. Романовский бездыханный на кровати лежит, и рядом, у кровати жена его, руки и голову на кровать положила. Видимо, в горе над умершим мужем так и застыла, слезами окаменев. А рядом с ними на столе эскиз стоит. Последняя работа, маслом. Когда пыль стер, солнце глаза чуть не ослепило. Там, на полотне, город наш, весь залитый весенним солнечным светом. И солнце такое, будто звенит.
На этих словах и вспомнил Яков о Лилии, глаза ее вспомнил, улыбку. Губы ее были словно шёпотом солнечного света.
И как ни был горек рассказ об умершем художнике и осиротевшем ребенке, Яков не мог не улыбнуться в ответ на нечаянное воспоминание о Лилии.
45
Вере снился высокий трон. Настолько высокий, что о зубья ее короны спотыкались проплывавшие мимо вольные облака. Снились кубки, в которых яд, растворившись в вине, становился огненным озером, снился наследный принц, взывающий о мести, блестящие острия шпаг, взыскующие крови, предательские письма, запечатанные сургучом, и роковая плаха… И вдруг раздался смех. Неожиданный, резкий, злой, многоголосый… В одночасье рухнул высокий трон, словно кто-то подпилил его ножки, облака окрасились в черный цвет, и плыли теперь в далекой вышине, словно обреченные корабли, а на голову упавшей наземь Вере кто-то лил вино из отравленного кубка. И ей очень, очень, до невыносимой, мучительнейшей жажды хотелось пить, но она отворачивалась от сладкого вина, зная, что оно отравлено, хотя пересохшие губы, кажется, готовы были уже и к смерти ради глотка воды.
Встав посреди ночи, Вера включила свет, чтобы окончательно прогнать неприятный сон. Боясь новых кошмаров, она не решалась лечь. Но вслед за тягостными образами, натолкавшимися в ее сны, пришли воспоминания, которые она так долго всячески гнала от себя.
Она тогда была уверена, что роль Дездемоны будет лучшей ее ролью, что не останется в зрительном зале ни одних глаз, которые бы не увлажнили слезы. Но художники почему-то не сочли нужным ставить спектакль с естественным планшетом сцены, и предпочли воздвигнуть крутые станки, по которым можно было ходить, только натерев подошвы канифолью. А Вера забыла это сделать. Она вся была в роли, давно не чувствуя себя жительницей московского города. Она жила в Вероне, а какие там, в Вероне, могут быть мысли о натираемых канифолью подошвах?!
И она, в самый трагический момент спектакля, смешно, нелепо поскользнулась на верхней части того станка, и поехала вниз головой, неуклюже растянувшись на сцене. В одну секунду роль ее была уничтожена. Разбита вдребезги. И как ей хотелось тогда, чтобы эти осколки были бы острыми стеклами, чтобы они вонзились в смеющиеся лица. И ведь из-за проклятых прожекторов она отчетливо видела первые ряды зрителей, с их злобными, оскаленными в гнусном смехе, ртами.
Прожектора это не рампа, что делает всех зрителей для актера несуществующими. Прожектора освещают не только сцену, но и часть зрительного зала. Глядя на смеющихся над ее неуклюжестью людей, невозможно было доиграть спектакль. И чем сильнее она старалась взять трагическую ноту, тем нелепее это звучало. Из трагической актрисы Вера вмиг обратилась в клоунессу. Ее заменили на следующем спектакле. Почти совсем перестали давать роли. А во время войны, когда все спектакли стали спешно сокращать, опасаясь долгого скопления людей в одном здании (участились авианалеты), беспощадно вымарывались прежде всего именно ее (и без того крохотные) реплики.
И вдруг — роль Гертруды. Неожиданная, радостная, глубокая. Теперь для Веры, очевидно было, что Лев ничего не сделал для того, чтобы она получила эту роль. Но на всплеск его возмущения она не злилась. Она поняла, что он был вызван ревностью. Она хорошо видела его пылающие животной ревностью глаза, и это льстило ей, но сейчас она задумалась о том, что прежде почему-то не приходило ей в голову: на роль Офелии назначили Иру, которая была всего на три года младше Веры.
— «Неужели выгляжу настолько старой, настолько хуже нее, что мой сын по роли годится ей в ровесники?».
Утром задремавшую наконец Веру разбудил телефонный звонок. Звонила Стелла, которая, среди прочего, рассказала о том, что в театре ослеп плотник. «Говорят, что катаракта образовалась из-за того, то свет прожекторов столько лет ему глаза выжигал».
46
В голову лезли нелепые мысли об опытах удаления мозга. Давно прочитанные строчки стали живыми и зримыми. Обезможженные, неподвижные крысы, переставшие суетиться в поисках пищи, и, похоже, больше ничего не желавшие в своей маленькой жизни, но отчего-то все еще живущие. Расписные бабочки, взмахивающие крыльями не для полета. Легкие, бойкие создания, лишившиеся благодаря научным экспериментам, своего мозга, стали висящими в воздухе крохотными деревянными куклами.
Конечно, ни бабочки, ни уж тем более крысы, не имели никакого отношения к Родиону, честному, умному, самоотверженному товарищу Якова, но сейчас, в тяжелом разговоре, длившемся уже более часа, в сознании возникали образы давно прочитанной и позабытой статьи. Невозможно было избавиться от ощущения, что кто-то совершил над Родионом непоправимое, лишил его мозга, и теперь он живет, как бездушный часовой механизм, у которого не может быть никаких человеческих желаний. Жизни в нем было не больше чем в пустых глазницах черепа. Крысы из той статьи не притрагивались к еде, их кормили насильно. Яков невольно отвел глаза, устыдившись того, что при взгляде на Родиона думает о каких-то крысах.
Яков принес из своего номера бутылку вина, сыр, но Родион не хотел ни к чему притрагиваться. Устав от уговоров, он вымолвил (первые за сегодняшний вечер) слова: «Хватит. Не могу я. Оставь. Не хочешь один пить — не пей. А меня не неволь. Если бы ты мне в дверь так не тарабанил, я бы и открывать не стал. Тебе спасибо, что всю работу на себя взял. Но ее и так у тебя много. Сделать не успеешь. Какая охота, не пойму, со мной вот тут сидеть и на мою физиономию смотреть».
— Ты зря, — ответил Яков. То, что Родион заговорил с ним, уже казалось сродни чуду, — ты зря здесь себя убиваешь. Среди тех, кто в блокаду в этом городе выжил, есть люди достойные. Настоящие. Один разговор с ними исцелить может.
— Исцелить? — зло отозвался Родион, — а я не хочу ни от чего исцеляться. И есть я тоже ничего не хочу, так что убери свой сыр со стола. Достойные люди, говоришь? Верю. Еще как верю. Думаю, не просто достойные, а покраше всяких выдуманных святых будут. Только запишешь ты их задушевные рассказы, и что? В Москве из них всех две-три страницы передового очерка сделают. Правды тебе никто не даст сказать, и ты это знаешь. Они ведь тогда тебя на Пятачке на верную смерть послали, и меня тоже. Им наверняка пришлось нашим материалом другой заменять, потому что они думали, что мы не вернемся. А мы вернулись. Уж не знаю какое чудо нас тогда спасло.
Он хотел что-то еще сказать, привести какие-то доводы, что-то сформулировать, но было очевидно, что всеми сказанными и еще непроизнесенными словами он пытается скрыть самое важное, превращающее бегущую по венам кровь в смертельный яд. И вдруг он не смог больше таиться, стукнул кулаком по столу, судорожно смахнул выступившую слезу, и заговорил. Заговорил быстро, нечетко, суетно, но Яков все равно понимал каждое его слово.
— Я не могу, понимаешь! Ни крошки здесь в рот взять не могу. Все думаю, а как она… Это не просто голод был. Это когда все твои внутренности кто-то выгрызает. И все равно… Ни разу обо мне ни слова плохого не подумала. А ведь потом ничего нет, да? Вот умерла она, и все, как будто и не было ее на земле никогда. Да еще как умерла! Глаза ее волшебные, улыбка ласковая, кому-то на корм пошли. Не могу я есть ничего, самый малый кусок в горле застревает.
— Ты голодом себя заморить хочешь? — с толикой строгости в голосе, которая показывала особенное участие, спросил Яков.
— Я возвращаться обратно не хочу. В Москву больше не хочу. Не там теперь мои куранты.
47
Этот ребенок еще не появился на свет, а его уже не любили. Соседям Агнии казалось, что, родившись, он займет слишком много места в их и без того тесном жилище. Мнилось, что Агния как будто специально решила с помощью детеныша отвоевать у соседей лакомый кусок жизненного пространства, и потому с ней, уже сейчас, заранее, надо упорно бороться, каждым словом, жестом, взглядом ставить ее на место, да так, чтобы отбить всякую охоту на что-то претендовать в этом доме.
Алла Леонидовна смерила вошедшую на кухню Агнию таким взглядом, как будто та без спроса вломилась в ее комнату. Агния ощутила почти настоящую, физическую боль оттого, что лицо ее топтал свирепый взгляд соседки.
— Не смотрите на меня так, — твердо сказала она, — я вам не картина, чтобы меня разглядывать.
И Алла Леонидовна сразу же задышала так нервно, прерывисто, тяжело, как будто ее ударили в живот.
— Ах, ты змея, — прошипела она, — змея подколодная. Ловко ты нас всех провела. Когда одна была, такой скромницей прикидывалась. Только все наружу выйдет. Муж твой, что, еще не догадался, что ребенок не от него нажит? Я ведь вижу, как ты на мужа своего смотришь. Так, как будто смерти ему желаешь.
Возмущенная Агния хотела очень зло ответить соседке. Она чувствовала, что еще секунда–другая, и в волосы ей вцепится, хорошую трепку задать, но вдруг ощутила резкую боль присутствия своего ребенка в этом чаду. Нужно было не терять ни мгновения, бежать скорее от этой ошалевшей ненависти, спасать свое дитя, которое может напугать, оглушить звенящий выбиваемыми стеклами, голос старой соседки.
Позвоночник больно вздрогнул от взгляда в спину, словно от удара тяжелым камнем, когда Агния, не говоря ни слова, вышла из кухни. Но, войдя в комнату, она почувствовала себя такой незащищенной, одинокой. Она ощущала огонь внутри себя, и в страхе пожара, что спалит ее дитя, отчаянно подошла к мужу, ища защиты, помощи.
— Она… там… Алла Леонидовна эта. Она сейчас сильно оскорбила меня. Она… Она мне прямо в лицо сказала сейчас, что наш с тобой ребенок… что я его от другого кого-то нажила… Как она смеет такое мне говорить!
Агния ждала помощи, защиты, быть может, целого скандала, после которого никто уже не посмеет ее оскорбить, но вместо этого наткнулась на такой взгляд мужа, который был еще хуже, чем тот, которым только что смерила ее на кухне соседка.
— Почему… Почему ты так смотришь на меня? — растерянно спросила она.
— Почему?! — осклабился Юрий, — и ты еще спрашиваешь?! Уже и соседи судачат. Прямо на кухне. Ты же меня всем на посмешище рогоносцем выставила.
— Подожди, — попятилась от него Агния, — неужели ты думаешь, что я… неужели…
И она, будто разом ослепнув, наощупь, вышла из комнаты, тут же столкнувшись с Аллой Леонидовной, которая почему-то оказалась у самой ее двери.
И Агния инстинктивно защитила руками живот, словно закрывая глаза своему ребенку, чтобы тот не увидел этот ослепляющий своим безобразием мир.
48
— Я ошибся, — с налетом смущенного восторга в голосе рассказывал Лев Вере о недавней встрече, — ну, я все-таки не все сразу в вашем искусстве понимаю. Мне время нужно. Режиссер ваш очень идеологически выдержанный человек оказался. Правильные у него мысли. Я-то думал, он эту тухлую пьеску про Гамлета неизвестно откуда выкопал, чтобы на никчемную жизнь древних принцев государственные деньги тратить, а у него стоящая идея. Он мне объяснил. Он все это царство хочет показать, как прогнивший мир. А в конце у него социализм победит. Красные флаги на сцену вынесут. «Интернационал» артисты споют. В общем, перекуют Гамлета. Он пролетарием станет.
— Каким пролетарием?! — удивленно воскликнула Вера, все это казалось ей непонятным безумием, — ничего подобного он нам не говорил. Он вообще о своем видении спектакля ни с кем не говорит никогда. И почему он все это рассказал тебе?
— Ну, — гордо усмехнулся Лев, — значит, я впечатление на него произвел соответствующее. Честно сказать-то, у нас разговор не заладился поначалу. Я ему тогда объяснил, что напишу куда следует, и только после этого разговорились мы потихоньку. Свой человек оказался. Идеологически выдержанный. Правильный. Так что я теперь твердо уверен, спектакль без пошлости будет. Настоящий, советский. Смело в нем играть можешь. Я вашему режиссеру теперь доверяю.
Впервые уверенность Льва казалась Вере чужой, громоздкой, угловатой, нарушающей что-то в ее жизни. Ей хотелось, чтобы он замолчал. А он все продолжал и продолжал говорить. И улыбки его отчего-то сейчас больно впивались в ее кожу, словно острые иголки.
49
Маленькому Якову снились черные, рогатые существа с длинными тяжелыми хвостами. Один из этих хвостов обвился вокруг его шеи, как крепкая веревка, и Яков стал задыхаться. Попавшее в злой плен горло не могло позвать на помощь, не в силах было вымолвить ни слово. Он боялся, что эти темные существа сейчас заползут внутрь него, и было страшно, больно, и даже почему-то стыдно от этого. Непроглядная черная ночь набилась в легкие вместо воздуха. Темнота залепила рот словно комья грязи. Таким беспомощным маленький Яков еще никогда себя не ощущал.
Накануне вечером отец много говорил о том, что не надо грешить, что есть заповеди, которые в жизни ни за что нельзя нарушать, иначе человека ждет после смерти ад, где его будут безжалостно пытать рогатые черти.
Той ночью маленький Яков все-таки смог вырваться из беспощадного плена мрачных видений, смог проснуться, позвать на помощь. И почти сразу же, будто добрый ангел, рядом оказалась мама. Нежно и крепко прижала его к себе, и стала с какой-то истовой самоотверженностью целовать его глаза, припадая к ним, словно к открытой ране, из которой сочились гнойные кошмары. И непроглядная ночь вдруг ушла из легких. Тяжелые комья темноты больше не забивали рот. Мама стала живым солнцем, рядом с которым было очень тепло и совсем не страшно. С каждым новым мгновением становилось все легче. Было невероятно сладко, упоительно сознавать, что показавшиеся такими живыми, кошмары всего лишь дурной сон, бред, наваждение. Столь сильное наслаждение счастьем свободы, быть может, не каждому, вышедшему из долгого заключения, доводится испытать. Яков радовался своему пробуждению так, как можно радоваться, наверное, только воскрешению любимых.
— Уйдите, дурные сны, — грозно шептала мама, — оставьте моего мальчика в покое. Я его вам не отдам.
И Яков верил, что теперь его надежно защитят мамины слова от самых дурных снов, но главным при этом было, что именно «снов», видений, не имеющих ничего общего с настоящей жизнью.
И вот, впервые с той памятной ночи, уже взрослый Яков испытал удивительное чувство свободы, упоения мыслью, что самые жуткие кошмары оказались всего лишь призрачными видениями, и самого недавнего прошлого больше не надо бояться, потому что оно было ненастоящее. Пусть ненадолго, всего на несколько мгновений, но Якову показалось, что отгремевшей по всему миру войны, со всеми ее невиданными дотоле ужасами, торжеством бесчеловечности, невиданной жестокостью, ничего этого не было. Он словно пробудился от нее, как от кошмара, навстречу теплу и свету. Голос Лилии разбудил его. Она уже была рядом. Она наконец приехала.
Голос ее был также нежен и тепл, как то родное, живое солнце, вбежавшее в его детскую комнату, чтобы спасти из плена кошмаров.
50
Веру растревожили слова Льва. Теперь она путалась в мыслях, предчувствуя что-то недоброе. Подаренная судьбой, пожалуй, главная женская роль будущего спектакля нынче обратилась тайной, ощущением неких подспудных причин, о которых лучше бы никогда не знать. И сам грядущий спектакль уже настораживал своей переворачивающей все с головы на ноги идеей. Какое место в этом безумии отведут ей? И почему именно Веру выбрали на главную роль, так долго не доверяя ей и самых второстепенных героинь?
Вера даже готова была решиться поговорить с Аароном Мануйловичем. Все-таки он должен уделить ей хоть немного внимания, ведь от ее игры в немалой степени зависит судьба будущего спектакля. И он, доверив Вере роль Гертруды, через столько времени что-то разглядел, увидел в ней. Значит, она смогла даже самыми эпизодическими ролями убедить его в своем таланте.
И как бы ни изменилась в свете режиссерской концепции шекспировская пьеса, Вера сыграет свою роль так, как никто еще до нее не играл, всем станет жарко, она растопит лед, и заставит Аарона Мануйловича мучительно клясть себя за то, что он так долго обделял ее назначениями… Он уже жалеет, конечно, жалеет. Так пусть провалится в свое раскаяние, как в глубокий колодец!
Но разговора не получилось. В последнее время Аарон Мануйлович вообще был очень странным. Рассеянный взгляд, ответы невпопад… Какая-то постоянная сосредоточенность на чем-то очень личном, и страх… Да, да, именно страх. Первый раз увидев страх его в глазах, Вера даже не поверила. Почему-то казалось, что этот грубый, злой человек не может никого бояться. Но зрачки его были теперь похожи на пойманных, маленьких, затравленных зверьков, испуганно бившихся в глазных орбитах, словно в тесных клетках.
Читку пьесы опять перенесли. В театре сначала шепотом, а потом все громче, заговорили о том, что у режиссера очень большие неприятности, что его могут уволить, и даже не просто уволить, а назначить какое-то взыскание, что его уже куда-то вызывали и очень серьезно прорабатывали. Потом стало известно, что его брата, партийного чиновника, арестовали, и с тех пор с Аароном Мануйловичем уже никто не решался заговорить.
Как-то он сказал им: «Со спектаклем, наверное, ничего не получится», — и произнес это с такой обреченностью, с такой безысходно-мучительной, жалко виноватой улыбкой, что всем сразу сделалось жутко.
А в тот день, когда его увезли прямо из театра с сердечным приступом, первой, кто оказался рядом, была именно Вера. Он выронил свой желтый кожаный портфель, с которым никогда не расставался, прямо ей под ноги. И потом, когда его увезли, она решилась открыть этот портфель. Вера нашла там черновик покаянного письма, в котором он коленопреклоненно каялся, болезненно винил себя, говорил о заслуженности самого сурового наказания, но при этом не упоминал, в чем именно был виноват. Создавалось ощущение, что он и сам этого не знает, просто хочет покорной готовностью ко всему задобрить своих будущих мучителей.
А еще она нашла в портфеле режиссерский экземпляр пьесы, готовящейся к постановке. Он был весь исчеркан пометами. Какие-то реплики сокращены, какие-то добавлены. В финале дописано несколько страниц о том, как Гамлет обращается к вере в социализм, и поэтому, вместо того чтобы погибнуть, усердно участвует в строительстве коммунизма. Но главным было не это. Главной была первая страница с распределением ролей в соответствии с особым режиссерским замыслом. Напротив имени Гертруды стояли слова: «нужна самая бездарная актриса, которая ничего не сможет сыграть, самая бестолковая, так чтобы нелепость на сцене была настоящая, несыгранная. Безусловно, это — Вера. Бестолковей не сыскать».
Эти красные карандашные строчки, начертанные поверх машинописного текста, были похожи на дневниковую запись. Когда в театре сказали, что Аарон Мануйлович умер в больнице, Вере не стало легче от нанесенной ей обиды. Такая обида хуже позорного клейма, что в давние времена выжигали на плечах опасного отребья. Жгучая тайна чужих прочитанных строк ныла в груди. И сердце, будто качалось, как хрупкое деревцо на сильном ветру.
51
Это был не просто сделанный наспех, ради исполнения данного опрометчиво обещания, рисунок, а тщательно выписанная, праздничная, картина. И ведь написана она была в каких-то несколько дней, в чужом для него городе, где надо еще постараться найти холст, краски, раму. Впрочем, военное время многих художников приучило к немыслимой прежде быстроте рисунка. То и дело являлись к ним по приказу в Союз отличившиеся в боях герои. Их увольнительный документ был выписан чаще всего на день, не больше. Считалось, что художники справятся и за такое короткое время. Даже для экспозиции на всесоюзной художественной выставке портреты приходилось делать за один день.
Лилия была потрясена, восхищена (и немножко напугана) тем, как Яков смог угадать, увидеть через годы свет ее сокровенного дня, когда она впервые попала на балет, и даже слова вокруг сразу стали другими, празднично-звенящими. Никто рядом больше не говорил о кассах, билетах, путях следования поезда, не рассказывал о своей неудавшейся семейной жизни. Люди в тот вечер как будто разговаривали на особом, волшебном, сказочном языке: «бельетаж», «царская ложа», «бенуар»….Да и представление на сцене было настоящей сказкой. Лилия так трепетно сжимала в руках программку с перечнем исполнителей ролей балета «Спящая красавица», будто это были не типографские буквы, а крошечные, живые люди.
Яков мог бы сделать простой портрет Лилии, как и обещал, но он успел написать целую картину, на которой присутствовала не только Лиля, но и другие зрители праздничной сказки-балета. Как он узнал, угадал это?! Тогда она пришла одна, но сейчас уже казалось, что в тот давний, еще довоенный вечер он сидел рядом с ней, и видел все то же, что и она, также восторгаясь всему вокруг, и не только исполненному истинной грациозности, балету, танцорам в шелках и бархате, в золотом шитье, но и самому Театру, кристально чистой хрустальной люстре, изысканно расписанному плафону, вальяжно бархатным портьерам лож, статному красному занавесу, нарядным зеркалам в лепных рамах… Смотрясь в такое зеркало, и сам себя ожидал увидеть преображенным в какого-то сказочного персонажа.
Увидев подаренную ей Яковом картину, она долго не могла вымолвить ни слова. Восторженное изумление сделало ее немой.
Несколько зрителей, которых художник изобразил рядом с Лилей, не были уродами или даже просто некрасивыми, напротив, они казались частью общего праздника, но при этом как будто были созданы только затем, чтобы подчеркнуть красоту главной героини картины, Лилии. При взгляде на картину, можно было увидеть только ее глаза. Взоры прочих были устремлены на сцену. И удивительно, но ее глаза на картине были светлее, волшебнее, сказочнее, чем грандиозное сценическое действо.
В жизни Лилии случались и пылкие признания в любви от людей, которым в ответ не откликалось сердце, и, позже, во время войны, быстрое, напористое, нервное: «да чего там, давай», на которое она, уже закаленная болью, горечью, страхом, давала твердый, внушительный отпор. И ни разу еще до сегодняшнего дня не заискрилось ее сердце ни от одного пылкого признания, ни разу не вспыхнули щеки каким-то особым, блаженным стыдом от проникновения в самые глубокие ее тайны. Она как будто уже почувствовала Якова внутри себя. И от этого было тепло, сладко, стыдно.
— Я думала, что вы просто рисунок сделаете, — сказала Лилия, преодолевая вязкое смущение, — а вы… Такие картины, наверное, месяцами, годами пишутся. А вы… вы что, и ночами не спали?
— Не спал, — улыбнулся Яков.
— Но зачем, — тут же с нотками милой строгости в голосе воскликнула Лилия, — зачем так себя мучить?!
— Да я не мучился вовсе. Благодаря этой картине, тому, что не спал, мне хоть дурные сны не снились. А то их в последнее время хватало. Так что вы меня, можно сказать, спасли.
— Я? Спасла? — и в широко распахнувшихся глазах Лилии Яков увидел сейчас не восхищение, не благодарность, а бесконечное, настоящее сочувствие к нему, не спавшему ради нее несколько ночей кряду.
— У вас глаза красные, — сказала Лилия, и Яков подумал, что никто еще никогда не обращался к нему с таким сочувствием.
Есть особые движения, жесты, которым не суждено воплотиться наяву, но которые при этом ярко ощущаются обоими говорящими.
Яков почувствовал, отчетливо почувствовал, как при словах о красноте его глаз, его щеки нежно коснулась ее ладонь. И неважно, что этого не случилось взаправду. То, что сейчас происходило между ними, было глубже, значительнее того, что доступно простому постороннему взору.
52
Новый режиссер, Антон Петрович, чувствовал себя очень уверенно. За ним ощущалась какая-то особая сила. Он смотрел на актеров, как на в чем-то очень виноватых перед ним людей, которым надо изрядно постараться, чтобы искупить эту вину. У многих сложилось впечатление, что он не имеет никакого отношения к искусству, и поставлен здесь только для того, чтобы надзирать за ними.
Объявление о работе над новым спектаклем обошлось без всяких восторженных размахиваний руками, к которому они привыкли. Речь как будто шла не о сценическом воплощении вдохновенного замысла автора, а о том, как рациональнее разгрузить машины с песком. Причем Антон Петрович сразу дал понять, что никаких возражений он не потерпит.
Вера разделила с другими впечатление об этом незнакомом человеке. Она готова была поверить в то, что он здесь просто так, случайно, что он не ставил никогда никаких спектаклей, что его пригласили надзирать за ними, что искусство вовсе чуждо ему. Он остановил ее в коридоре (рядом никого не было), пристально посмотрел в глаза.
— Вас ролями обделяли, наверное, — сказал он.
— Почему… почему… — затрепыхалась Вера.
— Я давно по взгляду одному только научился определять, кому давно ничего играть не дают, — и он произнес это с каким-то совершенно особенным, настолько неподдельным сочувствием, что Вера сразу прониклась к нему доверием.
— Неудобно разговаривать в коридоре, — улыбнулся он.
Утром солнце тыкало словно острыми копьями, лучами своими Веру, чьи волосы разметались по чужой постели. Пробуждение было сродни похмелью, несмотря на то, что вечером выпито было только кофе. Но ночь выдалась безудержно страстной. Обилие горячих ласк, отчаянно сильное мужское тело, грубость, допускающая даже похабство, удивительным образом сочетающаяся с деликатной нежностью… Куда там скромным, суетливым встречам с неопытным, неуклюжим Львом. В постели с ним Вере все приходилось делать самой. А сегодня ночью она всецело отдалась чужой власти и получила необыкновенное наслаждение взамен на свою покорность.
— Неудобно получилось, — призналась она Антону, не хотела, чтобы между ними была какая-то недоговоренность, — я должна была встретиться. У меня молодой человек есть. Хороший. Он меня ждал. Забыла обо всем с тобой.
— Жалеешь? — спросил он.
— Ну что ты! — она испугалась того, что он и правда так подумает, — разве я могу жалеть? Просто мы с ним как будто вместе.
— Любишь его?
— Мне кажется, что он меня любит. Мы и жениться хотели.
— Ты можешь продолжать с ним. Он ничего не узнает. Ты же актриса. Сыграешь.
— Но я не хочу, — стала объяснять она, но сбилась, запуталась в словах, и очень боясь смотреть ему в глаза, спросила, — а мы? А мы с тобой как дальше? Между нами еще что-то будет, или уже все было?
— Смешная ты, — он прижал ее к себе, обнял и поцеловал в губы.
Поцелуи спасают, когда не хочется ничего отвечать.
53
Город оскалился жадной пастью. Каждый прохожий будто изрыгаемое ею раскаленное облако пара. Тяжелые хлопья снега как комья грязи, что кидает не на шутку расшалившееся злое небо в беззащитную землю. Внутри живет крик. Он возносится, словно стремительно растущее дерево, задевая, царапая своими ветвями каждую клетку тела.
Вынырнувшие из остановившегося трамвая люди все равно что пойманные шаловливым ребенком и освобожденные из коробка тараканы. Родион больше не видел в людях ничего человеческого. Живой, настоящей, непридуманной была только она, Элла. Она возвышалась незакатным солнцем над этим грязным городом. Но далекое, освещающее весь мир солнце, было ярким пламенем, в котором ежесекундно сгорала Элла.
Родион чувствовал, как мучается она, как содрогается от невыносимой боли, но она была так далеко от земли, что языки адского пламени успевают остыть и превратиться в благодатные лучи солнца. И никто не видит, не понимает, не чувствует, что светящее им солнце, дарующее благое тепло, только эхо жестокого огня.
Родион многое видел на войне, и, казалось бы, сердце его должно было привыкнуть ко всему. Но бесчисленные жертвы меркли перед одной, потому что ни перед кем из погибших Родион не был виноват, а перед Эллой был.
Как острая кость застревает в горле, не давая дышать, так и острое, колкое чувство вины стало поперек сердца, мешало дыханию. Свет фонарей змеился словно ядовитый взгляд насильника. Смерть, с которой столько раз сталкивался на фронте Родион, не так страшна, как сознание того, что он оказался настолько недостоин любви к нему. Он был ничто, грязь, пыль на дороге перед этой Любовью. И он не знал, чем искупить свое малодушие, как примириться со своим ничтожеством.
Он не ел уже третий день. Представить себе не мог, как можно съесть хоть что-то в этом городе, где она настолько голодала. Родион знал: дотронься он до еды, тут же почувствует на губах вкус ее тела. Но не сладостный вкус, что дарили страстные поцелуи, когда он, словно истомленный жаждой путник, стремился зачерпнуть ртом побольше живительной воды ее нежной кожи. Нет, другой вкус, измученного, запытанного, мертвого тела.
Ведь Она, та, кто нежно обнимала его, та, что шептала ему самые ласковые на свете слова, та, которая преданно, исступлённо ждала его, наперед прощая все грехи, она пошла кому-то на жратву. Этой ночью ему приснилось, как какой-то седовласый старец сидит за столом, держа нож и вилку над тарелкой, где уже разрезана ее улыбка. И этот старец хочет съесть еще секунду назад дышавшую улыбку, съесть как особый деликатес, как какую-нибудь живую устрицу.

Родион не ел третий день. В глазах рябило, дома шатались, как пьяные.
У одного из коней на Аничковом мосту остановился мужчина, ведущий за руку девочку. Родион замедлил шаг.
— Вот! — восторженно воскликнул мужчина, — видишь? Опять кони скачут. Снова их не удержать. Теперь на этом мосту все, как раньше. А их ведь целых три года под землей держали. Спрятали, чтобы фашисты не попортили. И, видишь, уцелели! Опять как живые! Правда, здорово?
— В земле? — спросила девочка.
— Да, в земле. И, представляешь, в саду Дворца пионеров, куда ты ходила до войны, пока нас не эвакуировали.
— А с мамой нельзя так? — глаза девочки стали очень грустными.
— Как? — не понял папа.
— Ну, чтобы она тоже полежала в земле, как эти кони, а потом все опять было бы как раньше.
— Нет, с мамой так нельзя, — угрюмо ответил ей отец.
— Я лучше хочу, чтобы мама вернулась, а не эти кони, пусть бы они и лежали дальше в земле. Почему им можно оживать, а маме — нельзя?
— Пойдем, пойдем, нам пора, — уже тянул за руку отец свою дочь, подальше от скульптур, на которые восторженно показывал ей еще несколько минут назад.
54
— Нет! — встала у двери Алла Леонидовна, закрывая выход из комнаты, — я не пущу тебя никуда. Ночь уже.
— Пусти, — потребовал Лев.
— Вчера только сама слышала. Муж с женой домой из кино возвращались. Налетели трое, с ног до головы ограбили, все обобрали, жену чуть ли не голой посреди улицы оставили. Это вечером-то, когда еще люди ходят. А сейчас ночь уже почти.
— Ты, что, думаешь меня, всю войну прошедшего, какой-то швалью бандитской запугать? — недобро посмотрел на нее Лев.
— Прости, — тут же смутилась мать, — не то я хотела сказать. Но не надо тебе идти никуда. И так ясно уже, что не пара она тебе. У них, актрис этих, жизнь такая, разгульная. А тебе семья нормальная нужна, достойная, без канканов всяких.
— С ней, может, случилось что, а я здесь сиднем сидеть буду?!
— Да ничего с ней не случилось, — стала суетливо заверять Алла Леонидовна сына, — вот увидишь, развлекается она с кем-то другим. Ты слишком хорош для нее. Может, нашла себе кого поскромнее.
— Мы с ней жениться скоро должны. И ты хочешь сказать, что она могла вот так… С кем-то… И мне ни слова… Я ее вечером прождал два часа. Билеты в кино пропали. Хотел сюрприз сделать. Трофейный фильм. «Девушка моей мечты». К телефону она не подходит. Дверь не открывает. С ней случилось что-то. В милицию надо сообщить.
— Да какая милиция? У милиции сейчас и без того работы хватает! Вот увидишь, завтра, все, как ни в чем не бывало, будет. Только ты сам подумай, нужна ли тебе такая, которая дома не ночует.
— Хватит! — зло воскликнул Лев и, крепко схватив материнскую руку, отстранил мать от двери, — ни слова не говори мне больше!
— Левушка! — вслед ему молитвенно крикнула мать, но он не обернулся.
— Нет, нет, — сам себя убеждал Лев, — она не могла… она не такая. Нет. Чтобы вот так… ничего не сказав… зная… что жду… нет… с ней случилось что-то… что-то страшное… надо искать ее знакомых… идти в театр… в милицию… но только не сидеть, сложа руки.
— Эй! — окликнул его чей-то голос.
Лев обернулся. Увидел троих. У одного из них сверкнула в недоброй улыбке золотая коронка.
— Гулять-то не поздно? Да еще одному? Или барышни подходящей не нашлось для компании?
Лев разглядел остановивших его. Какая-то шпана малолетняя.
— А вы-то чего так поздно здесь делаете? — усмехнулся он, — или вас мамочка по кроваткам еще спатеньки не уложила?
— Смелый? — осклабился тот, что был с фиксой, модной у бандитствующей шпаны золотой коронкой на верхнем переднем зубе, — воевал, наверное?
— Да вы что себе позволяете?! — вспыхнул Лев, — недоростки малолетние! Я не только воевал, я и медаль имею.
— Медаль? Повезло тебе. А вот моему отцу никакой медали не дали. Матери только похоронку прислали, не жди, мол, не надейся. А у нее семь голодных ртов на шее. Пока ты тут медалькой своей бряцаешь, другие в земле лежат.
— И не стыдно, сопляк? — воскликнул Лев, — я же за тебя, стервец такой, воевал!
— Ты там за себя воевал. Чтобы медаль свою получить.
— Да таких, как вы, давить надо, как тараканов! — брезгливо плюнул в лицо наглецу Лев, — Мы за новую жизнь воевали. И отец твой тоже. А в новой жизни такого дерьма, как вы, быть не должно.
— Посмотрим еще, кого из нас в ней не будет.
Уже упавший на землю Лев в последние секунды перед смертью увидел не расцвеченное звездами небо, а подошву сапога, которым растирали его глаза, словно это были и не глаза вовсе, где еще теплилась жизнь, а дотлевающий окурок, который нужно было затушить.
55
Не всегда люди, ложась в одну постель, перестают быть друг другу чужими. Не голое тело, не откровение наготы, доверенное чужим глазам и устам, соединяет души особой родственной связью, дарованной не кровными узами рождения, а особой волей небес.
Яков еще не ведал вкуса Лилиных губ, не случилось между ними ни одного поцелуя. Но уже сказаны были какие-то особенные слова, которые сблизили, породнили их. Якову уже трудно было поверить в то, что он познакомился с Лилей совсем недавно. Казалось, все, что он прожил в своей жизни, было изведано и разделено вместе с ней. Никогда прежде Яков не чувствовал ни к кому такого доверия. И он заговорил с ней о Родионе, о котором ни с кем другим не сказал бы ни слова.
— Нам с ним возвращаться скоро обратно в Москву. Но он не желает. Он остаться хочет.
— Сейчас город восстанавливается. Здесь, наверное, можно будет жить. И то, что было, уже не повторится. Не может быть, чтобы такое хоть однажды еще повторилось.
— Он сюда не переехать собрался. Он себя казнит. У него здесь девушка была. Ее больше нет. А он виноватым себя чувствует. Он и не ест, кажется, ничего, уже не знаю сколько времени.
— Я понимаю. Но мне тоже очень многое увидеть довелось. Иное вспомнишь, и завыть хочется. Но ведь надо как-то жить дальше. Жить, радоваться, любить.
— Знаешь, мне кажется, я не увижу больше никогда, как он улыбается. Мы же на фронте с ним вместе. И он, когда смерть совсем рядом с ним была, шутить умел. Не боялся ничего. А теперь… И ведь мы здесь не просто так. Нас в Москве ждут с большим материалом. Мы красочно, с восторгом, с пафосом, должны живописать, как здесь теперь все здорово. И так написать, чтобы все ужасы блокадные в тень ушли. До того ли ему сейчас!
— А ты тоже будешь это через силу писать? Только по заданию редакции? Ты тоже ничего хорошего в этом городе не видишь?
— Для меня это теперь лучший город на свете. Я о нем без восторга ни думать, ни писать, ни говорить не могу. Ведь если бы не этот город, мы бы с тобой так никогда бы и не встретились.
— Спасибо, — сказала она, — спасибо тебе.
56
Сильно жгло лицо, расцарапанное старческими когтями. Алла Леонидовна застала Веру врасплох, караулила ее у двери. Она кричала, что Вера — убийца ее сына, плевала ей в лицо.
— Сдохнешь, проблядь! Из-за тебя все! Из-за тебя сыночка мой в земле лежит. Он тебя, шалаву, искать пошел. А ты в это время где была? Кувыркалась с кем-то? Сдохнешь, сдохнешь, — как заклятие шептала мать ненавистной женщине.
Стыд от пережитого унижения, чувство вины перед тем, кто любил ее, и о ком она забыла, неловкость при мысли о том, как же она выйдет теперь на сцену, с таким расцарапанным лицом, томительное желание почувствовать себя защищенной, неодинокой, все это заставило уже давно сидевшую в нерешительности у телефона Веру все-таки набрать номер Антона.
— Здравствуй, — еле слышно произнесла она, и это «здравствуй» прозвучало как мольба, как прощание.
— Ты не спишь еще? — сонным голосом произнес Антон, — поздно уже.
И вдруг Вера не выдержала, разрыдалась в трубку.
— Она мне столько всего наговорила. Она мне все лицо исцарапала. Она убить меня хочет. Я не могу так. Мне страшно. Я прошу тебя, сделай что-нибудь.
— Приезжай, — твердым голосом сказал он.
— Как? Сейчас? — удивилась Вера.
— Я пришлю за тобой машину. Только возьми себя в руки.
Счастливая Вера ждала теплого тела, надежных рук, вкусного вина, но ничего этого не было.
— Проходи, — сухо сказал он ей, — садись.
— Куда садиться?
— Да куда хочешь! — раздраженно ответил Антон, — что мы, стоя, разговаривать будем? Итак, давай, договоримся сразу. Во-первых, никогда больше не звони мне по ночам. Я рано ложусь, и потом, я могу быть не один.
— Как «не один»?! С кем? — залепетала Вера, — с кем «не один»? Ты хочешь сказать, что…
— Во-вторых, ты женщина умная. Все поймешь. Странно только, что до сих пор еще не поняла. Да, мне с тобой было хорошо, но на этом все. Два раза одну кашу не съешь.
— Какую кашу? Ты хочешь сказать, что я каша?
— В третьих, никогда не плачь при мне. Мне это в тягость.
— Зачем ты так со мной? Зачем ты сказал мне, чтобы я приехала?
— Потому что не хочу, чтобы тебя сгноили. Ты должна себя в руках держать. Ты о моих спектаклях что-то слышала? Рецензии читала? А меня на такое место назначили. Да, я в театре человек не новый. Много знаю. Но я здесь не просто так. Весь ваш театр под подозрением. Мало ли кто убеждения вашего прежнего главрежа разделял. Не спектакль гениальный поставить для меня главное. Меня назначили, чтоб я никаких вредительств не допустил. Вот в тебе я уверен. А в остальных нет. Роли у тебя будут. Главных не обещаю. Но и в эпизодах прозябать не станешь. Я же знаю, что для тебя это самое важное. Так что здесь ты не просчиталась. Ты даже еще больше выиграть можешь. Я ведь вижу, как ты в театре этом всех ненавидишь. Они ведь затирали тебя, смеялись над тобой, да? А мне надежные глаза и уши нужны. При мне они слова крамольного не скажут. Но ты за ними присмотришь. Все увидишь, все услышишь, и все мне донесешь. Каждое их слово, жест каждый. Даже то, что тебе неважным кажется. Я картинку сам выстрою. Главное за каждым их шагом следи, ничего не упускай. Договорились? Ну, вот и умница. Я в тебе не ошибся. Тебя сейчас отвезут обратно. И не ложись спать так поздно. Для актрисы важно хорошо выглядеть.
— А мне нельзя остаться здесь? — спросила она, — До утра? Только сегодня?
— Нет, остаться тебе нельзя. Иди. Машина ждет. Да, мой шофер — человек несемейный. Хочешь, пригласи его к себе. Он только рад будет. А мне машина до утра не понадобится.
Вера, шатаясь, вышла. Есть ли для женщины что страшнее того, когда желанный мужчина добровольно отдает ее другому?
57
Юрий чувствовал, что война не кончилась, что теперь его враг — Агния. И враг куда более опасный, изощренный, лукавый, чем те, с кем он еще недавно воевал на фронте. Живот когда-то любимой женщины выпирал, словно дуло вражеского танка. Смерть, что давеча каждый день ходила по пятам, обратилась в невинную шалунью, беззлобную тень. Теперь он со страхом ждал не своей смерти, а чужой жизни.
Появление дитеныша, втихомолку нажитого Агнией от ушлого соседа, было куда страшнее залпа вражеских орудий, предвещая вместо вечного гробового покоя долгое мучительное существование, когда надо воспитывать чужого ублюдка, тратиться на него, растить свой прилюдный позор.
Со смертью Льва растаяли всяческие надежды добиться от него правды. Сегодня были его похороны. Юрий напряженно ждал, когда Агния скажет ему, что хочет пойти проститься с соседом. Он знал, как тяжело ей скрывать свое внезапное несчастье, как больно фальшиво улыбаться, скорбя об убитом любовнике.
Юрий не мог думать ни о чем, кроме него. Даже когда Агния взяла для готовки обыкновенную чугунную сковородку, он тут же вспомнил, что на фронте многие летчики-истребители вот точно такую же сковороду брали с собой в полет, подкладывая под себя, и только наиболее гордые отказывались от этой курьезной меры предосторожности. Отчего-то сейчас казалось необходимым знать, брал ли с собой в небо чугунную сковороду Лев, или нет, как будто от этого знания зависело что-то очень важное в жизни.
Уже близился вечер, а Агния так и не попросила дозволения пойти на похороны Льва. Юрий был в замешательстве. Неужели она настолько любила его, что и сейчас больше всего боится выдать их тайну, как будто Юрий способен расквитаться с обидчиком и на том свете.
— Льва сегодня хоронят, — он был уверен, что обескуражит Агнию, заговорив о ее любовнике, и она смутится, запутается, не сможет лгать так искусно, как раньше.
— Да, я знаю, — тихо сказала Агния, и Юрий усмехнулся, потому что при этом она не смотрела ему в глаза.
Ему хотелось схватить ее одной рукой за волосы, а другой насильно открыть ее зрачки, чтобы она не прятала в своих глазах ложь. И в эти минуты его ущербность, однорукость, искалеченность, ощущались особенно мучительно. Он был бессилен перед ней, перед ложью ее. Агния осталась абсолютно спокойной даже когда он спросил, не хочет ли она пойти на похороны.
— Сосед все-таки, — усмехнулся Юрий.
— Ну, мы с ним никогда особо не ладили, — сказала в ответ Агния абсолютно равнодушным голосом, как будто ей и правда не было никакого дела до погибшего любовника, — любого человека жалко. Тем более такая нелепая смерть. Всю войну прошел, а тут… Но я сейчас ни о чем другом не могу думать, как только о нашем с тобой ребенке.
Юрий осклабился. Как же виртуозно она играет! С каким чудовищем, с каким воплощенным в земную жизнь олицетворением лжи он сейчас стоит рядом. И когда она начала ему изменять? Может быть, Лев не был первым? Может, у нее и сейчас есть еще кто-то?
— Что ты делаешь? — воскликнул Юрий.
— Что с тобой? — растерялась Агния.
— Ты лук взяла? — злорадно спросил он.
— Да, для обеда. А что здесь такого?
— И теперь ты его чистить будешь?! — торжественно воскликнул Юрий.
— А что же мне с ним делать-то еще?
— Ты ведь не просто этот лук взяла. Не для вкусного обеда! Тебя слезы душат, только ты показать их мне боишься. При обманутом муже по любовнику убиваться стыдно. Или страшно, скорее. Вот ты и решила луком прикрыться, чтоб волю слезам своим дать. Спрос маленький. Плачь себе сколько угодно по любовнику, а лук все спишет, мол, просто глаза слезятся. Хитрая ты, сука.
И тогда Агния зарыдала в голос, от обиды, от несправедливых упреков, от нелепости этих предположений, от страха за своего будущего ребенка, который, казалось, тоже слышал сейчас эти гнусные слова.
— Ну, плачь, плачь, — стоял над зарывшейся в свои руки женой, Юрий, — прорвало наконец. Конечно, как по любовничку своему не плакать, как ни убиваться.
— Замолчи, — хотела крикнуть Агния, но у нее уже не было никаких сил даже для того чтобы произнести это хотя бы шепотом.
58
Изможденный Родион в своих нервных, бесцельных блужданиях по проклятому городу еле передвигал ноги от голода и усталости, но благодарно принимал это как милость, как единственную возможность хоть немного заглушить невыносимое чувство вины. Любая, даже мимолетная радость, не говоря об удобстве и комфорте, казались настоящим предательством по отношению к Элле.
Сейчас Родион чувствовал свою вину перед ней даже за неяркий свет зимнего солнца, что светил ему не в пример безысходной темноты ее гроба. И когда сильно закололо сердце, рука его радостно нырнула к груди, ловя эту боль, словно волшебную золотую рыбку, которой подвластно исполнить главное его желание, — чтобы все наконец закончилось.
Но хотелось какого-то прощального жеста, гордого кивка этому глупому подлому миру. И Родион вспомнил о том, кто жил теперь в Эллиной квартире. Лицо этого человека сейчас показалось ему отвратительным. Просторная квартира в шатком сознании Родиона уменьшилась до размеров бумажника, что нагло крадут в трамвае бездушные воры.
Родион ведь тогда, разбив очки, беспомощно не видел лица нового хозяина Эллиной квартиры, но сейчас лицо это отчетливо всплывало в памяти, которой пришло на помощь злое воображение. Неприятное, отталкивающее, холеное, лицо. И Родиону было жутко оттого, что человек с такой гадкой физиономией, будет жить там, где он был когда-то счастлив с любимой женщиной.
Ноги Родиона уже вели его к тому дому, сейчас он плюнет в ненавистную рожу, ударит по клокочущей самодовольством, физиономии, так ударит, что кровь брызнет. Родион почувствовал какую-то пустоту в своих кулаках, но ничего, он еще найдет в себе силы. Хоть кому-то он должен отомстить за смерть Эллы.
Дверь никто не открывал. Пальцы, жмущие и жмущие кнопку звонка, как будто проваливались в какую-то бездну. Дверной звонок, слышный через дверь, звучал трелью адских птиц.
Родион решил прийти позже. На мгновение он даже подумал съесть хоть что-то, чтобы удар его был сильнее, но тут же отринул от себя эту мысль.
Шумная, пестрая, бойкая, неуправляемая толпа мальчишек рвалась к билетным кассам кинотеатра. Шел фильм «Маленький погонщик слонов», в котором играл тот же самый юный актер, что и в знаменитом, всеми любимом «Багдадском воре». Многие мальчишки пытались пролезть без очереди, боясь, что им не хватит билетов.
— Стоять! — рявкнул один из милиционеров, что были поставлены здесь для предотвращения беспорядков.
Вдобавок к окрику милиционер смахнул шапку с одного из пацанов, наступив на нее ногой, без шапки-то он не будет так вперед лезть.
— Дяденька! — жалобно протянул мальчишка.
— Подними шапку, — сказал оказавшийся нечаянно поблизости Родион.
Милиционер смерил его настороженным взглядом.
— Ты кто такой?
— Подними шапку, — повторил Родион.
— Документы предъяви, — потребовал милиционер, в то время как несколько юрких мальчишек успели пролезть без очереди.
— Вот тебе мои документы! — воскликнул Родион, и со всей силы ударил милиционера.
Ему казалось уже, что его физиономия и есть та самая гадкая, холеная рожа, что жила теперь в квартире его любимой женщины. Кровь брызнула на снег. Но это уже была кровь самого Родиона, которому дюжие милиционеры, заламывая руки, успели несколько раз съездить по лицу.
В глаза, прежде чем слетели очки, впилось последнее увиденное слово. Это были тяжелые буквы названия кинотеатра. «Родина».
59
Я видела вчера, как мать тащит за руку своего ребенка. Он очень устал, изможден, не может идти. Но фонтаном вздымается земля и щебень. Свистят вражеские снаряды. Нас бомбят. Я читала в детстве былину о Соловье-Разбойнике, от свиста которого гибли люди, Теперь я знаю, как звучит этот свист. Люди бросаются врассыпную, а та женщина тащит своего крохотного ребенка. Она бежит куда-то, домой, в бомбоубежище, я не знаю. Но вижу, что она готова оторвать руку своему сыну. Он плачет от боли.
— Быстрее! — кричит она.
— Мамочка! — плачет мальчик, — пожалуйста, подожди. Давай ляжем, фашисты подумают, что уже нас убили, и не станут больше стрелять.
Мать смотрит на сына с ненавистью. Он еще совсем маленький, но у нее нет сил взять его на руки.
— Пойдем, — шепчет она, и мне кажется, она сейчас задушит его.
Я иду по Невскому, вернее по улице 25 октября, как он теперь называется. Мне кажется, что Аничков мост, оставшийся без своих конных скульптур, похож на страшный, беззубый рот. Рот человека, который боится улыбнуться, чтобы никого не напугать. Я забыла, когда в последний раз видела, как улыбаются в этом городе. Хотя нет. Месяц назад. Я видела, как улыбалась Ира. Ее муж погиб на фронте, а дочь умерла. Но она улыбалась. Улыбалась, рассказывая мне о горшке с филандрендроном. Она была счастлива, что сумела спасти его. Она в упоении рассказывала мне, как пересадила погибавший цветок в кадку с хорошей землей, как поставила его в светлое помещение.
— Я не думала, что он выживет, — Ира была готова заплакать от счастья, — у него листочки были уже такие маленькие, ствол искривился, а сейчас любо-дорого посмотреть! Пойдем, я тебе покажу.
Ира очень хотела, чтобы я своими глазами увидела спасенный ею цветок. Она была счастлива оттого, что у нее хоть кто-то остался живой. Пусть не люди, но хотя бы цветы. И я думала о ее муже, погибшем на фронте, о дочери умершей от истощения. Я не пошла домой к ней.
Счастье в этом городе стало очень странным. Но завтра я тоже буду счастлива. Ведь у меня еще есть Ты. Завтра твой день рождения, и мы обязательно окажемся сильнее всех на свете, сильнее голода и разлуки, и даже сильнее войны. Я знаю, что завтра, где бы ты ни оказался, ты будешь со мной. Мы будем вместе. Вдвоем.
Я копила три месяца, чтобы отпраздновать этот день. Завтра я куплю что-нибудь к праздничному столу. Он будет праздничный. Вина и конфет не обещаю, но завтра наш стол все равно будет праздничным, пусть и не таким, как в мирное время. Я хочу, чтобы ты чувствовал, как я старалась для тебя. Завтра мы будем вдвоем.
60
Многих перевидал на допросах следователь Рыдлевский.
Одни готовы были лобызать его руки. И, глядя в их глаза, Рыдлевский думал, что реши он завести собаку, то ни у одной, самой преданной псины, не найдет такого покорного взгляда. Другие, даже пройдя через предварительное заключение, хлебнув тюремного лиха, казалось, не понимали, где находятся, и входили к нему будто на рынок, заключить удачную сделку. Только вместо денег здесь были в обращении многочисленные жизни друзей и знакомых, на которые новоявленные дельцы хотели выручить себе свободу. Были и те, кто вздрагивал от каждого его слова. Тут об особых методах воздействия на допросах и не думалось. Достаточно было просто чуть повысить голос.
Встречались и гордые, готовые биться до последнего, презирающие его и доказывающие, что их арест страшная ошибка, за которую и он тоже скоро сурово поплатится. Но впервые Рыдлевский увидел на допросе счастливого человека. Глаза его блаженно закатились, на губах была улыбка, которая, казалось, благодарила весь мир.
— Улыбаетесь? — зло спросил следователь.
Ему хотелось стереть эту раздражающую его улыбку с чужого лица, словно жирное пятно со стола. Улыбка эта могла значить только одно: значит, он торжествует победу, он их обманул, опередил. А террористический акт, за попытку подготовки которого арестовали этого скользкого московского литератора, все же свершится.
— Мне кажется, я умру скоро, — сказал Родион, — поэтому и улыбаюсь.
— Что значит «вы умрете»? — встрепенулся Рыдлевский, — вы умрете только, когда мы этого захотим.
Счастливая улыбка так и не сходила с лица допрашиваемого.
— Итак, — нервно сказал Рыдлевский, давно привыкший ко всему, что угодно, но только не к счастливым лицам, — давайте к делу. Вы признаете, что вами совершено преступное нападение на представителей органов правопорядка?
— Да они мальчишку обидели. А он просто хотел кино посмотреть. Ну, лез без очереди. Зачем измываться-то…
— Показания этого «мальчишки», как вы его изволили назвать, тоже приобщены к делу. Он подтверждает факт вашего преступного нападения. Он даже слышал, как вы сказали, что собираетесь взорвать этот кинотеатр. Скажите, ведь вы выбрали кинотеатр «Родина» не случайно? Из-за названия? Вы хотели придать своему террористическому акту особый символизм?
— Его били? — спросил Родион.
— Кого? — почему-то не сразу понял следователь.
— Мальчишку, который дал показания против меня.
— Зачем же его бить?! — возмутился Рыдлевский, — он, хоть и юный, но уже сознательный. Не чета вам. А вы… Почему у вас собственная Родина вызывает такое слепое чувство озлобления? За что вы ей мстите? Или вас завербовали? Вы считаете, что война еще не закончилась? Хотите, со своей фашиствующей кликой, взять реванш? Что вы молчите?! Вы все равно отсюда не выйдете, пока не дадите мне четкий ответ хотя бы на два самых существенных вопроса. Как именно вы хотели осуществить террористический акт? Где хранится оружие или взрывчатое вещество? И еще. Вы приехали сюда не один. Какова степень вовлеченности в ваши преступные намерения вашего знакомого, Якова? Ты не отмолчишься здесь у меня! Эй! Что с вами?! Эй! Хватит здесь симулировать!
Слова следователя доносились уже откуда-то издалека. Мир исчезал. Сильно кружилась голова, рябило в глазах, кололо сердце. Готовое выпрыгнуть в какое-то другое мироздание, словно в открытое окно, сознание, в последние секунды замерло на самом краю. Угасающая реальность тлела остывающими огоньками.
Затем Родион отчетливо, зримо увидел комнату Эллы. Она сидела за столом, опустив голову. Стол был накрыт праздничной скатертью. А потом она почувствовала, что Он где-то рядом, подняла глаза, и, увидев, вскочила, бросилась на встречу.
— Ты пришел, — шептала она, — я знала, что ты придешь.
Следователь тряс его за плечи. Потом он несколько раз ударил по лицу уже мертвого Родиона, только бы исчезла с его лица эта проклятая, счастливая улыбка. Но она никак не исчезала.
61
Яков не думал, что будет прощаться с Лилией так спешно, нервно, суетливо.
— Я хотела как-то договориться, чтоб меня взяли на твой поезд, — сказала она, — опять была бы твоей проводницей.
Он сжал ее руку так, как сжимают искренне верующие крестик на собственной шее во время самых отчаянных молитв, поднося его к губам.
— Ты прямо как принцессе руки мне целуешь, — улыбнулась Лилия.
И Яков знал, что должен сказать ей что-то очень важное, нужное, что она ждет особенных слов, но не мог найти их. Боясь расстаться с Лилей, он в то же время торопил поезд, в страхе не успеть. Только в Москве он мог что-то сделать для Родиона. Здесь он никого не знал, тут все были чужие.
— А провожать, оказывается, так грустно, — сказала Лилия, — я никого раньше не провожала. Ты первый, — она произнесла это таким доверительным голосом, с каким девушка сообщает любимому, что он будет первым ее мужчиной.
Шумный перрон заменил им чистую постель, а взамен сладострастных ласк достались им тяжелые поцелуи прощания. Но в этой спешной разлуке, одинаково больной им обоим, они как будто познали друг друга, переплелись телами и душами, стали единым целым, обреченно ждущим казни. Ведь теперь расставаться значило уже не прощаться, а распадаться на атомы, исчезать.
В поезде он поспешил лечь спать, к огорчению соседей по купе, настойчиво звавших его сыграть с ними в карты.
Сон долго не шел к нему. Яков думал о том, что в Москве от него ждут восторженную статью о подвигах блокадного Ленинграда. Перед глазами так и стояло, искаженное болью, лицо женщины-продавца, что в блокаду работала в большом книжном магазине. Договорившись с ней о встрече, Яков хотел потом обязательно написать в своем очерке, что и в самые тяжелые дни люди продолжали читать книги.
— Помогите, — встретила его жалобной просьбой эта женщина. И в голосе ее было столько боли, что Яков подумал, что ей стало плохо, — я знаю, вы из Москвы приехали. Вам там легче до кого-то достучаться. Здесь у меня надежды нет. Знакомая моя, подруга можно сказать… Она теперь вместе с мужем высоко поднялась. Он чиновник уже. Захотят и вовсе меня, как клопа, раздавят. А вы… Может, у вас получится. Ведь должна быть на свете какая-то справедливость. Таня в блокаду… не в пример другим жила. Я ей благодарна была за то, что она вообще со мной знается. Это в школе мы за одной партой сидели. Теперь я за прилавком книжным стою. А она сама в начальниках. Еще я ей очень благодарна была за то, что к дочери моей ласково отнеслась. С любовью прямо, у нее своих-то детей, с мужем не было. Так моя Людочка ей как родная дочь прямо. Самой-то мне стыдно было к ним приходить, а вот Людочку я все время с каким-нибудь поручением посылала. Всегда надеялась, что хоть что-то ей перепадет, угостят чем-нибудь. И вот, когда совсем голодные, страшные времена настали, только и была у меня одна надежда. Послала я доченьку с поручением, а она еще в тот день такая усталая, замерзшая была. Идти не хотела. А я ее насильно послала. Очень надеялась, что хоть крохотный кусочек хлеба ей достанется. О чуде молила. Только на этот раз обратно она не пришла. Татьяна сказала, что она в этот день вообще к ним не приходила. Людочку потом не только я, но и милиция не нашла. И Татьяна вместе со мной убивалась, словно по дочери родной. Но все говорила мне, чтобы я надежды не теряла. А недавно я в гостях у нее была. Долго очень не приходила. А тут пришла. Я нервничала очень, когда о Людочке вспомнила, чай пролила. А Татьяна тряпку принесла со стола вытереть. Белые цветочки на тряпке. Я узнала их. Ошибиться не могла. Я поняла, из чего эта тряпка сделана. Из платьица детского. Это то самое платьице, в котором Людочка последний раз из дома вышла, они на тряпки разорвали. Поняла я тогда, что с мой дочерью стало. И еще поняла, почему в блокаду с мужем своим они сыто жили. Не потому что чиновники. Убийцы они. Изверги. Звери лютые. Я ей в глотку вцепилась. А она меня сумасшедшей объявила. Они меня скоро засадят. Или вовсе убьют. Но вы… на вас только надежда. Доченька моя… Родненькая. Она же так идти не хотела. Чувствовала как будто. А я сама ее, сама на смерть послала. Они говорят, что я сумасшедшая. Но я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Помогите мне. Я прошу вас.
Глаза ее были безумны. Но Яков знал, что если она и вправду сошла с ума, то он не вправе судить ее. Он думал, что если по этому городу теперь будут бродить толпы сумасшедших, то, что бы они ни делали, каждый из них заслужил право быть прощенным за свое безумие.
62
Когда Игорь Пряхин впервые опоздал на репетицию, Вере вначале показалось, что он пьян. Он сбивался, путался в тексте роли, которую вчера еще знал наизусть до каждого слова. Но потом Вера поняла, что он трезв. Дело было в чем-то другом. Что-то невыносимо мучило его, не давало собраться, рассеивало внимание. Глядя на него, невозможно было представить, что Игорь опытный актер, не раз блиставший на сцене, пусть и не в главных ролях.
Он был одним из тех очень немногих в театре, в ком Вера никогда не видела врага. Игорь всегда находился в стороне от всевозможных интриг, сплетен и склок. Тем загадочнее было его сегодняшнее состояние, к которому, как уже поняла Вера, алкоголь не имеет никакого отношения. Игорь стал неловок, неуклюж, он шатался так, будто его не держали ноги, и несколько раз задел декорации. После репетиций Вера, движимая сочувствием, в котором любопытства, впрочем, было куда больше, чем сострадания, дождалась Игоря у выхода из театра, и будто бы нечаянно столкнулась с ним по пути домой. Он вначале упорно молчал, а потом вдруг не выдержал и стал доверительно шептать ей:
— У меня такое несчастье… такое несчастье. Я даже не могу никому сказать. Меня арестуют.
— Не волнуйся так, — твердо сказала Вера, — может быть, все не настолько страшно?
— Страшно. Страшно. Но я не хочу говорить об этом здесь, на улице. Услышат.
— Да что с тобой? — участливо спросила Вера, — кажется, и температура уже поднялась.
— Да какая теперь разница, если время такое, — отмахнулся Игорь, — меня все равно арестуют. Арестуют меня.
— За что? — Вера уже чувствовала свою власть над этим, доверившимся, ей, человеком. Было в этом ощущении что-то упоительное. И для полноты этого ощущения ей не терпелось узнать его тайну, которой она сможет распорядиться как захочет.
— Хоть малиновое варенье есть у тебя? — спросила она, когда они зашли к нему в дом, — согреет.
— Да нет у меня никакого варенья, — раздраженно буркнул Игорь, — и очень хорошо, что семьи у меня тоже нет. Время такое. Я знаю, меня видели, меня найдут. Меня арестуют. Неслучайно все. Сейчас никому ничего не прощают. Время такое. Они подумают, что я тоже враг. Такое не простят.
— Да что случилось-то? — Вера уже начинала раздражаться.
— Я шел… Просто весь в роли был. Внутри себя репетировал. И… там… там немцы.
— Где? Какие немцы? — насторожилась Вера.
— Ну, пленные немцы. На работах. Мост строят.
— И что?
— Ну, я машинально… просто машинально… я мимо просто проходил….случайно… они спросили что-то… закурить… я уже не помню, что… А я руку пожал. Случайно, машинально, руку пожал. Немцу пленному руку пожал! На глазах у всех! Это все видели. Ну, там, меня сразу, конечно, взглядами, как кипятком облили. Это не может теперь просто так рассосаться. Наверняка уже выясняют, кто я, где… Время такое. Меня теперь в лагеря пошлют. Но я же не специально. Я просто задумался. Какой же я дурак!
Вера думала, что, если она сообщит об этом инциденте Антону, то он наверняка заинтересуются рассеянным актером. Попросит ее внимательнее следить за ним. Но ей не хотелось, чтобы он узнал о том, что произошло. Слишком мало было в театре тех, с кем не надо было биться за роли. Тех, за чьими улыбками ей не виделся явственно зловещий оскал.
Игорь благодарно думал, что Вера сочувствует его горю. Но сейчас Вера грустила только оттого, что этот случай вышел именно с Игорем, а не с кем-нибудь другим из их театра. Это было бы большой удачей. Уже столько дней она старательно выжидала каких-то оговорок, намеков, случайных откровенностей, но никто ни слова не говорил против власти, не сочувствовал арестованному режиссеру. Вера боялась, что они опасаются ее, и не говорят ничего именно в ее присутствии. Может быть, они уже давно догадались, что она хищнически охотится за теми их словами, которые будут стоить им свободы.
63
— Хватит! Хватит! — воскликнул редактор, и вслед своим возгласам несколько раз горячо ударил ладонью по столу, как будто вылетевшие из его рта слова были большими жирными мухами, приютившимися на твердой поверхности, и которых он ожесточенно прихлопнул.
— Ты не понимаешь?! — он смотрел на Якова, как на опасного безумца. А тому казалось уже, что пот, выступивший на лбу редактора, шипит, как масло на горячей сковородке.
— Ты вот Фадеева не видел на последнем собрании в издательстве! На полчаса собрание задержали, потому что он опоздал. Мы все уже поняли, конечно, что случилось что-то. И вдруг он вбегает, весь красный, злой до невозможности. Я его никогда таким не видел. Только вбежал, и сразу к президиуму. На всех нас, как на врагов смотрит. «Черт знает что такое происходит!», — закричал, и книжку из портфеля достал, что у нас в «Советском писателе» вышла. Жабу так в руках не держат, как он эту книгу держал. Он всех нас чуть ли не классовыми врагами объявил, диверсантами. Сказал еще неужели мы думаем, что если война закончилась, то теперь можно и на печи лежать?! Жизнь строить надо, а мы льем воду на мельницу врага. Весь красный был. На меня так только отец в детстве кричал. Очень уж он испугался. И нас своим страхом как обухом по голове. Сказал, что выпуск такой книги в свет сродни государственному преступлению. А знаешь, из-за чего такой сыр-бор разгорелся? Из-за «Двенадцати стульев». Читал ведь, наверное? Веселая вроде книжка. Остап Бендер, Киса Воробьянинов… Приключения. И вроде старый свет там хорошо высмеян. Все эти монархические ужимки. Однако, у нас у всех из-за этой книжки головы могли полететь. Потому что там пародия на жизнь, и роль рабочего класса в истории совсем не показана. Да и кто главный, можно сказать, положительный герой?! Жулик, проходимец! Это, значит, получается, авантюриста наше время в новые герои выдвинуло?! И авторы-то вроде идейные. Петров вон и вовсе военным корреспондентом погиб. Хорошие репортажи делал. Патриотичные. Но один умер, другой погиб, с авторов теперь не спросят, зато с нас сто шкур сдерут. Это из-за книжки, вроде безобидной. Такой сыр-бор. И авторов, заметь, упрекнуть не в чем. Биография у них чистая. Сейчас обстановка очень напряженная, пойми ты наконец! Расслабляться нельзя! Может, враг затаился, и тем скоро воспользуется, что мы все бдительность потеряли, свою победу празднуя. Вспомни, тогда, в 41-м тоже никто нападения не ожидал. Мы спиной к миру поворачиваться не должны, а то опять нож всадят. Как ты сам-то не понимаешь?! Чего ты у меня просишь?! Ты биографию своего друга знаешь?! Я вообще удивляюсь теперь, как его раньше не взяли. Я тысячу раз себя проклял за то, что ему доверился. Теперь такая тень на мне. Не надо мне было ему доверять, надеяться, что он перековался. На талант его купился. Дурак! Что у нас, талантов, что ли, мало?! А ты тоже хорош! Совсем обезумел, за друга своего заступаться после того, что он там, в Ленинграде, учинил. И не надо мне ничего говорить! Это провокатор. Тебе теперь ниже воды, тише травы сидеть надо, потому что к тебе ниточки тянутся. Не отмоешься потом. Честно скажу, я и за тебя заступаться не буду. У меня семья, дети.
— Вы теперь потребуете, чтобы Родиона и в авторах не указывали? — с вызовом спросил Яков.
— Каких авторов? — даже растерялся от этого вопроса редактор.
— Ну, вы же нас для чего в Ленинград посылали?! — воскликнул Яков.
— Забудь! — тут же стал заклинать его редактор, — какой материал, о чем ты?! Никакого материала не будет. Указание сверху дали. К теме блокады сейчас лишнее внимание не привлекать. Если и Остап Бендер этот, будь он неладен, теперь под запретом, то блокадная тема и вовсе минное поле. Я толком не знаю, как самому из всего этого выпутаться. Это же надо таким близоруким оказаться! Кому я такой материал доверил?! Антисоветчику. Провокатору.
— Это ошибка. Ошибка, — повторил Яков, — Родион ни в чем не виноват.
— А ты уверен, что он ни в чем не виноват? — очень зло посмотрел на него редактор, — может, он и тебя вокруг пальца обвел. Шпионы — они такие!
— Я все равно буду добиваться, чтобы все выяснилось, — твердо заявил Родион, — его отпустят. Он ни в чем не виноват.
— Ну, давай, давай, добивайся! — закричал редактор, — я не знаю, каким чудом мы оба с тобой еще на свободе, но я вижу, ты хочешь, эту ошибку природы исправить!
— Я просто знаю, что он ни в чем не виноват.
— Да что еще тут! — раздраженно взмахнул руками редактор, когда в кабинете его раздался телефонный звонок, — не могут меня в покое оставить!
Он брезгливым жестом снял трубку. Телефонный разговор получился очень коротким, но уже через несколько секунд лицо его совершенно преобразилось. Теперь казалось, что все оно состоит из одной только благодушной улыбки, и что даже глаза его это уголки расплывшегося рта. Слышно стало, как весело стучат его зубы. Все лицо его танцевало.
— Мне сейчас сообщили. У меня есть источники. Родион наш умер еще на допросе. И вроде никого за собой утянуть не успел. Так что, может, нам с тобой и не надо так уж сильно волноваться. Может, обойдется, еще все.
Якову стало так трудно дышать, как будто сзади кто-то набросился на него с удавкой. Пол плясал под ногами. И еще почему-то очень горько стало во рту.
64
— Мне сны странные снятся, — объявил Агнии Юрий, и она подумала, что он сейчас обвинит ее еще и в своих кошмарах, — как я в танке горю. Неспроста это. Такие сны. Я много думал о том, что сейчас происходит. Ты вот все бегаешь, суетишься, тебе думать некогда, а у меня было время поразмышлять. Мы вот войну выиграли. Мы ведь победители. Сколько трофеев должно быть. А жизнь наша что, так уж улучшилась? Нет. Не как победители живем. Голодно живем, что тут скажешь, не празднично. И все почему? К войне новой готовятся, секретное оружие делают, чтоб если какая страна опять голову против нас поднимет, сразу, вмиг, одной бомбой ее разнести в пух и прах, чтобы мы больше в танках не горели… Ради этого и поголодать можно. Бомбу огромную сейчас делают. Я уверен в этом. Просто не говорят открыто, потому что пугать не хотят, столько всего пережили, и… эх! Чувствую я, что война еще снова скоро будет. Враги просто так не сдаются. Затаились где-нибудь. И неизвестно кто еще этими врагами окажется. Может быть, тот, кто совсем рядом. А сны мне такие страшные неслучайно снятся. Чувствую, что зовет меня война. Есть те, кого она, как женщина полюбила, и не отпускает. Я, видно, из таких. Знаю, что не станет меня скоро. Не успеют, наверное, бомбу сделать. Враг раньше нападет. Ты-то поживешь еще, жизнью насладишься, за которую мы все погибли. А мне, видать, не придется. Будешь хоть немного горевать обо мне? Я-то на этот раз окончательно в танке сгорю.
Агнии был очень неприятен этот разговор. Да и вообще, все, связанное с Юрием, в последнее время было ей в тягость. Каждое его слово, взгляд добавляли тягот совместного существования. Она ожидала новых ревнивых нападок, но вместо этого муж вдруг стал вести себя так, как будто жить ему осталось всего несколько лет, и он великодушно прощает ей ее будущую счастливую жизнь. При этом он явно ждал, что она должна искупить перед ним вину за эту призрачную, беззаботную жизнь, вовсю расстараться, чтобы заслужить его прощение. Он ждал какого-то рабского прислуживания, коленопреклоненного отчаяния постыдной вины.
Порой Агнии казалось странным, почему она уже так любит еще не родившегося ребенка, зачатого от человека, который с каждым днем становился ей все более неприятен. Но внутри нее зародившаяся маленькая жизнь была чудом преображения, символом надежды, сокровенным волшебством превращения тягостного неуюта, хмурого сосуществования в одном пространстве с тем, кого давно не любишь, в трогательное чудо детства, нежно-трепетное крохотное существо.
Рождение ребенка было сродни пробуждению от кошмара. Опостылевшее лицо мужа рассеялось бы в лике младенца, словно сон с наступлением рассвета. Ползучие гусеницы ведь тоже однажды обращаются в легкокрылых бабочек. Внутри Агнии уже трепетали эти узорчатые крылья, но сейчас, слушая жалобные раздумья супруга, она вдруг представила, что если и вправду случится война, что если все опять начнется сначала, то невозможно будет оказаться на одной стороне с собственным мужем, с теми людьми, что живут в других комнатах общей квартиры.
Она теперь не могла вообразить, как можно делить с ними горечь поражений или радость побед, с кем бы ни пришлось воевать. Агнии казалось невероятным, что они принадлежат не то что к одной культуре, одной нации, стране, но и вообще к единому человеческому роду. Злыдни, свирепствовавшие на коммунальной кухне, были уже нелюди для нее. Она была уверена, что если и правда начнется новая война, то каждый отныне будет воевать только за что-то свое.
И Агния знала, что сделает все возможное и невозможное, чтобы защитить своего ребенка. Она уже ощущала его только своим, как будто он, зачатый от Юрия, не имел к нему уже никакого отношения. Это был только ее ребенок, за которого она начала свою войну, в которой все вокруг враги. И главный из них собственный муж.
часть вторая
65
— Это же надо! Сколько, оказывается, на земле живых людей еще осталось! — услышал Яков обращенные к нему слова.
Перед ним стоял нескладный, рыжебородый старик, которого неуютный пиджак не по размеру делал совсем нелепым. При этом старец явно боялся хоть на мгновение выпустить из виду стоявшую рядом с ним огнекосую девушку с огромными, беспокойными глазами, отчего, даже заговорив с Яковом, все косился при этом в ее сторону, — вы уж простите, что я к вам. Но вы, кажись, один тут… того… Не под хмельком. Я таких, которые не пьют, за версту чую. Оно, конечно, понятно, праздник какой размашистый. Но мне, для дела моего, с пьяными дела иметь нельзя.
Тут девичьим стыдом вспыхнули щеки длиннокосой красавицы.
— Цветочек мой несорванный, — кивнул на девушку дед, — Внученька. Отца-то нет давно, убили на фронте. У нас, почитай, на селе все сгинули, кто из мужиков был. Вон и дивлюсь тому, что здесь-то вона сколько людей живых.
Людей в эти дни в Москве, действительно, было много. Даже на самых тихих улицах с трудом протолкнешься. В день своего 800-летия нарядная столица пела, кричала и плясала. Даже будничные киоски общепита волею декораторов праздника превратились в избушки из русских народных сказок. Нити гирлянд опоясали город. Бравурная музыка духовых оркестров была такой оглушающе громкой, что казалось, и солнце в небе дрожит и звенит. Люди выстраивались в бесконечные очереди жаждущих вкусить всей полноты праздника. И взгляды, скользившие по огневым фонтанам, зажигались в широкие улыбки, как спичка обращается в пламя. Праздничный салют с фейерверками поднимался к небу, словно стая жар-птиц. А в самый поздний час появилось в небе новое солнце, отменившее ночь. Тщательно выстроенный свет прожекторов делал невидимыми аэростаты, что подняли к небу пронзительно светлый лик генералиссимуса. И казалось, будто он сам, став совсем огромным, парит над землей.
— Ничего, конечно, не скажешь. Столица. Оно и понятно. Как ей без размаху-то. Токо я думал, устанут уже люди вчерась-то праздновать целый день кряду. А сегодня опять праздник. Мы вона с внучкой сегодня и живых слонов увидели на улицах. Шествуют парадом. Даже вчерась, кажись, такого не было. И совсем уж чудо лошади, которые танец танцуют. До чего все-таки умные люди скотину обучить могут. Я, конечно, думал, что Москва барыня, но токо не представлял, что здесь главное чтобы тебя не растоптали. Веселые все. Куражистые. Все под хмельком. Один вы тут не как все. Эх! Уезжать скоро, а получается, что зазря съездили, — махнул в отчаянии старик рукой, державшей газету, — и все ведь из-за статьи получилось! Вон, полюбуйтесь-ка! — протянул он Якову газету, — бес какой, что ли, ее к нам в село занес. Не к добру случай вышел. Вон, на второй странице, я карандашиком-то обвел.
И без того смущавшаяся девушка, мечтала сейчас только об одном — раствориться, исчезнуть с лица земли.
— Вон, вон, полюбуйтесь-ка, где карандашиком-то обведено. Все-таки газета сурьезная. Оно и понятно, со всем доверием к ней. Чай, не у нас в избе, мальцы чего малюют. Вон статья какая душевная! Про мериканца. Я даже имя его заковыристое выучил. Механиком он у нас в Краснодарском крае работал. Сознательный. Обжился он у нас. Влюбился. Вон, в такую же, как внученька моя, в колхозницу. Оно, конечно, понятно. Куда без любви-то. Мериканцы тоже, поди, не совсем обезьяны. И когда война громыхнула, он не в кусты полез, а на нашенской стороне воевал. Награды получил. В общем, совсем русским стал. А после войны оказалось, что наследство ему причитается, на первой его, буржуазной родине. Миллионы получил, как они там, деньги эти буржуазные называются, доллары кажись. И все в рубли обратил. А оттуда сразу к жене любимой, в родной колхоз. И все деньжища свои на родной колхоз и пустил. Я когда это прочел, екнуло у меня. Внучка-то красавица писаная. В нее же тоже ведь какой богатый мериканец влюбиться может. Посмотри! Цветочек девонька. Загляденье. А пропадает. У нас, почитай, на селе, вовсе парней не осталось. Война всех забрала. Пропадет она у нас. Вот я и подумал — в Москву надо. Женихи знатные только здесь, поди, остались. Увидят девоньку мою — сами свататься побегут. Таких, поди, и в столице сейчас не делают. Я и пиджак себе выторговал. С покойника он, правда, но настоящий зато. Ух, каких денег стоит. С большой надеждой сюда ехал. Только чужие здесь все. Поверх смотрят. Оно, конечно, понятно, праздник. Но глаза здесь у всех нехорошие. Я ж девоньку свою абы кому не отдам. Надо, чтоб сердце доверием обожгло. Послушай, мил человек, пора мне скоро. У нас много не скопишь, чтоб в Москве-то долго пробыть. Ты на девоньку-то мою посмотри. Не отворачивайся. Пропадет она у нас на селе. Голод у нас. Большой голод. Только зазря красоту свою сгубит. Я глаза твои вижу. Я ведь того, завсегда хорошего человека издалека определю. Возьми ее замуж. Тебе отдам. Пропадет она у нас на селе. А мне ехать пора уже. Небогатые мы. И так столько копил, чтобы сюда приехать. Возьми ее замуж! Аль не люба? Аль не красавица у меня внучка?!
Ресницы стыдливо закрыли глаза робкой девушки, как платье скрывает наготу. Она боялась смотреть на Якова.
— Конечно, красавица, — ответил Яков беспокойному деду, — здесь, в Москве, таких и не встретишь уже.
— Так почему в жены брать не хочешь? Али есть у тебя кто?
— Да, — сказал Яков.
— Невеста? Тоже поди, красавица? — сокрушенно промолвил дед, — моей — краше?
На это Яков ничего не ответил.
— И свадьба, наверное, скоро?
Стыдливая девушка вдруг открыла глаза, и с каким-то отчаянным страхом посмотрела на Якова.
— Нет, свадьбы уже никогда не будет, — сказал он.
— Да что ты путано-то как объясняешься! — промолвил дед.
— Нет ее больше. Умерла она.
— Ух ты, мать ити! Прости, прости меня, дурака! — испуганно воскликнул старик, и тут же предложил, — ты… ты, может, мою взамен возьмешь? Она тебе хорошей хозяйкой будет. Рукастая она у меня. Ведь твоя-то …сам говоришь, умерла. А как без хозяйки-то.
— Это для других она умерла, — сказал Яков, — а для меня и сейчас живая.
— Зря ты отказываешься! — кричал дед вдогонку Якову, — вона, посмотри! Да обернись ты! Посмотри, какими слезами огромными она плачет. Тебя, поди, жалеет! Зря ты в жены ее не берешь! Она бы за тебя страдала.
— Ей счастье свое найти надо, а не страдать, — обернувшись, крикнул Яков.
— Дурак ты! — в сердцах воскликнул дед, и принялся утешать внучку, — да не горюй ты! Мы еще найдем своего мериканца с наследством. Будет и на нашей улице праздник.
66
Не у кого было Агнии искать сочувствия. Юрий, уверившийся в ее мнимой измене, жаждал смерти собственного ребенка.
Два раза видела Агния его счастливым, с тех пор, как он пришел с войны. Первый в сентябре 46-го, когда по столичным улицам шествовала многосотенная колонна танков. «Эх, какой марш-парад закатили! — восхищенно воскликнул тогда Юрий, — ты посмотри, сколько здесь машин! На Курской дуге столько не было! Такой парад — это нам благодарность, танкистам. Поняли, там, наверху, чего танки в бою стоят. Это нам всем отдельное спасибо за победу. Такой парад!».
Второй раз Агния увидела его счастливые глаза, когда он узнал о том, что у нее случился выкидыш. Он ничего не сказал ей, но она видела его глаза. Оберегавшая зародившуюся жизнь, словно маленький хрустальный мир внутри себя, Агния уже давно стала иначе видеть людей вокруг. Все они, казалось, хотели только одного, чтоб погиб этот хрустальный мир.
После смерти ребенка Агния возненавидела всех, и больше всего собственного мужа. Даже когда они сидели по разные стороны стола, становилось нестерпимо душно от одного только его присутствия. И искалеченность его, что прежде воспринималась Агнией с материнской жалостью, теперь выпирала непоправимым, отталкивающим уродством. Снилось, как живущая отдельно от него рука грубо задирает подол ее платья и, хохоча, лезет к ней. Но страх и отвращение не рассеивались с пробуждением. Потому что муж всегда был рядом. Его глаза были словно стальные капканы, что могли поймать и не выпустить ее душу. И когда он ступал по комнате, она чувствовала тяжесть его ног, как будто он топтал внутри нее, казалось, еще живого ребенка. Он говорил что-то о хмурой погоде или приготовленном супе, а она в это время слышала, как ломаются кости ее малютки. Она ощущала эту истошную боль в себе.
Однажды ночью Агнии показалось, что он не дышит, и она замерла, осторожно прислушиваясь, не веря, что исполнилось самое заветное ее теперь желание. Но он проснулся, и она испугалась, что он прочитал ее мысли. Она уже давно боялась его. В тот день, когда она решилась все-таки заговорить с Юрием о том, что дальше так продолжаться не может, что им плохо вдвоем, в тот именно день подошла к ней Алла Леонидовна.
— Ну, чего шугаешься-то от меня? — остановила она Агнию, идущую к себе в комнату, — а глазки-то как бегают. Прям как ходики. Тик-так, тик-так. Не зря ты меня боишься. Вижу, что ты задумала. Думаешь, не заметно со стороны, как ты на мужа своего смотришь?! Бросить ты его хочешь. Сколько в глазках твоих нелюбви к нему. Конечно, калекой с фронта вернулся, какая там любовь! Ты себе, небось, покрасивше желаешь найти? Думаешь, что муж-калека век твой девичий заживет. Конечно, теперь война кончилась, теперь можно и наплевать на тех, кто твою жизнь защищал. Тебе бы мужем гордиться, а ты его позоришь! Никто не видел ни разу, чтоб вы хоть словом одним добрым с ним перемолвились. Вот такие, как ты, стервы, и сыночку моего, в могилу свели.
Агния видела, что в стоявшей напротив нее соседке ненависти не меньше, чем в ней самой. Она тоже теперь жила местью, не прощая никого из тех, кто живет на земле, когда ее молодой сын лежит в могиле. Горе потерь не сближало соседок, не породняло души узами обшей боли, а только еще сильнее сталкивало друг с другом.
Каждый теперь воевал за своих мертвецов.
67
Есть книги, от которых веет теплом. Переворачиваемые трепетными пальцами страницы словно поленья в камине. Уютный огонь слов нежит душу.
Когда в детстве Яков прочел удивительную книгу Пришвина «В краю непуганых птиц», он, завороженный особой мудрой нежностью, что реяла над строчками, словно небо над головой, не мог, конечно, представить что когда-нибудь будет сидеть у писателя-волшебника на даче, пить с ним чай, да вести доверительные беседы. Повод сейчас был — написать очерк о современном писателе, Михаиле Михайловиче Пришвине, как никто другой умеющем чувствовать глубинную силу Природы. Якову было необходимо общение с ним. С Пришвиным он виделся раньше, несколько раз, случайно, в издательстве «Советский писатель». Восторженность узнавания Яковом в нем любимого писателя детства, конечно, очаровала Михайла Михайловича, и теперь он с радостью откликнулся на предложение написать о нем очерк, любезно пригласил к себе на дачу, напоил там чаем с малиновым вареньем.
Якову, чтобы не сойти с ума, нужно было найти того, чей дух преодолел время, чей голос поднялся над грубой суетой дней, кто своим мастерством постиг сокровенные тайны мироздания, чья душа спасается в созидательном созерцании того прекрасного, что может узреть в этом беспокойном мире лишь она. У Якова сразу же возникло к Михаилу Михайловичу особое доверие. Казалось, немолодой уже, тихий, немного даже робкий человек в толстых очках, просто не может участвовать в теперешнем мире, он живет над ним, и часы его показывают одно время — Вечность. И когда Пришвин заговорил о церкви, глаза его засветились какой-то особой нежностью. Яков убедился, что не ошибся в любимом писателе. Вот у кого нужно учиться силе и мудрости. Якову очень важно было узнать смысл случившегося с ним, и с его жизнью, а к ответам его могли привести слова человека, постигшего в книгах своих особую мудрость природы. И когда он заговорил о церкви, засветились особым светом его глаза.
— Сколько уже лет лист за листом отрывали от купола церкви и, наконец, остался голый каркас из проволок. На каркасе луковица и на луковице крест. Над крышей нашего флигеля против моего окна виднелся этот каркас с крестом, сколько уже лет! И вот за два дня до 800-летия Москвы Иосиф Виссарионович Сталин в бинокль из Кремля увидел ободранный купол, распорядился, и в два дня каркас был обтянут железом. Я молился на этот крест воемь лет и так сжился с куполом, что незаметно и сам себя стал понимать, как ободранный купол.
Писатель замолчал, и Яков ждал, что сейчас он скажет что-то очень очень важное, что объяснит ему все что случилось, откроет какой-то неведомый смысл того, почему после проклятой войны, все еще продолжается смерть, почему уже сейчас, после Победы, погиб его друг, почему умерла любимая девушка. Яков ждал каких-то сокровенных, молитвенных, неземных слов, с помощью которых он постигнет этот мир, и узреет за бессмысленной отвратительной жестокостью жизни хоть малейшее оправдание тому, что творится на этом свете с несчастными людьми.
— И когда вдруг купол починили, я подумал, а что если так и меня товарищ Сталин заметит? И пора бы! Неужели я мало сделал?!
Яков даже отшатнулся от любимого писателя. Неужели и для него тоже важнее всех тайн мироздания и всех сокровенных ответов на вечные вопросы, желание, чтобы его приласкала власть? Кудесник слов, чародей пера, оказывается, грезит лишь о местечке потеплее. Трудный для Якова выдался вечер. Очень трудный.
68
Долго не забыть Вере эти толпы обреченных глаз, за которыми не увидеть уже ни лиц, ни людей. Ресницы были будто острые когти коршунов, намертво ухватившие зрачки, словно истошно пищащих чужих птенцов. Когда в день 800-летия Москвы люди на площади сбивались в пары, с началом общего праздничного танца, мгновенно увиделось всем, как мало вокруг мужчин. И потерявшие мужей, сыновей, братьев, отцов, женщины скорбно лепились друг к другу. Жутко было ощущать в танце вместо родных, мужских, любимых рук женские ладони.
И Вере вдруг стало так невыносимо от этой притворно-приторной, отчаянной веселости танца, пахнущего могилами, так обидно за то, что она, уже после войны, зачем-то опять осталась одна, хотя война уже кончилась, и никто не должен был забирать у нее ее смешного мальчика. Вера не понимала, почему, ради чего, она должна все прощать этой жизни, и гибель первой, беззаветной любви, и гнусный, подлый рок из-за угла… Ее мальчик не должен был погибнуть. Это было также неожиданно-невозможно, ненормально, как если бы непроглядная тьма ночи спустилась на город посреди ясного дня, презрев движение часовых стрелок.
И Вере отчаянно захотелось не быть среди этих понуро-радостных, танцующих женщин, не делить с ними гордую боль одиночества. Она должна была отомстить этому беспощадному к женской доле миру любым мужским телом в своей постели, показать, что она сильнее гнусной судьбы. Там, в этой толпе, оказался как будто совсем потерявшийся, спешащий уйти от кого-то, человек. Взгляд его был странно-задумчив, она заговорила с ним, и он сначала медлил, а потом, видно, что-то решив про себя, пошел за ней.
Ночью он был также потерян и слаб, настолько, что Вера поначалу и сама растерялась, почувствовав себя совсем нежеланной. И, хуже того, этот незнакомый человек, которого она привела к себе, показался вдруг совсем чужим, ненужным, но она хотела удержать его до утра, и потому все должно было между ними случиться. Чтобы оживить собственное свое желание, она закрыла глаза, представив на месте чужого человека Льва, но вызванный на подмогу неразгорающейся страсти, призрак убитого любовника, оказался настолько осязаемым, настолько живым и жарким, что Вера в сильном испуге распахнула глаза, но призрак не исчезал. Ей стало и стыдно, и страшно, и спастись от тяжести комнаты, навалившейся на ее плечи, она могла только в теле того, кто сейчас был рядом с ней. Вера принялась истерично целовать этого незнакомого ей человека, выкуривая своими истошными поцелуями вызванный призрак мертвого. Потому что Вере хотелось быть среди живых.
69
Все перевернулось. Когда Яков еще лежал в постели, он как будто ощущал твердую почву под ногами, а стоило первым солнечным лучам стукнуть его, словно тяжелым прикладом, он, поднявшийся с кровати, почувствовал себя беспомощно распластанным на полу. Неуютность чужого жилища не давала подняться. Яков тяжело корил себя за то, что оказался здесь. Он ничего не знал о женщине, с которой провел ночь. Знал только, что зовут ее Вера, и что она играет в каком-то театре. Больше он ничего о ней не знал, да, впрочем, и не хотел знать.
Вчера он пошел за ней в каком-то черном упоении мести собственным несбывшимся надеждам. Яков нашел особое сладострастие отчаяния в ответе на томный призыв этой пошлой, зрелой кокотки. Самые светлые мечты, самые радужные планы, самые нежные воспоминания, воплотившиеся давеча в волшебство настоящего, яркого, глубокого чувства, сгорели в нем, словно невинные девы, которых жгли как ведьм на кострах инквизиции. Он долго-долго чувствовал этот огонь внутри, крики по ночам слышал, просыпался, озирался в страхе чужого присутствия, но в пустой его комнате не утихали эти крики, не смолкала боль пожара, все в нем сжигающего.
Он во многом пытался забыться, в том числе, и в работе, которую теперь жадно ждал в надежде, что какое-нибудь редакционное задание сможет хоть немного увлечь его. А потом отчаянно захотелось, чтобы тлеющие в нем угольки сгоревшего волшебства, все еще беспокойно мерцавшие, все еще озарявшие его взгляд особым светом, наконец бы уже догорели, слились с небытием, даровав ему как спасение мертвое сердце вместо еще живого.
И вчера почудилось ему, что дотлевающие угольки его несбывшегося чувства погаснут в холоде случайной постели чужой, нежеланной женщины. Он пошел за ней вчера в глупом упоении грязью, в святотатственном желании осквернить свою погибшую любовь, утопить ее в чужом голом теле, будто в кипящем омуте, над которым словно пар над огненной водой, проступает пот прелюбодейства.
Но вдруг, в тех тревожных сумерках почувствовал ее боль, и когда голые груди ее стукнулись об него, ощутил горячее, плачущее сердце этой женщины. Яков понял, что и она тоже глубоко несчастна, и что не радостных плотских утех она ждала от этой ночи. Ей просто важно было, чтобы кто-то был рядом с ней в эту ночь.
И тогда Яков забыл о своем желании превратить чужое ложе в убийственное унижение собственной любви. Он искренне откликнулся нежности этой женщины, ее задыхающимся поцелуям, каждый из которых падал на его тело, словно тяжелые слезы. Но это было ночью, а утро рассеяло нечаянную нежность, выгнало туман со двора, и в проступившей ясности очертаний Яков с ужасом увидел, насколько карикатурна эта женщина. Былая болезнь вернулась к нему. Излом зрения, при котором никого не мог он увидеть иначе, как в искаженных карикатурных пропорциях, сейчас явил ему женщину, с которой он спал в одной постели, такой отталкивающе неприятной, унизительно нелепой, как будто вчерашним вечером напало на него злое наваждение, в сумасшествии которого он принял вырезанную из журнала карикатуру за живого человека.
При том, что Вера не только не была некрасива, но и многие нахолодили ее привлекательной, Яков в своем родном безумии искажающего все вокруг взгляда, не мог воспринимать ее иначе, как воплощение гротеска. Каждое движение ее, поворот головы, взмах рук, казались нелепыми и смешными.
Вера непонимающе смотрела на него, силясь понять, что происходит.
— Что с тобой? — спросила она, добавляя тепла своих рук беспокойству слов, но Яков отшатнулся от нее, уже чураясь прикосновений.
— Что с тобой? Все же хорошо было. Что-то не так?
— Все так, все так, — ответил он, стараясь не смотреть на нее.
70
Юрий чувствовал себя так, будто на него разом обрушили множество чужих, непонятных слов незнакомого ему языка. Да, когда-то давно он, кажется, слышал их, но они не были ему родными. Между тем Вадим, сладострастно причмокивая, все продолжал говорить, что сациви лучше заказать из индейки, чем из курицы, что хачапури надо взять обязательно только аджарский, и что для нежданной их встречи лучше всего подойдет, пожалуй, саперави, а не кахетинское. Вадим заверил, что оплатит весь счет, и потому Юрий свободен в выборе блюд. Ему было неуютно на этом празднике чужой щедрости, и поначалу он вовсе хотел уйти, но все-таки соблазнился дармовой выпивкой.
Последний раз он виделся с Вадимом задолго до войны. Волею случая они оказались курсантами одной танковой бригады, что расположилась близ Нержинских рудников, тех самых, где отбывали когда-то наказание опальные декабристы. Жизнь у молодых курсантов тоже выдалась непростая.
На первом же построении комбат объявил: для того, чтобы своими руками превратить бывшие конюшни в рабочие классы, отпущена всего неделя. Здесь и расположились тренажеры, на которых с утра до вечера занимались курсанты, которых долгое время не допускали до настоящей техники. Юрий запомнил Вадима как веселого балагура, недостаточно серьезно относившегося к делу. Он отставал по многим предметам и, кажется, совсем не печалился об этом. Зато как только одну из бывших конюшен превратили в Дом Красной Армии, организовав в нем и хор, и всевозможные кружки, Вадим стал там главным завсегдатаем.
А вот когда в конце учебы, Юрий восторженно говорил о том, что доверенные им танки имеют огнемет (из огнемета ведь можно не только стрелять, но и строить плотную дымовую завесу), Вадим отвечал на это, что хочет закрутить с женой одного из командиров.
Юрий был уверен, что Вадима давно нет в живых. Однако, вот он. Появился вдруг ниоткуда. И, узнав, в ресторан повел.
— Любку-то помнишь? — залпом осушив очередной бокал вина, спросил Вадим, — жену командира нашего? Эх, мне бы вот ее встретить. Сколько лет прошло, а у меня за все это время ни разу больше такой бабы не было. Знал бы ты, что она в постели выделывала! Акробатки такое не сотворят.
Юрий пытался спросить его о том, где и как он воевал, но Вадим настойчиво уходил от этих вопросов.
— Да что о том толковать! У каждого из нас война что-то да забрала. У тебя, вон, вижу, целую руку оттяпала. Меня тоже не пощадила. Но я не хочу об этом. Хватит уже. Навоевались. Праздника надо. Я вон недавно видел, что в ЦПКИО придумали. Целый карнавал ночью устроили. Гадалки, гипнотизёры, звездочеты… Целый уголок старой Москвы выстроили: керосиновые фонари, извозчики в пролетках, городовой на водовоза кричит… И объявления висят о продаже горничной девки да холмогорской коровы… Умеют же люди красиво придумать!
Этот человек, которого Юрий очень давно не видел, и о ком ничего теперь не знал, казался все более чужим, подозрительным. Почему он может не вести счет деньгам, отчего так богат и щедр, почему настолько не хочет ничего рассказывать о себе… Когда Вадим резко оборвал очередной его вопрос, Юрий почувствовал себя оскорбленным. Но не ушел все-таки. Потому что дома тошно. А здесь вино. За которое платит другой.
71
Все тело ее замерло, а пальцы продолжали жить. Пальцы ее стучали по пуговицам собственной кофты, словно капли дождя о стекла безмолвного окна. И как набирающий силу тихий дождь грозит порой обратиться в яростный ливень, так и осторожные движения Агнии готовы были хлынуть единым порывом, не ведающим преград. От мерных капель дождя, превращающих пуговицы в маленькие барабаны, оставалось совсем чуть-чуть до готового все затопить потока, в котором (она чувствовала это) сейчас сольются воедино и слезы усталости, и томление по сильной мужской ласке, и вкусная боль стыда запретного сладострастия.
— Нет, — остановил ее Павел.
— Нет? — Агния не узнала свой собственный голос. Он изломался настолько же сильно, насколько меняется человек, отражаясь в кривом зеркале.
— Не надо, — сказал Павел (на работе она называла его Павлом Петровичем), и теперь, наоборот, ожило, задрожало все ее тело, а пальцы, уже готовые было расстегнуть пуговицы кофты, замерли в страхе. Медленные, тягучие слова рассекли воздух острее хлыста. — Но я же тебе нравилась. Я ничего не жду. Не думай. Меня все устраивает.
— Меня тоже, — сказал он, — меня тоже все устраивает. У меня очень хорошая семья. Я не хочу ее предавать. Когда-то ты совсем не обращала на меня внимания. Но я не из тех, кто мстит женщинам. Я был рад тебе помочь с работой, и только. Больше ничего. Ничего, понимаешь?
Тело ее раскачивалось, тело ее униженно извивалось под пыткой его взгляда.
— Я настолько постарела? Конечно, в красавицы я больше не гожусь. Так, одна из твоих работниц.
— Не надо, — остановил он Агнию, — я все еще помню, кто ты. Поэтому и не хочу, чтобы вот так, здесь, на столе…
— Давай найдем другое место, — вспыхнули блеском надежды ее глаза, — хочешь, я найду?
— Не надо. Уходи, — очень твердо сказал он, — не заставляй тебя увольнять. Сейчас не так просто найти работу.
Но Агнии стало невыносимо, нестерпимо больно не тогда, когда он отвернулся от нее (и холод его затылка больно ожог ее), а позже, у самого дома. До тошноты, до застрявшего крика в горле стало ей жутко, когда она вдруг поняла, что по дороге домой ни один из встретившихся ей мужчин даже не взглянул на нее. Она теперь не то, что любви и цветов, взгляда, и то недостойна.
После случившейся смерти, когда бережно лелеемые мечты о малютке обратились внезапным выкидышем, Агния презиравшая мужа за нелепые подозрения в ее измене, жаждала отомстить ему. Она видела, как мучается, как жалок он в своей ревности, и хотела надругаться над ним. Отомстить за равнодушие, за соучастие в убийстве.
Агния была уверена в неслучайности смерти своего ребенка. Все вокруг убили его. Так пусть между ней и Юрием встает не лик невинно убиенного малютки, а лицо какого-нибудь любовника. Пусть постылый муж захлебнется в своем унижении. Но былой (и нынче сильно потускневшей красавице) оказалось непросто отдаться не то что любящему, а хоть кому-то достойному. В стране, победившей Гитлера, продолжалась другая война. За мужчин. Нашлись бы охочие и до Агнии, но она все-таки знала себе цену. Совсем уж окунаться в грязь ей было стыдно перед собственным не родившимся ребенком.
— Где ты была? — пристально посмотрел на нее Юрий, не скрывая своих подозрений, — ты сегодня позже пришла. Я хочу знать, где ты была.
И Агния вдруг не выдержала. Нестерпимым мукам стало слишком тесно в ее теле, и они вырвались наружу, словно демоны.
Она ударила мужа. Один раз. Потом другой, третий. Агния в ярости хлестала его по щекам, упиваясь его слабостью, беззащитностью.
— Это твой ребенок! — кричала она в звоне пощечин, — Твой! Твой ребенок! Ребенок, который умер! Он твой! Я тебе ни с кем не изменяла! И это твой ребенок! Умер! У нас больше никого нет. Только мы. И наш ребенок. Но он мертвый. Мертвый. Мертвый!
Агния продолжала хлестать его по щекам со сладострастным наслаждением. Все ее долго сдерживаемые чувства хлынули в эти пощечины, перемешав отчаяние собственного унижения с радостью отмщения, неизбывную тоску потери с ощущением сладости свободы…
Порой ливень обрушивается совсем не на тех, кого застали врасплох первые капли.
72
Пальцы Якова так крепко держали карандаш, будто сумели найти спасительную опору перед падением в пропасть, и теперь только от их цепкости и силы зависело, поглотит ли его распростертая внизу бездна. Впрочем, бездна и правда была, бездна запойного отчаяния, невозможности собственного существования в этом вызывающе бессмысленном, и таком щедром на всевозможные муки, мире.
Яков хотел защититься от этого мира. И поэтому он строил крепость. Крепость из слов. Строил самозабвенно, терпеливо, прилаживая слово к слову, как строят добротный дом, в котором будут жить. Множились на столе разлинованные альбомные листы, на которых ныне возникали не рисунки, но слова. Яков писал не для чужих глаз, не для публикаций и гонорара, он просто хотел защититься от этого мира. Он уже не чаял того, что сбудется как художник, и потому писал о других, о тех, которые сбылись и воплотились. Из доверительных разговоров с ленинградскими художниками, остававшимися в городе во время блокады, из красноречивых свидетельств очевидцев, документов, с которыми довелось познакомиться, возник замысел книги.
Всем на войне довелось хлебнуть лиха, и многих можно было взять себе в герои. Но художники, не предавшие искусство даже в затравленном, одержимом безумием нестерпимого голода, городе, все же мыслились как особые люди. Яков тоже не раз рисковал жизнью, но он не писал полотен в погрузившихся во тьму мастерских, где температура так низка, что замерзают масляные краски, и чтобы выдавить их на палитру, нужно погреть их зажженной спичкой. Он не стоял на умирающей набережной в ватнике, ушанке и валенках, укутанный шерстяным платком и шарфом перед складным мольбертом, чтобы в лютый мороз и голод сделать очередной этюд. Не отогревал заледеневшие в нетопленной мастерской руки, дабы продолжить вдохновенную работу. И густые черные тени, что рождала коптилка, источник слабого, казалось, умирающего света, не Якова приводили в отчаяние.
И сейчас он припал к чужой жизни, как к живительному роднику. Не такой теперь Яков дурак, чтобы надеяться на будущее. Кто знает, может, не сегодня-завтра начнется новая война. Или наконец вызовут Якова. Он не понимал, почему его так долго не вызывают по делу Родиона, ведь они близко знали друг друга. Позавчера, когда посреди ночи, на лестничной его площадке, громко хлопнула дверь лифта, Яков подумал, что это пришли за ним. До утра он так и не смог заснуть.
Еще до войны Яков видел, как с обложки переизданной «Республики Шкид», написанной двумя друзьями-детдомовцами, исчезло имя одного из них, тот был уличен в антисоветской деятельности и арестован. Но другой оставался на свободе и работал.
Яков знал, что не скажет ни одного дурного слова о Родионе, как бы сильно его не допрашивали. Но он не готов был биться за него сейчас. Если бы он был жив, тогда да. Тогда молчание было бы недопустимым малодушием. Но нынче вместо цветов на могилу погибшего друга Яков приносил слова о чужой жизни. Вдохновенная биография художника, умершего во время блокады, но успевшего сделать так много, должна была стать оправданием бессмысленности земного бытия, гимном верности искусству. До войны Якову приходилось слышать о нем, но тогда он не ведал, что выберет его себе в герои.
В апреле 1943 года в Ленинградском Доме Красной Армии было выставлено около 400 полотен. Почти 400 ярких свидетельств того, что в задыхающемся от голода, городе, искусство продолжает жить. Во славу торжества всепобеждающего искусства в тяжелом папиросном дыму, сидя на корточках, стоя, пилили фанеру, багет, строгали подрамники, натягивали холсты, вырезали стекла, окантовывали рисунки, сколачивали пьедесталы для скульптур. Не обращали внимания на истеричный вой воздушных тревог, не уходили из залов Дома Красной Армии даже когда на крышу падали осколки зенитных снарядов, вдребезги разбивая стекла. Только бы успеть подготовить выставку. Это было важнее собственной жизни.
Якову довелось узнать, какие именно работы были представлены на той апрельской выставке. И до счастливой боли прозрения, до почти коленопреклоненного восхищения поразила его картина знакомого еще до войны художника. Тот, кто написал ее, казалось, все-все знал о мире и ничего, совсем ничего не боялся. Сотворенное в подлинном аду, который и Данте в самых мучительных снах не мог привидеться, это полотно торило дорогу от зловещей мерзлой земли, под которой и покойникам неприкаянно, от обреченности любого человека, к ощущению непреходящей ценности всего на свете, к физическому ощущению щедрого и бескорыстного тепла всего сущего.
Когда-то Яков читал готический рассказ об исчезнувшем на выставке французской живописи, человеке. В конце рассказа оказывалось, что человек этот вошел в другой, неведомый мир, через одну из картин. Яков был уверен, что такие картины отворяют дверь в другой мир. Теперь ему было на что опереться. И казалось Якову, что, черпая силы и вдохновение в чужой биографии, сможет он приобщиться к прозрению грандиозного живописца, познать тайны всепрощения, и испытать ни с чем несравнимую сладость затихания вечноноющей в сердце, боли. И еще думалось Якову, что сможет он наконец спастись от нахлынувшей давеча одержимости, любого встречного окарикатуривать невольно в зрительном восприятии, искажая злым гротеском даже самые приятные, без всяких изъянов лица.
Яков жадно искал все новые и новые вехи биографии для своей книги. Сумел он снова вырваться в Ленинград, встретиться с теми, кто хорошо знал умершего в блокадные дни, художника. Множились красноречивые биографические детали. Рассказывали многое, что крепко вцеплялось в память яркими образами. Однажды (блокада уже началась) он стоял посреди улицы, широко раскинув руки. Стоял долго, много часов кряду. Прохожие особого внимания не обращали. Для умирающих от голода, впечатавшийся ногами в землю человек, простиравший руки навстречу неведомо кому, зрелищем не был. Но сестра, увидевшая случайно, отчаянно испугалась — не сошел ли с ума. Многие тогда сходили. Звала домой, — не откликался. Только улыбался чему-то. Она уже навзрыд плакала. От страха. А он все улыбался. И рук не опускал. Она на колени упала, ноги его обняла, целовать стала, будто навеки прощаясь, и прощения молила, за то, что уберечь не смогла. Откликнулся наконец ее слезам, будто с небес спустился. Потом объяснял: «Земля кормит. Если долго так стоять, можно подобно дереву, корни пустить, и соками из земли напитаться».
Увела его домой. Страшно было, что совсем с ума сойдет.
Та же сестра рассказала еще:
— Он подолгу в Союзе художников жил. И песика нашего с собой взял, никогда с ним не расставался. Рисовал его очень много. Еще радовался очень, что паек удалось получить в Обществе кровного собаководства. Паек-то… Снетки пополам с крысиным пометом. Но для тех дней великая радость. А однажды приходит ко мне и говорит голосом таким сбивчивым: «Выл он слишком громко, как воздушные налеты заслышит… а в союзе не я один ведь. Другим работать мешал. Пришлось его в кочегарку перевести. А потом я прихожу и вижу, как в кочегарке этой, дети и женщины наперебой хоть кусочек мяса просят. „Умер, — объяснили мне, — так не пропадать же“. И я увидел, как на столе его сердце лежит. У охотников обычай был в старину, чтобы унаследовать храбрость зверя, надо сердце его съесть».
— Какая там храбрость, — вспоминала сестра, — Фимочка такой ласковый был, даже и не лаял ни на кого, у нас защиты просил. Но брату важно было уверить себя, что не от голода так с Фимочкой.
Удалось Якову познакомиться с обширным наследием: живописью, литографией, книжной графикой. Узнал, какие работы отдал на июньскую выставку в 1942 году. И сейчас перед Яковом лежала афиша той выставки, которую удалось взять в Москву: шпиль Адмиралтейства, ствол зенитного орудия, нацеленный на небо, и зеленеющая ветка дерева…
Но не удавалось Якову ничего понять. Многочисленные истории никак не складывались в жизнь великого человека, ничуть не приоткрывали дверь к тайнам его прозрений. Да и рисунки… особенно книжная графика… Чем больше узнавал их Яков, тем страшнее ему становилось. Зловещие, отталкивающие гримасы, всевозможные уродцы… Ни отзвука, ни малейшего эха счастливого примирения с миром, что так поразило Якова в его живописи. Лишь неотвязный, панический страх, бьющийся в каждой картине, словно в силки пойманная птица, да явное презрение к людям, малодушно прячущееся в книжную графику, где можно не скупиться на самые злые краски, создавая образ очередного отрицательного персонажа, благо их в каждой книжке с лихвой. Да и те, кого очередной автор назначал в главные герои, отталкивали в книжных иллюстрациях какой-то нелепой беспомощностью, едкой карикатурностью.
Биография художника, с которым при жизни его довелось познакомиться лишь заочно, и никогда не увидеть воочию, биография кудесника красок, чародея кисти, из живительного источника, дарящего силы для примирения с миром, обратилась вдруг в невыносимо томящую загадку.
Яков уже узнал о нем так много, что чужое присутствие ощущалось в доме. Многочисленные работы, о которых теперь хорошо знал Яков, стали частью непостижимой тайны, как от такой вечной, горькой тоски, явного презрения буквально ко всем людям на земле, можно прийти вдруг к удивительному внутреннему покою. Многие композиции состояли всего из двух-трех фигур, так сильно заполнявших все пространство, что не оставалось почти никаких просветов, через которые мог быть показан пейзаж или интерьер. Но чем дольше длилась творческая биография, тем меньше ограничивались композиции лишь человеческими фигурами.
И вдруг жестокая догадка зло осенила Якова. В тот вечер он позвонил его сестре (благо телефон был запасен впрок).
— Да — сказала она, — он решил, что никогда больше не будет изображать на своих картинах людей.
Так вот что сделало его таким счастливым, вот почему сладостным покоем задышали краски на той, поразившей Якова, картине. Вот чем так сильно она отличалась от других работ. На ней совсем не было людей. Навеки обезлюдевшая земля стала гимном покою и счастьем. Солнце на ней светило так нежно и ярко, потому что люди исчезли наконец с лица земли.
Растерянно смотрел Яков на разлинованные альбомные листы, ставшие исписанными страницами, и знал, что не сможет больше написать ни строчки. Яков чувствовал себя обманутым.
Невозможно в этом мире опереться на человека.
73
Чем душится она? Медово-гвоздичной «Красной Москвой»? Или предпочитает ландышевые «Жди меня?». Отчего-то запах ее был важнее, чем цвет глаз и волос. Красуется ли она в юбке из мешковины, выкрашенной краской из бузины, или военная шинель пошла на пошивку однобортного платья с крупными пуговицами… Нет, важней всего был запах. И потому жадно вдыхала Агния возвращавшегося домой мужа. Она хотела узнать запах другой женщины.
Злости не было. Можно было вздохнуть свободно, так сильно изменился Юрий. Больше не винил, не задевал Агнию. У него появилась тайна, которую он оберегал, и в это трепетное желание сберечь ее, ушел он весь. Как будто уже и не живой человек был рядом. Не с Агнией рядом теперь текла его жизнь. Радоваться бы — наконец оставил в покое! Но была и обида — все ему отдала, наизмывался всласть, смерти собственного ребенка радовался, и теперь бросил ее. Все мысли его теперь о ком-то другом. Ни на что ему Агния. Даже вдруг тоска промелькнула по былой его бешеной ревности. Неужто совсем охладел? Настолько, что и гордость мужская неважна?!
Сгорбилась Агния, поникла, глаза стали, как тяжелые камни. Куда порхающий взгляд подевался… Юрий видел, что Агния теперь будто дерево подрубленное. И только гордился, что спуску ей не дал. Но не ревновал больше, не приставал с упреками. Считал, что она хорошо наказана за блудовство, и впредь поостережется.
Агния ждала, когда все станет явным. Тогда и о разводе можно говорить. Пока же старалась виду не подавать. Таилась.
Юрий берег от нее свою тайну. Ото всех сторожил он свою радость. Теперь и великодушием не гнушался. Пусть себе живет Агния, только б к нему не приставала с расспросами, не заподозрила ничего. Ни к чему ему сейчас расспросы. А бабий какой язык, узнает что если, непременно выболтает.
Накануне ее дня рождения заговорил о ней за пивом с приятелем.
— Что подарить, не знаю, — сетовал, — особо не разгуляешься. А жена все-таки. Что-то да надо ей принести.
— Вот у меня, — услышал в ответ восторженное воспоминание, — когда-то, до войны еще, друг был. Так рисовать умел! Портреты прям целые выписывал. И так легко у него получалось. Я благодаря ему не знаю сколько сэкономил. Как к кому на праздник идти, день рожденья, или что еще, так я к другу, с фотокарточкой. Нарисуй, дескать, портрет. И ведь все этому подарку радовались всегда. Вот бы и у тебя кто также славно рисовать умел. Был бы мой друг жив сейчас…
Вспомнил Юрий о Якове. В одном доме живут. Он, наверное, зазнался уже. Как же, в газетах печатался. Но вдруг войдет в положение, не возьмет много? Соседи ведь.
74
И еще был один способ уверить себя в том, что все это злое наваждение, отчаянная попытка вырваться из собственной жизни,
Все домыслило воображение, обратив мимолетный сон в неизлечимое проклятье. Не стоит так убиваться. Какая ни есть, но жизнь все-таки продолжается. Была встреча с красивой девушкой. Все остальное привиделось, примечталось. О какой любви можно говорить, когда и узнать толком друг друга не успели. Просто гибель Ее пробудила затихшую было на долгие годы тоску. С тех пор, как мать умерла, отец руки на себя наложил, так повзрослел, что одиночество стало нестрашно. Сам никого не хотел к себе подпускать. Но встретил Лилию, и окатило сердце сияющим солнцем, словно волнами морскими. То, знакомое лишь в самом раннем детстве, тепло, вспомнилось. Оно в каждой улыбке ее эхом звучало.
В первое время, как узнал о том, что случилось, рука, в открытом, словно рана, бреду (когда и сонное полузабытье не защищает), к горлу тянулась. Казалось, что ножом полоснули, и кровь хлынула, не остановить. Не человеком себя чувствовал, животным, что на убой вырастили.
После долгих бессонных ночей сон стал один и тот же сниться. Уютный, теплый, домашний вечер, даже камин горит. Что-то такое из Диккенса, когда герои там наконец (или еще) счастливы. Думаешь, вот-вот, Она придет, живешь предвкушением встречи, лелеешь ее. И тут за окном гром, молния, дождь. Все льется, грохочет, сверкает. Боишься за нее, и вдруг лицо ее в окне видишь. Напуганная, беспомощная, взгляд затравленный. Тело все дрожит. Бросаешься дверь отворить, и не можешь. Она замерзла там, на улице, а тебе не хватает сил дверь открыть, как бы отчаянно ни пытался.
Злой сон, нехороший. Лучше совсем не спать, чем такое вновь и вновь видеть.
Знал, что забыть не сможет, но пытался отделаться, чтобы Лилия вечной тенью рядом не ходила. Много думал о том, что все равно ничего бы у них не сложилось, что и не было между ними ничего, он лишь краешка чужой жизни успел коснуться, пока та не погасла. Сколько не дуй на огоньки, пламя не разгорится.
Но ничего не помогало. Никак ее не забыть. И чем сильнее отмахнуться пытался, тем очевидней становилось: если с кем, и мог быть счастлив, так только с ней. Неважно, что были знакомы так мало. Море можно увидеть издалека. Она и не умерла как будто, билась в могиле, из-под земли кричала, его звала. Как хоть на миг забудешь, когда все время крик ее слышишь?! Он и сквозь сладострастные Верины стоны звучал, прорастал через них.
Вера забылась в блаженной истоме. Яков отдался на волю ее тела, губ и рук, и она все сделала с ним сама. Закатила глаза, кончив мерно раскачиваться на нем. Была уверена, что и ему тоже хорошо. А он глупо думал, что она в своем раскачивании похожа на маятник от часов, и дивился, что ничего не оборвалось между ними. Увидела его глаза, испугалась.
— Тебе плохо со мной? — спросила резко, со злой обидой в голосе.
Яков ничего в ответ не сказал. Плакать хотелось.
— Смотри, — предупредила она, — если обманешь меня, я… Я не знаю, что сделаю. И не думай, что травиться стану. Я с тобой что-нибудь сделаю.
Про себя решила, что ни за что его не отпустит. Почему она должна терпеть одиночество. Она теперь бабе любой космы повыдергивает, и самой смерти горло перегрызет, лишь бы одной в постель не ложиться.
Яков совсем рассеянным в последнее время стал. Толком и не слышал, что бормочет ему встретившийся на лестнице сосед по дому. Чтобы отделаться поскорее, кивнул. Пообещал что-то, сам толком не понимая, что обещает. А сегодня с утра, в воскресенье, в дверь звонят. Жена его пришла. Яков растерялся сначала.
— Муж сказал, что портрет хотите с меня написать… — сказала смущенно, — я не думала идти, но он настаивал.
— Хорошо, проходите, — недовольно буркнул Яков.
Пригласив ее, споткнулся на собственном пороге. Так сильно занервничал от нежданного беспокойства.
75
— Хватит! — оборвала Агния движение кисти, словно чужую досадную речь.
Яков остановился. Посмотрел на нее с упреком.
— Не надо, — повторила Агния, — хватит.
— Сами же просили, — холодно сказал он, раздраженный тем, что происходит, — это не мне надо было, — бросил он на Агнию злой взгляд.
Деликатные улыбки соседа-художника сменились откровенно брезгливым искривлением губ. Она мешала ему, очень мешала, и он больше не скрывал этого.
— Давайте уже закончим, и вы пойдете, — сказал Яков так, как будто хотел разделаться с ней, изничтожить. Испуганное воображение было сейчас поводырем усталой Агнии. Она себя не женщиной чувствовала, мясом. И не тем что мнут похотливые руки, а таким, которое мясник разделывает. Кисть в руках Якова ножом почудилась.
— Меня попросили, и я сделаю, — сказал Яков о портрете, но Агнии в этих словах услышалось признание, будто он ее убить собирается.
— Ваш муж вас любит, — прибавил Яков.
— Любит? — тут же встрепенулась Агния. Она будто воочию это слово увидела. Замызганное, чахлое.
— Ну да, — сказал Яков, — любит. Вон, портрет ваш просил написать. Наверное, хочет, чтобы дома висел на стене, пока вас нет. Скучает, верно, без вас.
Яков произносил эти слова без всякого чувства, почти механически. Он хотел утешить чем-то расстроенную женщину, написать обещанный ее мужу портрет, выпроводить досадную гостью, и остаться наконец одному со своими чувствами, мыслями. Что говорить, ему и одному было с собой неуютно, а уж с другими и подавно. Они и вовсе делали привычный неуют нестерпимым.
— Он меня сюда специально послал, — прошептала Агния, задыхаясь словами, — у него любовница. Я знаю. Раньше находил, где с ней встречаться. А теперь, видимо, нет. Дома решил у нас. А я, понятно, мешаю. Вот и надумал меня сюда услать. А сейчас там с ней, наверху, барахтается. Дурой меня считает. Потом еще что-нибудь придумает. Еще меня куда-нибудь ушлет.
— Так ведь соседи увидят, — недоверчиво сказал Яков.
— Наверное, нет там сейчас никого. Он специально подгадал, рассчитал все. Я пойду, — нерешительно сказала Агния, — не хочу их видеть, но я пойду. Если застану, о разводе можно будет твердо говорить.
Агния поднялась. Яков ее не удерживал. Больше ни за что дверь не откроет. Пусть сколько угодно, там, у себя, скандалят. Агния кинула взгляд на недописанный свой портрет, и отшатнулась испуганно. И без того согнувшаяся, побитая, вовсе съежилась, потерялась.
— Это… это я? — губы ее так дрожали, так нервно подпрыгивали, что, казалось, сейчас вовсе с лица спрыгнут.
— Непохоже?
Яков старался сделать портрет теплым, но раздражение сказалось.
— Я и так уже стараюсь лишний раз к зеркалу не подходить, не так страшно. А тут… Увидела наконец, какой другие меня теперь знают. Понятно, что муж любовницу завел. Кому я теперь нужна, такая.
Якову стало очень неуютно.
— Вы красивая женщина, — стал оправдываться он. Он чувствовал себя так, будто ударил эту женщину. Кисть в руке горела, как память о женской щеке, которую обжег сильной, злой пощечиной.
— Была б красивая, ты б меня такой не нарисовал. Я здесь не уродливая, но… Это хуже. Хуже, если б просто уродливой меня нарисовал. А эта… — кивнула она на портрет, словно речь шла о другой женщине, — настоящее отвращение вызывает. И непонятно, отчего так. Вы мастер, наверно, такие детали неуловимые ухватывать.
Яков молчал.
— Ладно, — сказала Агния, — я пойду.
Яков молчал. Она сделала несколько шагов. Ноги словно в болоте увязали. Агния представила, что сейчас застанет мужа с другой женщиной. И вдруг очень испугалась, что эта женщина окажется красивой. Раньше она не думала об этом. И в следующую секунду ей стало так невыносимо больно, так муторно, так тошно и одиноко, что она бросилась к первому попавшемуся человеку, ища у него хоть мгновения участия, моля хоть об одном неравнодушном взгляде. Она, в истерике не голоса, но тела, стукнулась о грудь Якова, припала к нему.
— Я.., — суетливо, жалобно зашептала она, — мне очень плохо. У меня нет никого. А я так хочу. Я умею любить. Правда, умею. Но мне некого любить, понимаешь? Во мне скоро все живое умрет. Если бы у меня ребеночек родился, это бы такое счастье было. Радость такая. Он внутри меня жил. Я его в себе чувствовала. Он живой был. Живой. А потом… Это я его убила. Потому что со мной что-то не так. Мне страшно. Мне очень страшно. Я не хочу туда, — кивнула она наверх.
Яков молчал.
И то, что он не прогонял ее, не говорил злых слов, уже показалось таким счастьем, такой надеждой, что она, в истовой благодарности, опустилась на пол, обхватила его ноги, словно дерево, прижалась к ним.
Яков, мучимый невыносимостью унижения этой женщины, в отчаянии опустился на колени. Они стояли друг против друга на коленях. И внезапно все стало странно другим. Не таким, каким было еще несколько минут назад, когда они стояли во весь рост. Они как будто проснулись вместе, рядом, и уже не были чужими друг другу. Агния не поднимала головы, чтобы не увидеть на возвышавшемся над ними мольберте ту себя, с которой было сейчас очень страшно встретиться взглядом.
76
Вера тяжело дышала. Только что она долго, бешено, жадно тряслась над телом Якова, так жадно, будто хотела вобрать его в себя всего целиком. Яков закрыл глаза, чтобы не видеть ее. Руки ее ползли по его телу, как змеи. Яков знал, что больше не придет сюда. Он думал, что сегодня ничего не получится между ними. Но опытная Вера знала, как приручить холодное тело, сделать его сопричастным желанному ей наслаждению. С закрытыми веками, кожей он видел над собой темные тучи ее рассыпанных волос. Она громко взвизгнула, как будто ее очень сильно ударили. Яков был рад, что все закончилось. Он ждал, когда она встанет, и освободит его от себя. Вздрогнул. Когда губы ее обожгли поцелуем его веки, открыл глаза. Она улыбалась. От нее пахло потом. Так тяжело дышала, будто задыхалась, и от этого прерывистого дыхания подпрыгивали голые груди, которые он не целовал.
Глаза ее были словно мутное окно, которое давно никто не мыл. За такими окнами живут неприкаянно и несчастливо. Вера ласково гладила его, но чудилось Якову, что каждый палец рук ее ядовитое жало подкравшихся к нему змей, разом выползших из своих логов. Он знал, что больше никогда не вернется в этот дом, но чувствовал, что уйдет отсюда, пропитанный ядом. Она потно улыбалась. В глазах ее была какая-то невыносимо фальшивая подделка под счастье. Глаза эти хотелось задернуть, как окна, за которыми в праздничный день идет долгий, раздражающий дождь,
И тут, откликаясь ее взгляду, он вспомнил далекое-далекое детство, городок свой на высоком берегу реки. С горы к реке спускалась узкая деревянная лестница в сотни ступеней. Яков, бегавший из дому смотреть на приставшие к берегу пароходы (о, как заветно звучали их громогласные гудки!), потом легко взлетал ввысь по бессчетным ступеням. Но однажды он, спеша вниз, к берегу, столкнулся с дядей Игнатом, хозяином соседского дома.
— Не по мне уж оногдысь эта лестница, — сказал тот мальчишке, — ты вона как ловко бегаешь. А я стар уже. Я уж, почитай, не к дому, а к небесам поднимаюсь. То же и тебя ждет. Не вечно бегать будешь. Это только пока ты ступенек не считаешь.
А потом он улыбнулся. Так зло и настойчиво, будто боролся этой улыбкой с кем-то.
— Мне за свою жизнь не стыдно, — сказал дед Игнат, — не хуже других прожил. И я могу сказать, что умру счастливый. Счастливый, понял?
Он очень тяжело дышал, держался за сердце, но также униженно, больно улыбался. Точно, как Вера сейчас. Яков понимал, что ей очень хочется быть счастливой, чтобы не оказаться хуже других, тех, которым удалось хорошо пристроиться после войны.
Якову невыносимо было быть чьей-то мучительной надеждой. Он ясно видел, что Вера хочет быть счастливой назло всем. Тяжело ей, тревожно, страшно. Пусто у нее внутри. И его, Якова, жизнью, она хочет эту пустоту залепить, чтобы сквозняк душу до тяжелой болезни не застудил. Якову невыносимо было играть в счастье. Все равно что в детскую одежду пытаться влезть. Глупо, нелепо, безумию сродни.
Вера легла рядом с ним. Минуту лежали молча, неподвижно. «Хоть, как мертвым, глаза закрывай», — подумал Яков.
77
— Это же так здорово, когда настоящий талант есть! — воскликнула Агния с восхищением восторженного ребенка, — талант… он ведь не каждому дается… талант, — слова ее прыгали, как мячик, в который весело играют дети, — ты ведь настоящий художник. Самый настоящий. А ты давно рисуешь?
— С детства, — сказал Яков, но подробностями делиться не стал.
Совсем еще мальчишкой был, с соседскими ребятами в тот день, как всегда, играл. Но, когда испуганная ребятня от внезапной грозы прочь бросилась, отбился нечаянно ото всех. А, играя, дети далеко забрались, не прямым путем по домам надо было возвращаться.
И вдруг наткнулся на виденного раньше лишь однажды бородача в пенсне. Его пиджак с петлицами висел на суку, болтался, как неприкаянное пугало. Сам он сидел на земле, держа на коленях открытый ящик. Очутившись рядом, Яков отчетливо видел, как из красок рождается мир. Стукнешь по картонке зеленой краской — растет живая трава, проведешь несколько линий черной — появятся деревья. Для этого человека ничего не значила непогода. Но, увидев Якова, остановился. Кисть в воздухе замерла.
— Мальчик, — позвал он бледным, больным, страшным голосом, — поди сюда, не бойся.
И Яков, которому еще секунду назад был не страшен этот человек, вдруг испугался, попятился назад.
— Поди сюда, — настойчиво повторил бородатый художник.
Хлынул дождь. Тяжелые капли принялись когтить невысохшие краски. Бородач встал. Так зло посмотрел на Якова, что тот испугался бежать прочь. Художник протянул мальчику кисть.
— Держи, — сказал твердо, — держи. За меня допишешь. Не сейчас. Когда-нибудь. Мне не справиться. Слабый я. Дождь не одолеть, не то что смерть.
Яков стоял перед ним растерянно.
— Пойдем, — вдруг настойчиво сказал странный художник, — пойдем, — и он взял мальчика за руку, сжал крепко.
Оборвалось все внутри у Якова. Героем страшной сказки себя почувствовал. Никогда еще так жутко не было. Когда в избу входили, глаза от страха зажмурил.
— Открой, — обрушился на него раздраженный голос, зазвенел в ушах, будто оплеуха.
Закричал истошно, забился судорожно, едва глаза открыл. Неприкрытое голое женское тело хлынуло в глаза. Первый раз видел Яков женщину без одежды. И она не двигалась, не дышала. Запекшаяся кровь светилась на губах ее. Шею веревка сдавливала.
— Она не сама повесилась. Это я ее удавил, — услышал над собой Яков, — узнал, что меня обманывает, вот из себя и вышел. Даже когда избил, мало показалось. И вот, теперь… Давно она уже тут лежит. Не знаю, сколько над ней проплакал. Я людей звать не спешу. Мне куда теперь, одна дорога — в острог. Но не вечно же мне над ее телом от раскаяния выть. Я… Я там… Ты меня там встретил, где мы всегда с ней вместе гуляли. Она эти березки, как родные знала, ходила к ним, меня звала. Я хотел хоть красками ее на земле живой оставить. А тут гроза, дождь, ты. В доме страшно, с натуры писать. Нет у меня сил больше. А ты всю ее запомни. Смотри, смотри, глаз не закрывай. Это хорошо, что она голая. Не при любовнике же. А ты небось такими женщин и не видел еще никогда. Смотри, смотри. Может, бог мне тебя послал. Всю ее запомни, не только лицо. Мне все в ней сладко было, потому и не накрыл ничем. Но то, что я не смог, ты сделаешь. Смотри. Смотри! Смотри, говорю! — он, крепко сжав волосы мальчика, чуть не ткнул его лицом в эту мертвую женщину, — за такую хоть в огонь, хоть на каторгу! Ты живой ее на земле сделай, чтобы люди ею вечно в музеях каких-нибудь любовались. Живой ее оставь на земле, живой! Я… ты… там… где… где…

Этот страшный человек дальше стал бормотать уже что-то несвязное, потом отпустил Якова, прошелся несколько раз по комнате, будто отчаянно решаясь взглянуть в ее открытые глаза, и уже больше не находя в себе сил для этого. И затем резко вышел, оставив Якова наедине с мертвой женщиной. Раздался громкий выстрел.
Потом, дома, Яков долгие ночи и дни бредил, звал на помощь, отчаянно метался в пожаре тела, и все время повторял: «я не могу, не могу, у меня нет красок… я не умею рисовать. Я не умею». Когда выздоровел, первое что увидел, масляные краски и щетинные кисти. Мама купила ему в подарок. Отец был против.
— Не богоугодное это дело — малевать, — сказал он.
Тогда отец еще был регентом церковного хора. Он уже потерял двух детей до рождения Якова, умерли от скарлатины. Но на небеса не гневался, старался верить в особый божий промысел. Это потом, после внезапной смерти жены, обозлился, изверился.
Мать, защищая Якова, сказала, что иконы в церкви тоже люди написали.
— Мал он еще иконы писать, — отозвался отец.
— Так потому с малых лет и учиться надо, — не сдавалась мать.
Отец больше спорить не стал, любил ее сильно. И Яков взялся за краски только потому что не хотел никому на свете выдать тот день, что случился с ним до тяжелой болезни. Он хранил его внутри себя, как самую большую тайну, стыдясь и страшась ее. Яков знал, что откажись он от кисти и красок, выдаст себя, даст повод расспросам. Стал стараться. Начало что-то получаться.
Однажды развел краски подсолнечным маслом, они потекли и оставили на бумаге жирные пятна. Расстроился, что огорчилась мать. Зашедший в гости дядя посоветовал предварительно покрывать бумагу прослойкой, и давать ей высохнуть. Тогда можно будет писать красками. Дядя в этом деле был сведущ. Уроки продолжились, когда после смерти отца, тот взял мальчика к себе. Но сироту заботой не миловали.
— Зря это твой отец сделал, — сказал Якову дядя, — большевики так не поступают. Только на правильную дорогу встал, и нате… В петлю влез. Не большевистская это смерть. Позор, а не смерть.
Дяди Яков чурался. Пугала его злая, остервенелая восторженность новой жизнью. Помнил, как мама (тогда еще живая мама) недобро смотрела на появившийся вдруг на пуговице его пальто кумачовый лоскут.
Яков никогда в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь хохотал так громко, затяжно, будто весь мир, как папиросу, вдыхая.
— Давай, выше, выше, — заливался дядя.
Тогда (много дней еще оставалось до расстрельных оргий), решили мстить буржуям. Сначала жандармов, полицейских начальников, а потом и зажиточных граждан, а то и вовсе слишком интеллигентных барышень в початочных ящиках на телеграфных столбах, высоко над землей принялись подвешивать. Особо смешно, конечно, если дама какая висит, барахтается, визжит что есть мочи. Слезами обливается. А ее в ответ повыше норовят поднять.
Икону, что когда-то у матери в изголовье стояла, дядя на улицу вынес, на телегу бросил. Та телега доверху иконами такими гружена была. Подбежал Яков, схватил, к себе прижал родной образ, будто из печи горящей выдернул.
— Не трожь, — тут же разъярился дядя, — хватит мне братниного позора. Думал, перековался, свои религиозные закавыки бросил, а он в петлю. Вместо того, чтобы новую жизнь строить. Эх, — тяжело вздохнул, — мне еще серьезно постараться придется, чтобы из тебя человек вырос.
Тогда не ударил. Но года, считай, не прошло, привык Яков к тумакам и затрещинам. Еще хуже окрики, да взгляды, полные злобы. Семья у дяди, не в пример его брату, большая (все дети живы). Голодные глаза так и глядят, чтоб Яков лишний кусок себе не взял.
Старался сам заработать. Стал помогать дяде, работавшему декоратором в клубе. Жадно учился живописи. Дядя, радовавшийся тому, что Яков выполняет огромную часть его работы и надеявшийся в будущем все поручить ему, записал парня на занятия в студии Пролеткульта. Но родные дяде дети, с которыми рос Яков вместе, еще больше невзлюбили мальчика. Злились, что отец уделяет столько внимания чужому отпрыску.
Когда стало совсем невмоготу, подался прочь из чужого дома, голодал, мыкался по товарным вагонам, иначе, не имея денег, никуда не доберешься. Нанялся рабочим на угольную шахту. Думал уже, что какое-то проклятие над ним висит, оттого, что так до сих пор и не может написать портрет той, увиденной однажды в чужой избе, женщины. Мучила она его, ночами снилась. Никому не приведи впервые в жизни прикоснуться к тайне женской наготы, детскими глазами увидев голое мертвое тело.
Красок уже, конечно, никаких не было, но карандашом пытался после очередной тяжелой рабочей смены поймать, уловить образ той женщины, но она ускользала, улетала, как птица. Сколько ни бился, все получалась не она. И вдруг подумал однажды: ведь он никогда не видел ее живой. А рисовать то, навеки застывшее в памяти мертвое тело, все равно что изображать вместо лица человека призрачное эхо его живого голоса. Яков много думал о той женщине, пытался представить, какой она была, с кем изменила, и почему муж убил только ее, пощадив любовника.
Увидел приятель (приятель тогда уже у него появился) отчаянные рисунки, сказал: «Тебе не здесь горбатиться надо. У тебя талант есть. С таким талантом ты в самой Москве можешь художником стать».
Яков к этим словам прислушался. Но не потому что живописью бредил или в свой талант вдруг истово поверил. Хоть куда от тоски сбежать хотел, которая и в угольной шахте его врасплох застала. На честно заработанные деньги купил билет в Москву, на этот раз обошлось без товарных вагонов. Первое время в столице не знал, где и остановиться. Ехал наугад, наобум, ничего толком не зная, будто и не ехал, а бежал без оглядки. Но почему-то казалось, что в Москве любому место найдется. Весь город обходил, узнавая, куда поступить можно. То, что время для поступления подходящее, это знал твердо.
Но уже отчаянной глупостью стало казаться, что поехал вот так, запросто, без всяких связей и сведений. Ночь уже близилась, а он так еще никуда не и не прибился. И вдруг общежитие увидел, на Мясницкой. Значилось на дверях, что всех вывезли, поскольку тифом заболели. Подумал, что за этими дверьми точно никого нет, почему не переночевать. Авось болезнь не пристанет. Все-таки не на мостовой утра дожидаться. Отворил дверь решительно, и тут же услышал оживленные голоса. Бойкая компания молодых парней в изрядно поношенной одежде удивленно уставилась на него. Оказалось, что это они, незадолго до Якова, в поисках ночлега сломали печать на дверях. Познакомились, разговорились. Один из них, Миша Куприянов, очень высокий, с пышной шевелюрой, в пенсне, тоже приехал поступать.
— Я завтра пойду во Вхутемас, экзамен держать.
Нечаянная встреча все и решила. Все-таки не одному идти. Но Михаила приняли без экзаменов, по одним только представленным работам. Той ночью, в тифозном общежитии на Мясницкой, он не спал до утра, оберегая свои рисунки от кишащих повсюду крыс.
А вот Якову пришлось держать экзамен. Для экзаменационного испытания отводилось целых 6 дней. Три дня нужно было писать один из поставленных в мастерской на выбор натюрмортов, и три дня рисовать с живой модели. Перед тем, как прийти на экзаменационное испытание, непременно нужно было поставить печать Вхутемаса на свои холст, краски, кисти, бумагу. Яков клял себя за беспечность. Он почему-то не думал, что во всем нужно будет обходиться своими средствами. Помог Миша Куприянов. У него и краски, и кисти имелись.
С натюрмортом справился легко. К началу второй части экзаменационного испытания чуть опоздал. Целая толпа уже заполнила мастерскую. Яков видел, что ему уже здесь нет места. Оттуда, где еще можно как-то пристроиться, натурщицу толком и не увидишь. Наконец подошел решительно прямо к ней. Если судьба на кону, робеть не стоит. Не до того. Сел совсем, совсем рядом с ней, как будто вместе сюда пришли.
— Не загораживай! — услышал грубый голос за спиной.
И вдруг глаза ее ясно увидел. Точь-в-точь, как у той, первой женщины из детства, только живые.
Рука сама дернулась, чтобы наваждение смахнуть, темный сон развеять. Но ничего не исчезло. Бился в ознобе Яков. Не экзамен на поступление он тут держал. Он здесь со смертью сражался. Настал наконец час его битвы. Годами рвал он в отчаянии рисунок за рисунком, не в силах сделать живой ту, лежащую в чужой избе, мертвую женщину, на губах которой запеклась кровь. А сейчас он боялся отравить живой блеск глаз натурщицы своими красками, убить трепетно живое, разъять на атомы воздушную улыбку.
С Куприяновым хоть и учились вместе, друзьям не стали. Якова отталкивала его бравурность, увлеченность всяческими эксцентричными выходками да нелепыми розыгрышами. Раз нарисовал билеты, будто настоящие, вбежал в общежитие, запыхавшись.
— Последние остались! Еле добыл! Уже не купишь! Такой матч! Новая эра в футболе! «Живоцерковники» играют с «Сахарниками»! Верхом на лошадях, с керосиновыми лампами в руках! А на воротах у них племянник митрополита.
И ведь нашлись те, кто поверил. Другой раз пустил слух, что на ипподроме за большие деньги ищут художника, который перекрасит лошадей под коров.
Якова раздражала нелепость этих выдумок. И страшно было видеть тех, кто верит им. Начинало казаться, что живешь, окруженный сумасшедшими.
Куприянов стремился быть душой любой компании, фразы не мог сказать без расчета на громкий смех в ответ, сыпал исковерканными словечками, вроде: «ты непокобелим», ожидая хохота, как артист аплодисментов. В работах своих он стремился к карикатурности, насмешке, язвительному искажению пропорций. Яков не понимал этого. Стоит ли безустанно пытаться постичь самые сокровенные тайны великого искусства живописи для того только, чтобы научиться ловчее смеяться над человеком?
Для Якова мастерство художника было в том, чтобы запечатлеть что-то неуловимое, возвышенное, неземное. И не было для него искусства выше, чем навеки оставить живым на земле то, что обречено умереть. Ни за что не хотел Яков смеяться над людьми.
Куприянов к работам Якова относился скептически. Зато видел Яков, с какой восторженностью он встретил художника, принесшего карикатуру для стенгазеты. Рисунок был разделен на две части. Слева сосредоточенный вхутемасовец с глубокими, умными глазами, кропотливо писал натюрморт. Справа беззаботная парочка весело кружилась у зеркала. Куприянов рассмеялся в голос, прочитав надпись под рисунком: «одни корпеют над натюрмортами, а другие над натюрмордами». Яков, случайно оказавшийся рядом, сразу почувствовал себя чужим дальнейшему восторженному разговору. Куприянов с автором восхитившей его карикатуры потом близко сошелся, появился у них и еще один верный приятель. Сдружились так крепко, что и рисовать стали вместе, втроем, подписываясь одним именем, сложенным из букв своих фамилий. Вскоре вошли в большую славу, имя их гремело на всю страну. Карикатуры Кукрыниксов постоянно печатала «Правда».
Однажды (еще задолго до войны) Яков встретил их случайно. Зашел выбрать одежду, и тут в магазин вбежали они, все трое. Возбужденно потребовали показать какой-нибудь костюм, тот, что числится в ходовых товарах. Долго рассматривали, отпуская едкие замечания, попросили другой. Вновь брезгливо оплевали словами, но при этом сказали продавцу: «Нам это, пожалуй, не подходит. Дрянь, конечно, но нам еще хуже надо»».
Обиженный продавец попросил над ним не издеваться.
Яков думал, что знакомые ему с юности художники опять увлечены каким-нибудь (не совсем по возрасту уже) розыгрышем.
Поговорили немного. Оказалось, что сам Маяковский попросил их быть декораторами спектакля по его новой пьесе «Клоп».
— Мейерхольд ставит.
Спектаклей Мейерхольда Яков не видел, но был о нем много наслышан. Решительный режиссер отказывался то от рампы, то от занавеса и декораций, превращая спектакли в митинги, рассаживая по залу сотни клакеров, намеренно сбивавших реакцию зрителей своими неожиданными, сумасшедшими репликами. Хорошо запомнилась Якову и фраза из журнала, в котором театральный критик с пышной фамилией «Эфрос» говорил о предстоящей Мейерхольду работе над «Гамлетом», что должен был для него переложить на современный язык Маяковский.
«Я думаю, Маяковский, сотрудничающий с Шекспиром, не увеличит, а непременно уменьшит революционное, агитационное воздействие трагедии Шекспира».
— Нам Мейерхольд так сказал, — поделился с Яковом Куприянов, — для этой пьесы, беспощадно высмеивающей мещанский быт, оформление надо делать из настоящих вещей, купленных в магазинах, чтобы зритель увидел на сцене те самые вещи, которые он покупает для себя, в свой дом. «Надо ударить по пошлости, наводнившей наш рынок. И одежду не надо шить в костюмерной театра, все купим в магазинах Москвошвея. У вас глаз острый, но надо еще пристальнее присмотреться, по магазинам походить, по парикмахерским, чтобы зрители свои уродливые стрижки увидели, какие наши безалаберные парикмахеры делают». Так нам Мейерхольд сказал. Вот и бегаем по городу, на пошлый товар любуемся, да в безвкусных парикмахерских стрижемся. Один у самого бедового парикмахера стрижётся (чего ради искусства не сделаешь), а двое других его в это время рисуют. Потом меняемся.
Яков видел, с каким вдохновением знакомые художники рвутся ухватить за горло пошлость, язвительно подметить все уродливое, некрасивое. Казалось, в упоении своей внимательностью, они вглядывались в окружающий мир с одной только целью: во всем увидеть предмет для карикатуры. Это было совсем не близко, чуждо Якову. Он вообще считал себя чужим современным ему дням, ничуть не разделяя всеобщей слепой восторженности, оголтелого упоения новыми идеями. Он сопротивлялся времени, чувствовал, что когда-то раньше оно текло величаво и неторопливо, не то что теперь.
Совсем не разделял восхищения (ставшим уже легендарным) действом «левых» художников, которые в день первой Октябрьской годовщины закрыли 233-мя огромными холстами петербургские дворцовые ансамбли и памятники, чтобы хоть условно разрушить, уничтожить привычные очертания города. Яков не понимал этого. Нельзя отнимать у мира его красоту.
Увлекся иконописью Древней Руси. Но не потому что стал истово верующим. Слишком много отнял у него мир, чтобы горечь сомнений не мешала послушной вере. Удалось однажды увидеть работу древнего безымянного мастера. Яков хорошо знал, что недавно еще вся жизнь русского человека не обходилась без икон: перед ними в доме зажигали все лампады и свечи, рядом с ними клали рожениц при тяжелых родах, «благословенные образа» получали при женитьбе от родителей вместе с благословением на брак, да и наречение новорождённого именем отмечалось написанием «мерной» иконы — по росту младенца.
Но как непохожи были виденные Яковом в детстве иконы на работу древнего мастера. Стал много читать о русских иконописцах, книги, хоть и с трудом, но находил. Душа влеклась к величию древних икон. Понял, что начиная с 18-го века слишком много мирского пришло в русское иконописное искусство. Невиданное, бескорыстное, подвижническое служение некоему высшему духу (в котором и самое имя художника добровольно растворялось) сменилось обыкновенным земным эгоистическим самовыражением. Не представить было Якову, что прежний иконописец стал бы похваляться перед другими своей работой.
Старинные свидетельства читал хоть и без веры в них, но с упоением. Как услаждающие душу легенды. В Киево-Печерском патерике, к примеру, говорилось о том, как во время работы греческих иконописцев, украшавших храм на свой иноземный манер, на стене, вдруг, сама изобразилась икона Богородицы, воссиявшая ослепительным светом, и из уст ее голубь выпорхнул.
Или же Симеон Полоцкий рассказывал о русском иконописце, который, забравшись на леса строящегося храма, упал с большой высоты, но простерла к нему руки свои Богородица, изображенная на фреске, и удерживала его до тех пор, пока не выстроили новый «подмост» для чуть было не разбившегося насмерть художника.
Древнее слово было весомо и зримо, и так непохоже на плакатный звон новой речи. Старинные летописи звучали для Якова живее современных авторов, к которым у него давно не было никакого интереса. На месте школы живописи, ваяния и зодчества после Октябрьской революции были учреждены Свободные художественные мастерские, которые позднее переименовали во Вхутемас. В двух огромных корпусах бок о бок жили не только художники и архитекторы, но и поэты, литераторы. Вдосталь наслушался их Яков. Тошнило его уже от современных стихов. Желающий поделиться своими виршами поэт одновременно был похож на жалкого нищего, униженно просящего подаяние, и готового тебя прирезать, озверелого разбойника с большой дороги. Оттого так и влекло Якова к древним мастерам, которые и своей подписи под работами не ставили, не о своей славе они радели.
Но встретились однажды Якову слова старинного иконописца, Иосифа Владимирова. Когда читал их, казалось, что за спиной целая толпа выросла, которая шумит, галдит, не давая никакого покоя, не позволяя больше оставаться одному.
Обрушился Иосиф на русскую икону, возмутился «смуглыми письмами», «темнообразием», «постными лицами». «Время и копоть темнят иконы». «Святых писать надобно, — призывал Иосиф, — светло и румяно, тенно и живоподобно». Яков, читавший эти строки, словно не голос старинного иконописца слышал, а какого-то современного оратора слушал.
Тайное ото всех увлечение Якова было заветно. Он будто нашел сокровенную дверь в прошлое, но забыл ее затворить за собой, и следом полезли самые бойкие и хамоватые, те, кто всегда всем и во всем указывают. Ратующий за светотеневую перспективу, коривший неумение других иконописцев, Иосиф не понимал, что ценность и величие иконы в том, что все изображённое на ней не каким-либо источником света освещается, а само, из света рождается. На таких иконах на твоих глазах мир заново сотворяется. Сопричастности великому творению хотел лишить лицезреющих иконы оголтелый художник.
Яков много думал, по силам ли ему преодолеть время, и сотворить что-то подобное древним мастерам. Даже и браться за это не решался. Во время войны встретил работы Кукрыниксов, совсем другие, полные великой печали. Невозможно было узнать в этих, полных боли, рисунках, давно привычную манеру знакомых карикатуристов. А вот сам Яков теперь, казалось, мог изображать только нелепое, отвратительное, уродливое, заключая самых разных людей в свои карикатуры, как зверей в клетку.
Первую карикатуру сделал против воли, по настойчивости редактора, убеждённого в том, что врага надо изображать как можно более нелепым. Но как быстро душа пропиталась ядом. Уже и на своих не мог взглянуть без усмешки. Значит, непрочно все было в душе, раз не выстоял. Рисунки, полные злобы на людей, стали выплеснувшейся наконец собственной исповедью, которую сдерживал так долго лицемерным молчанием, таил от себя злобу к людям.
Едва окончив учиться, в поисках работы, сделал портрет на заказ. И заказчику вдруг так понравилось, что он Якова и другому порекомендовал. Не хотел Яков браться за работу, но деньги были нужны. Потом и новый заказ получил. До войны еще, не раз побывал в домах тех, кто совсем не бедствовал. Зависти не было. Было непонимание. Отчего, в обход других, возвысились именно эти скользкие, неприятные люди?
Но ни о чем этом не рассказал Агнии Яков. Она смотрела на него тревожно и ласково. Яков обнял ее. Только с ней после смерти Лилии он не почувствовал себя неприкаянно. Говорят об иных неразлучных: «одной крови». Они с Агнией были одной боли. Для них весь мир истошным криком кричал, для них война не кончилась. И один входил в тело другого, словно в бомбоубежище, укрытия, спокойствия ища. И стихали крики. И почти не слышно было падающих бомб.
78
— Я больше не приду, — сказал Яков тихо, он не хотел, чтобы голос его сейчас звучал громко, — мне дорого то, что было. Но больше не надо.
Словно круги от камня по воде, пробежала от этих брошенных слов, дрожь в распахнутых глазах Веры. Якову невыносимо было прощание. Перед ним стоял совершенно чужой человек. Яков уже, будто в петле, задыхался в этом молчании совсем чужой ему женщины. Руки инстинктивно, почти судорожно, искали за чтобы ухватиться, чтобы шею из петли выдернуть, чтобы другая, не своя, жизнь веревку на горле ослабила.
Руки его, словно в темноте, нащупали ее ладони. Странным образом, для того чтобы сейчас хватило сил бесповоротно расстаться с ней навсегда, он должен был найти в Вере что-то родное, чтобы не чувствовать себя таким одиноким перед ней, иначе с ума можно сойти.
— Что ты меня как мертвую гладишь! — зло отдернула от него свои руки, — я тебе не мертвая!
— Я знаю, — сказал Яков, тут же удивившись глупости зачем-то произнесенных слов.
Она подошла совсем близко, лицо над ним наклонила. И Якову показалось сейчас, что это и не лицо вовсе, а ведро с мутной водой, в котором плавают человеческие глаза, нос, губы… Еще чуть-чуть, и расплескается все, на него выльется. Страшно было в этот вечер Якову. Словно жуткий, глупый сон снился. Не всякому легко женщину навсегда оставлять, и честно ей говорить об этом.
— У тебя кто-то есть? — словно змеи, сползли с ее губ, эти слова.
— Молчишь…
На секунду он закрыл глаза, спасаясь от тяжелых брызг ее жуткого, нервного смеха.
— Да, — сказал затем с внезапной для себя самого решимостью.
У тела Веры не было изъянов, но она почему-то представила, как Яков в постели с другой женщиной обсуждает ее тело. Измена — это не просто предательство. Измена — это когда позволяешь другой женщине узнать себя через твоего мужчину, узнать догола. Незнамо кому беспомощно вверяешь сокровенную тайну своей плоти.
— Любишь ее?
Есть слова, что ножа острее.
— Да, — сказал Яков, — люблю.
— Как же так, — Вера отошла от него, спиной повернулась, — Как же так, — она будто говорила с кем-то другим, кто незримо был в комнате, к нему сейчас обращалась, — я же со всей душой, а он…
Яков ждал, когда она опять повернется к нему. Он должен как-то выдержать этот разговор.
— Я же тебе верила, — сказала Вера, по-прежнему стоя спиной, но уже обращаясь не к кому-то невидимому, а к нему, Якову, — я ведь планы строила. А ты… За что ты со мной так.
— Прости, — сказал Яков.
— «Прости»?! — и она резко обернулась, взглянула на него с лютой злобой, — я должна простить? Не хочу больше. Хватит. Я тебе не такая, которую вот так, просто, бросить можно. Увидишь, что будет. Я тебя уничтожу.
Яков смотрел на эту женщину, и удивлялся тому, насколько еще недавно одиноким он был, если мог лечь с ней в постель.
— Я уничтожу тебя, уничтожу, — исступлённо повторяла Вера.
Яков поднялся.
— У меня есть связи, — сказала она, увидев, что он не испугался ее угроз, — серьезные связи. А у тебя и без того был друг антисоветчик. Странно, что ты еще на свободе.
Яков обрадовался этим ее словам, язвительному до мерзости, голосу, злобно выпученным глазам. Еще несколько секунд назад ему было стыдно перед ней, он ощущал с вою вину за то, что обманул какие-то ее надежды. Якову было жалко ее. И вот она сама помогла ему с ней расстаться. Невозможно жалеть ее после этих ее жалких, злобных слов. Не такие слова говорят любящие, когда их обижают любимые. Не было больше между ними ничего. Несколько слов разом могут уничтожить все.
— У меня есть связи, — продолжала бормотать Вера, — вот увидишь!
Яков отвернулся от нее. Ему приходилось уходить, оставляя за спиной мёртвых товарищей. А кто, что, оставалось позади сейчас? Он и сам толком не знал.
79
— Подожди, — позвала торопящегося мужа, Агния.
— Давай потом, — суетливо бросил он в ответ.
— Мне нужно очень серьезно поговорить с тобой, — сказала Агния, мстительно радуясь тому, что сейчас расквитается с мужем за унижения, за предательство и ложь его.
— Я тороплюсь, — зло бросил он.
— Я знаю, — усмехнулась Агния, — к ней так торопишься.
— К кому это к ней? — только сейчас Юрий в разговор вошел, до этого словно за дверьми стоял, будто рядом не чувствовался.
— Послушай, я знаю, что у тебя кто-то есть. Ну, надоела я тебе, сердцу не прикажешь. Но давай не будем мучить друг друга, зачем это.
— Мучить? — тяжело задребезжал его голос, — это я тебя мучаю?
— Я хочу развода.
— Развода? Это как, интересно?! Тебе, что порядки нынешние неизвестны? Товарищ Сталин позаботился о том, чтобы семьи сохранялись. Так просто не разведешься теперь.
— Я знаю, и сейчас разводятся.
— Да?! Это сколько еще пройти надо, чтобы развестись! Сначала объявление обязательно за свои деньги в газету публично дай, что разводиться собираешься, потом народному суду все объясни….
— Ну и дадим, объясним.
— Что?!!! Ты меня, что, перед всеми опозорить хочешь?! Чтобы в газете мое имя полоскалось! Это же позор для мужика. Что я тебе сделал! У тебя нет причин. А так просто, по одной прихоти, теперь не разводят.
— У меня нет причин?! И твоя любовница — это не причина?
— Любовница? Да в рожу бы тебе залепить за такие слова.
— А к кому ты так торопишься сейчас?
— Не твое это дело.
— Да? Давай вместе поедем.
— Хватит! Совсем уже мозгов, смотрю, у тебя не осталось.
— Чего тогда ты меня с собой-то не берешь, если скрывать нечего?! Куда ты сейчас собрался?
— Придёт время, узнаешь. Я дело важное делаю.
— Знаю я, какое у тебя дело. Вот с этим делом и живи. Я одна не останусь. У меня тоже есть.
— Что… что ты сказала… это, что, интересно, у тебя есть?
— Сам меня к нему толкнул.
— Я?
— Хотел любовницу свою к нам в дом привести, а я мешала. Про портрет придумал, очень нужен тебе мой портрет. Но я не дура.
— Что?!!! Это… это… как это… такое-то… что ж на свете-то творится, значит, все вранье… про то, что ты опять к нему ходила, третий раз уже, потому что портрет еще не дописан… это ж я… своими руками… Я как лучше хотел. Тебе в подарок. А ты меня. В грязь. Меня. С грязью.
— Я все равно не нужна тебе.
— Шалава!
— Зачем я тебе, отпусти.
— Значит, и тот выблядок, что у тебя родился, от другого кого нажит был. Я так и чувствовал. Хорошо, что помер.
— Еще одно слово про ребенка, и я тебя ударю.
— Не думай, что просто так теперь отделаешься. Посмотрим еще кто кого.
Но ее трудно было теперь испугать. Агния была счастлива тем, что защищена присутствием в ее жизни другого человека.
— Я тебя убью, — твердо сказал Юрий, — вот увидишь. И он тоже наплачется. Гады вы.
И Юрий шагнул через порог с таким отчаянным видом, будто в пропасть бросался.
80
Вере снились овации.
Страстно желанные аплодисменты обрели ощутимую зримость. Сквозь кожу ладоней многочисленных зрителей прорастали цветы, окуная ее в целый оркестр благоуханий. Эти цветы имели голос. Как шумит море, так и выросшие на ладонях цветы звучали аплодисментами. Вера благодарно кивала в ответ залу. Те, кто только что играли с ней в одном спектакле, сами ушли на задний план, зная, что этот вечер не их, что исступлённо глядящие на сцену зрители хотят видеть на ней лишь Веру, и никого больше. Но в самый блаженный миг триумфа вскочил с места один из зрителей. Вера узнала его. Это был Яков.
— Что вы хлопаете?! — закричал он всем остальным зрителям, — вы, что, не видели, как плохо она играла?! Никакая она не актриса! Кому вы аплодируете?! Одумайтесь!
Вера ждала, что Якова растерзают за эти слова, но случилось совсем непонятное: один за другим зрители стали вставать со своих мест, и уходить, успевая еще кинуть презрительный взгляд на растерянную Веру.
— Куда же вы?! Куда?! — в отчаянии кричала она.
За спиной ее раздался смех. Это смеялись другие актеры. Оказалось: они не ей место на сцене уступили, они отошли в глубь сцены уютнее рассесться, чтобы, как за спектаклем, наблюдать за Вериным позором. От собственного крика проснулась Вера. Лучше бы ей снились бомбы, собственная смерть, пусть бы в этом сне еще не кончилась война… Нет, Якову нельзя прощать другую женщину.
Она договорилась о встрече с Антоном, сказала, что у нее есть очень важная информация для него.
— Я точно знаю, — раскрасневшись от волнения, боли, раздражения, говорила Вера, сидя перед Антоном, — что из себя представляет один мой знакомый. Его считают художником, который на благо Родине служит. А это маска. Он шпион. Он сам мне проговорился, он на иностранную разведку работает. Он такие вещи крамольные говорил… Его… его расстрелять надо! — выпалила наконец Вера сдавившие горло, слова, — это все нельзя так оставлять. Он шпион, провокатор. Я дам подробные показания. Он должен ответить за свои поступки. Его расстрелять нужно, обязательно расстрелять.
Антон встал, наклонился над столом, приблизив свое лицо к Вериному, очень пристально (до жути) посмотрел ей в глаза.
— Я правду говорю, — сказала Вера, испугавшаяся этого взгляда, — все так и было.
— Где вы с ним познакомились? — резко спросил он.
— А это разве важно, — растерялась Вера.
— Где?
— Случайно. Но если надо, я все подробно напишу в показаниях.
— Ты с ним спала? — он словно не говорил, а голос, будто тетиву лука натягивал, все напряженнее, туже становились слова.
— Зачем ты так… зачем… причем тут это, — беспомощно лепетала Вера.
— Спала?
— Об этом надо будет писать в показаниях?
Антон вновь склонился над Верой.
— Стерва, — выдохнул он, — хочешь с моей помощью свои личные отношения выяснять? Я тебе за кем следить сказал?! Но тебе дела нет. Ты мне своих любовников со стороны суешь. Я э
