автордың кітабын онлайн тегін оқу Что же дальше, маленький человек
Ханс ФАЛЛАДА
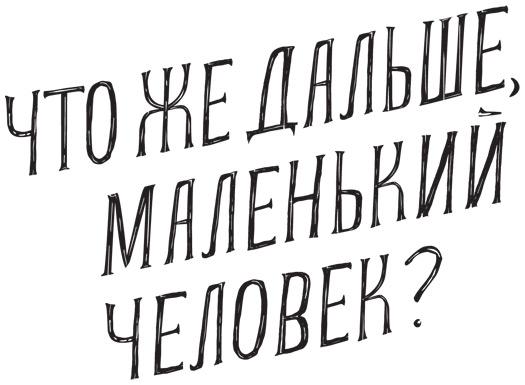
Москва, 2025
16+
Hans Fallada
KLEINER MANN — WAS NUN?
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2024
Перевод с немецкого Дарьи Андреевой
Фаллада, Х.
Что же дальше, маленький человек? / Ханс Фаллада; пер. с нем. Д. Андреевой. — М.: Синдбад, 2025.
ISBN 978-5-00131-654-1
Роман «Что же дальше, маленький человек?» относится к числу самых известных произведений немецкой литературы двадцатого века. Вышедший в Германии в 1932 году, он сделал Ханса Фалладу известным во всем мире, а на родине стал поводом для обвинения писателя в антинацистской деятельности, изъятия книги из библиотек и сожжения значительной части тиража.
В условиях цензуры текст первого издания был «правильно» отредактирован и стал короче авторской версии почти на четверть. Полный текст на немецком языке был опубликован лишь в 2016 году. Настоящее издание впервые на русском языке представляет читателям полную авторскую версию романа.
…Молодые влюбленные Йоханнес и Эмма решают связать свои судьбы и создают семью. Они верят, что любовь поможет им преодолеть все трудности. Но реальность оказывается намного сложнее, чем они себе представляли. Экономика страны в глубоком кризисе, более трети взрослого населения не имеет работы, по улицам маршируют отряды нацистских молодчиков. Жизнь молодой семьи превращается в отчаянную борьбу с нищетой и бесправием…
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2024
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Пролог
БЕЗЗАБОТНЫЕ
Пиннеберг узнает об Овечке кое-что новое и принимает серьезное решение
Сейчас пять минут пятого. Пиннеберг только что проверил. Белокурый молодой человек приятной наружности, он стоит перед домом номер 24 по Ротенбаумштрассе и ждет.
Итак, уже пять минут пятого, а Пиннеберг договорился встретиться с Овечкой без четверти четыре. Он засовывает часы обратно в карман и только сейчас бросает взгляд на табличку, висящую на двери дома номер 24 по Ротенбаумштрассе. Надпись гласит:
«Доктор Сезам.
Женские болезни.
Прием с 9 до 12 и с 4 до 6».
«Ну вот! Уже пять минут пятого. Только закурю, как Овечка, конечно, сразу появится из-за угла. Нет уж. Сэкономлю на сигарете. И без того сегодня опять придется потратиться».
Пиннеберг отводит взгляд от таблички. Ротенбаумштрассе застроена только с одной стороны, а с другой — за проезжей частью, за деревьями, за набережной — течет Штрела. Здесь она уже довольно широкая — скоро впадет в Балтийское море. Дует свежий ветерок, кусты покачивают веточками, тихонько шелестят деревья.
«Живут же люди, — думает Пиннеберг. — У этого Сезама наверняка комнат семь. Зашибает, поди, бешеные деньги. Сколько же он платит за жилье… Двести марок? Триста? Да кто его знает! Десять минут пятого!»
Пиннеберг лезет в карман, достает из портсигара сигарету и закуривает.
Из-за угла выпархивает Овечка: белая юбка в складочку, чесучовая блузка, шляпки нет, белокурые волосы растрепаны.
— Привет, милый. Раньше не смогла вырваться. Бурмейстерша сегодня очень сильно чудила. Сердишься?
— Ни капли. Вот только мы теперь просидим там целую вечность. Пока я жду, уже человек тридцать зашло, не меньше.
— Ну они же не все к врачу. И потом, мы ведь по записи.
— Видишь, как правильно мы сделали, что записались!
— Конечно, правильно. Ты всегда прав, милый! — На лестнице она сжимает ладонями его лицо и порывисто целует. — О господи, как же я рада, что ты снова со мной, милый. Подумать только — почти четырнадцать дней!
— Да, Овечка, — отвечает он. — Мне сразу расхотелось сердиться.
Дверь распахивается. Из полутемного холла на них гаркает белый призрак:
— Страховка!
— Да вы нас хоть впустите, — говорит Пиннеберг и подталкивает Овечку вперед. — И вообще, мы частным образом. По записи. Моя фамилия Пиннеберг.
При словах «частным образом» призрак поднимает руку и включает в холле свет.
— Господин доктор сейчас подойдет. Минутку, будьте добры. Пожалуйста, проходите туда.
Они идут к какой-то двери, минуя другую, полуоткрытую. За ней, по-видимому, общая приемная, где сидят те тридцать человек, которые зашли на глазах у Пиннеберга. Все видят их с Овечкой, и поднимается ропот:
— Да что же это такое!
— Мы раньше пришли!
— Зачем мы вообще платим страховые взносы?
— И побольше, чем этакие франты!
На пороге появляется медсестра.
— Тише, пожалуйста! Вы мешаете господину доктору! Вы все не так поняли. Это зять господина доктора с женой. Так ведь?
Пиннеберг польщенно улыбается, Овечка устремляется к нужной двери. На мгновение воцаряется тишина.
— Живей, живей! — шепчет медсестра, подталкивая Пиннеберга. — Какие же наглые пациенты приходят по страховке! Возомнили о себе невесть что — и это за гроши, которые платит больничная касса…
Дверь захлопывается, Овечка и ее милый оказываются среди красного плюша.
— Тут он, видимо, принимает частных пациентов, — замечает Пиннеберг. — Как тебе? По-моему, ужасно старомодно.
— Все это так гадко, — отзывается Овечка. — Мы ведь тоже обычно ходим к врачам по страховке. Вот так и узнаешь, что говорят у нас за спиной.
— Ну что ты переживаешь? — увещевает он. — Так устроен мир. Мы маленькие люди, с нами не церемонятся…
— Да как тут не переживать…
Дверь открывается, появляется другая медсестра.
— Герр и фрау Пиннеберг? Господин доктор просит вас немного подождать. С вашего позволения, я пока заполню карту.
— Да, конечно, — соглашается Пиннеберг, и тут же следует первый вопрос:
— Сколько вам лет?
— Двадцать три.
Дальше все пошло как обычно.
— Имя — Йоханнес. — Запнувшись, он добавляет: — Бухгалтер.
И продолжает более гладко:
— На здоровье никогда не жаловался. Ну, в детстве, конечно, болел чем положено, но не более того. Насколько я знаю, мы оба здоровы.
И снова, после небольшой заминки:
— Да, мать жива. Отец нет, умер. Отчего умер, не могу сказать.
Потом Овечка:
— Двадцать два. Эмма.
Теперь запинается она:
— В девичестве Мёршель. Здорова. Родители живы. Оба здоровы.
— Хорошо, одну минуту, пожалуйста. Доктор скоро освободится.
— К чему все это, — бурчит Пиннеберг, когда дверь захлопывается. — Мы же всего-навсего…
— Ты так замялся на бухгалтере.
— А ты на «в девичестве Мёршель»! — смеется он. — Эмма Пиннеберг, по прозвищу Овечка, в девичестве Мёршель. Эмма Пинне…
— Уймись! О боже, милый, мне очень нужно кое-куда… Как ты думаешь, где тут?
— Вечно с тобой одно и то же! Вместо того чтобы сходить зара…
— Да сходила я, милый! Правда сходила. Еще на рынке у ратуши. За целых десять пфеннигов. Но когда я волнуюсь…
— Овечка, потерпи немного. Если ты и впрямь…
— Милый, ну мне надо…
— Проходите, — раздается голос.
В дверях стоит доктор Сезам — знаменитый доктор Сезам, о большом, а по мнению некоторых, даже добром сердце которого говорит полгорода и четверть округи. Он написал популярную брошюрку о половом вопросе, и именно поэтому Пиннеберг набрался смелости обратиться к нему и записаться на прием вместе с Овечкой.
И вот этот самый доктор Сезам стоит в дверях и говорит:
— Проходите.
Пиннеберг, переступая порог кабинета, бросает на него робкий взгляд. Человек изо дня в день занимается такими вещами, к нему толпами идут женщины…
Овечка думает: «Он похож на доброго папу, славного, но уставшего. Ему бы выспаться».
— Вы мне писали, герр Пиннеберг, — говорит доктор и роется на столе в поисках письма. — Вы пока не можете иметь детей, так как семье не хватает денег.
— Да, — говорит Пиннеберг, ужасно смущаясь.
— Вы пока раздевайтесь, — говорит врач Овечке и продолжает: — И вам нужно надежное средство. Чтобы надежнее некуда… — Он скептически смотрит на них через золотые очки.
— Я читал в вашей книжке, — говорит Пиннеберг, — эти пессуарии…
— Пессарии, — поправляет доктор. — Да, но не любой женщине они подходят. И потом, бывают всякие затруднения. Получится ли у вашей жены…
Он поднимает на нее взгляд. Овечка уже начала раздеваться, сняла часть вещей — блузку и юбку. Она высокого роста, со стройными ногами и широкими плечами.
— Что ж, к делу, — говорит врач. — Блузку для этого снимать вовсе не обязательно, деточка.
Овечка густо краснеет.
— Да уж оставьте, пусть лежит. Идите сюда. Минуточку, герр Пиннеберг.
Вдвоем они уходят в соседнюю комнату. Пиннеберг смотрит им вслед. Доктор Сезам не достает «деточке» даже до плеча, а в одних трусах Овечка кажется особенно высокой. Пиннеберг в очередной раз думает: какая же она красивая, лучшая девушка на свете, другой такой нет. Он работает в Духерове, а она здесь, в Плаце, и встречаются они от силы раз в четырнадцать дней, а потому его восторг всегда свеж, а аппетит просто неописуем.
Из-за стены доносится голос врача, время от времени он задает вопросы, какой-то инструмент звякает о поддон; этот звук он не раз слышал у зубного — очень неприятный.
Вдруг Пиннеберг вздрагивает — такого голоса он у Овечки еще не слышал. Она говорит очень громко, звонко, почти кричит:
— Нет, нет, нет!
И еще раз:
— Нет!
А потом тихо, но он понимает:
— Боже мой!
Пиннеберг делает три шага к двери — что все это значит? Что там творится? Но тут опять раздается голос доктора Сезама — слов не разобрать, и снова звякает инструмент.
Повисает долгая тишина.
Лето в разгаре, середина июля, ярко светит солнце. Небо густо-синее, к окну тянутся ветки, покачиваясь на морском ветру.
Пиннебергу вспоминается песенка из детства:
Ветер дует, задувает,
С детки шапочку срывает.
Ветер, шапку не воруй,
Лучше детку поцелуй!
В приемной гул голосов. Люди извелись от ожидания. «Мне бы ваши заботы. Мне бы…»
Овечка и врач возвращаются. Пиннеберг бросает на Овечку испуганный взгляд: какие у нее большие глаза, словно расширились от ужаса. Она бледна, но улыбается ему, сначала через силу, а потом все ее лицо расплывается в улыбке, проясняется, расцветает…
Врач стоит в углу, моет руки. Косится на Пиннеберга. И скороговоркой произносит:
— Поздновато, герр Пиннеберг, поздновато предохраняться. Теперь уже ничего не поделаешь. Судя по всему, пошел второй месяц.
У Пиннеберга перехватывает дыхание. Затем он с трудом произносит:
— Господин доктор, этого не может быть! Мы были очень осторожны. Этого просто не может быть. Скажи ему, Овечка.
— Милый! — отвечает она. — Милый…
— Факт остается фактом, — резюмирует врач. — Сомнений быть не может. И поверьте, герр Пиннеберг, ребенок украшает брак…
— Господин доктор, — произносит Пиннеберг, губы у него трясутся, — господин доктор, я получаю сто восемьдесят марок в месяц! Я вас умоляю, господин доктор!
Вид у доктора Сезама очень уставший. Он знает, что сейчас последует, он слышит это по тридцать раз на дню.
— Нет, — говорит он. — Нет. Об этом и речи быть не может. Вы оба здоровы. И не так уж мало вы зарабатываете. Даже совсем немало!
— Господин доктор!.. — в панике восклицает Пиннеберг.
Овечка стоит у него за спиной и гладит по голове:
— Ну, перестань, милый, перестань! Все образуется.
— Но это же невозможно… — вырывается у Пиннеберга, и он замолкает.
Входит медсестра.
— Господин доктор, вас к телефону.
— Ну вот, видите, — говорит врач. — Подождите, еще радоваться будете. А когда ребенок родится, сразу приходите ко мне. Тогда и позаботимся о предохранении. На грудное вскармливание не полагайтесь. Ну что ж… Крепитесь, деточка!
Он жмет Овечке руку.
— Я бы хотел… — начинает Пиннеберг и достает бумажник.
— Ах да, — говорит врач, уже стоя в дверях, и окидывает их оценивающим взглядом. — Скажем… пятнадцать марок, сестра.
— Пятнадцать… — протяжно повторяет Пиннеберг, глядя на дверь.
Доктор Сезам уже ушел. Помешкав, Пиннеберг достает купюру в двадцать марок, хмуро наблюдает, как выписывают чек, и забирает его.
Вдруг его лоб разглаживается.
— Больничная касса ведь возместит мне эти деньги, верно?
— Нет, не возместит, — отвечает медсестра. — Определение беременности страховка не покрывает.
— Пойдем, Овечка, — зовет он.
Они медленно спускаются по лестнице. Вдруг Овечка останавливается и берет его за руку.
— Не расстраивайся так, ну пожалуйста! Все образуется.
— Да. Да, — отзывается он, погруженный в свои мысли.
Они идут по Ротенбаумштрассе, потом поворачивают на Хоэштрассе. Здесь много домов и толпы людей, вереницами едут машины, уже продают вечерние выпуски газет — на Пиннеберга и Овечку никто не обращает внимания.
— Не так уж мало вы зарабатываете, говорит он, и забирает пятнадцать марок из моих ста восьмидесяти. Настоящий грабеж!
— Я справлюсь, — твердит Овечка. — Как-нибудь справлюсь.
— Да что уж там… — откликается он.
После Хоэштрассе они оказываются на Крюмпервег, и их оглушает тишина.
Овечка говорит:
— Теперь я все понимаю.
— Что именно? — уточняет он.
— Да ничего особенного… просто по утрам меня немного мутит. Да и вообще странно себя чувствую…
— Но по месячным ты должна была заметить?
— Я все ждала, что они начнутся. Все ведь первое время на это рассчитывают…
— А вдруг он ошибся?
— Нет. Не думаю. Похоже, он прав.
— Но ведь может такое быть, что ошибся?
— Нет, по-моему…
— Ну пожалуйста! Дослушай хоть разок, что я говорю! Ошибка возможна?
— Ошибка… Да вообще все возможно!
— Ну вот, может, и месячные завтра начнутся. Ух, я тогда ему напишу! — Он уходит в себя, мысленно пишет письмо.
За Крюмпервег начинается Хеббельштрассе, они неспешно бредут сквозь летний вечер, на этой улице растут красивые вязы.
— И свои пятнадцать марок назад потребую, — внезапно выпаливает Пиннеберг.
Овечка не отвечает. Она энергично ставит ногу на всю ступню и внимательно смотрит под ноги: теперь все по-другому…
— А куда мы, собственно, идем? — вдруг спрашивает он.
— Мне надо домой, — говорит Овечка. — Я не предупреждала мать, что задержусь.
— Ну вот еще! — восклицает он.
— Не ругайся, милый, — просит она. — Как я могла предупредить, если ты только сегодня утром позвонил мне на работу. Я посмотрю, может, смогу еще раз выбраться к тебе в половине девятого. Каким поездом ты хочешь уехать?
— В полдесятого.
— Ну вот, провожу тебя на вокзал.
— И больше ничего, — добавляет он. — Опять ничего. Ну и жизнь…
Лютьенштрассе — настоящая рабочая улица, здесь всегда полно детей, толком не попрощаешься.
— Не переживай так, милый, — говорит она, протягивая ему руку. — Я справлюсь.
— Да-да, — пытается улыбнуться он. — Ты у меня козырной туз, Овечка, и побьешь любую карту.
— И в полдевятого я приду. Обещаю.
— А сейчас? Даже не поцелуешь?
— Нет-нет, не могу, сразу сплетни пойдут. Выше нос, выше нос!
Она смотрит на него.
— Ну хорошо, Овечка, — соглашается он. — Ты тоже не переживай. Как-нибудь все устроится…
— Конечно, — отвечает она. — Я и не собираюсь отчаиваться. Ну, до встречи.
Она стремительно взбегает по темной лестнице, ее сумочка стучит о перила: тук-тук-тук…
Пиннеберг смотрит на ее чудесные ножки. Уже триста восемьдесят семь раз — а может, шесть тысяч пятьсот тридцать два раза — Овечка убегала от него по этой треклятой лестнице.
— Овечка! — кричит он. — Овечка!
— Да? — спрашивает она сверху, перегибаясь через перила.
— Погоди секунду! — кричит Пиннеберг. Несется по лестнице, останавливается перед ней, едва дыша, хватает за плечи. — Овечка! — произносит он, задыхаясь от бега и волнения. — Эмма Мёршель! А может, поженимся?
Мама Мёршель — герр Мёршель — Карл Мёршель. Пиннеберг в логове Мёршелей
Эмма Мёршель ничего не ответила. Высвободилась из его рук и присела на край ступеньки. Ноги вдруг перестали ее держать. Сидя на лестнице, она подняла взгляд на своего милого.
— О боже! — воскликнула она. — Ах, если бы, милый!
Глаза ее заблестели. Они у Овечки сине-зеленые, и теперь из них лился свет.
«Словно в ней зажглись свечи всех рождественских елок», — подумал Пиннеберг и до того растрогался, что сам смутился.
— Ну и хорошо, Овечка, — сказал он. — Давай поженимся. И по возможности скорее… а то как же… — Он бросает взгляд на ее живот.
— Милый, я тебе еще раз говорю: ты не обязан этого делать. Я и так справлюсь. Но ты, конечно, прав: гораздо лучше, чтобы у Малыша был отец.
— У Малыша, — повторил Йоханнес Пиннеберг. — Точно, Малыш…
На мгновение повисло молчание. В его душе шла борьба: сказать ли Овечке, что, делая ей предложение, он вовсе не беспокоился о каком-то Малыше, а только думал, что в такой летний вечер нет ничего хуже, чем три часа околачиваться на улице в ожидании своей девушки. Но все-таки он этого не сказал. Попросил:
— Ты лучше встань, Овечка. На лестнице такая грязь. А у тебя юбка белая…
— Да бог с ней, с юбкой, пропади она пропадом! Что нам до каких-то юбок! Я счастлива, Ханнес, милый мой! — Она вскочила и бросилась ему на шею.
И дом оказался к ним благосклонен: из двадцати жильцов, ходивших туда-сюда по этой лестнице, не показался ни один, хотя после пяти вечера наступает то самое время, когда кормильцы возвращаются домой, а их хозяюшки второпях бегут прикупить то, что забыли для ужина. Но сейчас на лестнице не было ни души.
Наконец Пиннеберг освободился из ее объятий и сказал:
— Обниматься мы теперь можем и наверху — как жених с невестой. Пойдем.
— Ты прямо сейчас хочешь пойти со мной? — засомневалась Овечка. — Может, лучше я подготовлю отца с матерью? Они ведь ничего о тебе не знают.
— Все равно это придется сделать, так что лучше не откладывать в долгий ящик, — возразил Пиннеберг — он не хотел оставаться один. — Да и потом, они же наверняка обрадуются.
— Ну как сказать, — задумчиво проговорила Овечка. — Мама-то да. А папа… Не принимай близко к сердцу. Папа любит ерничать, но при этом не пытается никого обидеть.
— Уверен, я все правильно пойму, — ответил Пиннеберг.
Овечка открыла дверь: маленькая темная прихожая, пропахшая луком. Из-за притворенной двери раздался голос:
— Эмма! Поди сюда!
— Сейчас, мама, — отозвалась Эмма Мёршель. — Только разуюсь…
Взяв Пиннеберга за руку, она на цыпочках провела его в маленькую комнатку с двумя кроватями, выходившую окнами во двор.
— Проходи, вещи оставь здесь. Да, это моя кровать, я тут сплю. На второй спит мама. Отец и Карл спят в соседней комнате. Ну, идем же. Постой — волосы! — Она быстро провела расческой по его лохматой голове. — К теще надо являться в приличном виде, милый!
Сердца у них колотились. Она взяла его за руку, они прошли через прихожую и толкнули дверь на кухню. У плиты сгорбившись стояла женщина и что-то жарила на сковороде. Пиннеберг увидел коричневое платье и большой синий фартук.
Женщина даже не взглянула на них.
— Сбегай в подвал, Эмма, принеси угля. Я Карла уже сто раз просила…
— Мама, — сказала Эмма, — это мой молодой человек — Йоханнес Пиннеберг из Духерова. Мы собираемся пожениться.
Женщина подняла голову от плиты. Лицо у нее было смуглое и морщинистое, с волевым, сурово сжатым ртом и очень светлыми, словно выцветшими глазами. Пожилая женщина из рабочего класса. Мгновение она разглядывала Пиннеберга — пристально и зло. Затем снова повернулась к своим картофельным оладьям.
— Ишь чего, — сказала она. — Будешь теперь своих кавалеров в дом водить? Иди принеси угля, жара совсем нет!
— Мама, — проговорила Овечка и попыталась засмеяться, — он правда хочет на мне жениться.
— Неси уголь, кому сказала! — рявкнула мать, взмахнув вилкой.
— Мама!
Женщина вскинула голову и медленно отчеканила:
— Ты еще тут?! Тумака ждешь?!
Овечка в смятении сжала руку Пиннеберга. Схватила корзину, крикнула с напускной веселостью: «Я сейчас!» — и дверь в прихожую захлопнулась.
Пиннеберг в растерянности стоял посреди кухни. Он с опаской покосился на фрау Мёршель, словно даже взгляд мог вывести ее из себя. Потом посмотрел в окно. В нем виднелись только синее небо да печные трубы.
Фрау Мёршель сдвинула сковородку, и конфорки загудели. Она поворочала в плите кочергой и пробурчала что-то себе под нос.
Пиннеберг вежливо переспросил:
— Что, простите?
Это были первые слова, которые он произнес у Мёршелей.
Лучше бы он молчал, потому что старуха накинулась на него, как коршун. В одной руке она держала кочергу, в другой — вилку, которой переворачивала оладьи. Она грозно размахивала ими, но страшно было не это, а ее лицо, которое дергалось и кривилось. А еще страшнее — свирепые, злобные глаза.
— Только посмейте опозорить мою девочку! — обрушилась она на него вне себя от ярости.
Пиннеберг попятился.
— Так я же хочу на ней жениться, фрау Мёршель! — робко пробормотал он.
— Думаете, я ничего не понимаю! — твердо сказала она. — А я уже две недели только и жду! Все думаю: когда она мне скажет, когда кавалера приведет? Только и жду! — Она перевела дыхание. — Моя Эмма девушка приличная, зарубите себе на носу, а не шваль какая-нибудь. Приветливая, слова грубого матери не скажет! А вы собрались ее опозорить?
— Нет, что вы… — испуганно шепчет Пиннеберг.
— Как же, как же! — орет фрау Мёршель. — Так я вам и поверила! Я уже две недели дожидаюсь, когда она отдаст свои марлечки в стирку, — и ничего! Как вы могли, как?
Пиннеберг не знает, что сказать. «Конечно, она сходит с ума от страха», — думает он, и — что странно — больше на нее не злится и не боится ее. Он понимает, что это мать Эммы, что с другой матерью Овечка не стала бы такой, какая она есть.
— Ну… дело молодое… — мягко произносит он.
— Эх вы, — говорит она по-прежнему сердито, — заморочили голову моей девочке! — И вдруг снова как заорет: — Свиньи вы, мужики, все вы свиньи, тьфу на вас!
— Мы как с формальностями разберемся, сразу поженимся, — обещает Пиннеберг.
Фрау Мёршель вновь становится к плите. Жир шипит, она спрашивает:
— Вы кто вообще?
— Бухгалтер. В зерноторговой фирме.
— Конторщик, стало быть?
— Да.
— Лучше бы на заводе работали. А то норовите залезть повыше, а самим жрать нечего. Сколько получаете?
— Сто восемьдесят марок.
— Это после вычетов?
— Нет, всего.
— Ну и ладно, — говорит фрау Мёршель, — оно и хорошо, что не густо. Моя Эмма — девушка скромная, пусть такой и остается. — И вдруг снова злится: — На приданое особо не рассчитывайте! Мы люди рабочие. Белье разве что, которое она сама себе покупала. Может, я тоже кое-какого бельишка наскребу, надо с мужем поговорить.
— Все это ни к чему, — отвечает Пиннеберг.
— Да у вас у самого ничего за душой! И на бережливого человека вы не похожи — с таким-то костюмом…
Пиннебергу не приходится признавать, что она попала в точку, потому что возвращается Овечка с углем. Она в отличном настроении.
— Ну что, тебя еще живьем не съели, бедный мой муж? — интересуется она. — Мама у нас вечно кипит, как чайник!
— Язык попридержи, — косится на нее старуха. — А то все-таки получишь тумака. Ступайте-ка в спальню и там лижитесь сколько влезет. А я пока с отцом переговорю с глазу на глаз.
— Да ну тебя, — говорит Овечка. — Ты хоть оладий моему молодому человеку предложила? У нас сегодня, между прочим, помолвка!
— А ну брысь отсюда! — рычит фрау Мёршель. — И не вздумайте запираться! Я к вам буду заглядывать, чтобы глупостями не занимались.
И вот они сидят на белых стульях за маленьким столиком, друг напротив друга.
— Мама — простая рабочая, — говорит Овечка. — В выражениях не стесняется, но без задней мысли.
— О, еще с какой задней мыслью! — с усмешкой отвечает Пиннеберг. — Только представь: твоя мать прекрасно знает, что сказал сегодня врач.
— Мама целыми днями дома, — объясняет Овечка. — Она всегда все знает. Отцу однажды повысили зарплату, а он не хотел говорить об этом матери, потому что она оставляет ему очень мало денег. Но не прошло и двух недель, как мама обо всем узнала.
— Кажется, она согласна, — осторожно говорит Пиннеберг.
— Конечно, согласна. Раз готова поговорить с отцом, значит, согласна. По-моему, ты ей понравился.
— Ты так думаешь? — сомневается Пиннеберг. — Что-то не похоже!
— Просто мама такой человек. Ей только дай побраниться. И чем больше она тебя любит, тем больше ругается. Я давно все это пропускаю мимо ушей.
На миг повисает молчание, оба благонравно сидят, положив руки на стол.
— Еще же кольца нужно купить, — задумчиво говорит Пиннеберг.
— О боже, точно! — восклицает Овечка. — Ну-ка скажи, тебе какие больше нравятся — блестящие или матовые?
— Матовые! — отвечает он.
— Мне тоже! Мне тоже! — радуется она. — Вот здорово! Но сколько они стоят?
— Не знаю. Марок тридцать?
— Так дорого?
— Ну, если золотые покупать.
— Само собой, золотые! Давай снимем мерки.
Он придвигается к ней. Они отматывают от катушки нитку. Снять мерку оказывается не так просто. Нитка то впивается в палец, то болтается на нем.
— Разглядывать руки — к ссоре, — говорит Овечка.
— А я и не разглядываю, — отвечает он. — Я расцеловываю! Расцеловываю твои ручки, Овечка…
В дверь с силой барабанят костяшками.
— Выходите! Отец пришел!
— Идем! — отвечает Овечка и вырывает руки. — Надо привести себя в порядок. Отец вечно отпускает шуточки.
— А какой он вообще, твой отец?
— Ох, ну вот сейчас сам увидишь. А впрочем, какая разница? Ты же на мне женишься — на мне, на мне, на мне, а не на отце и не на матери.
— На тебе с Малышом.
— На мне с Малышом, да. У него будут очень славные безалаберные родители. Даже четверть часа не могут прилично просидеть …
На кухонном столе — колбаса и пять белых фаянсовых тарелок с орнаментом в синюю шашечку по краю. Пять скверных жестяных приборов. Тарелка с двумя солеными огурцами. Три стакана и три бутылки пива.
За кухонным столом сидит худощавый мужчина в серых штанах, серой жилетке и белой тенниске — без куртки, без воротничка. На ногах у него тапочки. Желтое морщинистое лицо, маленькие острые глазки за съехавшим пенсне, седые усы, почти белая эспаньолка.
Он читает «Фолькштимме», но едва Пиннеберг с Эммой показываются на пороге, опускает газету и рассматривает молодого человека.
— Значит, это вы намерены жениться на моей дочери? Очень рад, пожалуйста, присаживайтесь. Вон там, да, чтобы лицо было на свету. Впрочем, подумайте хорошенько.
— Что? — бормочет Пиннеберг.
Овечка, повязав фартук, помогает матери. Фрау Мёршель бурчит:
— Где этот негодник шляется? Оладьи остынут!
— Сверхурочная, — лаконично отвечает герр Мёршель. И подмигивает Пиннебергу. — У вас, поди, тоже сверхурочная работа бывает?
— Да, — говорит Пиннеберг. — Частенько.
— Но, поди, не платят?
— Увы. Начальство говорит…
Что говорит начальство, герра Мёршеля не волнует.
— Вот видите, этим-то вы и отличаетесь от нас — пролетариев с развитым классовым сознанием: Карл сверхурочной работы даром делать не будет.
— Герр Кляйнхольц говорит… — опять начинает Пиннеберг.
— Что говорят начальники, молодой человек, — замечает герр Мёршель, — мы давно знаем. Нас это не интересует. Нас интересует, что они делают. У вас же, наверное, и договор есть?
— Да, но я верю… — начинает Пиннеберг.
— Вера — это к церкви. Договор наверняка есть. И в нем сказано, что сверхурочная работа должна оплачиваться. Так почему же вы ничего не получаете?
Пиннеберг пожимает плечами.
— Потому что вы, служащие, неорганизованные, — объясняет ему герр Мёршель. — Между вами нет товарищества, нет солидарности. Вот с вами и делают что хотят.
— Я организованный, — бурчит Пиннеберг. — Я состою в профсоюзе.
— Ой, Эмма, ой, мать! Да наш юноша, оказывается, член профсоюза! Кто бы мог подумать! Такой модник — и член профсоюза! — Мёршель склоняет голову на плечо и, прищурившись, смотрит на будущего зятя. — И как же называется ваш профсоюз, голубчик ты мой? Расскажи нам!
— Объединение германских профсоюзов служащих, — говорит Пиннеберг, злясь все больше.
Мёршель сгибается пополам от хохота.
— ОГПС! Мать, Эмма, держите меня, он называет это профсоюзом, цветочек наш! Желтую контору, которая пытается усидеть на двух стульях! Господи, дети, насмешили так насмешили…
— Но позвольте, — сердится Пиннеберг, — наш профсоюз вовсе не желтый! Наниматели нас не финансируют. Мы сами платим взносы.
— Вашему начальству вы их и платите! Желтым бонзам! Ну, Эмма, парня ты себе нашла что надо. Огэпээсника! А вы хотя бы знаете, молодой человек, с каким лозунгом ваш профсоюз выходил на последние выборы в рейхстаг?
— Ни с каким. Мы вне политики.
— У нас они сказали: голосуйте за демократов, а в десяти деревнях отсюда говорили: голосуйте за Бюргерский блок1. Вне политики… Хе-хе…
Пиннеберг бросает беспомощный взгляд на Овечку, но та отводит глаза. Она-то, поди, привыкла, но даже если так, ему от этого не легче.
Герр Мёршель не унимается:
— Ваша фамилия — Пиннеберг? Конечно, фамилией попрекать нельзя, ее не выбирают. Но все же — Эмма Пиннеберг… надо бы еще пораскинуть мозгами, Эмма…
— Мне нравится, отец.
— Блаженная ты! Так вот, герр Пиннеберг, я тридцать пять лет состою в партии…
— В какой партии?
— Партия у нас одна. СДПГ2. Остальные… ну, вроде вашего профсоюза. И благодаря партии я из рабочего стал тем, кем являетесь вы, — конторским служащим. Я работаю в партбюро. В конторе, стало быть. Именно благодаря партии я стал организованным, благодаря ей я уже давно не делаю сверхурочной работы даром, благодаря ей я был и остаюсь настоящим пролетарием.
— Понятно, — бормочет Пиннеберг.
— Служащие… Уши бы мои этого не слышали, — говорит Мёршель. — Думаете, вы лучше нас, рабочих!
— Я так вовсе не думаю.
— Думаете-думаете. А с чего вы это взяли? С того, что получки дожидаетесь не неделю, а целый месяц? С того, что вам не платят за переработки, срезают оклад ниже минимального тарифа, а вы даже бастовать не в состоянии, вы все штрейкбрехеры…
— Но дело ведь не только в деньгах, — возражает Пиннеберг. — Мы мыслим иначе, чем большинство рабочих, у нас другие запросы…
— Мыслят они иначе, — повторяет Мёршель, — иначе мыслят… Мысли-то у вас самые что ни на есть пролетарские…
— Не соглашусь, — отвечает Пиннеберг. — Вот, к примеру, я…
— Вот, к примеру, вы, — подхватывает Мёршель, сощурившись и глумливо ухмыляясь. — Аванс-то вы, к примеру, взять не забыли?
— Что? — растерянно бормочет Пиннеберг. — Аванс?
— Ну да, аванс. — Он ухмыляется еще шире. — У Эммы, у дочки моей, аванс-то взяли! Не очень-то красиво, молодой человек. Больно пролетарские замашки…
— Я… — начинает Пиннеберг, багровея.
Ему хочется хлопнуть дверью и рявкнуть: «Да ну вас всех!»
Но тут вмешивается фрау Мёршель:
— Да прекрати ты! Что сделано, то сделано. Тебя это не касается.
— А вот и Карл пришел! — кричит Овечка, услышав, как хлопнула входная дверь.
— Так подавай на стол, жена, — говорит Мёршель. — Но все-таки правда на моей стороне, зятек, спросите хоть у пастора, некрасиво это…
Входит молодой человек, хотя слово «молодой» применимо только к его возрасту: вид у него довольно потасканный, физиономия еще более желтая и желчная, чем у старика Мёршеля.
— Вечер добрый! — бурчит он и, не обращая на гостя ни малейшего внимания, снимает куртку и жилетку, а следом и рубашку.
Пиннеберг наблюдает за ним с растущим изумлением.
— Сверхурочная? — спрашивает старик.
Карл Мёршель снова что-то бурчит в ответ.
— Потом искупаешься, Карл, — говорит фрау Мёршель. — Иди есть.
Но Карл уже открыл кран и самозабвенно моется, голый до пояса, что смущает Пиннеберга — ведь тут Овечка. Впрочем, ее это ничуть не смущает — видимо, привыкла.
Зато Пиннеберга многое смущает. Убогие фаянсовые тарелки с потемневшими сколами, холодные картофельные оладьи с солеными огурцами — жалкое подобие обеда, успевшее нагреться бутылочное пиво, которое выставлено только для мужчин, да и вся эта кухонька, и моющийся Карл…
Пиннебергу все виделось иначе. После холостяцких обедов всухомятку он мечтал о белой скатерти, о чистой, приличной посуде, о нарядной хозяйке… Он смотрит на Овечку.
«У нас такого не будет», — думает он. Ему хочется, чтобы она хоть раз взглянула на него, но она вполголоса говорит с матерью, что-то про глажку и стирку.
Карл садится за стол, ворчит:
— Еще и пиво?
— Это жених Эммы, — поясняет фрау Мёршель. — Они собираются пожениться.
— А, — говорит Карл. Вопрос для него исчерпан. Он обращается к отцу: — Завтра меня не буди, скажу, что заболел.
— С чего это? — спрашивает старик. — Когда это ты разбогатеть успел? Мать уже две недели ждет денег на хозяйство.
— Пусть Эмма платит побольше, раз завела себе богатея-буржуя. А то твои социал-фашисты опять нас подставили на фабрике.
— Социал-фашисты… — повторяет старик. — Кто тут фашист, так это ты, советский прихвостень!
— Опять за свое, — говорит Карл, — а сами-то, крейсерные вояки…3
И начались споры.
Коалиция в веймарском парламенте, включавшая в себя партии правого и центристского толка. — Здесь и далее, если не указано отдельно, примечания редактора.
Социал-демократическая партия Германии.
В 1928 г. в рейхстаге развернулась дискуссия о строительстве тяжелых крейсеров между националистически настроенными группами и левыми партиями, полагавшими, что деньги следует пустить на социальные проекты. Разногласия привели к правительственному кризису. — Прим. переводчика.
Сцена в ночи о любви и деньгах
На свой поезд Пиннеберг торопиться не стал — уедет утренним, четырехчасовым. Все равно успеет на работу.
Они сидят вдвоем на темной кухоньке. В одной комнате спит отец семейства, в другой — фрау Мёршель. Карл ушел на собрание КПГ4.
Сдвинув два кухонных стула, они сидят спиной к остывшей плите. Дверь на маленький балкон распахнута, ветер слегка колышет занавеску. За ней — раскаленный двор с горланящим радио, а над ним — ночное небо, темное, с бледными звездами.
— Я мечтаю, — говорит Пиннеберг, сжимая руку Овечки, — чтобы у нас дома было красиво. Ну, знаешь, — силится объяснить он, — светлые комнаты, белые шторы и везде ужас как чисто!
— Понимаю, — говорит Овечка. — Понимаю, что у нас тебе не нравится, ты к такому не привык.
— Да я же не об этом, Овечка.
— Нет-нет. Почему не сказать прямо — ведь и в самом деле все плохо. Плохо, что Карл с отцом постоянно цапаются. И что отец с матерью вечно на ножах — тоже плохо. И не прибрано, и мужчины стараются спрятать от матери деньги, а она кладет им порции поменьше… все это плохо.
— Но почему они так живут? У вас три человека зарабатывают, бедствовать вы не должны.
Овечка не отвечает на вопрос.
— Я здесь словно чужая, — признается она вместо этого. — Чувствую себя Золушкой. Отец и Карл приходят с работы и отдыхают. А мне еще и стирать, и гладить, и шить, и штопать. Да и ладно бы! — восклицает она. — Я же не против! Но все это как бы само собой разумеется, меня же за это и шпыняют, и ругают, хоть бы раз кто-нибудь похвалил. А Карл еще и ведет себя так, будто это он меня кормит, потому что больше зарабатывает… Я, конечно, получаю не так уж много, но сколько нынче платят продавщице?
— Скоро все это останется в прошлом, — обещает Пиннеберг. — Совсем скоро.
— Да ведь дело не в этом! — восклицает она в отчаянии. — Не в этом дело! Понимаешь, милый, они меня всю жизнь презирают, только и слышу, какая я дура. Конечно, я не такая уж умная. Многого не понимаю. Да и не красавица…
— Ты настоящая красавица!
— Ты первый, кто так говорит. Когда мы ходили на танцы, меня никто не приглашал. А когда мать сказала Карлу, пусть, мол, друзей попросит, он ей: «Да кому охота танцевать с такой мымрой?» Честное слово, ты первый…
Пиннебергом овладевает неприятное чувство. «Ей-богу, — думает он, — зачем она мне все это рассказывает? Я всегда считал ее красавицей, гордился, что она со мной. А может, она и впрямь некрасивая?»
Но Овечка не умолкает:
— Пойми, милый, я не жалуюсь. Просто хочу хоть разок высказать все как есть, чтобы ты знал: я тут чужая, мое место — рядом с тобой. Только с тобой! И я тебе страшно благодарна, не только за Малыша, но и за то, что вызволил Золушку…
— Ну что ты, — говорит он. — Ну что ты!
— Нет, погоди. Раз ты хочешь, чтобы у нас было светло и чисто, тебе придется немножко потерпеть, я и готовить-то толком не умею. А если что-то вдруг не так, говори мне об этом прямо, и я обещаю, что никогда-никогда не буду тебе врать…
— Конечно, Овечка, конечно. Все будет хорошо.
— И давай никогда-никогда не будем ссориться. О боже, милый, как же мы будем счастливы вдвоем! А потом и втроем — с нашим Малышом.
— С нашим? А если родится девочка?
— Наш Малыш — мальчик, я тебе точно говорю — маленький сладенький Малышок.
Немного погодя Пиннеберг и Эмма встают и выходят на балкон. Туда, где над крышами раскинулось небо с россыпью звезд. Некоторое время они молча стоят в обнимку.
А потом возвращаются на землю — туда, где тесный двор с россыпью светящихся оконных проемов и кваканьем джаза.
— Давай тоже купим радио? — внезапно предлагает он.
— Да, обязательно. И мне не будет так одиноко, пока ты на работе. Но только потом. Нам сейчас столько всего покупать придется!
— Да, — соглашается он.
Тишина.
— Милый, — мягко начинает Овечка. — Можно задать тебе вопрос?
— Какой? — нерешительно отзывается он.
— Только не сердись!
— Не буду, — обещает он.
— У тебя есть сбережения?
Пауза.
— Немного, — неуверенно признается он. — А у тебя?
— Тоже чуть-чуть. — И добавляет скороговоркой: — Но совсем-совсем чуть-чуть!
— Сколько? — уточняет он.
— Нет, ты первый скажи, — отвечает она.
— У меня… — начинает Пиннеберг и запинается.
— Ну, говори же! — упрашивает она.
— Совсем мало, правда. Наверное, даже меньше, чем у тебя.
— Нет-нет, этого быть не может.
— Может. Я уверен.
Пауза. Долгая пауза.
— Ну, спрашивай, — просит он.
— Хорошо, — говорит Овечка и набирает в грудь побольше воздуха. — У тебя больше, чем… — Она снова замолкает.
— Чем сколько? — подталкивает он.
— Ой, ладно! — смеется она. — Чего я стесняюсь? У меня на сберкнижке сто тридцать марок.
Он говорит гордо и с расстановкой:
— Четыреста семьдесят.
— Вот здорово! — радуется Овечка. — Выходит ровно шестьсот марок. Милый, да это же куча денег!
— Ну как сказать… — тянет Пиннеберг. — По-моему, не так уж много. Но холостяцкая жизнь ужасно дорогая.
— А я из своего жалованья в сто двадцать марок семьдесят отдаю родителям за квартиру и еду.
— Вряд ли у нас получится сразу найти квартиру в Духерове, — размышляет он.
— Так давай снимем комнату с мебелью.
— А сэкономленные деньги тогда отложим на новую обстановку.
— Только вот меблированные комнаты, боюсь, стоят очень дорого.
— А что делать, Овечка, иначе не получится.
— Но мне непременно нужна отдельная кухня! Две хозяйки на одной кухне — это вечные склоки.
— Давай все посчитаем, — предлагает он.
— Давай. Посмотрим, что у нас выйдет. Будем считать так, словно никаких сбережений у нас нет.
— Да, постараемся их не трогать, лучше будем копить. Итак, сто восемьдесят марок…
— После свадьбы тебе должны повысить зарплату.
— Вот в этом, знаешь, я не уверен… По договору может быть, и должны, но начальство у меня странное…
— А что нам до его странностей?
— Овечка, давай пока исходить из ста восьмидесяти. На эту сумму мы можем рассчитывать наверняка.
— Хорошо, — соглашается она. — Теперь всякие отчисления.
— Да, — говорит он. — С ними ничего не поделаешь… Налоги — шесть марок, страховка по безработице — две марки семьдесят пфеннигов. Страхование служащих — четыре марки. Потом медицинская страховка — пять марок сорок пфеннигов. И профсоюз — четыре пятьдесят…
— Ну, профсоюз — это уже лишнее…
Пиннеберг отвечает не без раздражения:
— Только ты не начинай! Хватит с меня и твоего отца.
— Хорошо, — уступает Овечка. — Итого вычитаем двадцать две марки шестьдесят пфеннигов. На проезд ты не тратишься?
— Слава богу, нет.
— Тогда остается сто пятьдесят семь марок. Во сколько нам обойдется жилье?
— Вот этого я пока не знаю. Комната и кухня с обстановкой. Сорок марок точно выйдет.
— Ну, пускай сорок пять, — решает Овечка. — Остается сто двенадцать марок сорок пфеннигов. Сколько, по-твоему, будет уходить на еду?
— Это скорее к тебе вопрос.
— Мать всегда говорит, что в день тратит по полторы марки на каждого.
— Итого девяносто марок в месяц, — говорит он.
— Остается еще двадцать две марки сорок пфеннигов, — заключает она.
Они смотрят друг на друга. Овечка торопливо добавляет:
— И это мы еще уголь не посчитали. И газ. И свет. И почтовые расходы. И одежду. И стирку.
Он подхватывает:
— А иногда ведь хочется и в кино сходить. И съездить куда-нибудь в воскресенье. И сигаретку я выкурить люблю.
— И еще что-то надо откладывать.
— Хотя бы двадцать марок в месяц.
— Тридцать.
— Но как?
— Давай посчитаем еще разок.
— Налоги меньше не станут.
— И комнату с кухней дешевле мы не снимем.
— Разве что марок на пять.
— Что ж, посмотрим. Но без газет ведь тоже нельзя.
— Верно. Может, из расходов на еду марок десять вычесть?
Они снова смотрят друг на друга.
— Даже так по двадцать марок откладывать не получится.
— Кстати, — говорит она, — ты всегда должен ходить в отутюженных вещах? Я не умею гладить рубашки.
— Да, начальство требует. Погладить рубашку стоит шестьдесят пфеннигов, воротничок — десять.
— Значит, еще пять марок в месяц, — подсчитывает она.
— И новые подметки.
— Еще и подметки, точно! Это тоже ужасно дорого.
Пауза.
— Давай еще раз посчитаем.
Через некоторое время опять:
— Итак, вычеркнем еще десять марок на еду. Но меньше семидесяти никак нельзя.
— А другие как же справляются?
— Не представляю. При этом многие получают гораздо меньше.
— Ничего не понимаю.
— Видимо, мы в чем-то ошиблись. Давай попробуем еще раз.
— Послушай, — вдруг говорит Овечка, — а ведь когда я выйду замуж, можно потребовать, чтобы мне выплатили рабочую страховку?
— Точно! — оживляется он. — Получится не меньше ста двадцати марок. А твои родители, думаешь, ничего не подарят?
— Может, белья немного. Да мне и не надо от них ничего…
— Конечно. — Он успел пожалеть о своем вопросе. — Конечно, не надо.
— А что насчет твоей матери? — спрашивает она. — Ты мне никогда о ней не рассказывал.
— Рассказывать нечего, — отрезает Пиннеберг. — Я ей не пишу.
— Вот как, — тянет она. — Понятно.
Снова тишина.
И снова они встают и выходят на балкон. Почти все огни во дворе погасли, город затих. Где-то вдалеке сигналит машина.
Он говорит в задумчивости:
— Еще на стрижку нужно восемьдесят пфеннигов.
— Ой, хватит! — отмахивается она. — Все как-то справляются, и мы справимся. Все образуется.
— Вот еще что, Овечка, — говорит он. — Давай я не буду выделять тебе деньги на хозяйство? Просто будем в начале месяца класть все деньги в вазу, и каждый будет брать оттуда сколько нужно.
— Давай! — подхватывает она. — И будем на всем экономить. Может, я даже сама научусь гладить рубашки…
— Сигареты за пять пфеннигов — тоже пустая трата денег, — заявляет он. — Есть и за три вполне приличные.
— А когда у нас будет своя квартира, купим красивый спальный гарнитур…
— Но только не в рассрочку, — поспешно уточняет Пиннеберг.
— Еще чего! Не хватало в долги влезать. От долгов одни печали.
— А нам печали ни к чему. Печали — это ужасно.
— Да, — соглашается Овечка. — Знаешь, когда месячные все не начинались, у меня, конечно, мелькала мысль, но я гнала ее от себя…
— И ведь мы соблюдали осторожность.
— Именно. Мне было так ужасно одиноко, так страшно…
— Все это в прошлом. Теперь мы никогда не будем одиноки…
Вдруг он разражается хохотом.
— Что такое? — спрашивает Овечка. — Милый, отчего ты смеешься? Скажи!
— Я знаю, на чем мы точно сможем сэкономить…
— На чем? Ну же, говори!
— На презервативах.
Но она не смеется, нет — она испускает вопль:
— О боже, милый, мы же совсем забыли про Малыша! Сколько денег на него уйдет!
Он рассуждает вслух:
— Разве такому маленькому ребенку много нужно? К тому же есть пособие по родам, по грудному вскармливанию… Думаю, в первые годы на него вообще ничего тратить не придется.
— Даже не знаю… — сомневается она.
В дверях появляется белый силуэт.
— Вы ложиться собираетесь? — осведомляется фрау Мёршель. — Спать осталось всего три часа.
— Сейчас, мама, — говорит Овечка.
— Теперь уже все равно, — продолжает старуха. — Я с отцом лягу. Так что веди его к себе, этого твоего…
Дверь захлопывается, так что какого «твоего», остается непонятным.
— Но мне что-то не хочется. — Пиннеберг немного задет. — Честно говоря, у твоих родителей и правда не очень уютно…
— Боже, милый! — смеется Овечка. — Радоваться надо! Карл, пожалуй, прав: ты буржуй…
— Вовсе нет! — протестует он. — Если твои родители не возражают… — И он снова колеблется: — И если доктор Сезам не ошибся.
— Ну так давай сидеть на этих стульях до утра, — говорит она. — У меня уже все болит!
— Ну что ты, Овечка! — тут же раскаивается Пиннеберг.
— Да нет, если ты не хочешь…
— Я баран, Овечка! Я такой баран!
— И хорошо, — говорит она. — Значит, мы подходим друг другу.
— Вот и посмотрим, — говорит он.
Коммунистическая партия Германии.
Часть I
В ГОРОДКЕ
Супружество начинается, как положено, со свадебного путешествия, но как насчет сотейника?
Поезд, отходящий в эту августовскую субботу, в два часа десять минут, из Плаца в Духеров, в купе для некурящих третьего класса увозит герра и фрау Пиннеберг, а в багажном вагоне — «немаленькую» корзину с Эмминым добром, мешок с Эмминым постельным бельем — только с ее, «себе пускай сам покупает, мы-то при чем» — и ящик из-под маргарина, в котором едет Эммин фарфоровый сервиз.
Поезд торопится покинуть город Плац, на вокзале никого, последние пригородные домики остаются позади, и начинаются поля; некоторое время состав бежит вдоль берега сверкающей Штрелы, где мальчишки купаются в чем мать родила — ну, что с мальчишек взять… А потом — леса, березки по обеим сторонам железной дороги, и Пиннеберг объясняет супруге, что зеленые насаждения защищают местность от искр, летящих из паровозных труб.
В одном купе с ними едет угрюмый мужчина, который никак не может решить, чем заняться: то ли почитать газету, то ли посмотреть в окно, то ли понаблюдать за молодыми. Он с удивительной скоростью бросает одно занятие и переходит к другому, и стоит молодоженам подумать, что на них никто не смотрит, как он в очередной раз застигает их врасплох.
Пиннеберг демонстративно кладет правую руку на колено. На пальце весело поблескивает кольцо. В конце концов, ничего постыдного они не совершают, так что пусть этот смурной тип глазеет сколько угодно. Но тот смотрит не на кольцо, а на пейзаж за окном.
— Хорошо все-таки смотрится колечко, — говорит Пиннеберг. — И не догадаешься, что просто позолоченное.
— А я, знаешь, странно себя с ним чувствую. Все время ощущаю его на пальце. Кажется, так бы на него и смотрела.
— Ты просто пока не привыкла. Кто давно женат, те вообще о нем забывают. Могут потерять и не заметить.
— Это не про меня! — негодует Овечка. — Я его замечать не перестану, никогда-никогда.
— Я тоже, — заявляет Пиннеберг. — Ведь оно напоминает мне о тебе!
— А мне — о тебе!
Они склоняются друг к другу, все ближе и ближе. И снова отодвигаются — мрачный сосед смотрит прямо на них без тени смущения.
— Он не из Духерова, — шепчет Пиннеберг. — Я бы его знал.
— Ты там всех знаешь, что ли?
— Спрашиваешь! Я же раньше работал у Бергмана в магазине мужского и женского платья. Еще бы всех не знать.
— А почему ты оттуда ушел? Ведь эта профессия как раз по тебе.
— Не поладил с начальством, — коротко отвечает Пиннеберг.
Овечке хочется расспросить его, она чувствует, что у этой истории есть второе дно, но сдерживается. Придет время — и она все узнает. Теперь-то они в официальном браке.
Он, по-видимому, думает о том же.
— Твоя мать, наверное, давно уже дома, — замечает он.
— Да, — откликается Овечка. — Рассердилась на нас, потому и не пошла провожать на вокзал. Мол, бог знает что, а не свадьба — она так и сказала, когда мы вышли из загса.
— Ей же деньги сэкономили. По-моему, это омерзительно — все эти застолья, где гости грязные шуточки отпускают.
— Конечно, — говорит Овечка. — Просто маме это было бы приятно.
— Мы не для того поженились, чтобы сделать приятное твоей матери, — резко отвечает он.
— Конечно, не для того… Но, знаешь, насчет грязных шуточек, тут бы мать никому спуску не дала, она таких вещей не терпит. Особенно в мой адрес…
— Почему именно в твой?
— Ну как почему… ты же сам понимаешь, милый.
— Да по тебе еще и не видно ничего.
— Пока еще не видно, да. Но сегодня вечером сам убедишься — оно уже начинает проявляться. Мне кажется, я как-то раздалась…
— Хм, — отзывается он.
Это известие его не очень радует. В конце концов, в Духерове всего двадцать две тысячи жителей, и его многие знают.
— Но почему над тобой кто-то должен подшучивать, — снова начинает он, — если еще ничего не видно?
— Господи, милый, слухи-то уже поползли. Мы ведь так поспешно объявили о свадьбе. В магазине Бурмейстерша тоже мне сказала: «Все недотрогу корчили, а на деле, оказывается, совсем не такая!»
— Вот мерзавка, — возмущается Пиннеберг.
— Еще какая, — продолжает Овечка. — Мне эта Бурмейстерша в страшных снах является. Знал бы ты, сколько она меня шпыняла, гнобила, всю душу вымотала… И зло на мне срывала, и обходилась несправедливо — все ради того, чтобы выслужиться перед начальством…
— Как мне это знакомо! — с уверенностью восклицает Пиннеберг. — В большинстве случаев хуже хозяев только сами работники — им только дай насолить товарищу!
— Именно! — горячо соглашается Овечка. — Сколько я от этой Бурмейстерши натерпелась…
— Но теперь всему этому конец, — напоминает он. — Все позади, Овечка!
— О боже, милый, да! Мне до сих пор не верится, что никто больше не будет придираться и ругаться… Полная свобода. Боже правый…
— Теперь я твой начальник, фрау Эмма Пиннеберг, — строго произносит он.
— Да! Ты мой начальник. Ты…
Они приникают друг к другу. Старик ворчит. Они снова отодвигаются.
— До чего мерзкий тип, — говорит Овечка, даже не понижая голоса. — Сидел бы себе, старикашка, читал свою газету, а нас оставил в покое.
— Потише, Овечка.
— А что? Как есть, так и говорю.
— Прошу тебя!
Пауза.
— Знаешь, — снова заговаривает Овечка, — мне не терпится увидеть нашу квартиру!
— Надеюсь, она тебе понравится. Выбор в Духерове невелик.
— Ханнес, опиши мне ее еще раз.
— Хорошо, — соглашается он и принимается рассказывать то, что уже не раз рассказывал: — Как я уже говорил, дом на отшибе. Вокруг много зелени…
— Как здорово!
— Но само здание — это, конечно, просто доходный дом. Застройщик Мотес разместил его на окраине, думал, что со временем там вырастет целый район. Но никто больше не стал там строиться.
— Почему?
— Не знаю. Далеко, наверное: до города добираться двадцать минут. Мощеной дороги нет.
— Давай все-таки про квартиру, — напоминает она.
— Внизу магазин: колониальные товары, хлеб, мыло, все что душе угодно. Все под рукой; когда тебе понадобится что-то купить, не придется бегать в город.
— Это я еще посмотрю, — отзывается она. — Надо будет сравнить цены с городскими. В таких лавочках цены накручивают без зазрения совести.
— Ну, тут уж сама разберешься. Не думаю, что там дороже, чем в других местах. На первом этаже живет агент Нуссбаум. Чем занимается, в точности не знаю. Ездит по деревням, я так понимаю: оценка, продажа…
— Словом, человек не нашего круга.
— Жена у него славная — на вид, по крайней мере. Конечно, для нас они слишком важные люди, вряд ли станут водить дружбу с мелким служащим. На втором этаже живет редактор Калибе, из «Духеровского вестника».
— Тоже женат?
— Да.
— Дети есть?
— Не знаю. Хотя, кажется, у них там стояла коляска.
— Что они за люди?
— Не могу сказать. Он вечно пропадает в городе и, по-моему, пьет не просыхая.
— Фу! Ну а теперь про нас.
— Погоди. Сперва про нашего квартирного хозяина, точнее, хозяйку — вдову Шарренхёфер.
— Какая она?
— Ну что тут скажешь… На первый взгляд, вполне приличная женщина, знавала лучшие времена, но вмешалась инфляция… Ох и плакалась же она мне!
— Только не это!
— Ну не вечно же она будет жаловаться на жизнь. И вообще, разве мы с тобой не решили, что жить будем сами по себе? Зачем нам чужие люди? Нам и друг друга хватит.
— Конечно! Но если она будет навязываться?
— Навряд ли. Это очень приличная старушка, убеленная сединой. Ужасно переживает за свои вещи — они, по ее словам, все хорошие, достались ей от покойной матери. Поэтому на диван садиться следует осторожно, старые добрые пружины могут не пережить нагрузки.
— Но разве можно всегда держать это в голове? — размышляет Овечка. — Если я на радостях или, наоборот, в расстроенных чувствах, в слезах, захочу броситься на диван, вряд ли я вспомню о старых добрых пружинах!
— Придется, — строго говорит Пиннеберг. — Деваться некуда. Еще там на шкафчике стоят часы под стеклянным колпаком — заводить их нельзя ни тебе, ни мне, это может делать только она.
— Значит, пусть забирает свою рухлядь! Мне не нужны часы, которые не разрешается заводить.
— Ну, это мы как-нибудь решим. В конце концов, можем сказать, что бой часов нам мешает, и попросим их забрать.
— Вот сегодня вечером и скажем! Я же не знаю, что там за капризные часы такие — может, их ночью надо подводить… Ладно, расскажи мне вот что: поднимаешься по лестнице, и вот она, дверь. А за ней…
— За ней прихожая, она у нас общая. Сразу налево первая дверь — там наша кухня. То есть это не совсем настоящая кухня, изначально это, наверное, было просто мансардное помещение, крыша там скошена, но газовая плитка имеется…
— С двумя горелками, — грустно добавляет Овечка. — Я пока смутно себе представляю, как буду управляться. На двух горелках обед не приготовишь. У матери их четыре.
— И с двумя люди живут.
— Но, послушай, милый…
— Будем готовить совсем по-простому, двух горелок хватит за глаза.
— Да, конечно. Но суп варить надо — уже одна кастрюля. Потом мясо — вторая. И овощи — третья. А еще картошка — четвертая. Пока две кастрюли стоят на огне, две другие успеют остыть. Вот тебе и пожалуйста!
— Да, — задумывается он. — Даже не знаю…
И внезапно в ужасе восклицает:
— Выходит, тебе понадобятся четыре кастрюли?
— Понадобятся, — горделиво подтверждает она. — И не только. Еще нужен сотейник.
— О боже, а я купил всего одну!
Овечка неумолима:
— Значит, придется купить еще четыре.
— Но зарплаты на это не хватит, придется опять брать из сбережений!
— Что поделаешь, милый, сам посуди. Что нужно, то нужно. Без кастрюль никак не обойтись.
— А я-то думал! — с горечью говорит он. — Думал, мы будем откладывать на будущее — а мы с самого начала принимаемся сорить деньгами…
— Но как же без кастрюль!
— Сотейник — это уже излишество, — раздраженно заявляет он. — Я тушеное вообще не ем. Совсем! Никогда! И ради того, чтобы изредка что-нибудь потушить, покупать целую кастрюлю… Ну уж нет!
— А рулеты? — спрашивает Овечка. — А жаркое?
— Кстати, вода в кухню не подведена, — уныло признается он. — За водой тебе придется ходить на кухню фрау Шарренхёфер.
— О боже! — в очередной раз восклицает она.
Дорога от Плаца до Духерова занимает три с половиной часа, но будь она даже в два раза дольше, молодожены бы и не заметили. В какой-то момент они поднимают глаза и обнаруживают, что остались в купе одни. Хмурый сосед куда-то делся. Пиннеберги смутно припоминают, что еще какие-то люди входили и выходили, но когда им было присматриваться?
На первый взгляд супружество выглядит проще некуда: двое женятся, заводят детей. Живут вместе, стараются относиться друг к другу как можно лучше и идут по жизни рука об руку. Поддержка, любовь, дружба, еда, сон, работа, хозяйство, прогулки по воскресеньям, кино по вечерам. Просто как дважды два.
Но стоит приглядеться внимательнее, и история под названием «супружество» распадается на тысячи мелких затруднений. Сам брак отходит на второй план, превращается в данность, условие, — а вот с сотейником, к примеру, что делать? И говорить ли сегодня вечером фрау Шарренхёфер, чтобы забрала из комнаты часы? Вот в чем загвоздка.
Они оба об этом догадываются. Но оба страшно рады, что в купе, кроме них, наконец-то никого нет. Сотейник и часы забыты, супруги приникают друг к другу, поезд грохочет. Время от времени они переводят дух и снова сливаются в поцелуе. Наконец поезд начинает замедляться, намекая: Духеров.
— О боже, уже приехали! — хором восклицают они.
