автордың кітабын онлайн тегін оқу Юлия Бойко. Тайная сила первой любви
Николай Дмитриевич Лукьянченко
Юлия Бойко
Тайная сила первой любви
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
© Николай Дмитриевич Лукьянченко, 2025
Эта книга о моей первой любви. Все герои и факты — реальные люди и истории. В бойкую шестиклассницу, Юлию Бойко, я влюбился в Бешпагирской школе. Встретить свою девочку и испытать магию первой любви — мечта каждого юноши. Записи в моих дневниках о наших отношениях, неожиданных поворотах жизненных путей, разлуках и встречах легли в основу книги «Юлия Бойко». Перечитывая дневники, я обнаружил возможность: многократно пережить свою первую любовь и почти постичь её тайную силу.
ISBN 978-5-0060-3806-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
Лишь четыре ключа я нашёл
Из пяти Бешпагирского рая.
Ты ушла… За тобой я ушёл,
Найти ключ и тебя собираясь.
Океаном снега по весне
Поплывут, а тебя нет со мною.
Так зачем же ковчег строить мне,
Подражая библейскому Ною?
И к тому ж — по пророчеству сна —
Я ещё в лабиринтах блуждаю,
Без ключа, без тебя не узнав
Любви первой заветную тайну…
Синопсис к книге «Юлия Бойко»
Книга описывает события моей юности и историю моей первой любви. В основу положены мои дневниковые записи. Героиня этой сказочной истории исчезла из моей жизни, и никакие поиски не принесли мне возможности найти её. Первое чувство любви к Юлии Бойко возникло у меня в школе в шестнадцать лет. Она появилась в Бешпагире и, как метеор, ворвалась в моё сердце. Я стал писать стихи. Училась она в шестом классе, я в десятом. Познакомиться обычным способом я не мог, и стал пионервожатым в её классе. Моя работа вожатым была недолгой. Мы с классом ходили в походы по окрестностям села и готовили спектакль к праздникам. Встречи с Юлей и прогулки с ней уже формировали наши отношения как начало моей, да и её первой любви. Я читал ей свои стихи. Неожиданный отъезд семьи Юли Бойко из села стали испытанием для моих чувств.
Об её отъезде я узнал, когда пришёл к ней домой перед Новым годом. Не в силах таиться, я признался ей в любви. Юля плакала, понимая невозможность продолжения наших отношений. Мы потеряли друг друга.
Закончив школу, я вынужден был из-за ситуации в семье принять отару овец (2 тысячи валухов) в колхозе и уехать работать на неведомые мне тогда Чёрные земли. Сердце разрывалось от неразделённой любви и невозможности учиться в вузе как мои одноклассники. Юлин отец был партийным работником, секретарём Бешпагирской парторганизации и вскоре перешёл в краевые структуры на более высокую должность. Единственная встреча с Юлей летом в Бешпагире выбила меня из колеи. Встал вопрос о возможности продолжения наших отношений из-за очевидного социального неравенства.
Спустя почти год на праздник Первого мая на Чёрные земли приехали партийные работники и Юлин отец. Накануне Первомая я познакомился с девушкой Катей из Астраханского сельхозтехникума. Закончив практику, она готовилась уехать и пригласила меня на кошару, где отмечались проводы группы студентов. Я не знал, что с отцом на Чёрные земли приехала Юля. Верхом на лошади она решила найти меня и столкнулась с Екатериной, гарцевавшей на моей лошади Косам. Когда Юля увидела, что я помогаю Кате сойти с лошади, она в ревности ускакала в сторону центрального домика. Там было собрание чабанов, туда я отпустил своего помощника Рябцева. Я не смог догнать Юлю. Косам повредила ногу. Когда я приехал к себе на кошару, шофёр калмык, плохо говорящий по-русски, приехал из центрального домика и сказал, что Юлю убил Рябцев. Отчаяние… опустошенность… боль… Я прискакал на домик… Никого… После стрижки я уехал с Чёрных земель домой. В Бешпагире я построил родителям дом, но оставаться в селе я не мог и уехал в Ставрополь. В городе я стал работать экскурсоводом и участвовать в городском литкружке. Я водил автобусные экскурсии по всему Кавказу. Через год в Минеральных водах я с группой молодых литераторов посетил старейшего (ему было 90 лет) писателя Ставрополья Бибика А. П. Любовь к Юле не позволяла мне серьёзно влюбляться в других девушек. Однако я не отказывался от встреч с ними, и это нашло отражение в моих стихах.
В 1968 году в школе после вечера-встречи выпускников Света Боровлева, школьная подруга Юли, сообщила, что Юля жива, а там, в Калмыкии, от рук убийцы погиб её однофамилец. Теперь она живёт в Москве. Это перевернуло во мне весь мир. Я решил увидеть её, быть к ней поближе и стал готовиться к поступлению в Литературный институт. Денег для поездки в Москву не было, но я организовал экскурсию в Москву на майские праздники для группы колхозников.
Света дала мне адрес Юли, и я, прилетев в Москву, примчался к ней на квартиру. Она была больна и не вставала с постели. Наша любовь вспыхнула вновь, и мы встречались до моего отъезда почти неделю. Творческий конкурс в Литинститут я не прошёл, чем серьёзно озадачил Юлю. Но я стал готовится к экзаменам на филфак МГУ. Прилетев на сдачу экзаменов, я встретился с Юлей. Она же, окончив практику на заводе (училась она в Бауманке), решила поехать отдыхать на море в Сочи. Сдав экзамены, я, не ожидая результата, улетел в Ставрополь, к Юле, боясь, что с ней может произойти что-то неприятное мне. Юли не оказалось дома у подруги, но её записка успокоила меня. Я встретил её и её подругу в Ставрополе. Что-то недоброе было в глазах её подруги и самой Юли. Уже в доме подруги Юля попросила меня оставить её с девчонками на девичий вечер, а затем неумело предложила мне расстаться совсем, оставшись друзьями. Это неожиданное предложение оскорбило и уничтожило меня. В Бешпагире я с друзьями, после игры в футбол, отмечал победу, уже решив, что и с МГУ у меня ничего не получится. Но меня ждала невероятная новость: пришла телеграмма о том, что я принят в университет. В этот вечер в селе случилась массовая драка, в которой я получил ранение и за драку попал в КПЗ. С трудом удалось избежать тюрьмы. Я прилетел вновь в Москву, но уже как студент МГУ. Два года я мучительно ждал встречи с Юлей, иногда даже видя её на балконе квартиры дома на Смоленском бульваре. Но гордость и обида лишали меня сил прийти к ней. И вот 2-го апреля 1970-го года спонтанная встреча состоялась. Я увидел её на Садовом кольце. Она возвращалась с занятий из Бауманки. Она изменилась, и это уже не была та сказочная Юлька, которая ворвалась в моё сердце семь лет назад (А, может быть, и была!?) Она удивилась, когда узнала, что я учусь в МГУ, но та же гордость и непоколебимость, как и у меня тогда, торжествовали в ней. На её вопрос: «Не женился ли я?», я ответил: «Что ты? Любовь к тебе не даёт мне никаких шансов на это». На мой же вопрос: «А не вышла ли она замуж?», она ответила, что скоро выйдет за парня из Ставрополя (Увы! Как я был прав!) и пригласит меня на свадьбу, как и Светку Боровлеву. Но… Эта наша встреча стала встречей-прощанием друг с другом и с первой любовью, так и оставшейся для меня тайной такой силы, что и теперь, через шестьдесят лет, я не могу её разгадать…
Бешпагир — пять ключей — пять родников
21 октября 1963 года
Смогу ли передать этими строками всё то, что однажды в один миг влилось в меня и непрерывно заставляет стремиться к ней, к ней, дорогой моему сердцу девочке? Смогу ли я (пусть не сейчас, а когда-нибудь потом) придать своим словам то чувство, то звучание сердца, тот трепет души, которыми наполнила меня моя любовь к ней, к Юлии Бойко?
Я писал и пишу стихи и, как мне кажется, обладаю даром поэтичности, хотя ещё не верю, что именно он есть во мне. Моя беда или экзальтированность с первого взгляда влюбиться в появившуюся в нашей школе новую девочку, вызвала бурю стихов, даже поэм — драматических текстов с красотами рифм — это факт. Моя учёба в школе шла без особых приключений почти десять лет. И вот год назад я увидел будто бы ниоткуда взявшуюся симпатичную девушку. Была волшебная осенняя погода. С утра в школе гремела музыка. Традиционный осенний спортивный праздник. Он обычно проводился на пришкольной аллее, засаженной четырьмя рядами акаций. Между рядов стройных красивых в это время деревьев были проложены дистанции в сто и шестьдесят метров. В это солнечное утро акации горели своей сказочной золотой листвой, как неопалимая купина с необжигающим огнём. Многие девчонки уже украсили свои головы венками из огненной листвы акаций, превращая и без того прекрасный, яркий праздник в слёт юных сказочных богинь. И в этот день случилось то, что, видимо, должно было рано или поздно случиться и со мной. А ведь:
Тёк беззаботно и игриво
Мой год шестнадцатый, когда
Девчонка огненною гривой
Сожгла мне детские года.
Так и стоит в глазах картина:
Осенний утренник спортивный,
В конце программы эстафета…
Мальчишки-девочки. Конкретно
Не важно кто за кем и с кем,
Я был на финишном броске.
Акаций школьная аллея
Листвой сияла золотой…
Я рвать был ленточку готов…
Но вдруг ударом в руку слева
Девчонка палочку мою
Аж в клумбу вышибла, и фь-ю… :
С венцом акаций в русой гриве,
Земли не ощущая власть,
Она победно как на крыльях
На финиш первой понеслась.
От ней повеяло пожаром,
Кровь закипела моя жаром.
Но был я не разочарован,
А хулиганкой очарован.
И с клумбы школьной по пути
Сорвал цветы ей поднести…
Потом же завуч и шефиня
На педсовете обо мне
Вопрос подняли, но больней
Мне был не выговор, не финиш,
А то, что сердце жгло огнём:
Стал старт любви моей на нём.
Любви к отчаянной девчонке, ловко так подкосившей меня на последней дистанции эстафеты. Но кто она? Откуда? Почему я раньше не видел или не замечал её? Мои поиски её в коридорах школы позволили мне подслушать, узнать её ласковое имя — Юля. С тех пор она, её имя и та дорожка на аллее, по которой она вихрем пронеслась, и на которой я впервые увидел её, неразделимы во мне. Мысленно я возвращаюсь на беговую дорожку школьной аллеи и рисую изумительную картину бега красивой, восхитившей и победившей меня девушки.
И удивительно то, что, где бы я ни был, со мной мысли о ней и только о ней, и они заставляют меня искать её повсюду беспрестанно.
С самого начала прошлого учебного года, когда я увидел её впервые, летящей на стометровой дистанции школьной аллеи, летящей, как огненный ангел с венком на голове из золотых листьев акаций, с эстафетным жезлом в руке, я горел желанием видеть её каждый миг. Только от мысли увидеть её моё сердце колотило в грудь как молот. В перерывах между уроками я бежал к её классу, чтобы встретиться глазами с её глазами, или хотя бы только с мимолётным взглядом. Как только я входил в школу, я искал её повсюду, чуть ли ни в каждом уголке огромного здания, построенного из ракушечника разрушенной в тридцатые годы церкви. Школьницы как и школьники носились по коридорам как метеоры, и она ничуть не уступала в этом им всем. Так проходили дни, недели, месяцы. Я ловил её глазами, подходящую ко входу в школу, подбегал к её классу, искал её в его глубине, следовал за ней в сторонке от группки её подружек и подолгу провожал глазами уходящую из школы, следуя чуть ли не до самого её дома. Она училась в 6-м классе. Её семья приехала в моё село в прошлом году, и впервые я увидел её на осенней аллее акаций, на эстафете, когда я, обомлев, стоял и смотрел ей вслед, забыв, что надо бежать и мне мои сто. Я учился тогда уже в 10-м, и разница в возрасте представлялась мне значимой. Эта мысль грызла сердце, терзала душу. Я много читал о большой любви, в которой разница в возрасте была не существенной. Но мне казалось, что это не мой случай. Я не мог вторгнуться со своей любовью в её ещё юный детский мир, как казалось мне, хрупкий, как хрустальный бокал. Я ждал, что всё пройдёт, как уже бывало иногда у меня и раньше с какими-то девчонками. Да, и раньше увлечения возникали и проходили. Теперь же, тщетно. Какое-то мучительное чувство одиночества охватывало меня, как только я терял её из виду. Надо было что-то делать. Но что? Познакомиться и сказать:
— «Девочка, я тебя люблю!» — это, наверняка, получить в ответ:
— «Ты что, дурак?!»
А что ещё? Я в своём классе, она в своём, и мест пересечения, хотя бы для минутных встреч, не было. Надо было искать и найти какой-то естественный способ знакомства. И, как мне кажется, я нашёл. Я решил стать в её классе пионервожатым, как говорил я в (Совете) Штабе пионерской организации школы:
— «Дайте мне поручение поработать пионервожатым в одном из младших классов, — а друзьям:
— «Хочу возвратиться в детство».
И вот… И вот… О, ужас! Ужас! В первый же день, когда я пришёл в её класс и сказал о своём намерении стать их вожатым, составил с ними контуры плана работы, я вдруг был выбит из школьной жизни. Попал в больницу!
На тренировке на футбольном поле я повредил мышцы голеностопа и не мог ходить из-за страшной боли в суставах. Ревматизм! Это слово я раньше никогда не слышал, и мне в первые дни, после диагноза, оно не казалось страшным и ничего не говорило мне. Раньше тоже бывали растяжения мышц, но в этот раз боли не проходили. Наоборот. Воспалившийся правый голеностоп воспалил параллельно левый. Через двое суток, когда казалось боль в голеностопах затухала, неожиданно появилась боль в связках запястий обеих рук, а через двое суток воспалились колени. Итак, с интервалом в два дня и две ночи меня стали мучить ужасающие боли в параллельных суставах ног и рук, и даже суставов в тазу. Целыми сутками я валялся в постели, едва, едва мог ходить. Целый месяц я провалялся в больнице.
Мои пионеры приходили ко мне однажды. Мучительно было не показывать им боль и бессилие. Юлины глаза ещё с непониманием смотрели на меня, будто спрашивая:
— «Кто же ты? Почему преследовал меня своими взглядами в школе? А теперь вот в больнице ничтожный и жалкий!»
Было унизительно осознавать, что я так быстро и бессильно выпал из понравившегося всем её подругам моего предложения стать вожатым в их классе. Теперь же я смотрел в её глаза из окна больницы и мысленно говорил с ней о моей любви. Чувствовала ли она что-то? Не знаю. И хотя моя любовь придала мне силы терпеть эти боли, но и она же с ещё большим огнём жгла моё сердце. Да, и не только она. Врач (муж моей учительницы по математике) нарисовал мне чудовищную судьбу инвалида-не инвалида, но человека, который должен беречься от всяких физических нагрузок. Риск скоротечно умереть был очевиден:
— «Ревматизм — только лижет суставы, а кусает сердце. О спорте и солнце забудь! И доживёшь до тридцати-тридцати пяти лет!» — поставил он мне не диагноз, а — приговор.
Только через месяц я победил мучительную атаку ревматизма.
И вот уже неделя, как я снова хожу в школу и с ещё большим желанием ищу Юлю. При встречах, может быть, я просто обнадёживаю себя тем, что замечаю ответный огонёк её глаз и некоторое стремление приблизиться ко мне. Я не выношу её долгого взгляда, и всё же её взгляд уносит меня, как будто бы, уже в нашу любовь. Я обоготворяю этот разговор, как говорил Лермонтов, «краткий, но сильный». О, сколько бы я отдал (чего? Не знаю!), чтобы ежесекундно сливаться глазами с её глазами, испытывать наивысшее счастье жизни: притягиваться магнитами её глаз, проникать в её душу, в её сердце! Но я не могу, уже не могу находить силы продолжать такую любовь, рвущую сердце, не дающую покоя ни днём ни ночью, заставляющую страдать только для страдания. Неразделённая (неразделённая!) любовь, как ни прекрасна она, но будет ещё прекраснее, если её разделить.
30 октября 1963 года
Прошло десять дней после моего выхода из больницы — десять дней полных невообразимых неожиданных встреч, украшенных магнетизмом наших, как мне казалось, наших стремлений друг к другу, к нашей любви и надеждам. По крайней мере, так казалось мне. Казалось ли? Мечты, мечты… О, сколько их рождалось во мне и умирало, так и не успев воплотиться. Прикоснуться к ней при встрече, сказать слово о своей любви… Первое было легко осуществить, а вот, — второе! Это было практически невозможно.
В один прекрасный прохладный вечер я пришёл на тренировку в физзал играть в волейбол на секции волейбола. Неожиданно для меня в дверях появилась Юля, и мы встретились глазами. Я прошептал ей:
— Здравствуй! — мне показалось, её глаза вспыхнули и заблестели ярче обычного.
— Здравствуй! — ответила она мне с азартом, — Ты уже можешь играть?
— Да! Ой, извини, пожалуйста, — выпалил я, когда мы, одновременно бросившись за скачущим по полу мячом, столкнулись лбами, — ты тоже играешь в волейбол?
— Даже люблю играть, — ответила она мне, — и особенно тушить мяч о чей-нибудь слишком горячий лоб.
— Только не о мой, — поднял я просительно руки.
— А это мы посмотрим… — заразительно засмеялась Юля. — Попадёшься под руку, точнее, под мяч, — не пожалею. Точно и точка.
— Точка или запятая?
— Я сказала «Точно и точка!» Точно в лоб, а точка уж, по желанию: продолжать или нет, — и она ловким ударом запустила мяч в меня. Я едва смог среагировать и увернуться от летящего прямо в мой лоб мяча.
— Здорово, — отбив её мяч, продолжил я, вспомнив вдруг фразу с игрой с запятой, — Так сразу и казнить? Вначале надо бы правильно решить мою судьбу в той фразе с запятой.
— В какой?
— Где нужно поставить запятую в предложении «Казнить нельзя помиловать»? Перед словом «нельзя» или после него?
— А для меня нет никаких сомнений.
— Ну и где?
— А сразу после первого слова: «казнить!» Я бы даже поставила восклицательный знак, если это для тебя, — засмеялась она и запустила мячом в меня и опять прицельно и точно. — Ха!
Я был на седьмом небе. Неужели я уже познакомился с ней? Неужели она приняла меня, пусть даже с желанием врезать мячом по лбу? Чего мне ещё желать?
После игры в волейбол я был уже не в силах находиться рядом с ней: такой энергичной, сильной, такой кипящей магическим огнём. Я выбежал на улицу и побежал оглушённый и одарённый прикосновеньями к ней во время игры. Вдруг поняв бессмысленность бегства от неё, я вернулся в физзал. Она была ещё здесь. Я заговорил с ней о наших пионерских делах и привлечении наших пионеров к волейбольной секции, будто бы это было самым главным в наших отношениях. Внутри же кипело и дрожало всё от желания побыть с ней ещё хотя бы несколько минут, смотреть в её глаза и слушать её переливающийся певучими нотками камертонного колокольчика голос.
— Неплохо было бы, — ответила она и с игривостью добавила, — Только я, я вступаю в комсомол!
Я попытался скрыть своё разочарование и будто радостно ответил:
— «Поздравляю!»
Но почувствовал, что, в реальности, было и то, и другое: опечалился тем, что она не будет уже заниматься пионерскими делами. И я уже как пионервожатый ей не нужен. А то, что она стала взрослее — обрадовало меня, так как это приближало её ко мне уже не девочку, а девушку, способную ответить мне на моё чувство. Но чувство, которое я не понимаю, врождённое или рождаемое по ситуации, как всегда, овладело мной и охладило кровь и возбуждение: я увидел сразу худшее. Едва поздравив её, я начал плести в голове печальные строки:
Ушла ещё одна мечта,
Утеряна ещё одна надежда,
Казалось, всё я рассчитал,
А оказалось — нет. И всё как прежде.
Мечты прекрасной не достичь:
С моей любимой каждый день встречаться, —
И знать: из тысячи жар-птиц
Уж не поймать свою мне птицу-счастья.
Лишь только спустя какое-то время, я укорял себя в других строках, выводя анализ моему отрицательному отношению к тому, что Юля станет комсомолкой. Моё же желание быть вожатым в её пионерском классе будет совершенно ни к чему. Я отказывался приходить в её класс и заниматься их внеклассными делами. Непростительное предательство! Я чувствовал в себе что-то близкое к ещё неотридцатицилкованному состоянию библейского Иуды, когда её глаза устремлялись ко мне с читаемым мной в них вопросом:
— «Что случилось? Почему измена?»
Они сжигали меня, и я чувствовал, что в них теплится ожидание продолжения того, что мы делали раньше. Я погибал в собственном презренье к себе. Не знаю, за что? Но презирал себя ужасно, ненавидел, что ещё не смог ни одним словом высказать ей свою любовь к ней. Только встретившись, я уже готов был бежать от неё! Хотя хотел смотреть и смотреть в её дивные глаза! Её глаза — это восхитительный огонь, отражающий такой костёр любви, который может быть только в мечтах. Нет, не найду я тех слов, чтобы ими нарисовать великолепие её глаз, глаз моей мечты, моей любви. Ответный блеск — это бы и было мне наградой, а не тридцать серебряников.
Есть глаза, которые будут смотреть в упор на тебя, но ты даже смотреть в них не будешь, не будешь видеть их. Даже если они говорят, что любят тебя. Они теряют, рассеивают силу чувства ещё до соприкосновения взглядов. Сила, которая таится в глубинах их, в зарождающихся чувствах к тебе, не обретает крыльев любви и, едва выплеснувшись из глаз, исчезает.
Но её глаза, глаза моей Юлии, — притягивали как магнит мои глаза и молнией зажигали во мне чувства, возбуждая потоки обворожительных картин уже не волейбольных столкновений и объятий. Где бы я ни был, как далеко бы от неё не находился б телесно, я видел только её из всех окружающих нас. Протяни лишь руку. Её взор притягивает меня к ней и заставляет меня чувствовать и видеть себя рядом с ней. Безумие! Но факт! Факт, от которого мне не уйти. Как и от самих её глаз! Ни одни глаза не давали мне увидеть себя со стороны. Но её глаза… Вот даже сейчас я вижу их перед собой и себя перед ними. Они жгут меня, моё больное сердце. Они жгут, беспощадно жгут и ждут ответа, как и я жду его. Какого? И я, как загипнотизированный мастером сеансов гипноза зритель, шёл на сцену, шёл в её класс и готовил программу на праздничные дни, не надеясь, что Юля будет участвовать в ней.
Я столько напридумывал, столько наплёл своим пионерам всего реального и нереального для этого, что… Что… Что может сказать поражённый гипнозом? А вот этого-то и не могу придумать. Плыву, плыву загипнотизированным в гипнотическом сне.
8 ноября 1963 года
Ветер…, пыль…, вечер… И я продолжил встречаться с Юлиным классом как пионервожатый каждый вечер, занимался планами нашей внеклассной работы. И на уроках, и на переменах я мечтал, чтобы они кончились скорей…
Эти дни, наполненные любовью дни, с тревожно и радостно бьющимся сердцем тянулись бесконечно долго…
Третьего ноября последний день первой четверти. Я в классе своих пионеров на собрании. Я думаю, надеюсь, что никому не ведомо, почему я стал вожатым. Бедные мои пионерушки, — всем ребятам примерушки. Это и их я уже так полюбил. За то, что они есть, за то, что они приходили ко мне в больницу, хотя я провёл с ними только одну ознакомительную встречу в начале учебного года. Сколько было энтузиазма! Быть вожатым — невесть какое явление. Но только не парню. А ведь случилось. И теперь мы решали вместе многие вопросы, строили планы работы и отдыха класса. На четвёртое ноября запланировали провести волейбольную секцию. В четыре часа начало.
Я же пришёл раньше, взял ключ в гардеробной у старого видавшего виды казачка.
— Вожатый? — удивился старикашка. — Гм… Надо ж, парень, а вожатый.
Меня тоже коробило моё положение, но я знал, для чего я делал это, так как иначе я бы никогда не смог видеться с Юлей.
В зале я натянул волейбольную сетку на стойки, которые вставил один в пазы пола, натянул троса растяжек, подгоняя высоту сетки для пионеров, подкачал мячи, постучал о стенку, мягко попасовал сам себе. В сборной школы несколько лет я играл в паре с высоким старшеклассником Коробовым Валерой, сыном прошлого колхозного председателя. Ни один год мы выигрывали районные соревнования, благодаря нашему тандему. Мой (первый пас!) мяч, едва взлетал над сеткой, как тут же гасился Валерой. Это было чудо. И вот теперь я мечтал пасовать Юле свои конфетки. Прошло больше часа. Никого. И я отправился к Юле, едва надеясь на успех своей работы пионервожатым. Метров за тридцать от её дома я увидел её в окно, прибирающейся вместе с матерью в доме. Юля, заметив меня, вышла ко мне из дома, и мы встретились около калитки. Сердце моё укатило в пятки. Неужели меня ждал отказ.
— Коля! Сейчас, я спрошу у мамы…
— Иди, иди, — успокоили меня слова её мамы.
Юля бросилась переодеться, а её мама внимательно всматривалась в меня, протирая стёкла окна. Отец Юли, секретарь колхозной ячейки компартии, высокий черноволосый красавец, занимался чем-то во дворе и, как я понял, даже не посмотрел в мою сторону. От того мне показалось, что мать хорошая, а отец… А отец… Не решил я какой… Юля стрелой вылетела из дома. Несколько таких новеньких спаренных домом были построены колхозом по одной стороне вдоль въездной улицы в село для важных работников колхоза. Семья Юли приехала недавно в Бешпагир и была поселена в южное крыло одного из этих домов. Видимо, колхозу нужен был дельный руководитель партийной братии.
Мне припомнилась маленькая «трагедийная» история из моего детства, и я рассказал её Юле, пока мы крутились по кривым улочкам центра Бешпагира. В тот день мой отец привёз пшеницу на помол на мельницу, стоявшую у самого начала подъёма на гору Кукушка. Мне было делать нечего, и я пошёл побродить по центру станицы. Недалеко от школы мне повстречалась ватага местных ребят. Так как я жил на, так называемой, Горе, я вторгся на территорию хохлоцентровской братии, уже с детства почему-то ненавидевшей нас — «горцев». (Бои) драки между горцами и хохлами были не редкость. И я попал как петушок в ощупь. Один из хлопцев ватаги, как потом мне пришлось узнать, был сынок главного инженера МТС, недавно приехавшего в наш колхоз из какой-то Макеевки с Украины. Он должен был зарабатывать авторитет у своих одноуличников и поэтому, выступив вперёд из группы, мигом подскочил ко мне, и, схватив козырёк моей полугрузинской отцовской фуражки, натянул мне её на глаза и резко ударил в лоб:
— Это что за грузинский аэродром? Некуда даже кулаку приземлиться, — насмешливо бросил он мне. Подходившие за ним весело захохотали. Мне было больно и противно, но я привык бороться и драться со своими двумя младшими братьями: Вовочкиным и Васечкиным — так я звал их, коверкая их имена. Поэтому я, вырвавшись из фуражки и глядя в смеющиеся глаза сынка инженера (конечно, я не знал в тот момент, кто он), замолотил кулаками по его ухмылявшемуся лицу.
— «Зато на твоей морде можно приземлить целую эскадрилью», — смышлёно подначил я его.
Хватило нескольких ударов, чтобы он свалился в песок и заверещал по-поросячьи визгливо и громко. Ватага не стала меня атаковывать.
Но проходивший мимо мужчина схватил меня за ухо и вместе с моим обиженным притащил к дому, где жил макеевец. Как раз мы проходили с Юлей мимо этого дома в самом центре станицы, и я показал на дверь, за которой мне были сделаны серьёзные внушения его папаши. Папаша, действительно, был богатой шишкой в селе. В доме я заметил телевизор и много разной аппаратуры, привезённой ими с собой. Возле дома стояла новенькая машина «Москвич». И это в то время как мой отец ещё ездил на работу и с работы на колхозных быках, впрягаемых в скрипучую телегу. На такой телеге, нагружённой сеном, однажды я опрокинулся вместе с перевернувшейся телегой. Тогда отец подавал мне вилами лохматые пласты сена, вырванные из стогов, что были собраны после сенокоса в Солёном (одна из огромных балок вокруг Бешпагира). Я укладывал их вилами на телегу и поднимался вместе со стогом вверх. А оставшись лежать на возу скрипевшей телеги, которую с трудом тащили в гору колхозные быки, я глядел в вечернее небо и приходил в себя до самого опрокидывания воза с телегой на подъёме к молочно-товарной (коровьей) ферме. Оказавшись засыпанным сеном, я снова вдыхал тяжёлый удушливый запах, похожий на выхлопные газы «Москвича», почему-то пришедший ко мне из того момента, когда папаша моего обидчика выезжал на своём драндулете со двора. И этот смрад, не аромат обычно пахучего свежего сена, душил меня теперь под опрокинутым возом и телегой. Но это в прошлом…
Теперь в этом доме находилась библиотека, и запах книг немного перебил запах авто инженера. Но всё равно я больше никогда не любил ароматы машин и скрипучих как телеги механизмов МТС. Я часто брал в библиотеке интересные книги и с болезненным самолюбием вспоминал моё фиаско с сынком второго человека в колхозе. Мести от этого героя хохловской гвардии я не получил, так как его семья через пару лет уехала из Бешпагира. Но я до сих пор помню отчаянно-весёлые наглые глаза моего крестника, получившего хорошую приписку от меня в Бешпагире.
Приближаясь к школе, я рассказал Юле о моей травме левого локтя, сломанного мне в одном из футбольных матчей защитником-верзилой из Спицевки, когда я, будучи пацаном, играл за взрослую команду колхоза на районных соревнованиях. Спасибо моему футбольному везению: в той ситуации, перед тем как меня накрыл верзила, ломая руку, я успел забить победный гол, поэтому не переживал за сломанную руку. Мне казалось, что этими страничками моей жизни я смогу расположить ко мне Юлю. Она даже потрогала мой локоть и удивилась уже в игре, как же я, несмотря на сломанный локоть, ловко справлюсь с мячом. Ребята уже ждали в физзале, и мы хорошо провели время, закончив этот день в кино. Я первый раз проводил Юлю домой. Бежал же к себе домой в гору счастливый и немного сумасшедший от этой, по-настоящему, тёплой знаковой встречи с Юлей. Не чувствуя никакой усталости, я ни разу не остановился передохнуть.
Шестого ноября мы ходили вместе с другим классом на песчаную гору, Кукушку, в сосны. Эти деревья (говорили, что это саженцы реликтовых сосен из Крыма) были высажены станичниками после войны для сдерживания песка во время Астраханца. Так в селе назывался ветер с востока, дувший по осени неделями и засыпавший станицу песком древнего Сарматского моря, бушевавшего миллионы лет назад над подковным дном Бешпагира. Этот песок был поднят во времена оные и красовался белизной или золотом то тут, то там на изгибах плато, окружавшего гигантской подковой Бешпагирскую станицу, основанную казаками в 1777 году. На западе от села был разработан даже карьер, где Ставропольские стройпредприятия вывозили его уже много лет на свои стройки и в город, и в другие селенья края. Этот же белопесочный бархан (прозванный почему-то Кукушкой), много лет горой возвышавшийся над Бешпагиром с востока, и, будучи без деревьев, засыпал станицу, неизвестно откуда беря тонны песка. Трудно представить, что некогда, давным давно здесь было море.
В соснах две команды пионеров должны были отыскать реликтовый сине-бурый камень, временами засыпаемый песком и становящийся невидимым. Откуда он здесь, в песке? Может быть, Эльбрус забросил его сюда? Кто знает? Мы проиграли. У наших соперников был знаток места расположения этого камня. Он-то и раскопал его первым.
Мы не расстроились, так как у нас был запасной план: отыскать сегодня все пять ключей нашего села.
Юля присела на этот огромный камень и стала отыскивать в захваченной мной книге Ставропольского краеведа, Гниловского Владимира Георгиевича, где же могут находиться ключи, давшие такое романтическое название этому месту.
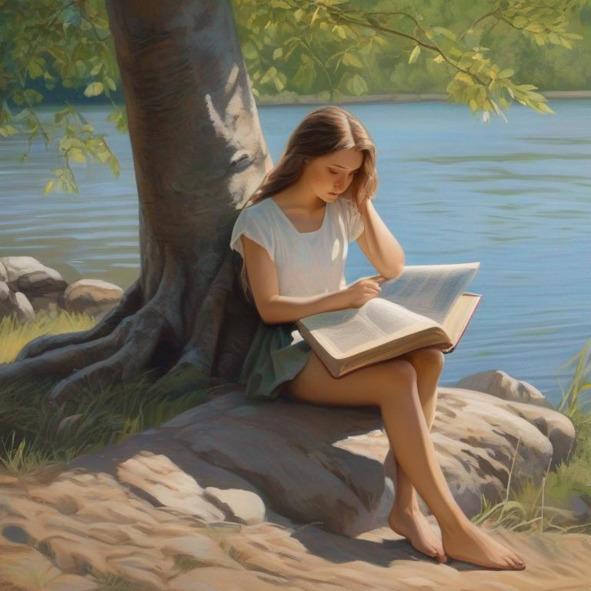
С Кукушки мы отправились в Сафонов ключ. В окна-щели огромного цилиндра, сложенного из песчаных камней, можно было рассмотреть широкую струю чистейшей воды, сверкавшую над зеркалом бассейна. Вода скользкой вылинявшей анакондой вырывалась из-под песчаных плит по бело-золотому песку и, вызывая жажду у не пивших давно, с шумом исчезала в рычащей и бурлящей воде. В жару трудно было удержаться только от созерцания этой битвы змеи и поглотительниц её — кругов холодного голодного омута. Мальчишки нередко, выломав пару камней в одном из окошек, боролись с заключённой в бассейне живою и мёртвою водой, подставляя загорелые спины под плети водопада и погружаясь в омут. Вокруг довольно примитивного строения был белый и жёлтый песок, подчёркивавший чистоту этого ключа. И проникавшие внутрь бассейна практически не засоряли его. Из Сафоновского бассейна вода уходила по трубопроводам в низлежащие дворы и дома станицы. Ключ был самым сильным (давал много воды) из всех ключей Бешпагира. Повторять опыт мальчишек мы не могли: было уже не летнее время. Следующий ключ, точнее, родник, тоже закрытый, но теперь уже в квадратном бассейне, мы, миновав заросли шелега (оригинальный кустарник с коричнево-розовыми стеблями, гибкими и крепкими, а потому и хорошо служившими для многих родителей в качестве розг для поучения своих провинившихся детей-оболтусов), нашли недалеко от Солёного озера. Его вода была изумительно вкусная. Говорили, что в глубине из-под Кукушки мимо Солёного озера в сторону Горькой балки течёт подземная река. Возможно, да. Весной широкая полоса зелёной травы доказывала это. А ключи в подкове Бешпагирского плато (их сотни!) — это беглецы подземной тюрьмы воды, текущей с самих Кавказских гор. Посетив родник под названием «Криница» у Солёного озера, мы вернулись на гору, где я живу, и посмотрели ещё два ключа. Меньший, с прохладной водой, Горячев ключ, обеспечивал питьевой водой живущих на горе. Моя бабушка часто лечила маленьких детей от сглаза или ещё от какой-то неведомой болезни с помощью этой воды. К своим молитвам-заговорам она просила принести из этого родника непитой воды, но при этом ни с кем не говорить, не перекидываться ни одним словом. Иногда она выливала принесённую кем-то воду и требовала принести новую. Но опять строго-настрого приказывала выдержать её наказ. Как она узнавала, что приносивший обмолвился с кем-то словом или поздоровался — неведомо.
Большой, почти такой же как и Сафонов, — Бородинский, из своего каменного песчаного бассейна насосами отправлял воду во ВНИИОК, научно-опытное хозяйство при Ставропольском сельхозинституте, приютившееся на отрогах горы Толстая, в самом начале Горькой балки. Гора Толстая как огромный стол возвышалась над котловиной под названием Солёное. Удивительно, но по склонам над низиной Солёной, кроме горько-солёных родников с белыми высолами на земле и траве, не было ни капли живой питьевой воды такой вкусной, как в Бешпагире. Осмотрев четвёртый ключ — квадратное строение, внутри которого вырывался из под камней и падал в бассейн поток водопада, похожий и мощью, и красотой на Сафонов, мы, хотя и устали, решили найти и пятый.
А где же пятый? В книге у краеведа не было никакой информации о пяти ключах Бешпагира. Раньше я и сам не задавался таким вопросом, а сейчас решил, что пятый, считавшийся стариками ключом с живой и мёртвой водой, находится в таинственных Корытельных балках. Чтобы найти его, мы и отправились в эти балки, на западную сторону Бешпагира. Там мы мечтали обнаружить не один, а два, — эти загадочные таинственные родника. Один с холодной, почти ледяной водой нарзанного типа и второй, который мало кто видел, с горячей, бьющей из термитных гейзерных труб. Ставропольская возвышенность удивительное место. За сотни километров от Эльбруса в разрывах оползней, отрывавшихся ежегодно от краёв плато, стали появляться настоящие вулканические трубки — древние выходы кипящих газов, магмы или воды. В классе я уже рассказывал своим ребятам о геологическом устройстве Предкавказья. У меня же была книга Гниловского, рассказывающая о строении Кавказских гор и Калаусских высот или, как говорилось в книге, Калаусского плато. И теперь мы могли увидеть реально эту изумительную изогнутую излучину гео (Земли).
Многие ребята, устав, отправились вниз по домам. Я, Юля, две девочки и один мальчик всё-таки пошли со мной в балки. Перед тем как спуститься к балкам, мы поднялись на валы местечка, которое называлось Городок. Это примитивный заброшенный земляной редут времён Кавказских войн, — одно из многочисленных укреплений Азово-Моздокской оборонительной линии времён Екатерины Великой. На нём мог дислоцироваться и обороняться от горцев сторожевой гарнизон казаков. Вдалеке на юге виднелось ещё одно остроконечное возвышение, меньшее по размерам, чем гора Острая, находящаяся ближе к Ставрополю, но не менее ценное в период Кавказских войн. Её называли в селе Бикет, изменённое слово Пикет, где хоронился наблюдательный пост бешпагирского гарнизона казаков. Поросшие по склонам Пикета кустарники и даже какие-то колючие деревца по оврагам тоже хранили свои секреты и тайны. Но мы практически не ходили туда никогда. Ходили слухи, что там есть неизвестные могилы.
Когда мы поднялись на валы Городка, нам открылась изумительная картина Кавказских гор, увенчанных двуглавым белоснежным Эльбрусом, освещённым предзакатным солнцем, ещё прорывавшимся из-под наползавших с запада тёмно-синих холодных туч. Эти тревожные, но восхитительные картины не захватили моих пионеров. Они набросились на боярышник, рваными группками росший невдалеке. Год был неурожайный, ягод было мало, и все проголодались ещё больше. Никто не взял с собой ни крошки, и нам пришлось прекратить наше приключение. К тому же над плато разразился такой ураганный ливень с разъярёнными молниями и громами, что о продолжении похода не могло быть и речи. Природа охраняла свою вечную тайну живой и мёртвой воды. Торнадой пронёсшийся ураган мы пересидели под плитой, нависшей над разрывом оползня. В таких местах разрабатывались примитивные карьеры жителями села. В одном из таких карьеров обнаружили как-то древнюю могилу. Мне вспомнился случай раскопки захоронения скифского или сарматского воина, и я рассказал моим притихшим пионервоинам двадцатого века эту историю.
— А почему это воин? Ну, мо…, могила воина, — спросила меня Юля.
— Ржавый меч и доспехи, лежавшие рядом и под скелетом, говорили об этом, — пояснил я, — Я сам нёс меч в нашу школу. Мы думали, это будет интересно Ставропольскому музею. Ведь это открывает дверь в историю этого места. Но никто из музея не приехал за этим артефактом, и скелет забросили на чердак старого здания физзала.
— А где же эта могила? — спросил Саша Душин.
— Где-то здесь, рядом с этими выемками песка и глины. Этот песок и глину бешпагирцы берут для своих строек, — ответил я.
— А что скелет? Так и лежит на чердаке физзала, где мы играем в волейбол? И меч там? — снова спросила Юля.
— Скелет там, на чердаке. А где меч? Не знаю, — нагонял я страхи, думая, что добавляю романтики для своих уже попритихших пионеров.
— Мне страшно, — сказала одна из девочек, поднимаясь выше под нависшую плиту.
— Танюша, нет, не лезь под плиту, — с тревогой попросил я её.
— Почему? — бросила мне Таня, втискиваясь под самую глубь песчаника, — хрупкого камня, образовавшегося из того же песка, на котором он едва держался.
— Однажды, в том Городке, который мы видели там на окраине села, под такой плитой погиб мальчишка с нижней от моей улицы. Он подрывал себе местечко для схрона во время игры в казаки-разбойники. Думал, видимо, что там его никто не увидит. А плита обломилась, и… Так что я видел как отсюда уносили и скелет сарматского воина, и тело погибшего мальчика, — пытался я успокоить страхи моих пионеров.
— Мы хотим домой, — заскулили мне в ответ девчонки.
— А дождь? — силился показать своё бесстрашие Саша. — Нам нужно развести костёр. Будет тепло.
— Дождь закончился, — убеждали его девочки, считая, что дождь был так себе — не холодный и не тёплый. — И нам не надо никакого огня. Домой, домой.
Пришлось, несмотря на (пусть и не холодный) дождь, вылезать из-под спасительной огромной плиты, цепляясь за выступавшие свинцово-сизые гофрированные вулканические трубки — маленькие кривобокие выходы вулканчиков, оголившихся в срезах оползней в пластах глины, песка и камней, и шагать под дождём.
Мне почему-то не хочется описывать все мои чувства, которые преследовали меня на каждом шагу возвращения. Я не могу их разобрать и соединить в одну цепочку, в единое целое до сих пор. Только что прочитанная мной книга «Борьба за огонь», о которой я рассказал по дороге своим бесстрашным искателям приключений, поддерживала во мне дух борьбы. Я казался себе одним из героев этой повести. Ни холодный, ни горячий родники, ни алмазные трубки (говорят, что в перекалённых трубках могут рождаться не только газы, но и алмазы) никого больше не интересовали. Усталость, дождь и голод нас победили. Надвигался вечер. Огромная махина уродливой тучи уже раздавила закатное солнце. Юля даже не захотела, чтобы я её проводил. Мы расстались в центре станицы, недалеко от школы.
Людмила Турченко стала свидетельницей моего возвращения с моими пионерами. Её кривая улыбочка сказала, что всё, что она сделала со мной, было правильно и бесповоротно. Она пригласила весь наш класс провести праздник 7-е ноября у неё дома. Меня же — нет! Она была ко мне неравнодушна и, видя, что я запал на Юлю Бойко, как-то попыталась о чём-то поговорить со мной. Но… Я не хочу приводить этот колючий разговор, потому что для меня её претензии ко мне, как я думал, не имели никаких оснований. Хотя этот неоконченный диалог влияет на развитие дальнейших отношений с Юлей. Людмила тоже приехала в Бешпагир недавно. Сразу, после появления её в школе, наш класс украсился мощной дородной и удивительно умной девушкой. Её с тонким прищуром глаза были полны такой силы, что мало кто выдерживал их пытливых взглядов. Семья Людмилы приехала с Урала. Школа Людмилы там, а, может быть, и она сама были на голову выше нашей сельской. Людмила даже помогла мне сдать экзамен по русскому языку в седьмом классе. Экзамен проходил в старом здании того же физзала, и я выбросил ей в окно листок с предложением для грамматического разбора, которого я не знал и не смог бы сделать. Она сумела быстро сделать разбор и ловко подбросила листок назад мне в окно, завернув его в лист дерева белолистки. Пётр Иванович, наш учитель по русскому языку, маленький, уродливый почти двойник героя Шарикова из «Собачьего сердца», по прозвищу Шкет, бросился ко мне с криком:
— «Шпора?!»
Но листок огромного дерева белолистки, влетевший одновременно с листком-шпаргалкой спас меня от двойки и позора. Я успел вытащить из него бумажный листок с разбором. Шкет же, выхватив ещё пахнущий деревом лист у меня из рук, повертел, повертел, всматриваясь в иероглифы самого растения, и разочарованно выбросил его в окно. Потом боком протискиваясь между парт и, неустанно исподлобья смотря на меня, вернулся к учительскому столу, что-то бормоча себе под нос перекошенными от природы губами.
Я же, желая выкрутится и перенести акцент со шпорой в шуточный вариант, спросил его:
— Пётр Иванович, а в слове листок мы пишем «и» или «е»?
— Какое «И»? Какое «Е»? Какой дурак тебя учил русскому языку?
— Вы, Пётр Иванович, — пояснил я под хохот экзаменующихся. Этот неожиданный бой учителя с учеником стал сюжетом рассказов моих одноклассников на все времена.
Пётр Иванович, конечно, слышал мои слова, но он изобразил, что инцидент закончен, но ещё не разрешён в мою пользу. Я от всего сердца благодарил судьбу и, конечно, Людмилу, да и листок белолистки, не только огромного, но и умного дерева, не случайно росшего у ручья, рядом со зданием физзала. Благодарил за ангельское охранение меня от двойки на экзамене, как благодарил запятую заключённый, приговорённый к смерти, но правильно поставивший её в предложении: «Казнить нельзя помиловать».
Людмила была магнитом для всего нашего класса. В школе было мало парней достойных её. Я очень хорошо относился к ней, и она, может быть, думала, что это больше, чем уважение к ней. Но она ошиблась! Возможно, было бы и большее, чем уважение. Но появление Юлии Бойко в нашей школе перевернуло во мне очарованность Людмилой, переведя её в медленное охлаждение наших отношений.
18 ноября 1963 года
Вторая четверть началась холодным ветром с дождём. С 13 ноября по сегодняшний день Юли не было в школе. Я не знал, что случилось с ней. Я был зол на себя, когда узнал, что она болеет. Чувство вины: возможно, перегрузил девчонок в походе. А здесь ещё и Людмила, да и другие девочки класса превращали меня в изгоя, отщепенца. Я уже много дней, после предпраздничного разговора с Людмилой, не обращаюсь к ней ни по какому вопросу, хотя некоторые старания завязать разговор со мной с её стороны имеют место. Но тщетно! Моё наигранное равнодушие к ней, как и ко всем девчонкам моего класса, ещё не перешедшее в полное неприятие их меня, а моё их, открыто ещё не проявлялось. Но я считал, что они сами навязали его мне, и готов был к войне с ними. По закулисным разговорам мне сообщали такую чушь обо мне, о которой я никогда бы и не подумал. Я — и неудачный организатор, и неумелый вожатый с карьерной влюбленностью в Бойко, дочь партийного босса колхоза, и прочее, прочее. Фактически эффектная, но скорее эффективная бессмыслица: направленная каким-то образом отомстить мне за моё падение — влюбиться (влюбиться ли?) в малолетку. Хмурый и злой я отстранялся от классных девчонок, наделяя их в своих мыслях презрением за неотёсанность и вечную деревенскую грубоватость с отсутствием всяких стремлений к высшему.
Но сегодня я увидел Юлю. Я искал её в коридорах, чуть ли ни сталкивался с ней, но ни единого взгляда как и слова не устремилось ко мне с её стороны. Недовольство! Мной? Собой? Но ведь я тоже, когда вышел из больницы, был не лучше. Погрузившись в жизнь, которую оставил на целый месяц из-за болезни, я был весь рана. Вот и теперь, как и тогда. В каждом поступке какой-то трепет, тем более, к ней. Я боялся даже смотреть в её глаза. Ещё больше, чем тогда, я говорил себе: «Я боюсь, боюсь». Она была в больнице в Ставрополе. Я хотел съездить в город к ней, но не знал в какой она больнице. Спросить у её мамы — но кто я такой! Вожатый? Убедительно? Возможно — да! Но теперь надеяться мне не на что. Облом Обломович и здесь! У-у-у… Хоть волком вой!
Вчера написал кое-что ей. Почему-то после больницы я мало пишу, почти совсем не пишу. Уроки, уроки, уроки. Одни они заполняют всё моё время. А сколько ещё недоделанных, несделанных дел, требующих большого, очень большого труда.
