автордың кітабын онлайн тегін оқу Философема о театре
Двадцатого декабря 1923 года на заседании Театральной секции Государственной Академии Художественных Наук (ГАХН) Сигизмунд Кржижановский прочитал доклад «Актер как разновидность человека». Текст доклада не сохранился. Однако содержание его можно весьма точно реконструировать по материалам архива Кржижановского, прежде всего — именно так озаглавленной последней главы «Философемы о театре», которая к тому времени уже была написана.
Труднее ныне представить себе другое: смысл и цель этого выступления, если угодно, вектор пафоса докладчика. Вдуматься: перед — преимущественно — режиссерами и театроведами с решительной и убедительной апологией актера выступает полутора годами раньше приехавший из Киева, почти не печатавшийся, мало кому известный писатель. И происходит это в пору самого что ни на есть расцвета режиссерского театра…
Насколько мне известно, в ГАХН его привел Александр Таиров. Познакомившись с Кржижановским в начале осени 1922 года, Таиров сразу пригласил его преподавать в Экспериментальных Театральных Мастерских при Камерном Театре — преподавать то, что сам Кржижановский сочтет наиболее интересным и нужным. Этот курс был озаглавлен «Основы внутренней техники актера», но, по свидетельству много лет дружившей с Кржижановским и его женой режиссера театра Нины Станиславовны Сухоцкой, преподаватель предпочитал иное заглавие: «Психология сцены».
Таиров не мог поверить, да и мудрено было, что этот блестящий историк и теоретик театра, свободно оперирующий в размышлениях своих всею мировой драматургией, от Еврипида и Аристофана до Гауптмана и Чехова, досконально разбирающийся в принципах и характерных особенностях итальянской комедии масок и японского классического театра, шекспировской трагедии и комедиографии Бернарда Шоу, актерского мастерства античности и средневековых мистерий, каких-нибудь четыре года назад был в этом деле неофитом — и не имеет специального образования.
Несколько лет назад мне довелось беседовать с одной из бывших «экстемасовских» учениц Кржижановского. И она сразу вспомнила два этюда, разыгранных в классе по предложению наставника (оба, замечу, на сюжеты его новелл). Хотя с тех прошло три четверти века, да и собеседнице моей было изрядно за девяносто. След остался отчетливый…
Правда, к тому времени у Кржижановского уже был опыт работы с артистами. Он начал лекторскую деятельность в восемнадцатом — работал со студентами семинара своего друга, композитора Александра Константиновича Буцкого в Киевской консерватории. Вскоре был приглашен в Театральный институт им. Лысенко, в Еврейскую студию, в другие театры. Таким образом, за четыре киевских и первый московский годы он вблизи познакомился с творчеством наиболее ярких режиссеров из уникального российского созвездия 1910-20-х годов: Курбаса, Марджанова, Михоэлса, Таирова, Мейерхольда, Станиславского, Михаила Чехова, Вахтангова; с таировцами, частью мхатовцев, вахтанговцами сошелся особенно тесно, но и остальных знал отлично…
Это была, повторю, эпоха режиссерского театра, театральные направления обозначались именами режиссеров, разница была очевидна не только для завзятых театралов. Главенствующая — de facto — роль режиссера, конечно, была ясна и Кржижановскому. Но, в отличие от абсолютного большинства театральных современников, он был с таким положением дел категорически не согласен! Более того — взялся аргументировать и отстаивать свою позицию. В разгар энергичной и продуктивной полемики о новой эстетике театра он попытался осмыслить и изложить философию театра, где та или иная собственно эстетическая система — только следствие, частный случай, а многообразие их само собою разумеется. И где без возрождения роли актера у театра попросту нет будущего.
В системе своих театральных взглядов он обозначает центральное звено: между историей — практикой (психологией).
В ноябре 1923 года Кржижановский писал: «…Сейчас актер, как и всякий гражданин, раскрепощен, но… до рамповой черты, не далее: там, за чертой — «Крепь», как и встарь: актер как актер не свободен… Сейчас актер забыл, как играть; играют им: под подошвы актеру пододвинута расчерченная на воображаемые квадраты доска сцены, и ходит по ней не он: ходят, с клетки на клетку, им. Вместо нервных нитей от мозга к мускулу — обыкновенная крепко ссученная нить от мускула к руке «невропаста», который, спрятавшись за ширму, «показывает игру»; и слова «сверх-марионетки» тоже спрятаны за ширму: вместо «своего тона» — камертон, вместо биений ритма и сердца — властно расстучавшийся метроном»… («Семь дней Московского Камерного Театра», 1923, № 2.)
Подчеркнем: это все говорится на пике режиссерского всевластия.
И тогда же создается «Философема о театре». Попытки напечатать ее поначалу не находят, естественно, поддержки ни у одной из влиятельных фигур, от которых публикация зависит. А потом… печатание подобных вещей становится и вовсе нереальным — по причинам отнюдь не теоретическим…
Между тем, в этой работе предсказано, не больше и не меньше, движение театра на всем протяжении двадцатого столетья…
Когда-то мой товарищ-художник, пятидесяти лет от роду, наконец, съездивший на несколько недель в Италию, сказал по возвращении, что, если бы впервые попал туда в двадцать, вся его жизнь сложилась бы иначе.
Думаю, существуй последние восемьдесят (!) лет «Философема» в открытом доступе, а не в столе автора, а затем в архивных ящиках, кое-что в новейшей истории театра могло происходить иначе.
В истории русской культуры трагических рекордов — в избытке. Но это восьмидесятилетие выделяется даже среди них — превзойти сие «достижение», хочется верить, уже невозможно…
Вадим Перельмутер

i
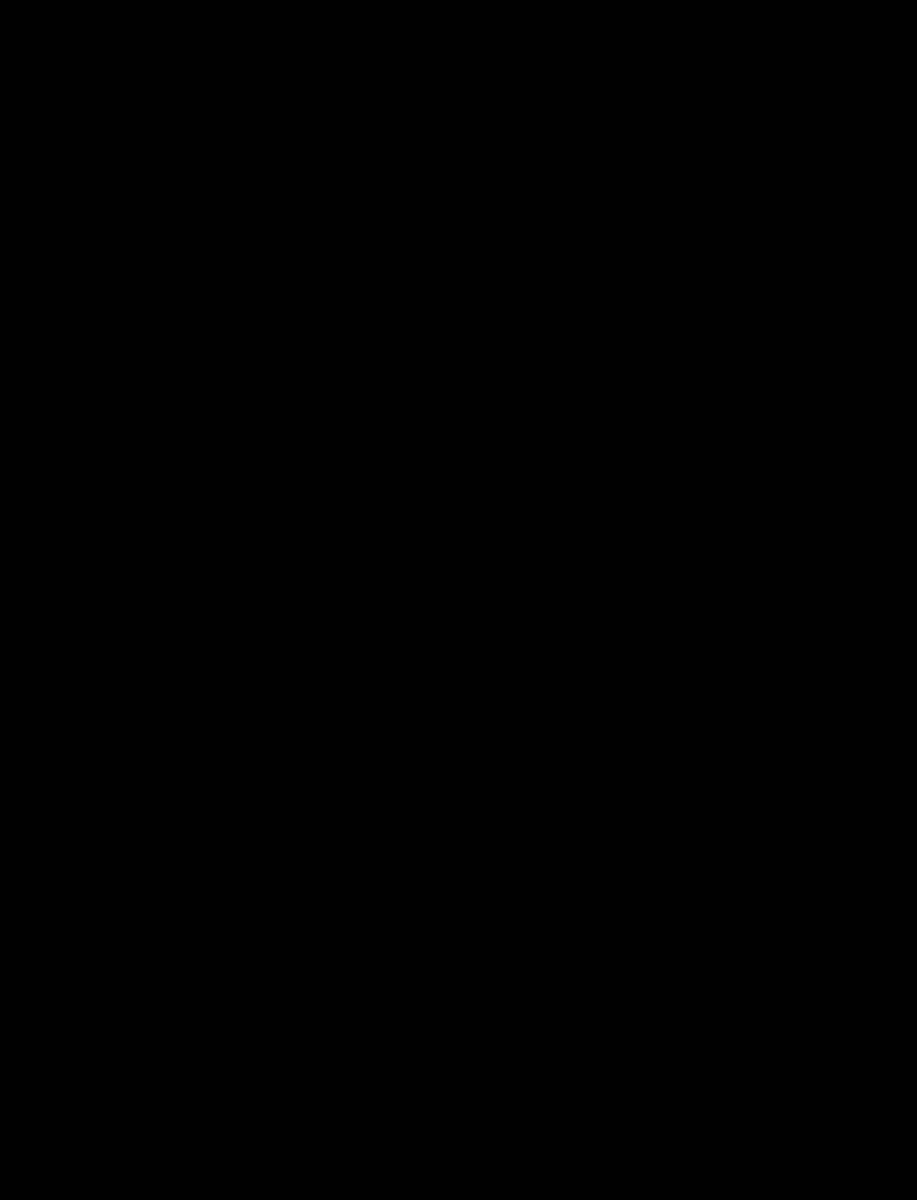

ii
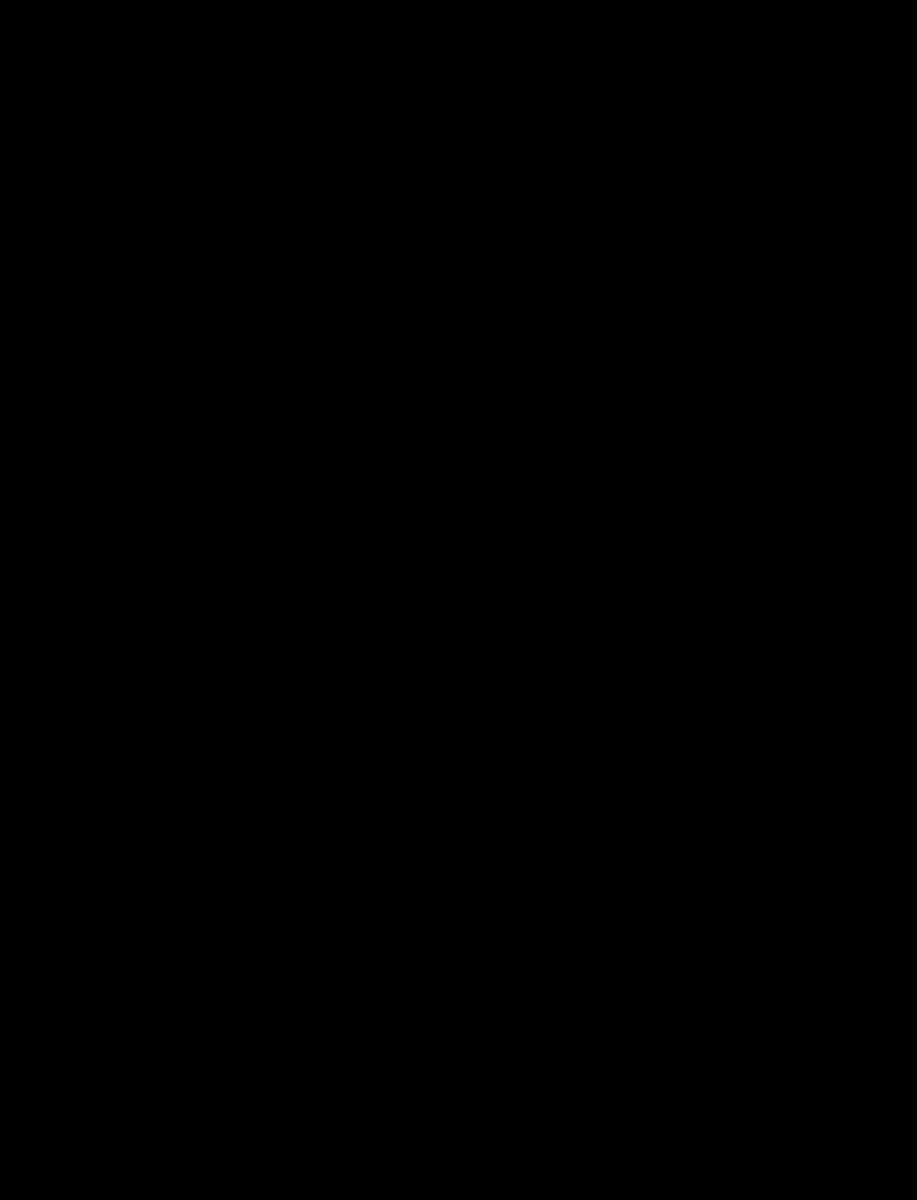

iii
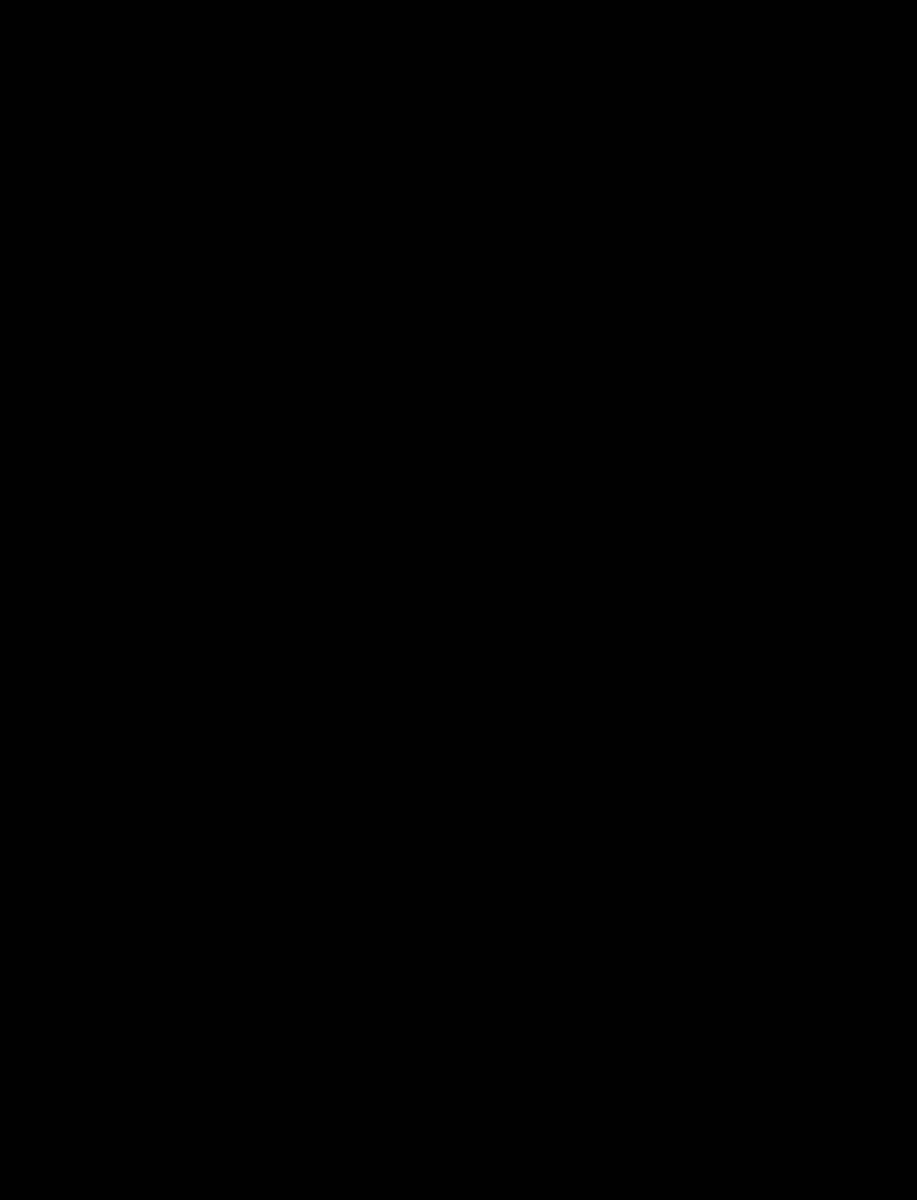
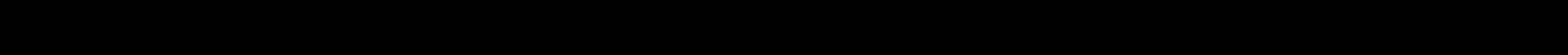
Глава 1
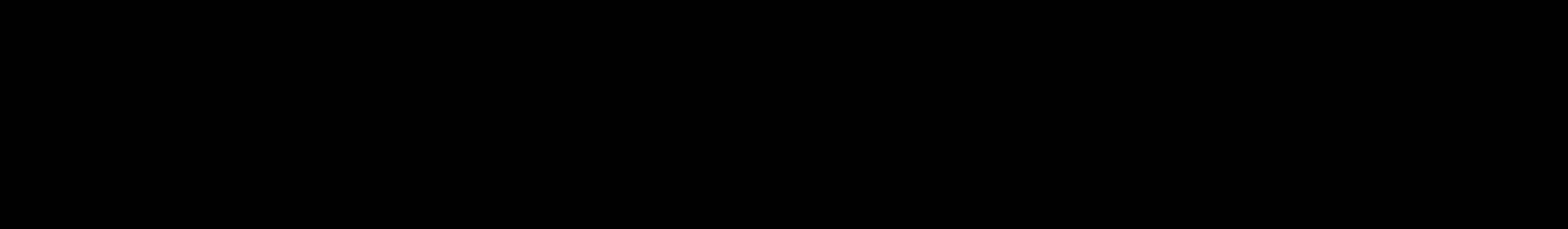
Все как всё

4
Улица. Двое, идя вслед друг другу, шагают по булыжникам. Первый — видит себя меж двух рядов фонарных огней. Второй — находит себя мыслью идущим меж звезд. Оба правы. Мне неинтересно, куда идет первый, но знаю: второй, куда бы он ни шел, идет в философию.
В старых немецких университетских городах, как Кенигсберг или Иена, всегда может быть отыскана улица с традиционным названием: «Philosophen Weg». Ученые городки благоговейно хранят это название еще с тех времен, когда в них водился вымерший теперь метафизик: именно по этим уличкам совершали свои обычные прогулки мыслители. Philosophen Weg начинается обыкновенно от квадратной городской площади, заставленной амтами и кирхами, и, постепенно выпутываясь из рядов окон, уставившихся в Weg, уходит в поле: от застланного камнем квадрата — в простор; от оконных щелей — к синему провалу неба; от многокалиберья и пестроты всяких нечто — в простоту всё. Беря и наблюдая метафизика не с макушки, а с подошвы, мы даже и здесь видим, что философия, чтобы видеть вещи, поворачивается к ним не глазом, а спиной; постигая нечто, не близится к нему, а уходит от него, с тем, чтобы найти его затерянным в всё. Можно ставить на обложках рядом со словом «философия» в родительном падеже любой нечто: «права» — «любви» — «театра» и т. д. Но у философии есть лишь один ее объект: всё как таковое. И подлинная философия театра возможна лишь в том случае, когда театр и всё совпадают, то есть когда нет ничего в мире, что не было бы театром в той или иной его модификации. Настоящая работа и пытается слить порог театра с порогом сознания; порог сознания — с пределом мира.
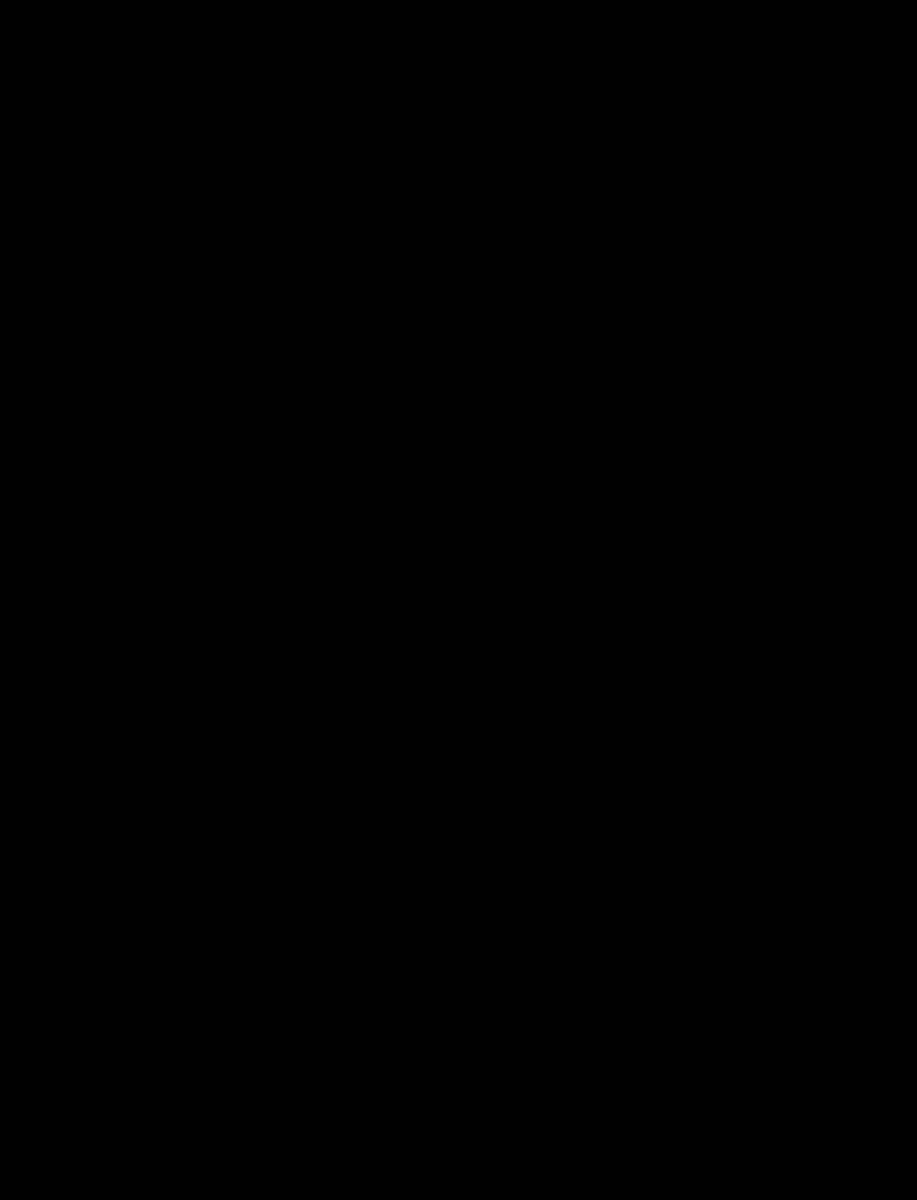
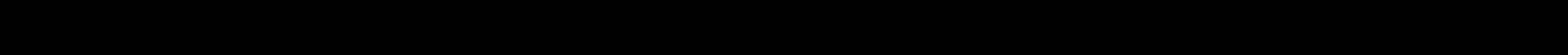
1
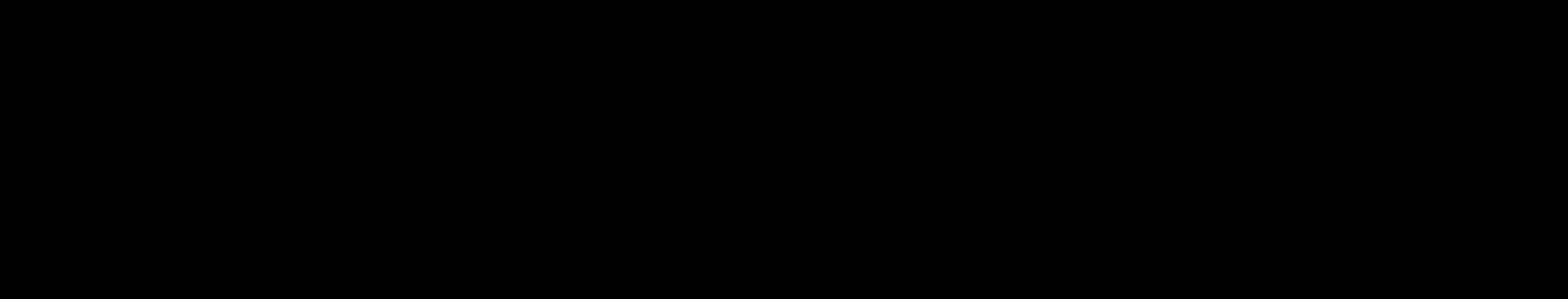
Philosophen Weg

5
Первая строка в книге одного немецкого метафизика: мир есть мое представление. Первые слова, показываемые переступающим порог шекспировского «Глобуса»: весь мир играет представление. Подымается и опускается занавес. Подымаются и падают страницы. И из-за занавеса, и со страницы — одно и то же, лишь разно и разным данное.
Если взять терминологии — сценария и «Критики чистого разума», — они до странности схожи: человек языком «критики» среди «явлений»; в сознании его возникают и падают, сменяя друг друга, «представления»; ведомый теми или иными причинами к тем или иным «действиям» (меняю критику на сценарий), он очутился — к вечеру дня — на «представлении», разворачивающемся «действие» за «действием». Причинность сгустилась в судьбу, двигающую «явлениями» сцены. Маленький дощатый, освещенный десятком коптящих факелов «Globe» состязается с огромным, в лучи солнца взятым глобусом. У «большого глобуса» — «явлений» неисчислимое множество. У маленького «Globe» их всего тридцать-сорок в вечер.
Но, теряя в количестве, маленький «Globe» пробует наверстать в качестве: за «явлениями» Канта еще чувствуются аффицирующие их вещи. За аффицированными «явлениями» Шекспира их нет: они оторвались от вещей. Мир «как представление» ставится в бессознательном; сознанием же он воспринят как данный извне. Представление же на театре, об этом знают все — от Шекспира до последнего мальчугана, топчущегося перед рампой в чавкающей грязи, — все сплошь представлено человеческими руками для человеческих глаз.
Кант вынимает весь мир, от звезды до пылинки, из глаза: есть ли что вне субъекта, он не знает. Шекспир делаерт мир — пером, молотком и кистью — для глаза, для зрителя: отсмотрели — и всё. Скучная причинность Канта, числимая им в качестве восьмой категории рассудка, превращается под пером Шекспира в судьбу. Причинность возится с пылинками. Судьба берет себе звезды. Причины и действия, движущиеся, как бусины по четочным нитям, вкруг огромного земного глобуса, давно уже спутали свои узлы и нити, так что сознание отдельных людей не в силах прокружить по одной какой-либо нити от первой до последней причины. Явление «а», возникая в моем сознании, ведет за собой явление «с»; но «в» уже вне моего сознания — его видят другие, или оно протекает в невидении. А на место оборвавшегося ряда «а, с, в…» в сознание включается другой ряд: a, b, g, — с тем, чтобы, оборвавшись снова, уступить место новому ряду — …г, д, е. Сцена же, выпутывая действие из перекреста нитей, несущих на себе причины и следствия, всегда показывает как бы весь неперерванный другим алфавит явлений данного ряда: стенки театральной коробки, изолируя данное, разворачивающееся от явления к явлению действие, защищают его от опасности перепутаться и наклубиться на явления чужеродного ряда. На сцене ничего не происходит за спиной. Зритель забывает, что у него есть спина: всё — у глаз: всякая причина, прежде чем сойти со сцены, выводит на смену себе свое зримое следствие, и квалифицированное время «Globe», кружащегося в тысячу раз быстрее огромного тяжеловесного глобуса, покрывающего секундой час, с рампой, в отличие от медленного, от зорь к зорям переползающего солнца, то гаснущей, то вновь горящей, — дает возможность, быстро продергивая нить причинности, внизанную в явления, почувствовать ее как нечто более сильное, чем причинность: как судьбу.
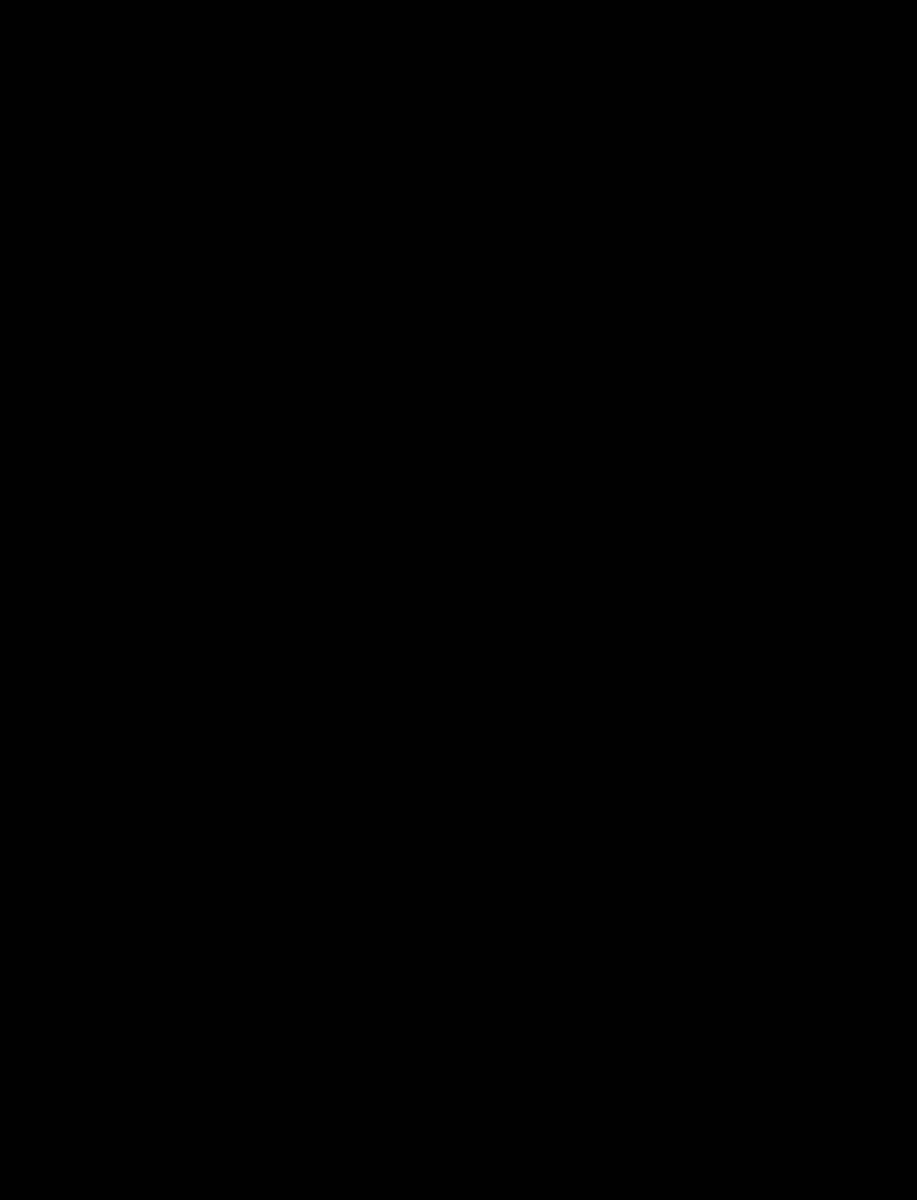
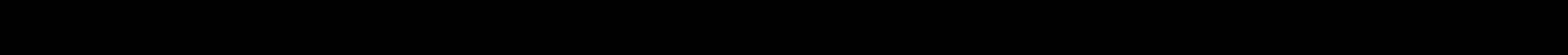
2
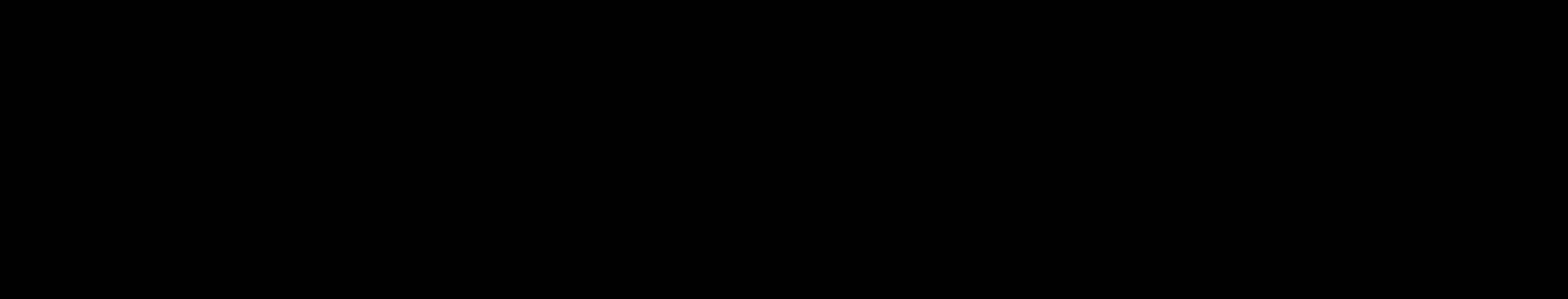
«Globe» и глобус

6
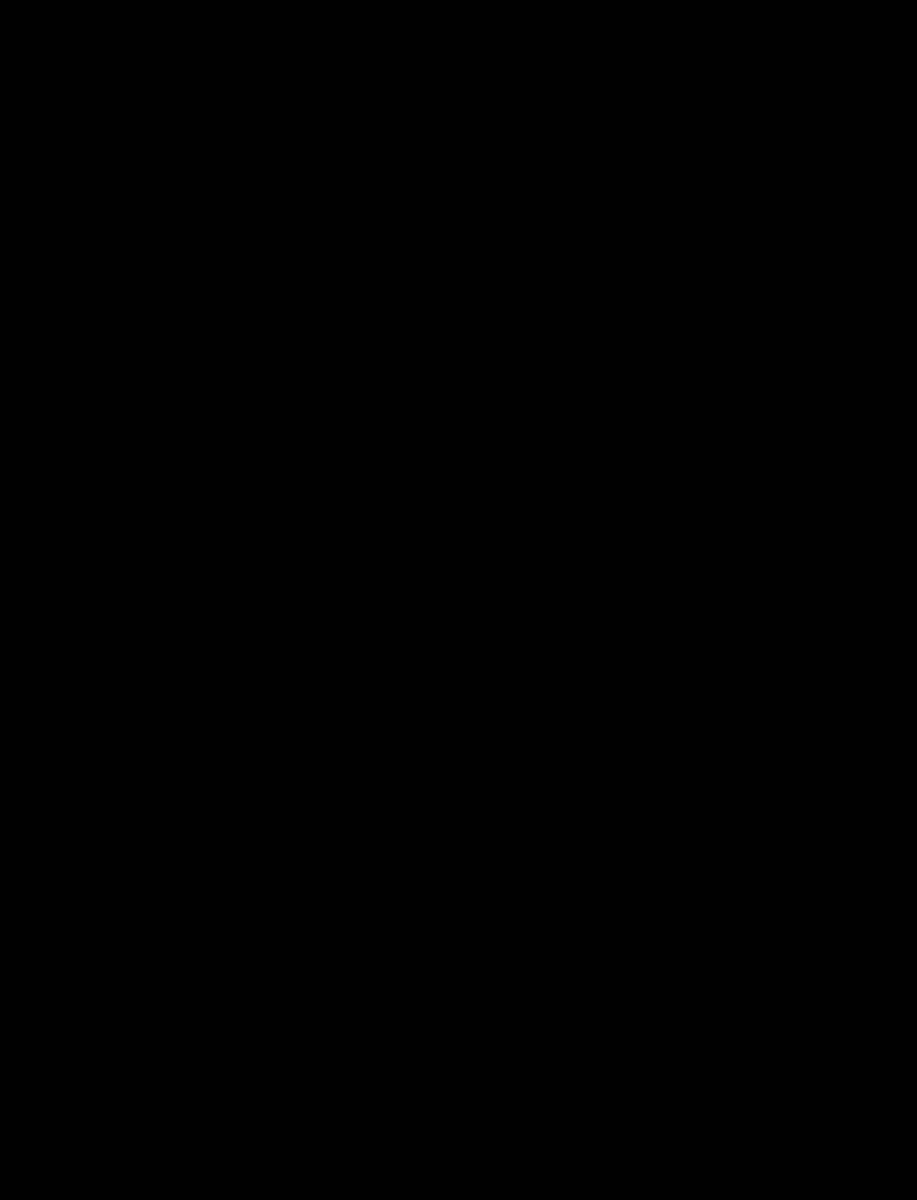

7
Человеческое «я», глянув сквозь глаза во вне и увидав, что за зрачками не пусто, не смеет уж более отгородиться веками от своего вне. Они, назвав не-пустое «не-я», пробуют овладеть им. Наука, скрутив «не-я» проводами, зажав его меж полюсами и стержнями машин, пробует подчинить его «я». Философия идет дальше: ищет не подчинить — убить «не-я». Все «я», история которых заключена в анналы философии, пробовали перечеркнуть в «не-я» — «не»: укоротить мир в сквозное и сплошное «я». Распрямляя извилистый путь метафизики, можно обозначить его так: ликвидация объекта.
Физиолог Флексиг классифицирует движение нервных токов, замкнутых внутри черепно-позвоночной системы, на центростремительные (ощущения), центроцентральные (мысли) и центробежные (движения, мускульный разряд). Может быть, вся эволюция нервных процессов и направлена от центростремительности через центроцентральность к центробежности: от эпохи ощущений через эпоху мыслей к эпохе деяний. Но относительно почти выродившейся разновидности человека homo metaphysicus можно с уверенностью сказать, что в нем центроцентральные, выключенные из ощущений, процессы разрослись за счет центростремительных поступлений по ощущающим нервам извне. Чувствилище (sensorium) метафизика полуоторвано от внешнего мира: тщательное изучение биографических деталей из жизни Беркли, Канта, Иоганна Фихте, отчасти Шопенгауэра позволяет утверждать, что солнце им, сквозь толщу мыслей, светило чуть тусклее, чем другим, вещи казались отодвинутее, звуки глуше и невнятнее: центроцентральные токи внутри мозга частично нейтрализовали нервные токи, производящие ощущение извне. Физиологическая недополученность внешнего мира, естественно, рождала сначала недоверие, потом и неверие мозга в свое вне, приводящее к логическому отрицанию внешнего мира. Отсюда — критицизм, идеализм, метафизический иллюзионизм.
Но легенды постепенно передают свои темы газетной хронике. Homo methaphysicus век за веком передает свое мышление homo vulgaris: столетие тому назад лишь кое-где в путанице улиц отыскивалась Philosophen Weg. Теперь все улицы делаются понемногу Philosophen Weg'ами. Книжная метафизика кончилась, потому что началась метафизика жизни: теперь из самых неострых зрачков мир нет-нет да и вывалится; самый срединный человек, сидя у окна своей комнаты, изредка ощутит пестрые «вне» лишь налипью на глазу, пространство — плоской цветной картинкой на стекле окна. Каждому ведомо искушение: оторвать налипь от зрачков, решившись на ничто; смыть пространство, как пыль, опрозрачнив до конца окно, и распахнуть его в ничто. Но мышление Канта, вложенное в черепные кости Шмидта, в день-два прожжет и износит все нервные пути и извилины Шмидтова мозга. На помощь маломыслию Шмидта приходит театр: он, театр, перечеркивает линией рампы «не» в «не-я», соединяя разлученное «я» с «я».
Есть старое, схороненное в забытых церковно-славянских рукописях слово: «реснота», — и производное: «ресный». Церковно-славянский язык служил только идеализму: на иные направления его словарь ни разу и ни в одной книге не работал. Оттого именно в нем, несмотря на малословие, и выработались эти странные термины. «Реснота» — это все пестротное многообразие зримого мира, который по сути своей не длиннее ресниц, хотя и мнится огромным и многопространственным. Театр, сокращающий все пространство мира до короткого, в десяток аршин, воздушного куба сцены, тоже близок к вере, что мир наш — ресный мир, и если техника театра утончится, то, может быть, ему и удастся доказать наинагляднейшим образом, что все мнимые глубины и длины мира мер не длиннее длины ресницы. Иллюзионизм, ширясь, покинул низкую келью мыслителя: теперь он в рост театральному куполу и как раз укладывается под ним, герметически закупоренный в глухие стены театра; но никаким скрепам не удержать его внутри сомкнувшихся стен: фантомы и фантазмы, просочившись сквозь них, рано ли, поздно ли, войдут в жизнь, и миры, укоротившись до длины ресницы, войдут внутрь «я». Солнца зажгутся по сю сторону век; огромный сплюснутый сфероид земли, протиснувшись сквозь зрачок, спрячется в крохотном сфероидально приплюснутом хрусталике. И тогда театр, как мост, по которому все уже прошли, можно будет развести: он уже не будет нужен.
Недавно еще были часты нарекания на новую манеру писать: невозможно — все и всё спутали. Не оттого ли, что в манере не писать, а мыслить произошел сдвиг: все с всё отождествили: для меня все выражают собою всё. Где кончаются все, там кончается и всё. Социальная стихия — путь, ведущий в всё, по обочине которого мы раньше бродили, ведет к идеализму: человеку интересен лишь человек. Театр не знает иного все, как всё: на нем людям показывают людей: «я» смотрит в «я», глазами против глаз; «не-я» сведено к плоским пятнам, постепенно уползающим от глаз: остались серые сукна — уберут и их, и останутся — люди, показанные людям.
Без «не-я» выгоднее: убрать его, увести как декорацию и вместо одного солнца — столько солнц, сколько глаз, поделенных на два. Ленау в своем Фаусте прибегает к метафоре: черный ствол с его разветвлениями кажется ему сходным с древом познания. Но если б обыкновенное рождественское деревце с горящими меж его игл огнями и звездой, заколотой в вершину, умело мыслить, то, конечно, оно бы спроектировало, протягивая иглы в бесконечность, из сусальных звезд какое-то небо, огни своих свеч увидело бы на дальних орбитах как солнца, но деревцо ошиблось бы: звезды и солнце не далее остриев игл, пространство не длиннее ресниц.
В Андерсеновых сказках поставлена любопытная проблема о королях, принцессах и принцах: принцессы и принцы умеют одно — жениться; женившись, они делаются королями и множат новых принцев, метящих в короли.
Все сказочное пространство Андерсена заполнено коронами: чуть ли не с каждого лепестка розы вежливо раскланивались золотой коронкой с пролетающей мухой король эльфов или сильфов. Земли не хватает под множащиеся от сказки к сказке королевства. Королевства уменьшаются: одно, например, такое маленькое, что уж и жениться на нем нельзя. Не надо протестовать против сказки: надо позволить ей доразвиться до своего логического конца, когда множа королей и уменьшая их владения, сказка сделает всех королями, каждому даст королевство поперечником в ресницу. И когда все станут королями, когда у каждого будет по земле и по солнцу, только тогда осуществится подлинный пролетарский принцип: первое — уничтожить десяток королей; второе — всех сделать королями.
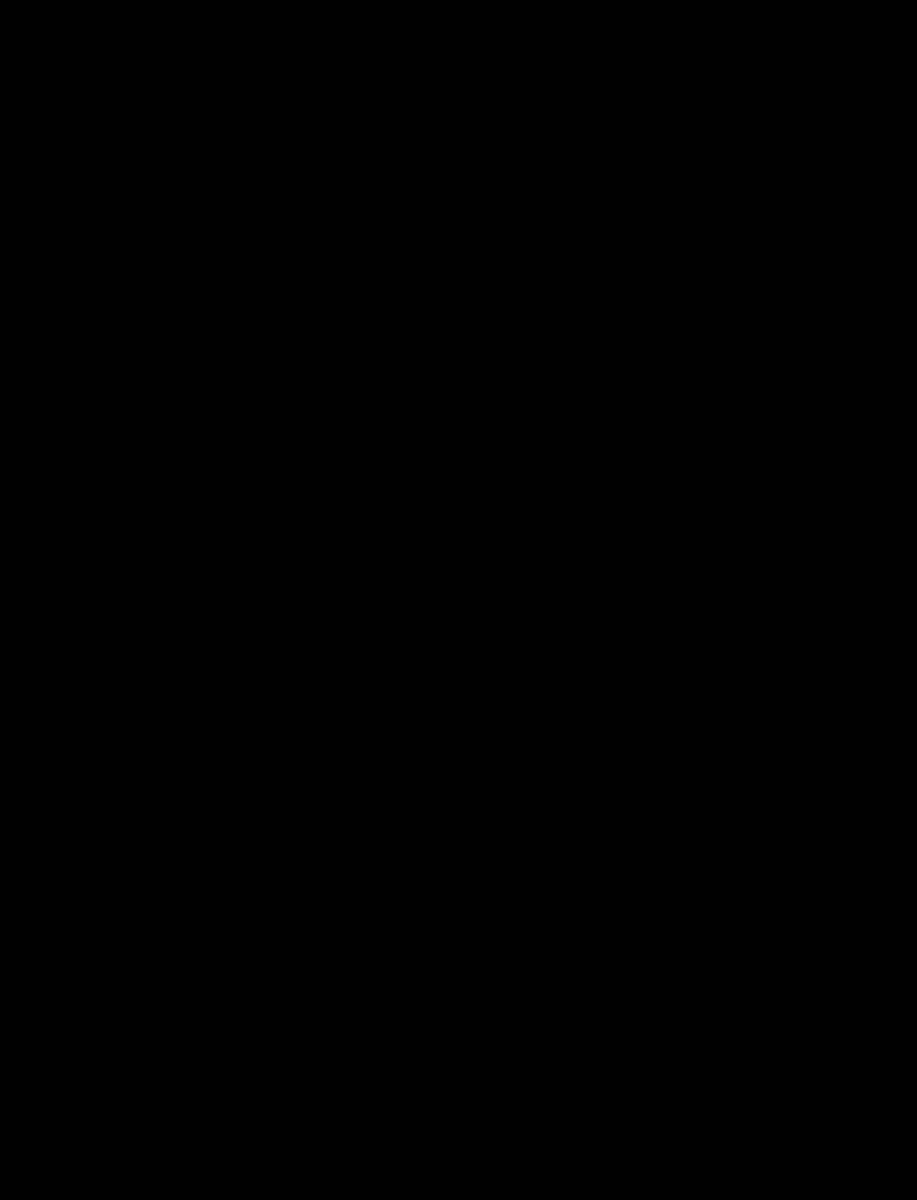
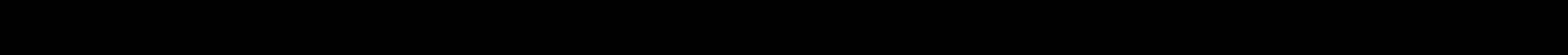
3
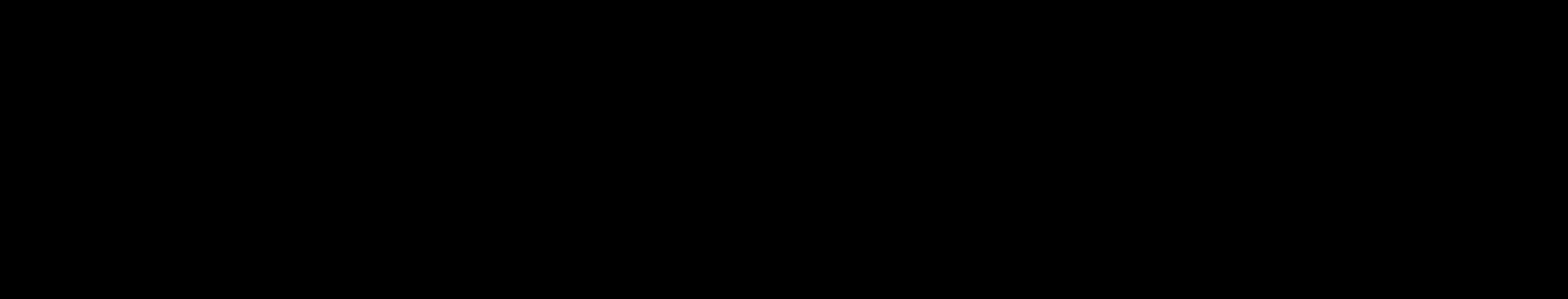
Реснота

8
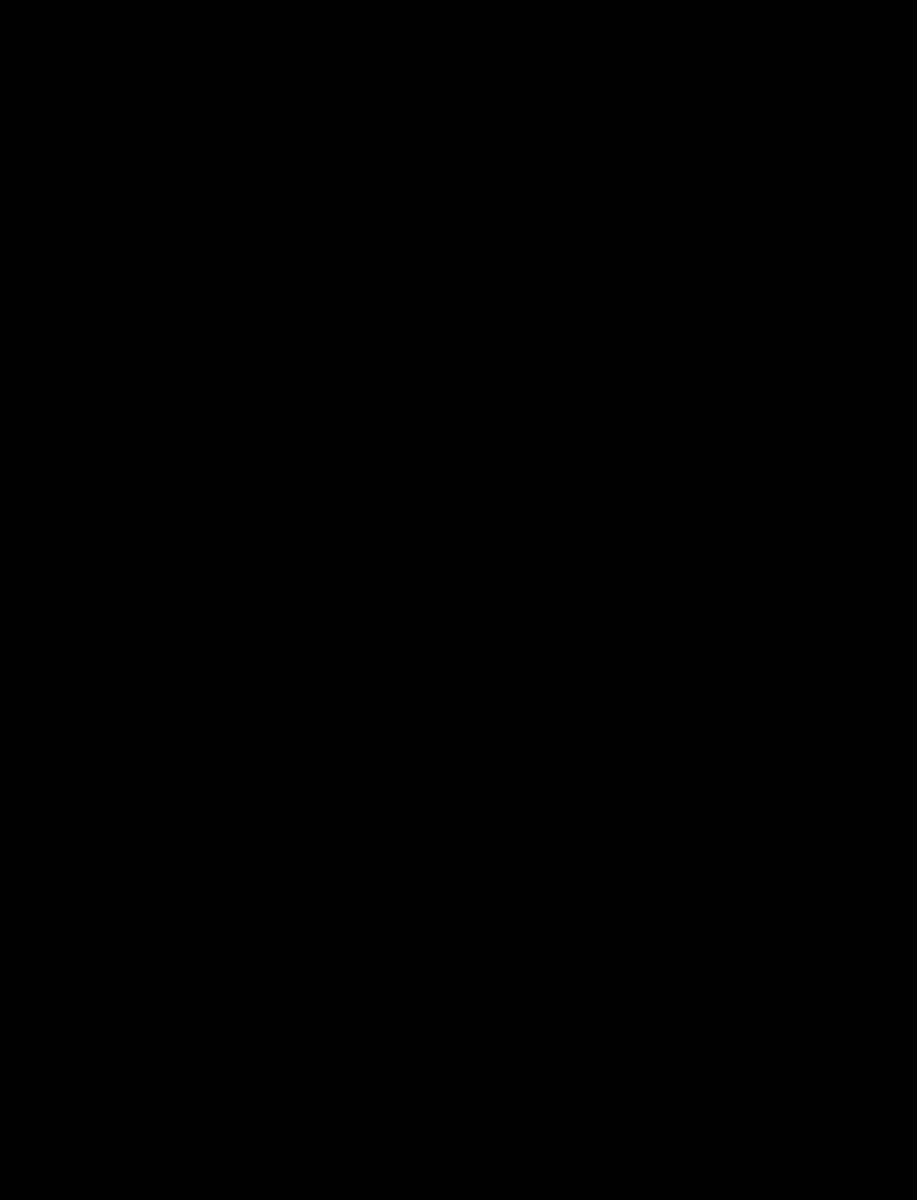

9
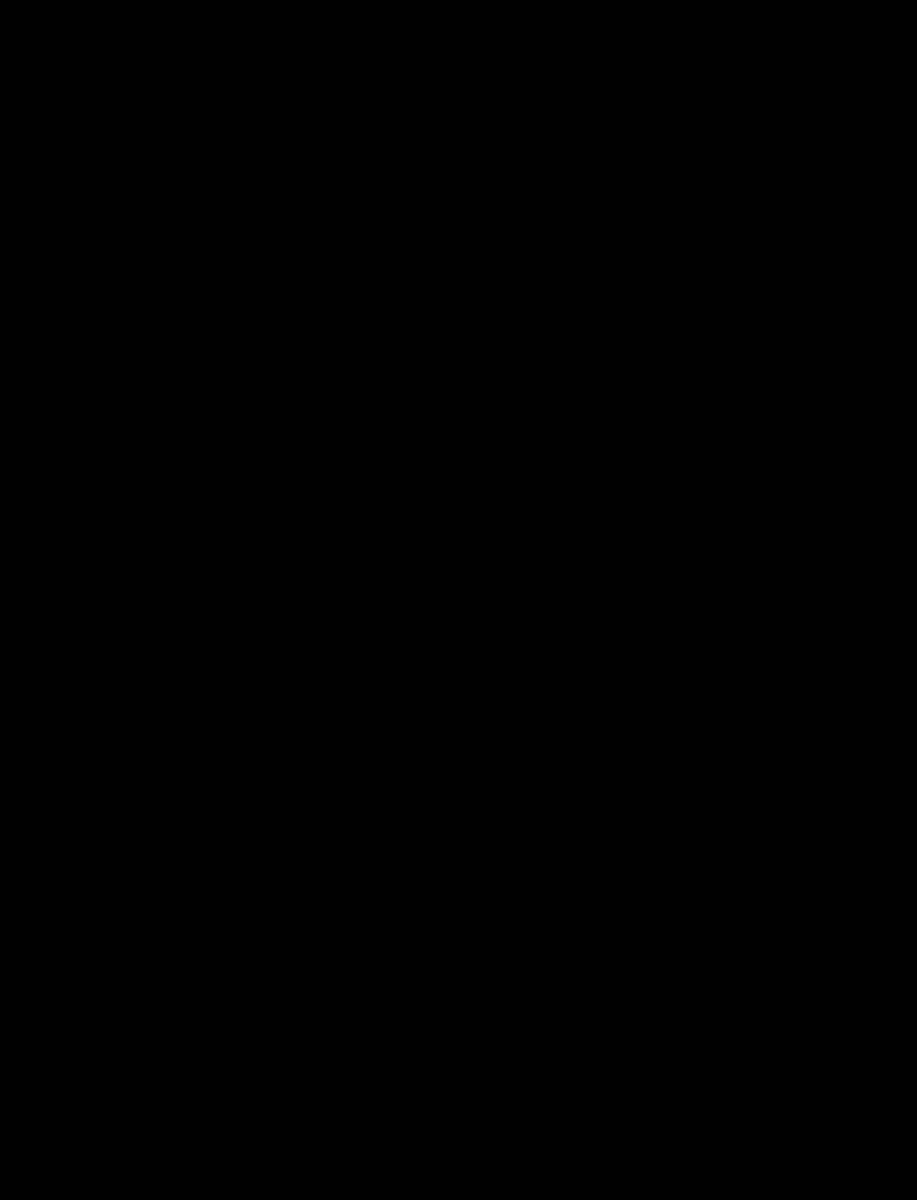

10
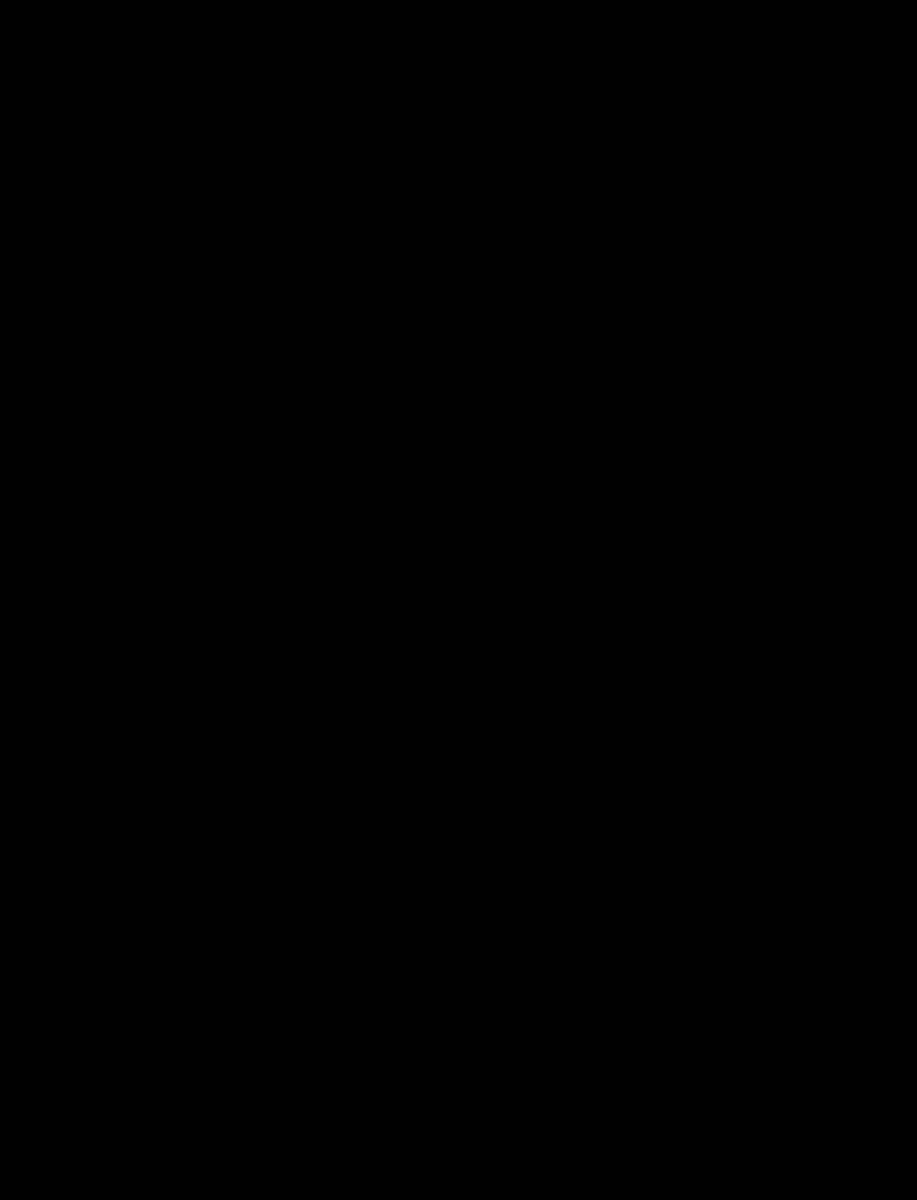

11
Основная пара терминов, которыми оперирует метафизика: нумен и феномен. Нумены — сути, феномены — призрачности. Феномены не имеют самостоятельного бытия; явлению может быть задан вопрос — что в нем является. Феномен, явление, модус могут быть поняты лишь из другого, а не из самих себя: они немыслимы без нумена или субстанции, как немыслимы тени без вещей, их отбрасывающих.
Но вещи, которые легко мыслимы без теней, которым тени для их бытия не нужны и излишни, все же неизменно обрастают движущимися пятнами теней. Нумен, вещь в себе, которой достаточно себя для себя, все же вопреки всяким логикам и мыслимостям, обрастает феноменами.
Если явления излишни сутям, не прибавляют и не могут им прибавить бытия, так как в сутях уже заключена вся полнота бытия, то, очевидно, явления — игра нумена (сути). Это чисто онтологический факт, окруженный многообразием непониманий: «зачем сущностям нужны призрачности, нуменам — феномены?» Всякий не понимает это по-своему. И я тоже. И пока это будет непонятным, понятен театр.
Все обыкновенное — лишь так странно соединенные странности, что мнятся обыкновенностью. Например: нервный процесс познания вложен в мозг; мозг в тело; тело во внешний мир. Мозг наиближе к процессу познания; тело дальше; внешний мир — и того дальше. Казалось бы, чем дальше объект от субъекта , тем смутнее и неяснее ему.
На самом же деле, самое дальнее — внешний мир — воспринят ясно, раздельно и четко; тело — ощущается смутно, лишь с поверхности; ткань мозга, наиближайшая, о что как бы трется процесс ощущения, — не воспринимается никак. Так и здесь; нас нет в том, что есть. Мы находим себя как бы в потерявших себя обессутившихся сутях, пробуем жить среди отрывных календарных цифр, облетающих листьев, дней, ползающих по циферблатам стрелок, короче, феноменов, которые есть, потому что возникают, и которых нет, потому что все изникают. Поразительный факт, что у нас нет того, что подлинно есть, и что нам дано лишь то, что бессильно что-либо дать, — должен быть принят как факт и только: не столько пониманием, сколько чутьем, знаем; феномен, явление как-то указует на свой нумен; и еще знаем: явление сцены как-то указует на явление жизни. Процесс опризрачнения бытия, раз начавшись, не может оборваться: у нумена возникает — явление; у явления — возникает явление явления: сценическое «явление» (явл.). Если во сне мне снится сон (что часто бывает), то второй сон, сон во сне, я правильнее оцениваю, чем первый. К первому сну я отношусь как к действительности — и ошибаюсь; сон же снящийся во сне я считаю за то, чем он есть: за мнимость. Брошенные из мира сутей в мир возникающих и никнущих явлений, мы продолжаем относиться к ним, как к сутям: свои представления принимаем за вещи. Но, переставив их с земли на помост сцены, из мира явлений в мир явления явлений, мы и относимся к представлениям, как к «представлению», не ища за этим сном во сне никаких вещей.
Так две противоположных ошибки сочетаются в истину.
Названные термины естественно строятся в прогрессию:
сущность явление
------------ = -------------
явление явление явления,
то есть явление Шекспира так относится к явлению Канта, как это последнее к непостигаемому и Кантом, и Шекспиром, нумену. Сцена моделирует десятком своих явлений, как крохотный макет, который легко взять в руки, моделирует самое сцену. Или еще: земля, давно прозванная «игралищем жизни» (ludum vitae), так представлена игровой площадкой театра, как эта игрушечным макетным ее подобием.
Отрок Лейбниц, играя с понятиями мертвецов, окружавших его в отцовской библиотеке, придумал особый «globus intellectualis», замкнутую сферу символических знаков, выражающих, без опосредствования слов, всю систему вселенских сутей. Теперь нам хватит терминов и для последней прогрессии, символизирующей все тот же алогичный первофакт.
globus intellectualis земной глобус
--------------------- = -------------------
земной глобус «Globe»
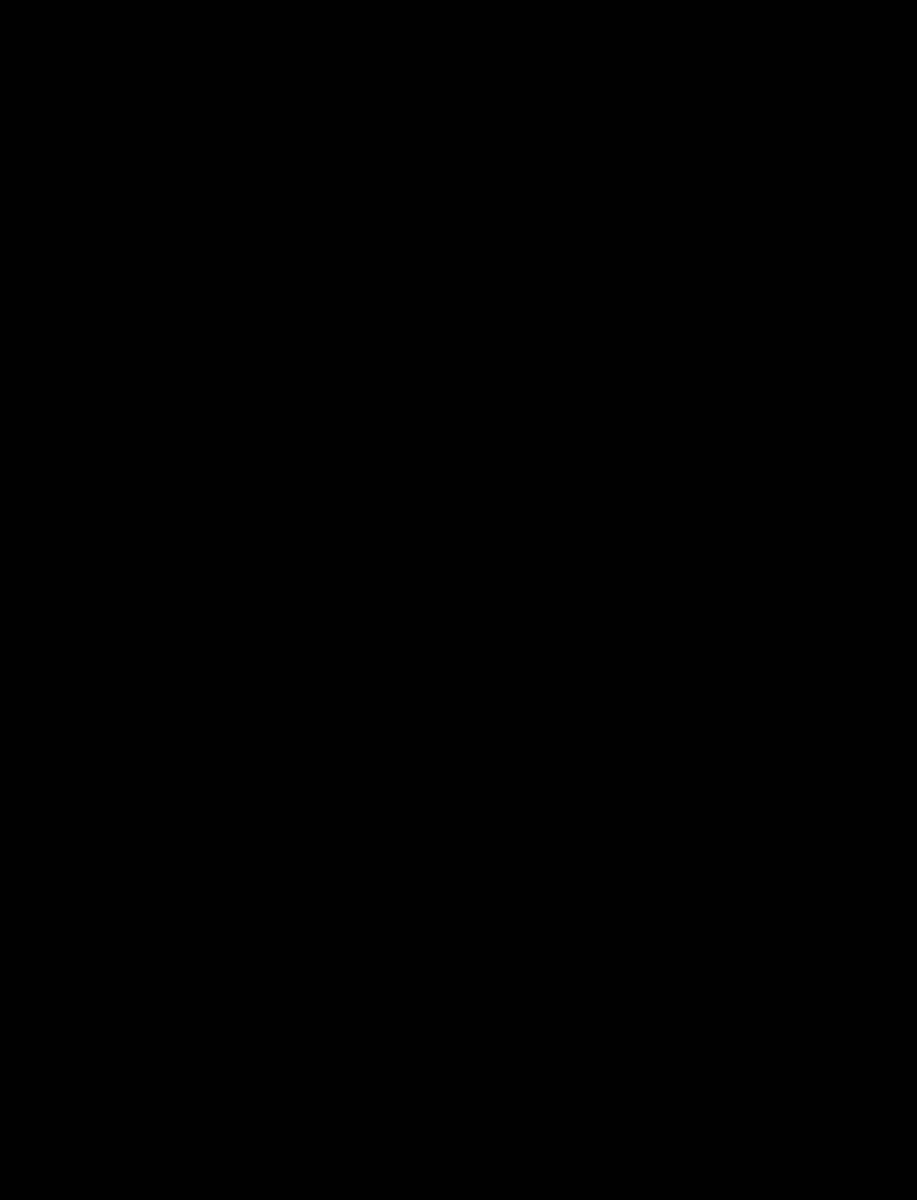
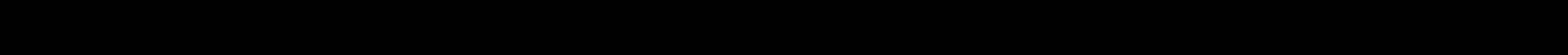
4
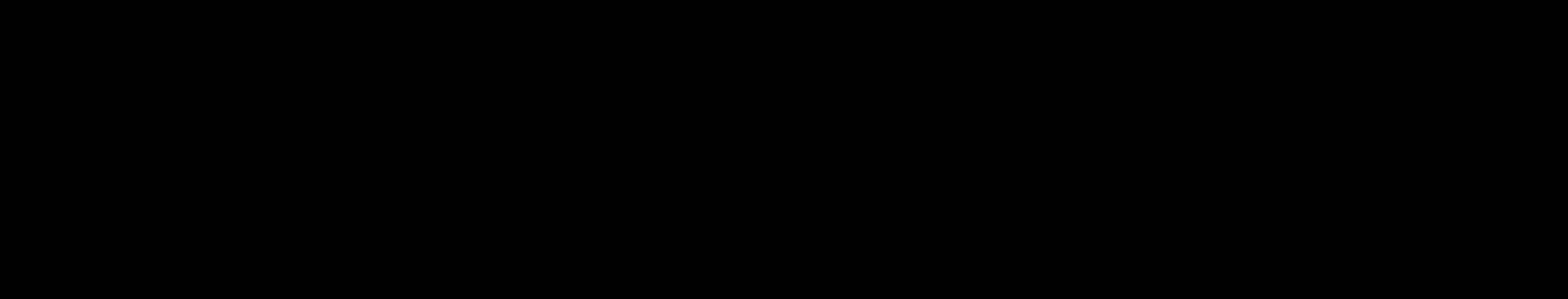
Сущности влекутся к призракам

12
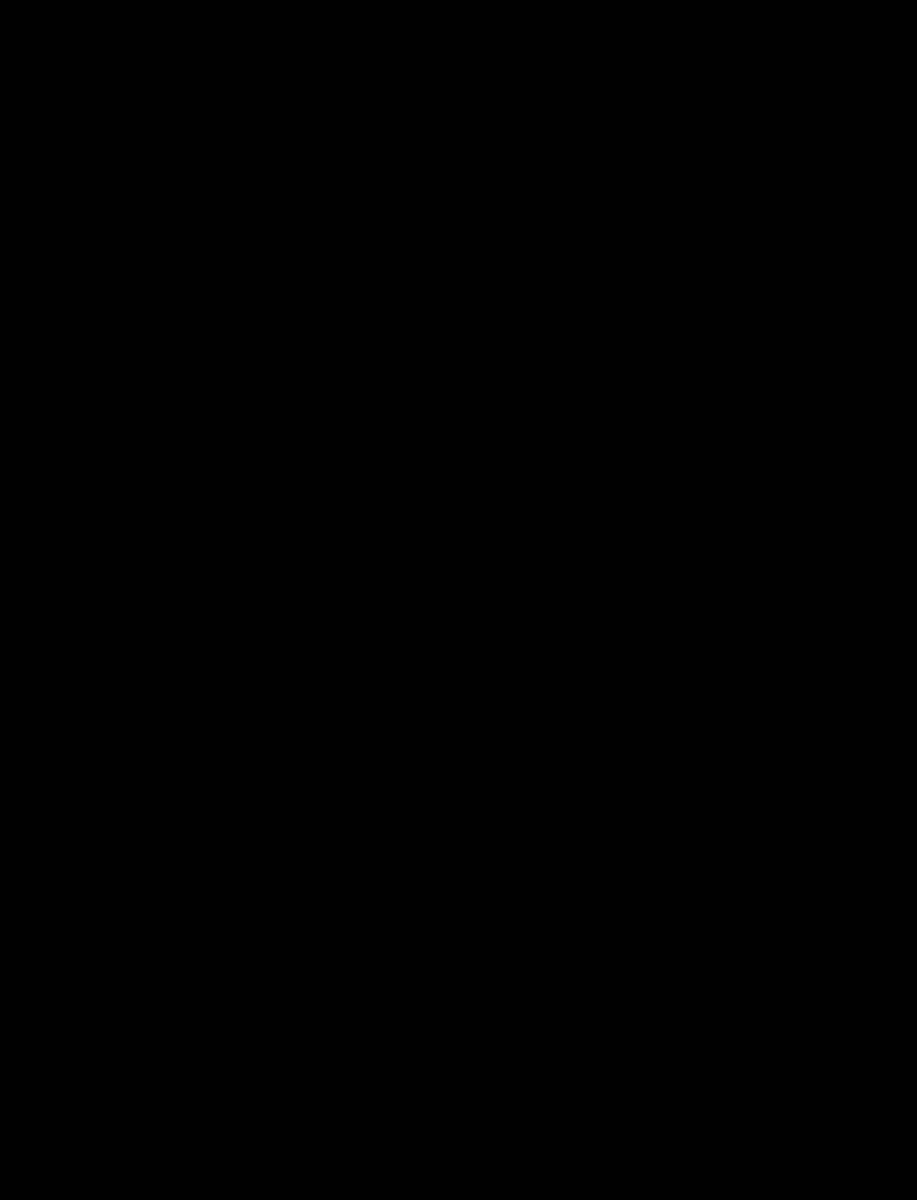

13
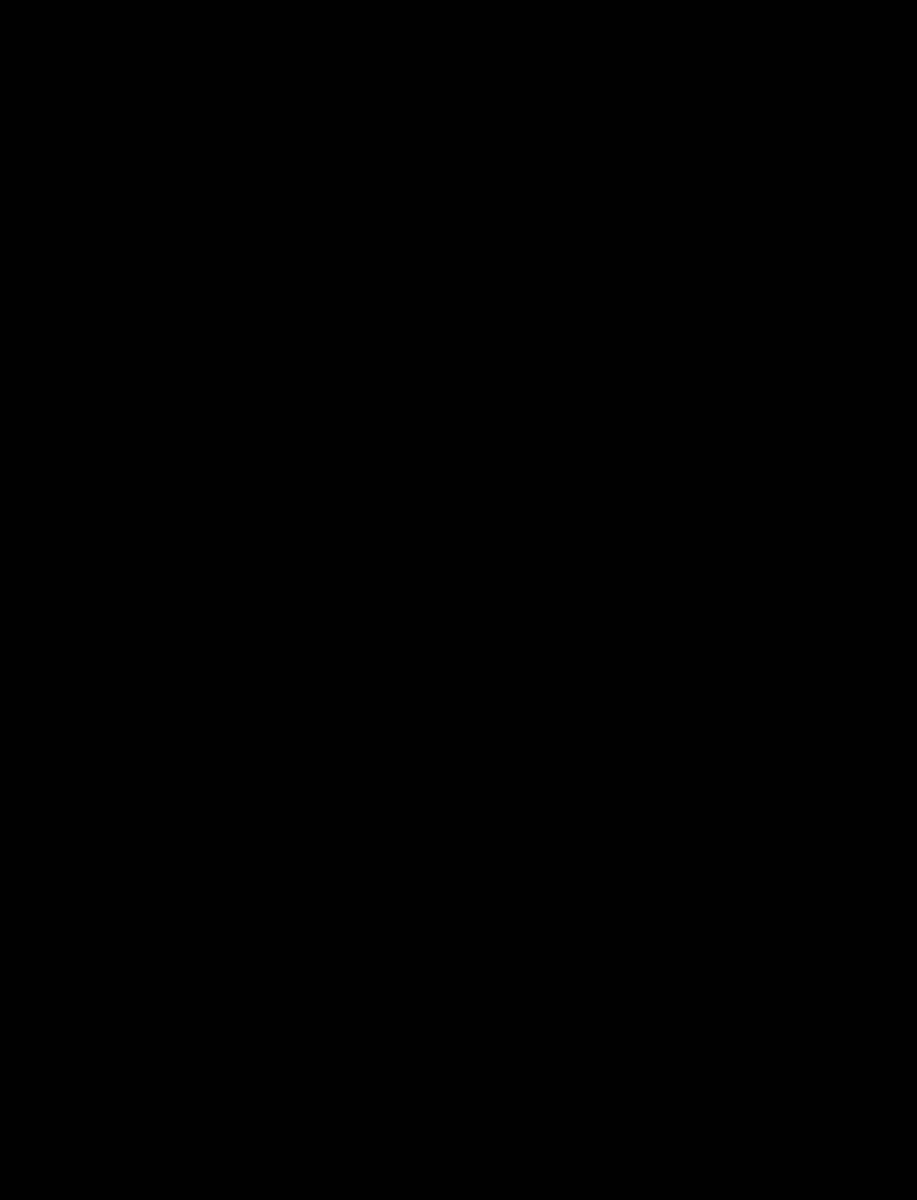

14
Бытие
Быт
Бы
О
Беру слово «Бытие» и отрываю ему два конечных знака: быт. Оборвав и этому тупое «т», оставляю: бы. Делаю тоже со смыслом, что и с буквами: как от слова к слову все меньше звучания и знаков, так и от смысла к смыслу: все меньше сутей, убывает и малеет бытие. Дальше не пойду: как ни черны мои чернила, ночь небытия чернее. Тремя мирами — от бытия через быт в мир чистой сослагательности все предполагающего и ничего не полагающего «бы» — и идет процесс феноменализации сутей: Globus Intellectualis — глобус земли — безоконный круглый Globe у берега Темзы (¥ ® 0).
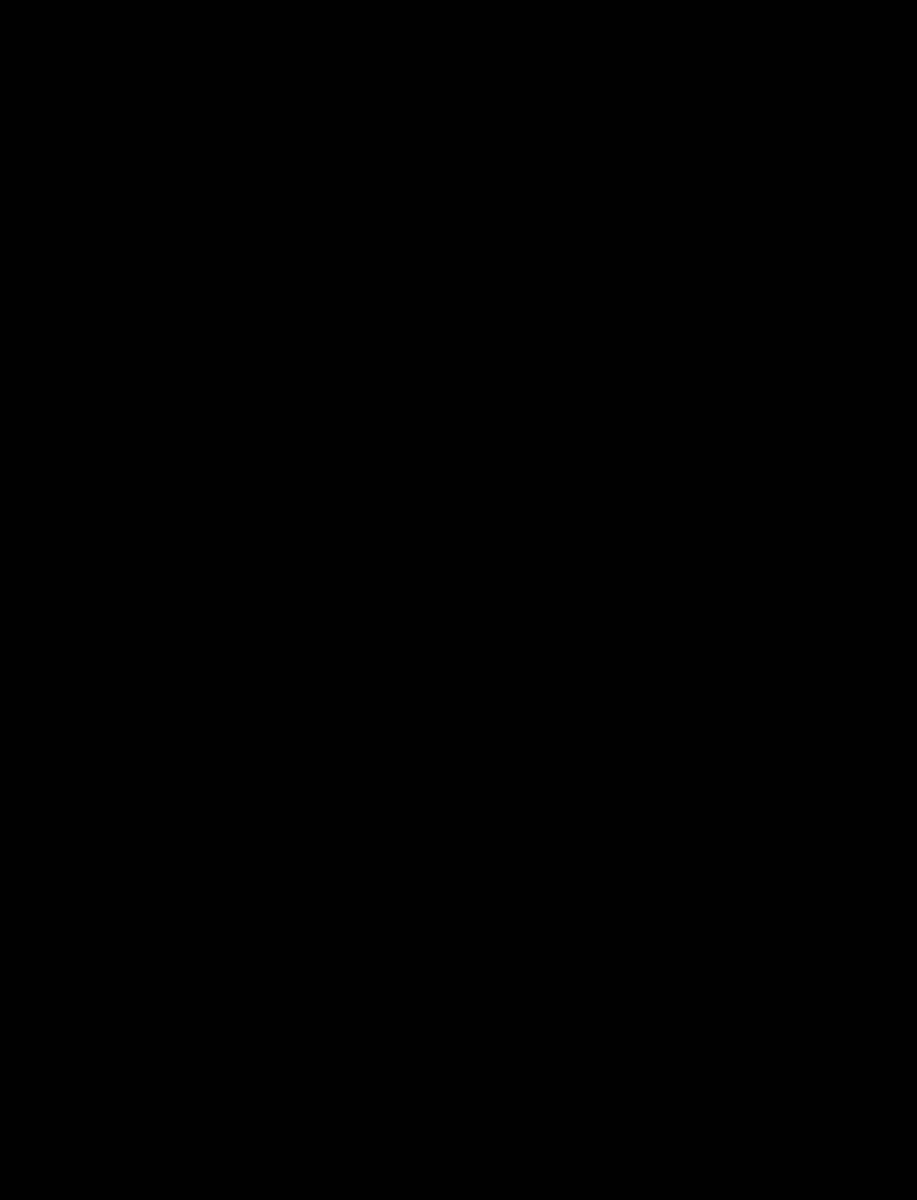
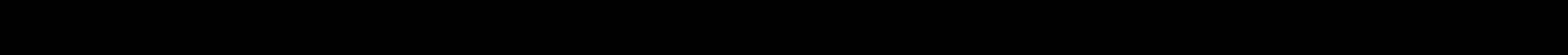
Глава 2
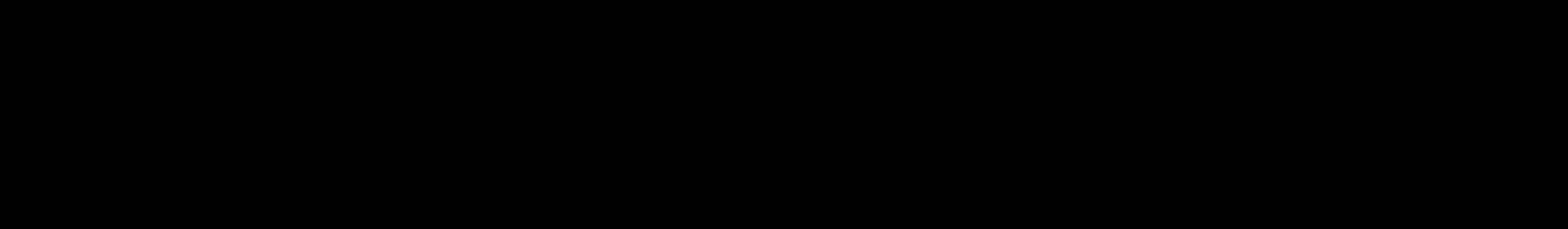
Бытие, быт, бы

15
Солнечные часы: неподвижный стержень — острием ввысь; вкруг стрежня, с цифры на цифру переползает колеблемая, то длиннящаяся, то укорачивающаяся тень: рождена рассветом, убита сумерками: до нового рассвета. Но стрежень и в полдень и в полночь всегда одинаков — острием ввысь: по цифрам не ползает, солнцем не рожден, ночью не убит. Таковы явления и суть — полнящее быт и полное себя самого бытие. Бытие — атеатрально: хотя бы потому, что никогда не позволяет поднять своей завесы.
Оно: а) незримо. Еще Фихте жаловался: «все мешает видеть — даже глаза». И глаза, конечно, больше всего. Все метафизики, люди из бытия, заблудившиеся в быт, к нам, всеми фрагментами, трактатами и globus intellectualis'ами свидетельствуют невидимость сути. Театр же хочет быть, ищет себе зрителя, насильно протискивается в глаз.
В этом признаке (а) театру искать нечего.
б) едино: и в фрагментах, оставленных элейцами, и в Спинозовой этике — не умеют мыслить бытия иначе как единым. Множество, разорванность, пестротность явлений лишь мучает метафизика. Но пестрота и множественность, не их ли и только их ищет театр: персонажность, диалог и конфликт — основные его приемы.
в) неизменно: в бытии сразу все. Смены ему не нужны: оно яркий полдень, включивший в себя все степени силы света. Театр же стоит на факте изменчивости актера, на смене личин. Занавес, то падая, то подымаясь, действует как лезвие ножа, разрезающего нить времени и событий, включенных в время, на разные куски.
Итак — бытию не нужен театр; театру бытие: ни в одном из его атрибутов.
И «Я» — явь; явь — изъязвлена (если смотреть сквозь единое и неизменное бытие) — явлениями, идущими оторваться от самой яви: таков маршрут: бытие — бы.
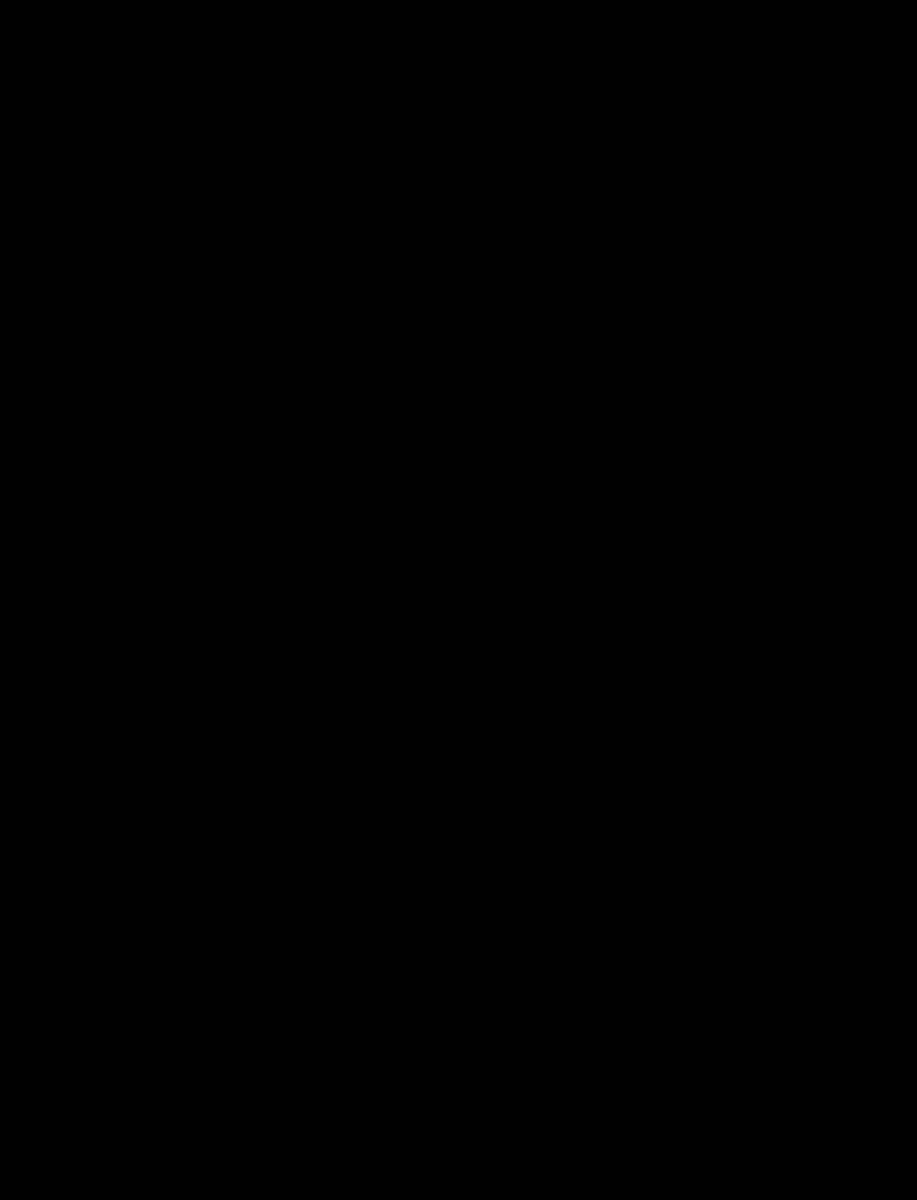
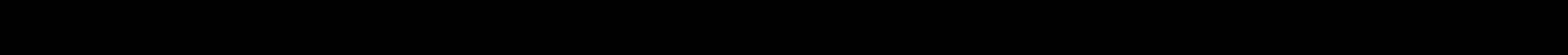
1
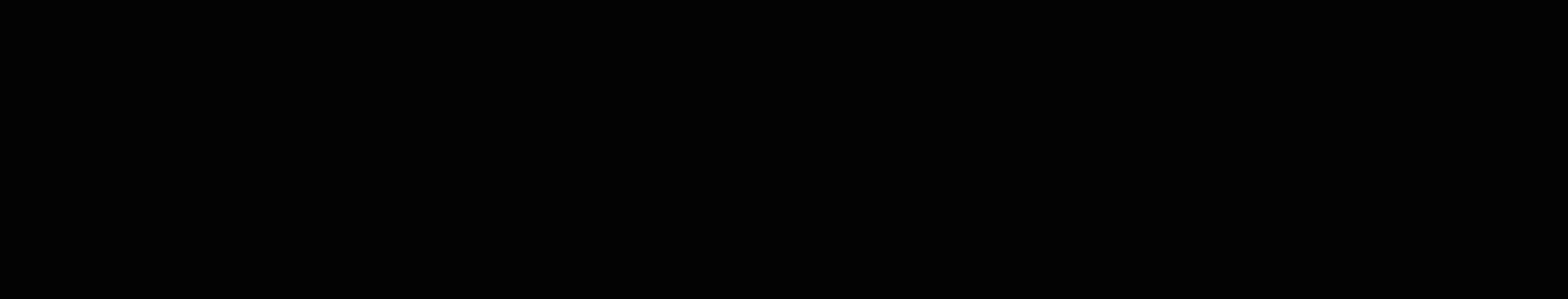
Бытие

16
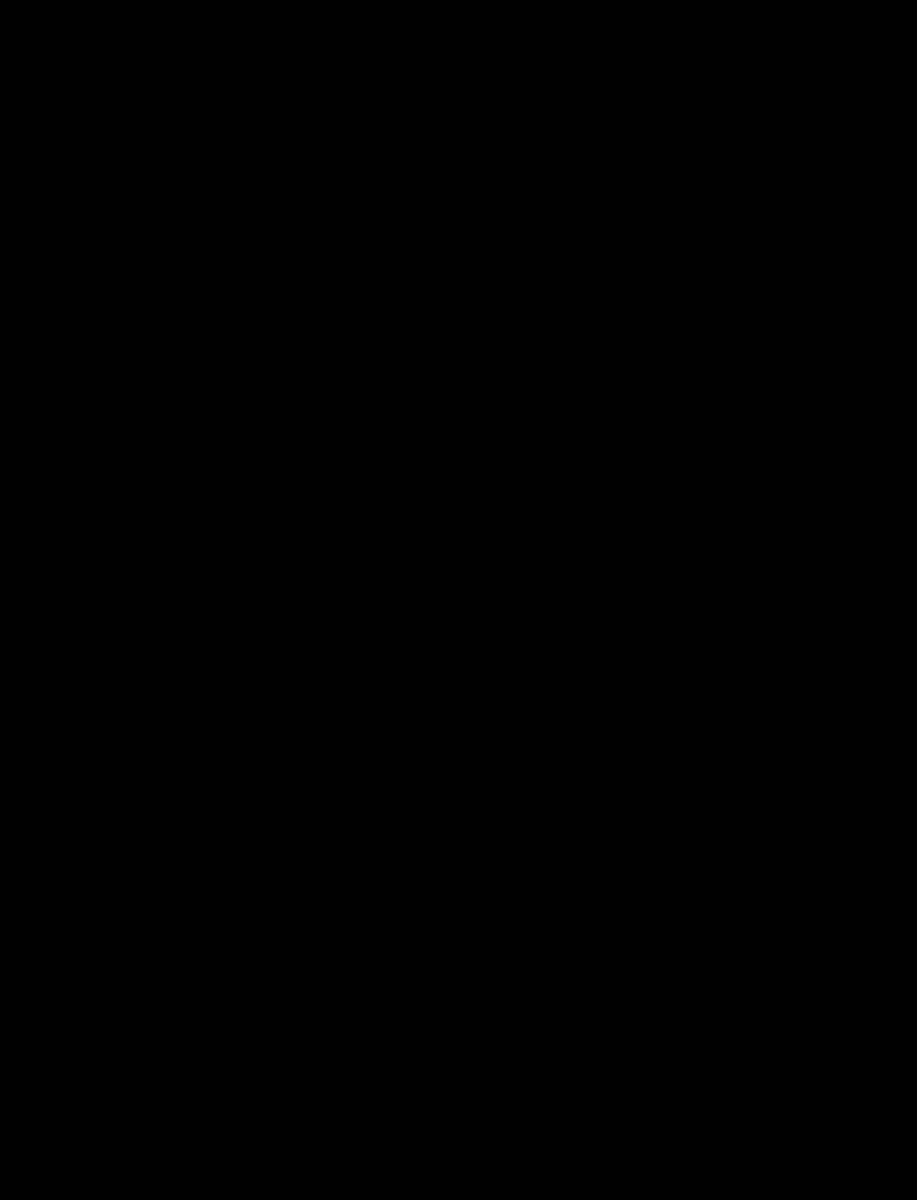

17
Быт брошен мостом, соединяющим бытие и бы. Бытом, как и всяким мостом, надо пройти. Но как старое русское (точнее, московское) строительство любило лепить свои клети и храмины на мостах, вдвигая город на мостовую излучину, загромождая ее и безмысля, — так и общечеловеческая жизнестройка не поняла быта. Быт получается, медленно накапливается из феноменов, постепенно возвеличиваемых в вещи.
Обыватель, обывшись в быту, день к дню проникается фетишизмом ощупей и зримостей. Сначала, покупая вещи, он думает, что о н приобрел вещь: потом оказывается, что вещи приобрели в собственность его. И получается: не утварь у твари, а тварь у утвари. Человек из быта не верит в бытие, с его триадой Бога, бессмертия и души; подозрителен и к миру чистого б ы , заселенного фантазиями, но крепко верует в реальность своих трех комнаток, в тело жены и в штемпеля на «виде». Вечности человек из быта чужд, но время с любовью прячет под золотую крышку карманных часов, фетишистски одаряя его мелкими подвесками. Быт, формулируя кратко, — это явление, играющее в вещь; мнимость, притворяющаяся реальностью; бессильные тени, пробующие хоть контурами поподражать подлинным вещам. Таким образом, быту, собственно, театра и не надо бы. Но театр именно в нем и отдельно от него — выпочковываясь — возникает, так как быт есть мнимость, не хотящая быть мнимой, отрекающаяся от себя самой. Быт боится театра, так как театр изобличает его в кровном родстве с ним. Кстати: в состав папье-маше (материл макета) входит кровь и бумага: это дает папье-маше некоторую претензию на жизнь. Желая обезопасить себя от напоминания мнимости, локализовать свою нереальность, быт строит среди своих домов особый дом с надписью «театр», наивно думая, что сквозь безоконные стены его театру далее «театра» не просочиться.
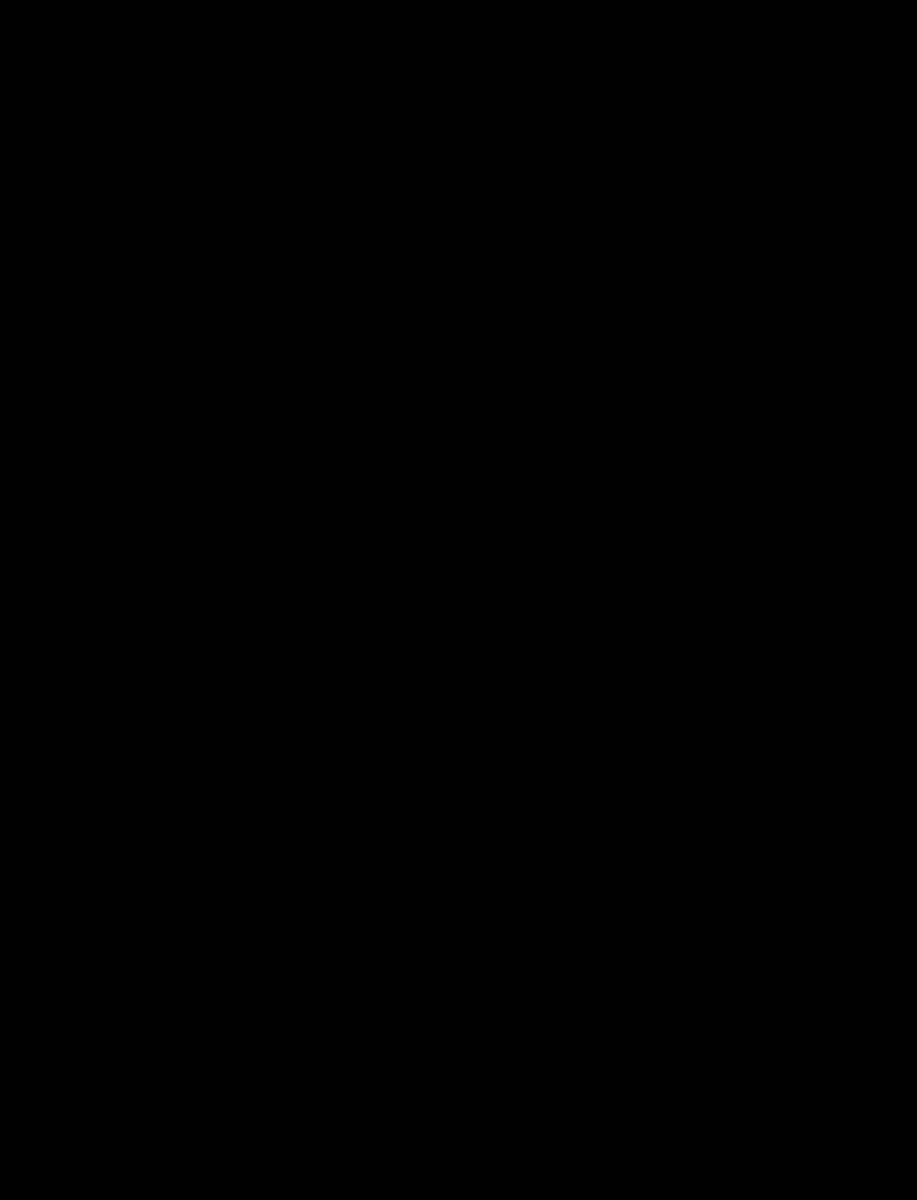
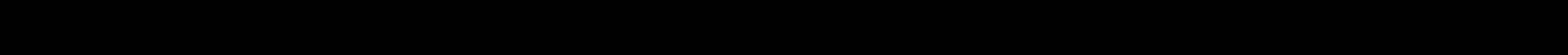
2
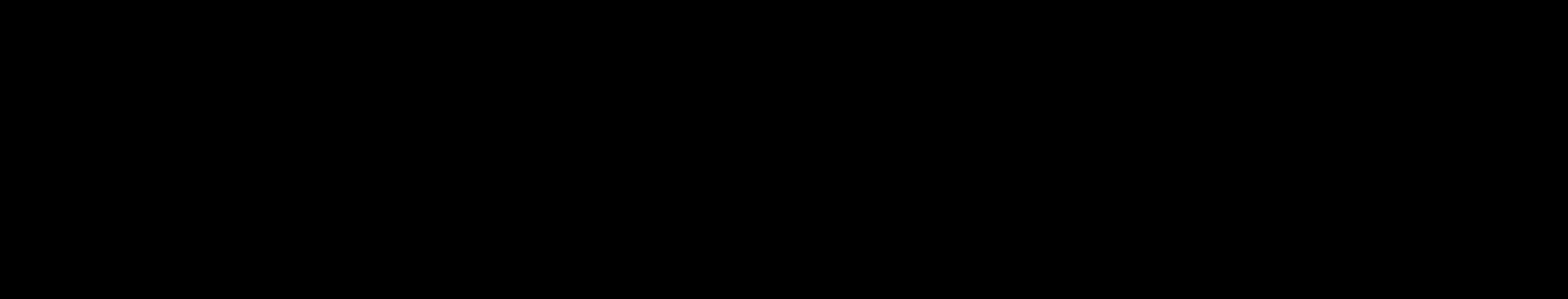
Быт

18
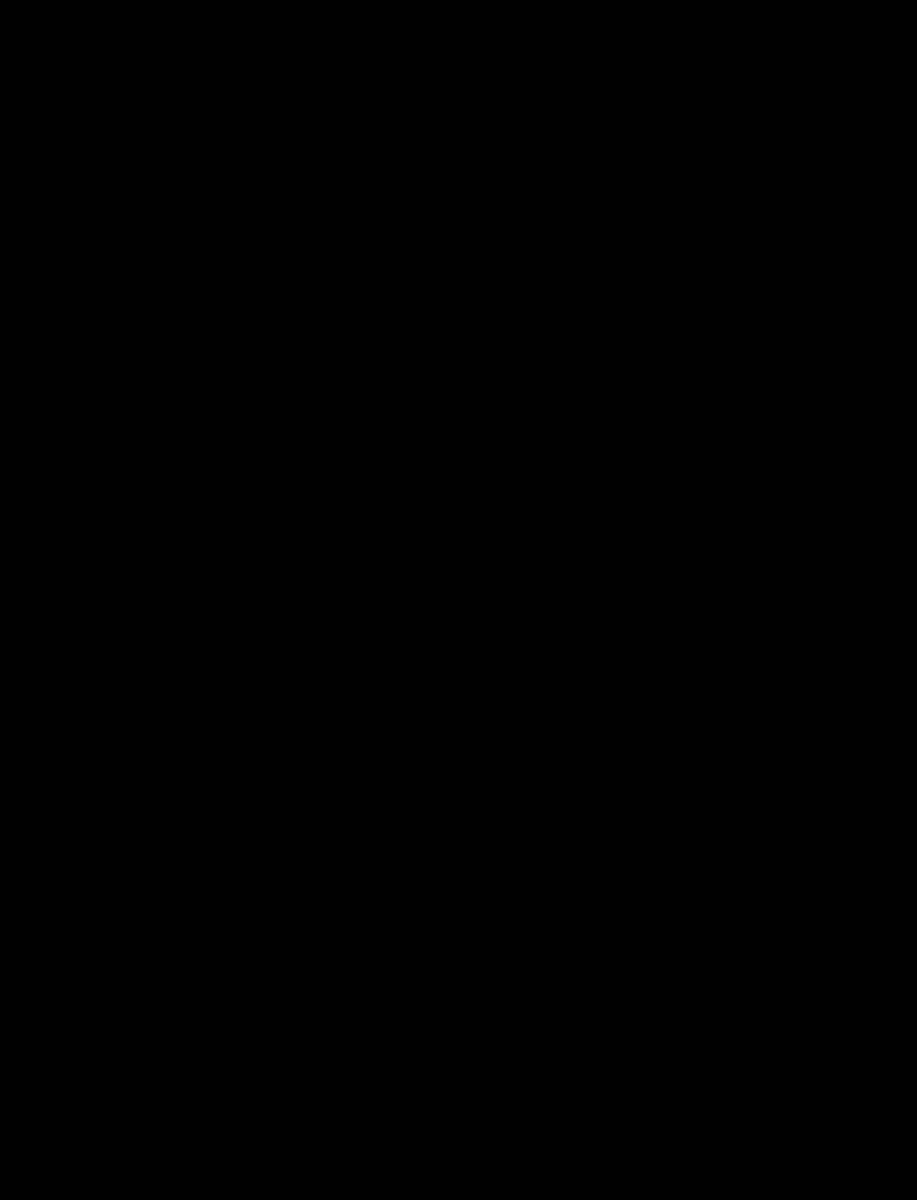

19
Если быт есть игра в бытие, то прячущееся по темным безоконным коробкам бы — есть игра в быт: то есть игра в игру. Как живущие вблизи грохота Ниагары вскорости перестают слышать ее шум, так и живущие среди ничего не говорящих слов вскоре перестают замечать, что слова ничего не говорят и втягиваются в промен — слов на слова. Дыша кислородом, мы не ощущаем его никак: нужно удвоить показатель его коэффициента, взять не смесь кислорода с азотом, а так называемую закись азота (N2O), чтобы ощутить «веселящее» его действие. Так и коэффициент игры должен быть удвоен, она должна быть дана вдвойне, чтобы сознание сказало: театр.
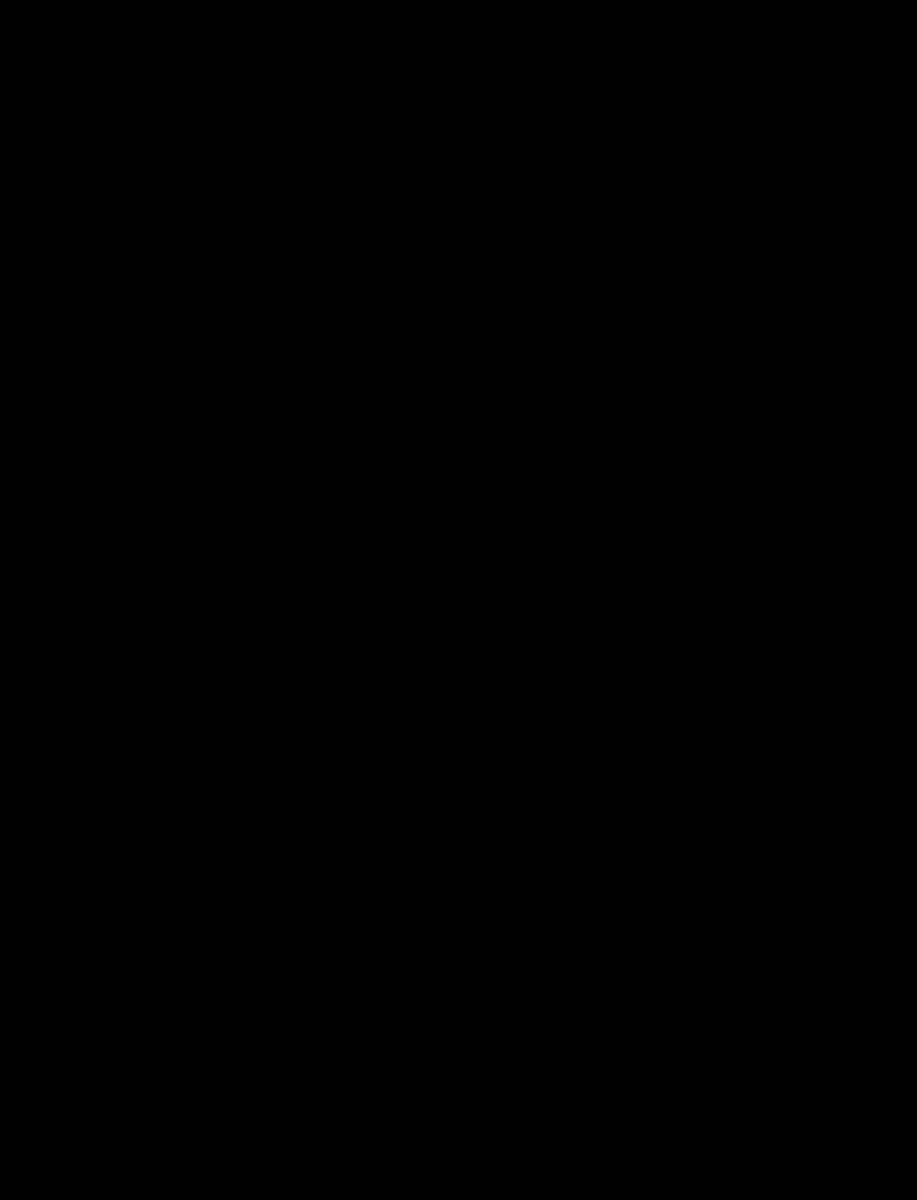
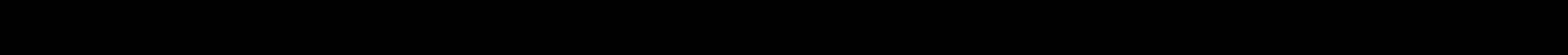
3
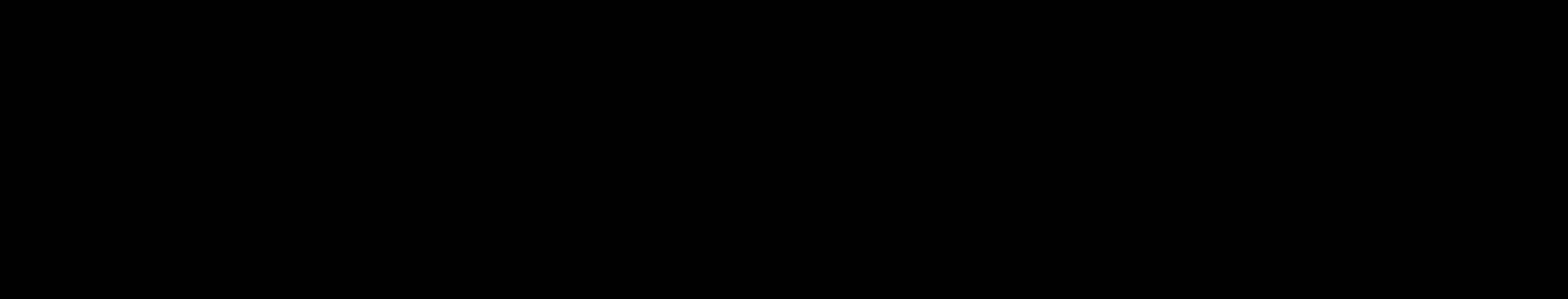
Бы

20
