автордың кітабын онлайн тегін оқу Календарь сожалений

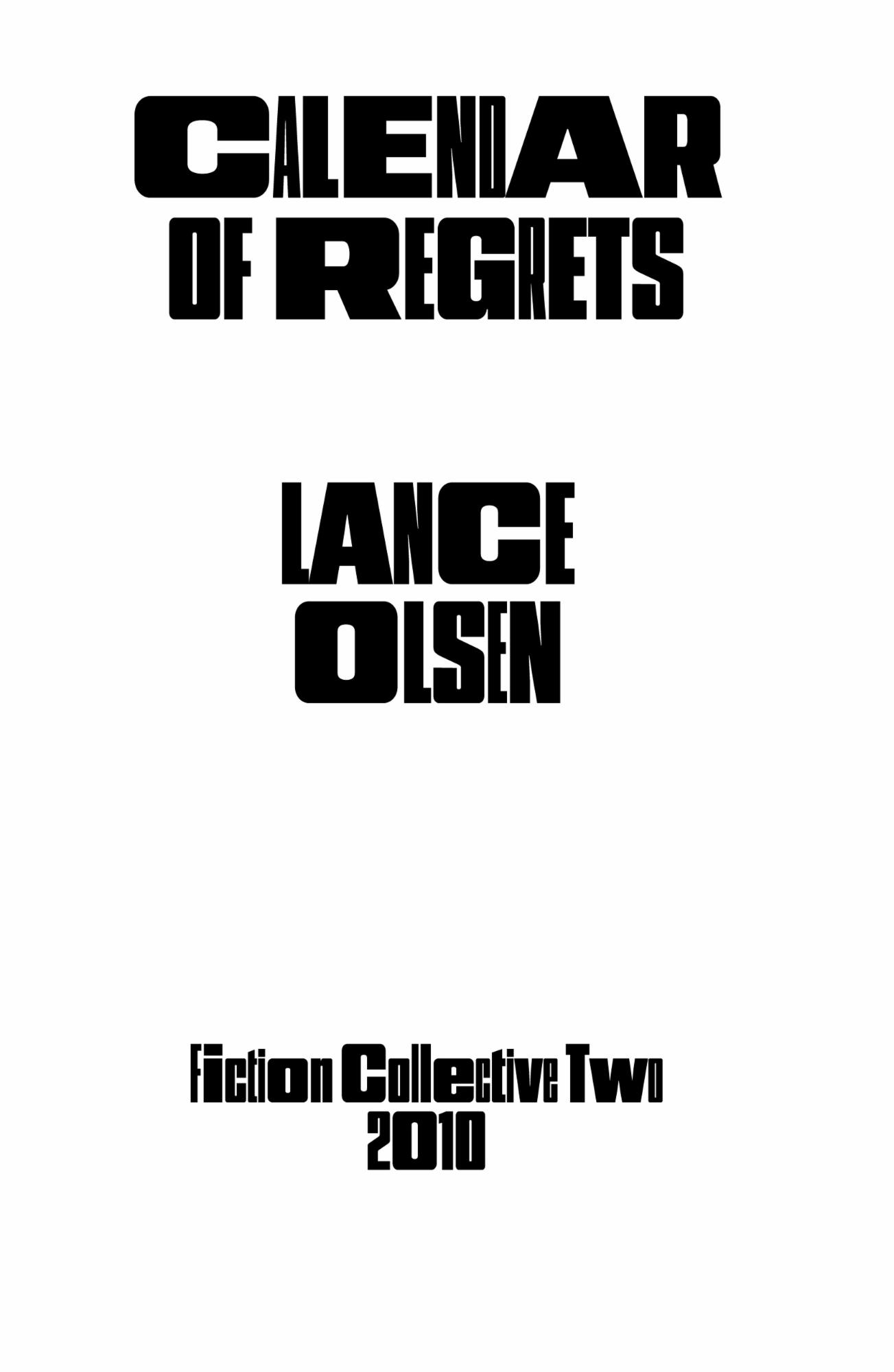
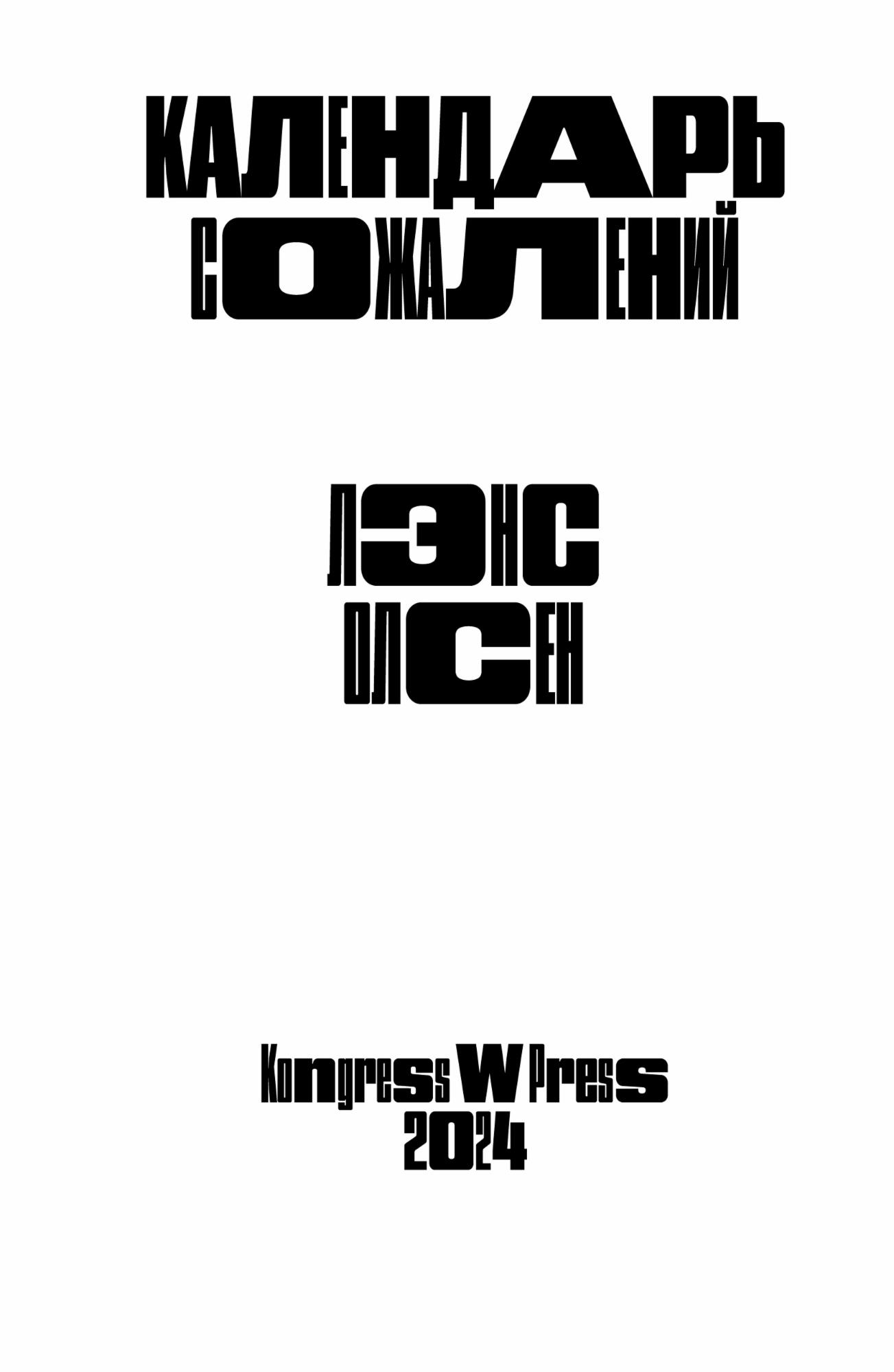
Благодарности
Автор хотел бы поблагодарить издателей следующих журналов и антологий, впервые явивших некоторые из глав сего романа миру — пускай и в несколько иной форме: «Бест Нью Райтинг 2007», «Блэк Уорриор Ревью», «Бруклин Рэйл», «Клозетс оф Тайм», «Гаргойл», «Детройт: сториз», «Айова Ревью», «Периджи», «Сервин Хауз», «Вебер Стадиз», «Райтерс Додзе».
Все текстовые коллажи и фотографии, вошедшие в книгу, созданы и обработаны Энди и Лэнсом Олсенами.
Посвящается Энди,
сопричастной
Когда-то я был кем-то, потом это прекратилось
Лэрд Хант, «Распрекрасный»
Ведь это тоже по-своему эротично —
предвкушать экстаз от создания смысла
Лин Хеджинян, «Моя жизнь»
Надеяться — значит опровергать будущее
Эмиль Чоран, «Горькие силлогизмы»
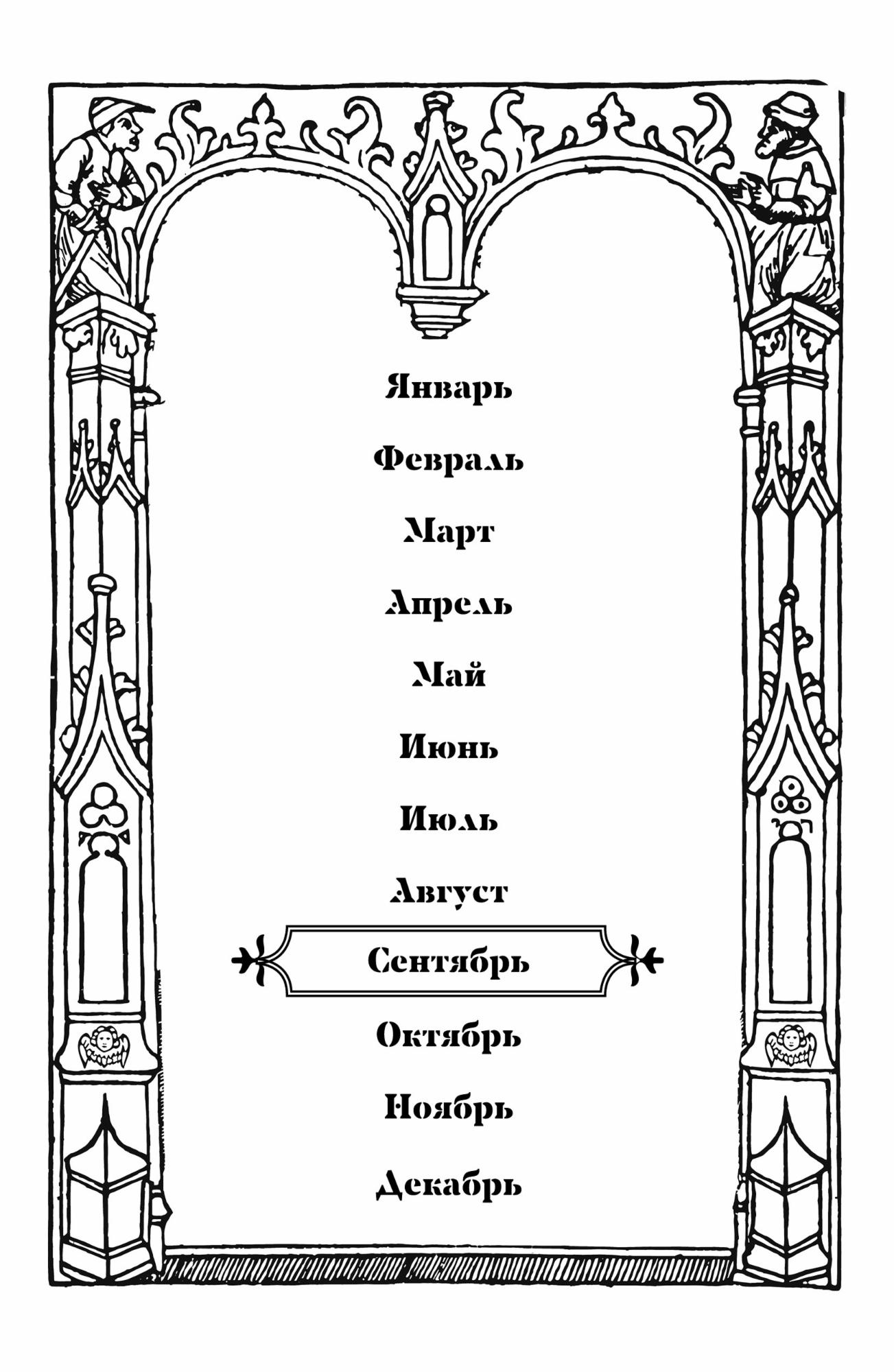
Иероним Босх водит кистью по палитре и совещается с маленьким круглым выпуклым зеркалом, плавающим в одиночестве в океане белоснежной стены на дальнем конце его мастерской. Острота взгляда, тонкий разрез губ, ярость сатира, думает он: вся семейка его качеств, даст Бог, скоро выпутается из этого месива. Вернувшись к своей работе, он прикасается цветными пятнышками к насекомоподобным лапкам, укоренившимся в плече карлика. Оценивает.
Путешествия — дельце для тех, кому не хватает воображения. Босх в этом уверен. Возьмём для наглядности этого отвратительного Великана — безносый, набухшая опухоль с прожилками разделяет два сморщенных пурпурных ануса. Гомункулярный близнец того Великана сгорбился в тёмном небе над воздетой левой рукой нашего Босха. С наружности Великан свиноподобен, этакий тучный святоша; сплетни растянули его уши до ослиного состояния. В небесах клубятся адские испарения. Внизу холмистая местность полыхает от огненных ветров веры.
Несмотря на свою массу, злобный эмиссар Братства Богоматери не может перестать перемещаться. Из Хертогенбоса — в Тилбург, из Тилбурга — в Эйндховен, из Эйндховена — в Брюссель и обратно, и всё в делах, в делах. Чего люди типа Великана не знают, не могут понять — так это того, что движение есть не что иное, как забвение, форма амнезии: бегая и ничему при этом не учась, растворяешься в чьих-то чужих пейзажах.
Нужно научиться оставаться на месте, чтобы видеть. Стать местом, обрести точный адрес. Как жена Лота, солевой столб.
Огромный отвратительный Великан заявился сегодня утром без предупреждения. Босх всё ещё пытается понять, за каким таким бесом. Наверное, поболтать за кофейком перед тем, как двинуться в Хелмонд и воздать Богородице должное через щёку, обсыпанную сахаром, смоченную имбирём. В перерывах меж глотков чая болтает о Бринкерхоффе, банкире Братства. Рот Великана, липкий и мокрый, сам по себе как какая-то морская тварь, кукожащаяся в ведре торгаша на рыбном рынке.
Босх понимал, что болван не узнает себя на картине. Никто из них не в силах узнать; всяк живая душа себя-то считает в последнюю очередь достойной презрения. Так что Босх оставил свой мольберт открытым, и они уселись друг напротив друга, как шахматисты, на двух стульях с дубовыми, как голова Великана, спинками — практически единственными удобствами в тесной мастерской.
За тяжёлыми зелёными портьерами, пошитыми на заказ так, чтобы отвечать здешней всеобщей строгости, сокрыто окно, откуда Босх, как он сам с гордостью заявляет, не выглядывал уже почти шестьдесят шесть лет. Его дни — ночи, освещённые одиннадцатью светильниками. За окном дышит чадом вонючая рыночная площадь — и что-то Босх в этот самый миг не может вспомнить, чтобы по ней когда-либо прогуливался. Хотя, конечно, он прогуливался — чтобы привести свои чувства в равновесие, — каждый день с тех пор, как ему стукнуло тридцать. Ровно в два часа дня, со своей супругой, костлявой Алейт. И ещё раз — в пять часов, в одиночестве, перед ужином. Но сейчас он никак не может вспомнить аккуратные ряды побеленных двухэтажных домов из красного кирпича, со ступенчатыми фронтонами, черепичными крышами, чернотой в окнах. Не помнит он и вымощенные булыжником улочки, блестящие от лошадиного навоза, мокрого сена, гниющих овощей, пенистой мочи — облюбованные оборванцами-нищими и огромными крысами, осенним морозом обмороженные, или, в тёплые летние полудни вроде насущного, пронизанные от и до жужжанием мух; брось он взгляд — увидел бы, как волочат за привязь корову, а та, бедолага, трясёт башкой, отгоняя слепней, и взгляд её полон дум о далёких пастбищах за всеми этими проулочками, уходящих в бесконечность под небесным лоскутным одеялом цвета сибирского ириса.
Босх снова смотрит в зеркало. Он оставляет пятна охры на блестящем от слюны клюве карлика.
Его дед был художником. И отец — тоже. Его старший брат Госсен. Трое из четвёрки его дядюшек. И всё же, хоть убей, Босх не может понять, откуда взялся его собственный стиль. Ничего похожего на то, как рисуют остальные члены семьи. В отличие от них и от всех своих сверстников Босх, с того момента, как поцеловал кистью холст, испытал дикое удовольствие от шероховатого следа, оставленного подсыхающей краской. Ведь краска эта отразила притязания его ума в полной мере. Вот он — мир, как есть. Созданный в один заход, без набросков и аппликаций.
Рисовать, не дорисовывая — вот он, по его мнению, гениальный способ кривляться без кривляния.
В коже, изображённой на любом его холсте, больше от кожи Босха, чем в том блеклом позоре, натянутом на его костяк. Вот почему он подписал лишь семь полотен за всю карьеру — да и то по принуждению, только потому, что вырученные деньги позволили бы покрыть счета и нарисовать новые картины. Алейт иногда спрашивает, почему он не хочет больше денег, хоромы побогаче, одежду подороже — хотя ответ ей давно известен. В конце концов, именно она научила его этой премудрости. По той же причине он не пишет писем, не ведёт дневников. Слова на бумаге — те же отпрыски; зачем плодить бумажных детишек, если даже на живых, из плоти и крови, не сподобился?
А плавать надобно лишь среди континентов собственной души, и когда тело твоё уже не будет бороться против тебя и отслоится, возвратив тебя к мигу рождения, последний штрих на картине по имени «ты», завершит полотно и возвысит его над холстом, оставив бесполезные пережитки на полу этой несчастливой мастерской.
Пускай ошеломлённый дух возвысится. Воспарит. Вознесётся. Взлетит. Ибо…
Ибо…
Ибо некоторые цвета не назвать одним словом: натуральная умбра, рубиново-красный, тосканское солнце над песчаным пляжем. Каждый цвет — будто улица в несуществующей стране, и только по этим улочкам человеку и нужно бродить во время своего пребывания на земле. Только цвета достойны внимания, ибо они помогают держать свой внутренний взор открытым — они учат слушать себя, то есть, тот шум, который свет производит в уме.
Враг жизни — отвлечение. Вот почему Босх никогда не покидает пределов разросшихся пастбищ, окружающих Хертогенбос. Он не видит смысла. Путешествие — попытка побега, и всё же всякий человек нутром, сердцем, селезёнкой чует: где родился, там и пригодился, и живым этот город не покинуть.
Босх мимоходом упомянул об этом Великану. Он не мог не обратить внимание на розовые крапинки, образующие созвездие на лысине эмиссара — и на скверной шкуре под клочковато-дымчатой бородой. Их своеобразная встреча продлилась менее получаса. Едва городские часы пробили десять, в парадную дверь постучали. Из своей мастерской, где кружил вокруг мольберта, пытаясь узреть собственный автопортрет с точки зрения иной солнечной системы, Босх различил шумы в фойе — надтреснутую флейту голоса жены, бас Великана, прерываемый хроническим клокочущим кашлем. Безнадёжный случай. Слышал Босх и то, как Алейт впускает незваного гостя, предлагает ему чашку кофе — Великан тут же соглашается. А может, всё-таки надежда есть? Алейт весело кричит мужу, сообщает — его коллега здесь; надежда помирает у Босха на глазах.
Алейт проводит Великана в студию, и Босх кладёт кисть, вытирает пальцы завалящей тряпкой, резко поворачивается, чуя резь в затёкших коленях. Его пальцы тонут в пухлой руке Великана. Алейт ненадолго исчезает, вновь объявляется с серебряным подносом — и уж потом-то пропадает с концами, оставляя мужа-художника на произвол судьбы; чувство такое, будто Босх — последний солдат на поле боя, один против многотысячной орды.
Огромный отвратительный Великан кое-как откашлялся и принялся надоедать Босху подробностями своего скорого отъезда в Хелмонд. Судя по тому, что Босх мог уловить, это как-то связано с финансами и галантерейными товарами. Босх ненавидел финансы и галантерейные товары. Он натянул маску притворного интереса, про себя подсчитывая дневные затраты на свою незавершённую работу. Великан вслух беспокоился о том, что ему придётся ехать буквально по тем краям, где ещё недавно прокатилась вторая вспышка чумы. В Бреде и Оссе объявлен карантин. Бюргеры взяли на себя смелость помочь Божию Гневу обрушиться на крестьян, изолировав свои кварталы. Идея состояла в следующем — зёрна сами должны отделить себя от плевел, таким образом ускоряя искупление последних. Ничего другого порядочным людям не оставалось.
Босх каменным взором смотрел поверх правого плеча Великана на свой холст, неровно озарённый лампой. Надо бы пристроить меж губ того урода ярко-алый змеиный язык. Да и уши сменить с ослиных на кроличьи — чтоб было ясно, что такие вот уродцы по-католически охотно и помногу размножаются.
Миниатюрная монахиня, раздетая, если не считать головного убора, с девичьей дерзко вздёрнутой грудью, проскакала без седла на большой мыши с лошадиной головой — вверх ногами по тёмному потолку. Босх слегка приподнял подбородок, с интересом взглянул на неё. Родимое пятно в форме распятия украшало левый бок монахини. Её язык, длиной в добрый метр, развевался позади, словно какой-то фиолетовый шарф.
Такие видения наяву его не особенно удивляли. Они посещали его с той ночи более пятидесяти лет назад, когда он проснулся на улице от крика матери. Никогда до этого момента он не слышал в голосе человека столь дикого ужаса.
Господи, помоги! — кричала она, пока он приходил в сознание. — Конец времён! Конец уже здесь!
Он качнулся на кровати, позволяя мускулам решать за мозг, и…
И Босха осенило: Великан только что задал ему вопрос.
И мысли, бродящие какими-то собственными тропами, сбились с шага и заблудились. Он сфокусировал внимание на лице святоши. Крошки имбирного печенья застряли в бакенбардах возле уголков рта. Жабоподобный подгрудок.
В студии повисла тишина.
Босх попытался подцепить нить, ведущую от вялых черт Великана к тому, что мог бы означать его вопрос, но не смог. Извиняясь, он попросил этого болвана повториться.
Я, конечно, ни на что не рассчитываю… — снова начинает Великан. — То есть, не знаю — могу ли о таком просить… хотя бы о том, чтобы вы ко мне прислушались. Нет, конечно, не принимайте это слишком близко к сердцу, господин Босх, но вдруг вы захотите больше не… ну, в смысле, одуматься, завязать… со всем этим.
Босх закрыл глаза и увидел, как маленький деревянный кораблик, набитый дураками — которые флиртуют, пьют, едят, поют, то денег просят, а то за картами всё сбросят, то пьют винишко белое, а то дела за борт сделают, — плывёт сквозь сине-зелёное время. Бесцельно, никогда не приближаясь к гавани.
Снова открыв глаза, он потянулся, почесал кустистую белую бровь и невозмутимо ответил:
Боюсь, я не понимаю, о чём вы говорите.
Будет вам, господин Босх, вы совершенно ясно понимаете, что я имею в виду. Вы не хуже меня знаете, кто ваши соседи и друзья. Что у них есть. Что они обсуждают у вас за спиной.
Босх поднял свою фарфоровую чашку, отхлебнул и поставил её на звенящее блюдце.
Корабль плыл сквозь года.
Если обо мне что-то шепчут за моей спиной, то это слухи. Уверен, вы не хуже меня понимаете, что всякий слух — это срамной газ, прикинувшийся словом. Меня огорчает без меры то, что непотребные газы, пущенные в общественном месте, так завладевают вашим вниманием.
Бога ради, господин Босх — приверженец катаров! Член секты!
Пустые словеса. Мне было бы интересно услышать, какие реальные доказательства ваши болтуны и сплетники могут предоставить вам в поддержку таких обвинений.
Вы называете обвинения в ереси слухами?
Я — Босх. Люди либо доверяют мне, либо уважают, либо ни уважения, ни доверия не оказывают. К сожалению, бедный Иероним ничего не может с этим поделать.
Мне жаль это слышать.
Мне жаль слышать, что вам жаль это слышать. Но так обстоят дела. А теперь, ежели вы не возражаете, я вернусь к своему детищу. — Он кивнул в сторону автопортрета. — Время не ждёт.
Босх попытался встать со стула.
Короткие руки Великана превратились во вздёрнутые свиные ножки, торчащие рядом с ушами.
Но почему? Уж мне-то хоть скажите! Почему, ради всего святого…
Босх помолчал. Босх вздохнул.
Он окинул взглядом покрытые коричневыми пятнами тыльные стороны ладоней — словно пара морских звёзд прилипла к одёжке, — затем поднял голову, встречаясь с глазами-анусами Великана, и ответил, как слабоумному ребёнку:
Потому что. Ибо…
Ибо когда ему было тринадцать, панический голос матери разорвал его сон, как вихрь из лезвий. Босх тогда был котом, свернувшимся калачиком на соломенной подстилке рядом со своим старшим братом Госсеном — настолько погружённый в бессознательное, что даже сны к нему не приходили. Затем он стал зябликом, порхающим вокруг мелкого запотевшего оконца, на цыпочках выглядывая из-за подоконника в ночной мир, поглощённый пламенем.
Здания горели до самого горизонта. Дома. Ратуша. Амбары. Школы. Конюшни. Склады. Сам земной шар полыхал. Плотное тёмно-коричневое облако клубилось над бедламом, как перевёрнутое море, и его гигантское брюхо казалось оранжевым. Пепел сыпался снегом из воздуха, густого и едкого от серы и вони палёной конской шкуры. И везде, куда ни обрати слух — грохот, лязг, ржание, блеяние, визг, рёв. Внизу, на улице, куры хлопают крыльями и, пытаясь набрать высоту, врезаются в слепые окна лавок. Факелы трещат.
Мать Босха, всё ещё в ночной рубашке, с босыми ногами, седыми волосами, как у ведьмы, на цыпочках пробиралась среди собирающейся толпы бюргеров. Она была права. Именно об этом она всегда предупреждала Босха, и Иероним никогда не мог заставить себя поверить. Но теперь, наблюдая, как вокруг горит мир, видя, как его отец, человек с гусиной шеей, свирепыми глазами и раздутыми ноздрями, натягивает брюки, рубашку и туфли и решительно бросается в толпу, пытающуюся сдержать пожар кирками, топорами и вёдрами с водой, Босх видел, что пришёл Судный день — по заблудшие души тех, кто отказывался принять во внимание его неизбежность. Мать стояла в дверях, спиной к мальчику и брату, отказавшись переодеться из ночной рубашки в платье, даже не напялив сабо. Она забыла о присутствии собственных сыновей, кружившихся рядом с ней. Её тонкие губы с каждой минутой всё больше истончались от осознания: то, что она принимала за жизнь — что хоть как-то отвечало бы её мечтам о жизни, — этой самой жизнью вовсе не являлось. Вот она — жизнь: мир, утопающий в огне.
Мальчики взобрались обратно по лестнице в свою комнату на чердаке и провели у окна, казалось, недели, глядя на реальность, разрывающуюся яркими полосами, обсуждая то, что ад разверзся не одномоментно, как они ожидали, не со скоростью прилёта пушечного ядра и не со взрывом, сотрясающим основы. Ад, как оказалось, ступал небыстро, оставляя после себя затянутую дымом свалку.
Как оказалось, прекрасная голубоглазая ангел приближалась, приближалась, приближалась…
Она была повсюду одновременно, всегда.
В тот вечер они увидели, как шпиль церкви рухнул вовнутрь, расплескав искры. А уже на следующий день — трёх крупных свиней, обгладывающих голый зад обугленного трупа, валявшегося лицом вниз в половине квартала от них, дальше по улице.
Следующей ночью Госсен разбудил Босха от изнурительного сна и показал ему группу мужчин, спешащих по улице. Они волокли на импровизированных носилках, сделанных из одеяла, обнажённую девочку — лет восьми-девяти от роду. Агония посылала крупную дрожь по её голове. Светлые волосы были истрёпаны огнём, большая часть мяса на правой стороне её тела почернела и соскользнула. В тот момент умирающая случайно взглянула вверх, или, возможно, им так только показалось. Их с Босхом взгляды встретились, и почти сразу же — разминулись. А может, и не было этого. Во всяком случае, то была первая нагая девушка, которую Босх увидел в жизни — стоя у раскрытого окна рядом со старшим братом.
Когда четыре дня спустя его отец, наконец, появился вновь, мать Босха бросилась навстречу, чтобы накинуть шаль на его тощую шею. Две трети Хертогенбоса превратились в тлеющие угольные холмы обломков, более четырёх тысяч домов были разрушены, триста горожан погибли, а Босх стал самим собой. Стремясь осмыслить увиденное, он вскоре приложил кисть к холсту и с потрясением понял, что научился рисовать — и что целью сего акта было запечатлеть и передать детали географии души, а не мира. Мир был ничтожен, он мог пойти прахом по ветру, и только в душе крылось истинное раздолье, дающее тебе дышать полной грудью.
Босх начал ученичество у своего отца, но вскоре переехал в дом сурового косого мастера из Мехелена, устроившего студию в нескольких кварталах от дома. Босх работал усердно, серьёзно, но народ отказывался воспринимать его как-то иначе, нежели легкомысленно. Он был слишком молод, слишком ребячлив, слишком мил для мрачных видений. Слишком плодовит, чтобы считаться искренним. А картины? Они оказывались слишком эксцентричными, раздражающими, избыточными — не в ногу с обычаями. Подобные серьёзного внимания не удостаиваются.
Для посторонних это в конечном счёте не имеет значения, дошло до него однажды; что Босх есть Босх — никогда значения иметь не будет.
Каждое воскресенье он таскался в церковь, садился отдельно от других на скамью в самом дальнем ряду (оттуда проще презирать посторонних), недоумевая, зачем он вообще приложил усилия, чтобы появиться в этом месте. Когда стало ясно, что эти посещения сделаются привычным делом, он неохотно вступил в Братство Богоматери — не потому, что чувствовал истину в его постулатах, а лишь в силу того, что подобного шага от него ждали, даже молчаливо требовали; иначе в этом полном скверны городе закрепиться не вышло бы. В конце концов, он осознал своё истинное существо и всё грядущее существование на годы впредь — как антрепренёр дурных снов и малеватель дьяволов, которых никто не захочет вешать на свои стены. Босх имел несчастье напоминать миру о себе, а этого мир просто не мог ни стерпеть, ни простить. Есть в мире подлунном такие дисциплины, в которых лучше никому не преуспевать.
Постепенно Босх начал осознавать, что никогда не станет знаменитым. Он никогда не станет притчей во языцех ни в этом городе, ни в любом другом. Узнавание болело, как тело, полное синяков. Ему не терпелось занять своё место перед мольбертом каждое утро, чтобы выведать, что приготовило ему воображение, и всё же ему приходилось мириться с суровым фактом, что признание — судно, построенное для других. Ему приходилось довольствоваться ежедневными поисками. Смолотые минералы, в точной пропорции смешанные с яичным белком, создают поразительные карминные, кремовые, кобальтовые оттенки. Вислобрюхие крысы, снующие по лихорадочным пространствам его полотен — это не крысы вовсе, а хула, изо дня в день насылаемая на истинную церковь.
Есть жизнь — и есть тайные послания с изнанки жизни; шёпот во мраке, дьявол в деталях.
Вглядись-ка — все слагаемые переплетены, сама жизнь — рукопись, на которую падает сверху свет, и ты ходишь по её строчкам.
Нужно просто научиться.
Научиться читать.
И поэтому он приготовился прожить жизнь холостяком, верным своему искусству, потому что больше нечему и некому. Вскоре после того, как он сообщил потрясённым родителям о своём решении, Босх посетил небольшой званый обед в доме богатого покровителя. Там он познакомился с угловатой дочерью оного, Алейт Гойартс ван ден Меервенн. Она была на три года старше его — серьёзная, как проповедь, прекрасная и бледнокожая, блондинка оттенка жемчужины, по-монашески скромная в суждениях. На ней свободно болталось платье — как на двух мётлах, сложенных крест-накрест. Трапезничая, Босх заметил, что у Алейт появилась привычка жмуриться всякий раз, когда он обращался к ней напрямую — будто она пыталась как-то отрешиться от него. У него ушёл почти весь вечер на то, чтобы понять — дело обстоит как раз наоборот.
После этой встречи начались ухаживания; интерьеры семейной гостиной сменились на тесные городские улочки. Они говорили, не умолкая — о музыке, живописи, о том, как загадочно горят облака в небе зимним утром, когда пейзажи Хертогенбоса мягко окутывает серо-голубой сплин.
Через четырнадцать месяцев Босх открыл глаза и обнаружил, что стоит на коленях перед равнодушным священником с болячкой на идущей суровыми складками нижней губе. На языке Босха таяла облатка. Художнику было тридцать, и он — в самом разгаре произнесения свадебных клятв.
Ибо, размышлял он, силясь подобрать нужные слова…
Ибо…
Ибо одним поздним окостенело-осенним днём, сидя бок о бок на каменной стене, откуда открывался вид на пастбища на окраине города, в золотой пудре солнца, подсвечивающего умирающие деревья, Алейт спросила Босха, как бы между прочим, не думал ли он когда-нибудь, что, возможно, держит свою картину мироустройства вверх ногами.
Босх так не думал.
Сжав его ладони своими, глядя прямо перед собой, Алейт нежным, ровным голосом предложила ему отвязать свой разум и сердце от перспективы.
Представь себе на мгновение, только на мгновение, что причина, по которой земной шар кишит грехами, заключается не в том, что человек низвергнут, потерпел неудачу, пал, а в том, что он никогда и не преуспевал вовсе, не возносился, не пересматривал сам себя на уровне основ. Словом, всегда был именно тем, чем он является сейчас — мешком из кожи, полным греховности.
Представь себе, предложила она, что причина так же очевидна, как ошеломляющее медовое сияние дневного неба. Что сатана, а не Бог, несёт ответственность за то, что мы видим. Объяснение того, почему обращаешь внимание на труды люциферовы, куда бы ни посмотрел, заключается в том, что больше-то и не на что смотреть. То, что ты видишь — не иллюзия, не ягнёнок в львиной шкуре, а подлинная форма и мера вещей. Земной шар на самом деле — именно то, чем кажется: войны, преступления, фанатичность, алчность, злоба, ложь, беспорядок, лень, притворство, подлость, лукавство… страдание. В конце концов, жизнь сводится всего лишь к непрерывному горькому разочарованию. Нам это обещано. И ты это понимаешь. И несть этому конца.
Босх заметил, что небо, покрытое золотой пудрою, занимает три четверти его поля зрения. Подняв большой палец правой руки к глазам, он мог бы полностью стереть любое из редких деревьев и любую из мирно пасущихся коров на переднем плане. А на заднем раскинулся большой неподвижный пруд — того же цвета, что и небо, похожий на лист стекла.
Представь себе, одним словом, настаивала Алейт, что эта планета — продукт не разума Бога, а фантазии дьявола. Мы все живём в дьявольском сне.
Босх приоткрыл рот, собираясь заговорить.
Закрыл.
Трава казалась ему слишком зелёной.
Да, поначалу это не так-то просто принять, продолжала Алейт. Такие представления идут вразрез с нашим образованием и пристрастиями. Но попробуй, хоть на мгновение ока, представить себе такой мир — и ты почувствуешь, как смысл начинает возвращаться в окружающую тебя бессмысленность. Сатана, а не Бог, создал то, что мы видим. Он украл наши души у небесного сияния и заключил их в эти бестолковые сосуды.
Поражённый, Босх повернулся, чтобы посмотреть на неё. Алейт не ответила на этот его взгляд. Она была занята изучением чего-то на туманном горизонте, что оставалось для него незаметным. Для Босха одно расстояние просто уступило место ещё большему.
Не следует ли из этого, продолжала она, если допустить такую смелую предпосылку, что для того, чтобы выбраться из бездны ада и воссоединиться со светом, мы должны как можно скорее покинуть своё плотское «я»? Давай подумаем об образцовой жизни тех, кого называют Les Parfaits, — мужчин и женщин, которые приветствуют чистый аскетический отказ от разврата, чьи скромные и непритязательные поступки обнаруживают антитезу богатой двуличности церкви и тучному комфорту. Ешь меньше, говорят они. Пей меньше. Избегай всего, что связано с половым размножением, ибо миссия полового размножения состоит в том, чтобы насаждать грех и страдать. Мясо, молоко, сыр, яйца, потомство — всё это разный грех с одной ветви. Бойся размножаться, живи экономно. Уходи из жизни скоро, но с достоинством. Отойди в сторону — и позволь человечеству заниматься тем, что ему по плечу: бесконечными сражениями, ошибками и растворением в забвении. Когда-нибудь и оно прозреет.
Босх оглянулся на пастбище, на полированный пруд, на пугающе-прекрасное небо. В носоглотке гулял запах куриного дерьма. То, что он видел перед собой, вдруг показалось прозрачным — словно это был набросок, который какой-то художник начал стирать.
Я больше никогда не заговорю с тобой об этом, — нежно сказала Алейт. — Всё-таки эти вещи обесцвечивают и мою веру, и веру моей семьи… о, взгляни-ка! — Она отпустила его руки, подняла свою, левую, указывая на бледнеющий свод небес. — Хохлатый жаворонок! — прощебетала она. Босх щурился, щурился, напрягался, но не мог разглядеть ни птицы, ни пятна, ни движения там, наверху, как ни старался, потому что…
Ибо…
Ибо в этой временной пульсации он различил совсем другое: что-то, что поразило его силой идеи, в истинности которой он всегда был уверен, но которую никогда не мог до конца сформулировать. До сих пор идея оставалась маковым зёрнышком, зажатым между двумя коренными зубами, сварливой полумыслью, почти философией, полутвёрдой, едва ли не звериной, тем типом осознанности, что может быть только у единорога. Босх понимал — доказательства в пользу идеи лежат всюду: в пятнышках, образующих созвездие на лысой голове Великана, в чуме, треплющей северную Европу, в корабле дураков, дрейфующем в его сознании.
Вскоре после этого отец Алейт пригласил Босха отобедать с семьёй, одного его, и, когда все устроились поудобнее, потягивая свой гороховый суп, патриарх начал объяснять художнику, как под покровом тишины превратил свой дом в катарскую школу для девушек, как учил их уму-разуму за закрытыми дверями, как преподавал числа, лютню, грамматику, логику, риторику; продирался сквозь Священные Писания, репетируя сложное искусство четырёхкратного толкования — буквального или исторического, по которому произошло то, что произошло; аллегорического, когда каждая деталь мифа высвобождает некий символ, шёпотом передаваемый христианским учением, тропологического, по которому понимать нужно мораль — и проецировать её на собственную жизнь; и, наконец, аналогического, по которому значение того, что некогда произошло, прилагают к наибольшим христианским проблемам: смерти, суду, раю, аду.
В частном порядке Босх перенимал привычки катаров одну за другой. Публично он продолжал поддерживать Братство Богородицы, продолжал буксировать свой дух в церковь каждое воскресенье, а порой и чаще. Он представил Алейт своему кругу. Они взяли её под своё покровительство, помогли молодой паре заполучить приятное жилище на рыночной площади, куда они с Босхом переехали на следующий день после свадьбы. Когда дети сразу не появились, их друзья начали роптать между собой, обращаясь с Босхом и Алейт с той же покровительственной заботой, какую добрые католики уделяют нищим, жалким и парализованным, чтобы те чувствовали себя лучше, заслуживающими пристального внимания, коего иначе не заполучить.
При случае Босх всё же видел своего старшего брата Госсена. Тот женился на милой женщине с лицом опоссума и высоким лбом, с безобразным именем Кателийн. Кателийн была такой далёкой, такой низкорослой, такой неделикатной, что шла по жизни, не сгибая колен. Иногда Босх ловил себя на том, что, слушая, как его брат болтает о том о сём в гостиной после ужина, задаётся вопросом — а может, у него с братом и впрямь разные матери и отцы? Чем ещё можно объяснить столь вопиющее несходство? В конце концов, он находил банальными все его картины — не более чем компетентными, вызывающими смутную ностальгию, как рождественская ёлка в июне. В период своего наибольшего успеха они были талантливы в той же мере, что и добротно сработанная плетёная корзина. На его полотнах красовались ровные поля, перистые облака, телеги с преющим сеном. Очевидно, Госсен плохо рисовал лица, так что каждый его герой стоял на некотором отдалении от фокуса художника, либо на первом плане — но спиной к зрителю. Нечто, подобное госсеновским сюжетам, и даже более толковое, запросто можно было повидать, высунув голову за входную дверь — в чём же тут искусство, скажите на милость?
Нет нужды говорить, что Босх не озвучил это брату — неизменно вежливый, предельно дипломатичный, сдержанный в своих замечаниях. Он напрягался, чтобы найти достаточно хорошо отрисованную белую иву или бежевую тёлку, теснившуюся в каком-нибудь уголке полотна Госсена, и похвалить её исполнение, всё время жгуче завидуя — но чему именно? Не таланту или достижениям брата, нет, а тому, что другие ошибочно представляли себе, будто у Госсена имеются талант и достижения.
Хуже того, когда Босх показал Госсену одну из своих работ, тот застыл перед ней в безмолвном недоумении. Его широкие плечи поникли, тусклые глаза прищурились. Глядя на картину брата, Госсен будто балансировал на той тонкой струне размышлений, когда даже самое лёгкое постороннее дуновение рассылает по всему телу дрожь.
Какой смысл, Иероним, спросил он через некоторое время, в таких адских видениях? Они приносят… они приносят вред и скверну в разум.
Они вселяют в ум озорство, олух, сказал бы, да не сказал Босх. Вместо этого он просто стоял в стороне и смотрел, как Госсен становится всё более известным и уважаемым, в то время как к нему самому люди относятся… ну, просто терпимо. Волоса его больше не напоминали цветом масло — скорее уж, пепел. Он не мог принять покорёженную реальность странного, стареющего человека, глядящего на него из маленького круглого зеркала — этот человек был как одинокий островок в океане костно-белых стен мастерской. Тем не менее, как будто для того, чтобы убедить его в подлинности видения, у Босха повадились болеть колени, а в почках засвербели камни. Хвори согнули его в оглоблю, и больше всего он стал походить на лягушку, зачем-то вставшую на задние лапы.
Не лучше дела обстояли и у жены. Кожа Алейт обвисла, сморщилась, потемнела, пошла пятнами. Её груди утратили объём и обвисли. К ней больше не приходили месячные. Чаще и чаще она страдала то от головных болей, то от потливости. Да и сон разладился.
Будьте сильны, велит мир стареющим. Храните смелость и стойкость.
Но мир неправ.
Старение превращало каждый день в маленькую катастрофу, омрачённую мудростью, достаточной лишь для того, чтобы понять, что всякой мудрости — грош цена.
Босх и Алейт замкнулись в себе, обнялись, закрылись худо-бедно от временных бурь. На их глазах знакомые страдали от кровавого поноса, эрготизма, сыпного тифа. Их друзья теряли опору в жизни и падали под весом излишеств, разорялись, становились для своих же родственников посмешищем, попадали в лапы разбойников с большой дороги или пьяных солдат, жуликоватых монахов и…
И как…
И как, во имя Бога, поименовать всё это, спрашивает себя Босх, стоя у мольберта. Какое-то путешествие незнамо куда — сводящая с ума гонка; устремляешься в бездну и…
И…
И посреди этой мысли Босх снова осознаёт себя через хрипы в грудной клетке.
Странное ощущение возникает между вдохом и выдохом; спазм пронизывает его левую руку, волнами спускаясь по спине.
Он совершенно здоров.
Что, конечно, неправда.
Обе руки вдруг наливаются весом наковален. Ноги становятся ватными.
Так не должно быть, уверен Босх.
Кисть, выпав из руки, катится по половицам.
Ошеломлённый, Босх пытается обрести равновесие, суетливо повернуться, сделать шаг к тяжёлой дубовой двери, которая приведёт его прямо к Алейт. Он слышит её шаги в холле. Она будет знать, что делать. Она всегда знает, только…
Только…
Только что-то сидит на его плечах. Что-то давит на него. Краем глаза он замечает когти.
Лысый хвост игриво трётся о его шею.
Я не сплю, думает Иероним Босх. Это вовсе не сон, что угодно, но не…
Со следующим вдохом рядом с ним вздымается стойка мольберта, огромная, будто вяз. Зеркало на дальней стене сжимается до размеров серебряной мухи. Его кисть становится метлой, натирающей кончик носа.
Художника поражает, что он больше не стоит на ногах. Нет. Он, должно быть, стоит на локтях и коленях, смешной лягушачий зад вздёрнут в воздух. Он ползёт, или всего-навсего силится ползти, как замерзающий сквозь метель; ползёт и не может уползти далеко.
Если бы он только мог немного повернуться против часовой стрелки, то оказался бы в благоприятном положении, чтобы оттолкнуться к той двери, которая, кажется, находится где-то в другой стране.
Он пробует. Честно, пробует. И эффект — совсем не тот, на какой он рассчитывал. Правая щека Босха елозит по прохладной половице. Мокрые пряди свисают с его подбородка. Пылевые клещи бегают по шее. Сама оказия бередит его чопорную североевропейскую чувствительность, но не так сильно, как то, что его тело осмеливается сделать с ним дальше.
Тело марает его в едином мутно-горячем порыве; плотину прорывает безо всякого предупреждения, и его мокрые штаны что-то отягощает.
Боже мой, говорит он себе, закрыв глаза, опустив голову и подняв задницу, пытаясь хоть как-то себя приободрить; кто знает, насколько хуже всё сделается в следующую секунду.
Никогда не следует пренебрегать столь ценной информацией.
От его тела до зала — Босх в этом уверен, — не более двух с половиной метров. Довольно точный расчёт. Обычно он преодолевал это расстояние за три шага и четыре секунды. Надо позвать Алейт, и помощь придёт сама собой. Босх представляет, как его жена занимается своими повседневными делами по другую сторону двери — вытирает, возможно, слой пыли с каминной полки, или, откинувшись на спинку кресла-качалки в гостиной, читает страницу или две Священного Писания перед обедом — не зная, что происходит в нескольких шагах.
Все возможные и невозможные мозговые усилия Босх направляет на то, чтоб перекинуть мостик к её сознанию.
Если хоть однажды в его жизни и был момент, когда телепатия любви могла проявить себя, вытащить из шляпы надежду, то это, безусловно, сейчас, и…
И…
И ничего не происходит.
Ничего не происходит дальше.
То есть совсем ничего, кроме ясного, кристального понимания собственной ошибки.
Абсолютно ничего.
Последние тридцать с лишним лет он существовал по ошибке. Истина, которую постиг Босх в порыве той ясности, такова: он не хочет умирать. Смерть — это последнее, что ему сейчас нужно. Он не холоден и не безучастен, в нём ещё полно огня. Ему подавай ванну. Ему подавай тёплую постель. Он хочет снова увидеть свою жену.
Его нынешний план состоит в том, чтобы оставаться с ней в браке ещё десять тысяч лет.
Что может быть проще?
Итак…
Итак…
Итак, он снова собирает все силы и отправляет тело в путь.
Однако вместо того, чтобы продвигаться вперёд, он таращится в потолок.
Ага, в итоге он перевернулся на спину.
Высоко-далеко над ним деревянные доски больше не похожи на деревянные доски, а напоминают клубящийся туман. Что ещё более странно, он может различить, прищуривая в достаточной мере глаза и концентрируясь, скопление тёмных фигур там, вверху. Людские силуэты — грубые, аморфные, — смахивают на наброски углём.
Их не то шесть, не то семь, и все сидят на парящих стульях вокруг парящего же стола.
Они смеются. У них вечеринка. Они разговаривают и выпивают за ужином. Пробки с хлопками покидают бутылки. Звенят стаканы, лязгают ножи. Босх ещё больше сужает глаза, слушая, становясь не более чем комком внимания.
Один голос раздражённо возвышается над остальными.
Мужской.
Нет, восклицает он. Господи, нет! Мало ли, что это такое, Джером, говорит этот голос, но

