автордың кітабын онлайн тегін оқу Запретная тетрадь

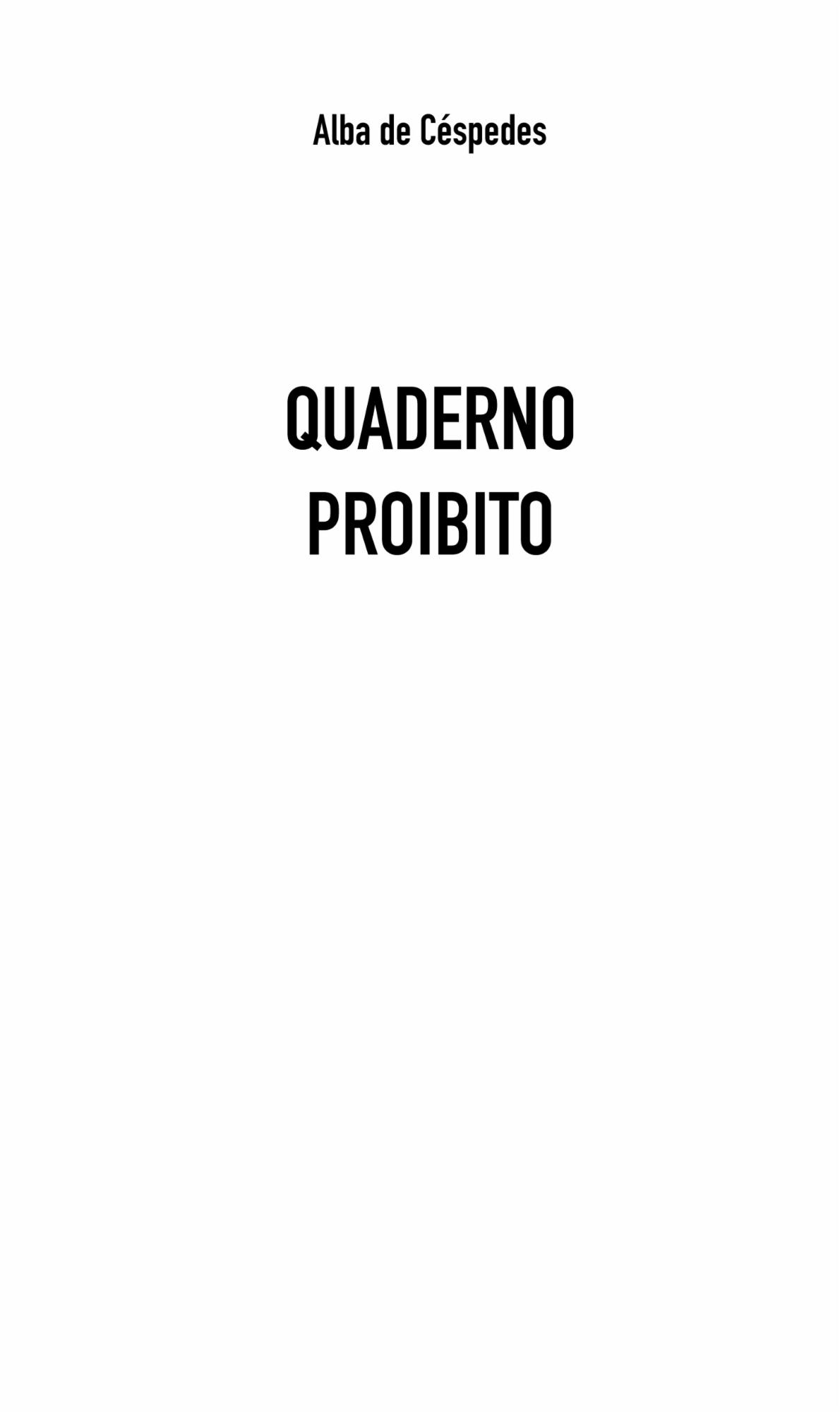

Señor don Blas, de qué libro
ha sacado uste ese texto?
Del teatro de la vida
humana que es donde leo.Ramón de la Cruz [1]
[1] Сеньор дон Блас, из какой книги / почерпнули вы этот текст? / Из театра жизни / человеческой — вот, что я читаю (исп.). Рамон де ла Крус. — Здесь и далее примеч. пер.
26 ноября 1950
Напрасно я эту тетрадь купила, не стоило. Но уже поздно сожалеть, что сделано, того не воротишь. Не знаю даже, что подтолкнуло меня ее купить, это вышло случайно. Я никогда не думала заводить дневник, в том числе потому, что дневник должен оставаться в тайне, а значит, пришлось бы прятать его от Микеле и детей. Мне не нравится ничего прятать; к тому же в доме у нас так мало места, что у меня бы и не получилось. Вот как все было: пятнадцать дней назад, в воскресенье, я вышла из дома рано утром. Я шла купить сигареты для Микеле, хотела, чтобы он, проснувшись, нашел их на тумбочке: по воскресеньям он всегда спит допоздна. Стоял прекрасный теплый день, хотя осень давно вступила в свои права. Я испытывала ребяческую радость, пока шагала по улицам, по солнечной стороне, и смотрела на все еще зеленые деревья и людей — радостных, как всегда кажется в выходные дни. Так что я решила немножко прогуляться, дойти до табачного ларька на площади. По дороге заметила, что многие останавливаются у цветочного прилавка, и тоже подошла, купила букет календул. «Нужно, чтобы на столе стояли цветы, по воскресеньям, — сказала мне цветочница. — Мужчины это замечают». Я улыбнулась, кивая, — но, по правде говоря, покупая те цветы, я не думала ни о Микеле, ни о Риккардо, хотя сын и правда их очень любит: я покупала их для себя, чтобы держать в руке, шагая по улицам. У табачника было полно народу. Стоя в очереди, уже заготовив деньги, я увидела стопку черных тетрадей в витрине. Это были черные, глянцевые, толстые тетради — такие, с которыми ходят в школу и на первую страницу которых, еще ничего не написав внутри, я порывисто наносила свое имя: Валерия. «И еще дайте мне тетрадь», — сказала я, роясь в сумке в поисках денег на дополнительную покупку. Но, подняв глаза, увидела, что лицо табачника посуровело, и он ответил: «Нельзя, запрещено». Он объяснил, что у дверей каждое воскресенье дежурит полицейский, который следит, чтобы в лавке продавали только табак и ничего больше. Я осталась в магазине одна. «Мне она нужна, — сказала я ему, — обязательно нужна». Я говорила вполголоса, взволнованно, готова была настаивать, умолять. Тогда он огляделся, а потом живо схватил тетрадь и протянул мне ее через прилавок со словами: «Спрячьте под пальто».

Я так и несла ее под пальто всю дорогу, до самого дома. Боялась, что выскользнет, что упадет на землю, пока консьержка рассказывает мне невесть что про газовую колонку. У меня раскраснелось лицо, когда я вставляла ключ в замок: думала было сразу шмыгнуть в свою комнату, но вспомнила, что Микеле еще в постели. Мирелла уже звала меня: «Мам…» Риккардо спросил: «Ты купила газету, мам?» Я разволновалась, растерялась, боялась, что не смогу снять пальто без свидетелей. «Положу ее в шкаф, — думала я. — Нет, Мирелла часто его открывает, чтобы надеть что-нибудь мое: пару перчаток или блузку, например. Комод — туда вечно лазит Микеле. Письменный стол давно застолбил за собой Риккардо». Я осознала, что во всем доме у меня не осталось ни ящика, ни укромного уголка, который был бы только моим. И решила, что с этого дня буду отстаивать свои права. «В шкаф с бельем», — решила я, но тут вспомнила, что Мирелла каждое воскресенье достает чистую скатерть, чтобы накрыть на стол. В конце концов я бросила ее в мешок с тряпьем на кухне. Едва успела закрыть мешок — вошла Мирелла и говорит: «Что с тобой, мам? У тебя лицо такое красное». «Это из-за пальто, наверное, — сказала я, раздеваясь. — На улице жарко сегодня». Мне казалось, она скажет: «Неправда, это потому, что ты спрятала что-то в мешке». Напрасно я пыталась убедить себя, что не сделала ничего дурного. В голове у меня снова раздался голос табачника, предупреждающий: «Это запрещено».
10 декабря
Больше двух недель я не вынимала тетрадь из тайника, и писать в ней у меня больше не получалось. С самого первого дня оказалось, что очень сложно постоянно перекладывать ее, находить тайники, где ее тут же не обнаружат. Найдя, Риккардо забрал бы ее себе, чтобы вести конспекты в университете, а Мирелла — под дневник, который она запирает на ключ в своем ящике. Я бы могла возмутиться, сказать, что она моя, но пришлось бы оправдывать пользование ею. Счета за продукты я всегда веду на рекламных еженедельниках, которые Микеле приносит мне из банка в первые дни января: он сам ласково посоветовал бы мне уступить тетрадь Риккардо. Случись такое, я бы сразу же отказалась от тетради и впредь никогда и не подумала бы купить другую такую же: поэтому я остервенело избегала такого стечения обстоятельств, пусть даже — следует признать — с тех пор, как у меня появилась эта тетрадь, я ни минуты не могу вздохнуть спокойно. Раньше я все время огорчалась, когда детей не было дома, а теперь только этого и жду, чтобы остаться одной и писать. Я никогда прежде не задумывалась над тем, что в силу скромной площади нашего жилища и моего рабочего графика мне редко случается оставаться одной. Недаром пришлось прибегнуть к обману, чтобы положить начало этому дневнику: я купила три билета на футбольный матч и сказала, что мне подарила их коллега на работе. Двойной обман: ведь чтобы купить их, я прикарманила сдачу от покупки продуктов. Сразу после завтрака я помогла Микеле и детям одеться, одолжила Мирелле мое теплое пальто, ласково попрощалась и закрыла за ними дверь: от удовольствия по коже мурашки пошли. Устыдившись, я побежала к окну, словно желая позвать их обратно. Они уже ушли далеко, и мне казалось, что они мчатся навстречу ловушке, которую я приготовила им во вред, а вовсе не на безобидный футбольный матч. Они смеялись, болтая друг с другом, и этот смех отзывался во мне уколами совести. Вернувшись в дом, я собралась было сразу же усесться писать, но кухню все еще нужно было привести в порядок: Мирелла не могла мне помочь, как обычно по воскресеньям. Даже Микеле, по природе своей так любящий порядок, оставил открытым шкаф, разбросал несколько галстуков — как и сегодня, кстати. Я снова купила им билеты на футбол и поэтому могу насладиться недолгим спокойствием. Самое диковинное то, что когда я наконец могу извлечь тетрадь из тайника, сесть и начать писать, то не нахожу, о чем — кроме как о повседневной борьбе, которую веду, чтобы хранить ее в тайне. Сейчас я прячу ее в старом сундуке, где мы храним зимнюю одежду летом. Но два дня назад мне пришлось спорить с Миреллой: дочь хотела открыть сундук, чтобы достать свои теплые лыжные штаны — она носит их дома с тех пор, как мы отказались от отопления. Тетрадь лежала внутри: стоило чуть приподнять крышку, и она бы увидела ее. Так что я сказала: «Еще не время, еще не время», а она взбунтовалась: «Мне холодно». Я так разгоряченно настаивала, что даже Микеле заметил. Когда мы остались одни, он сказал мне, что не понимает, почему я заспорила с Миреллой. Я ответила ему жестко: «Сама знаю, что делаю», а он смотрел на меня, удивленный моим необычным настроением. «Мне не нравится, что ты вмешиваешься в мои споры с детьми, — продолжала я. — Ты лишаешь меня всякого авторитета в их глазах». И пока он, возражая, что обычно я обвиняю его в недостаточном внимании к ним, подходил ко мне, шутливо спрашивая: «Что с тобой сегодня, мам?», я думала, что, может быть, становлюсь нервной, вспыльчивой, как — по распространенному мнению — все женщины за сорок; и, подозревая, что Микеле тоже так думает, чувствовала себя глубоко униженной.

11 декабря
Перечитывая то, что написала вчера, я так и хочу спросить себя: может быть, мой характер начал меняться в тот день, когда муж в шутку стал называть меня мамой. Сначала мне это очень понравилось: казалось, я единственный взрослый человек в доме, тот, кто уже знает о жизни все. Это усиливало чувство ответственности, которое было у меня всегда, с самого детства. А еще мне понравилось, что это помогало оправдывать порывы нежности, которые неизменно вызывало во мне поведение Микеле, сохранившего свою простосердечность и наивность по сей день, когда ему почти пятьдесят. Когда он зовет меня «мамой», я отвечаю ему тоном одновременно суровым и нежным — тем же, которым говорила с Риккардо, когда он был маленьким. Но сейчас мне ясно, что зря: он ведь был единственным человеком, для которого я — Валерия. Мои родители с самого детства зовут меня Бебе, и рядом с ними сложно быть кем-то другим, не той, кем была в том возрасте, когда они дали мне это прозвище; недаром и сейчас — хотя оба ожидают от меня всего, чего ожидают от взрослых людей, — не похоже, чтобы они готовы были признать, что я действительно взрослая. Да, Микеле — единственный человек, для которого я была Валерией. Для некоторых подруг я все еще Пизани, подружка из школы, для остальных я — жена Микеле, мать Риккардо и Миреллы. Для него же с того самого дня, как мы познакомились, я была просто Валерией.
15 декабря
Всякий раз, открывая эту тетрадь, я смотрю на свое имя, выведенное на первой странице. Мне приятно смотреть на свой сдержанный, не слишком крупный почерк с наклоном, который, впрочем, легко выдает мой возраст. Мне сорок три года, хотя убедить себя в этом мне удается не всегда. Другие люди тоже удивляются, видя меня с детьми, и всегда делают мне комплименты, от которых Риккардо и Мирелла неловко улыбаются. Как бы там ни было, мне сорок три, и уже попросту стыдно прибегать к разным детским уловкам, чтобы делать записи в тетради. Поэтому совершенно необходимо признаться Микеле и детям в существовании этого дневника и заявить о моем праве закрываться в комнате и писать, когда мне охота. Я действовала глупо с самого начала и, продолжая, все сильнее усугубляю собственное ощущение, будто делаю что-то плохое, выводя на бумаге эти невинные строки. Какой абсурд. Я теперь даже на работе места себе не нахожу. Если директор конторы просит меня задержаться подольше, боюсь, что Микеле вернется домой раньше меня и по какой-нибудь неожиданной причине примется рыться в старых бумагах, где я прячу тетрадь; поэтому частенько придумываю какое-нибудь оправдание, чтобы уйти, тем самым отказываясь от сверхурочных. И домой прихожу, охваченная страшной тревогой; если замечаю висящее в прихожей пальто Микеле, сердце уходит в пятки: захожу в столовую, опасаясь увидеть мужа с глянцевой чернотой тетради в руках. Если застаю его беседующим с детьми, тоже думаю, что он, наверное, нашел ее и ждет, пока мы останемся наедине, чтобы поговорить со мной об этом. Мне вечно кажется, что по вечерам он особенно тщательно закрывает дверь в нашу комнату, проверяя пружину в дверной ручке. «Сейчас повернется и все мне выскажет». Но он ничего не говорит; я поняла, что он всегда так закрывает дверь просто потому, что привык все делать тщательно.
Два дня назад Микеле позвонил мне на работу, и я тут же испугалась, что он почему-то вернулся домой и нашел тетрадь. Леденея, я взяла трубку, чтобы ответить.
— Послушай, я должен тебе кое-что сказать… — начал он.
В течении нескольких секунд я поспешно спрашивала себя, отстаивать ли свое право иметь столько тетрадей, сколько пожелаю, и писать там то, что мне заблагорассудится, или же взмолиться: «Микеле, пойми меня, знаю, я поступила дурно…»
Но он просто хотел узнать, не забыл ли Риккардо заплатить университетские взносы, потому что в этот день истекал срок оплаты.
21 декабря
В чера вечером, сразу после ужина, я сказала Мирелле, что мне не по душе ее привычка закрывать на ключ ящик своего стола. В ее ответе прозвучало удивление: она ведь уже много лет привыкла так делать. Я возразила, что как раз много лет и не одобряю. Мирелла оживленно ответила, что она так много учится именно потому, что хочет начать работать, стать независимой и уйти из дома, едва станет совершеннолетней: тогда она сможет запирать какие угодно ящики и никого при этом не злить. И добавила, что хранит в этом ящике свой дневник, вот почему он на замке, да и вообще, Риккардо тоже свой запирает, потому что кладет туда все письма, которые ему пишут девушки. Я ответила, что в таком случае и нам с Микеле полагается право иметь ящик, который запирается на ключ.
— Так ведь он у нас есть, — сказал Микеле. — Это ящик, в котором мы деньги храним.
Я настаивала, что хотела бы иметь свой собственный; а он, улыбаясь, спросил меня:
— Что ты с ним будешь делать?
— Ну, не знаю, буду хранить там мои личные бумаги, — ответила я, — кое-что на память. А может, даже настоящий дневник, как Мирелла.
Тут уж все, включая Микеле, засмеялись над мыслью о том, что я могу вести дневник.
— И что же ты бы хотела там писать, мам? — сказал Микеле.
Мирелла, позабыв о своей обиде, смеялась вместе с ним. Я продолжала рассуждать, не обращая внимания на их смешки. Тогда Риккардо встал с серьезным видом и подошел ко мне.
— Мама права, — со значением проговорил он, — она тоже имеет право вести дневник, как Мирелла, секретный дневник, возможно любовный. Признаюсь вам, что я уже некоторое время испытываю подозрение, что у нее есть какой-то тайный поклонник.
Он изображал глубокую серьезность, морщил лоб, и Микеле, подыгрывая, принял задумчивый вид и сказал, что и правда, мама в самом деле на себя не похожа, надо бы с ней побдительнее. Потом все снова рассмеялись, громко рассмеялись, и, собравшись вокруг, обняли меня, и Мирелла тоже. Риккардо, коснувшись пальцами моего подбородка, нежно спросил: «Что ты хочешь писать в дневнике, скажи?» Внезапно я расплакалась — не понимала, что со мной, только что я очень устала. Видя мои слезы, Риккардо побледнел, сжал меня в объятиях и сказал: «Да я же шутил, мамулечка, ты разве не понимаешь, что я шутил? Прости меня…» Потом повернулся к сестре и сказал ей, что из-за нее вечно такое происходит. Мирелла вышла из столовой, хлопнув за собой дверью.
Чуть позже Риккардо тоже ушел спать, и мы остались одни, Микеле и я. Микеле ласково заговорил со мной. Он сказал, что хорошо понимает мой всплеск материнской ревности, но мне пора привыкнуть к тому, что в Мирелле нужно видеть девушку, женщину. Я пыталась объяснить, что дело вовсе не в этом, а он продолжал: «Ей девятнадцать лет, вполне естественно, что у нее уже есть что-то — какое-то ощущение, чувство, — которое она не хочет поверять домашним. В общем, ее маленький секрет». «А как же мы? — ответила я, — разве мы не вправе тоже иметь свои секреты?» «О, дорогая моя, — сказал он, — какие у нас могут оставаться секреты, в нашем-то возрасте?» Произнеси он эти слова дерзким, шутливым тоном, я бы заспорила; но в его голосе звучала такая печаль, что я побледнела. Огляделась, чтобы убедиться, что дети ушли спать и тоже могут поверить, будто то мгновение слабости было из-за материнской ревности. «Ты бледная, мам, — проговорил Микеле, — ты слишком сильно устаешь, слишком много работаешь, сейчас налью тебе коньяка». Я выпалила, что не хочу. Он настаивал. «Спасибо, — сказала я, — я не хочу ничего пить, все уже прошло. Ты прав, наверное, я немного устала, но уже в полном порядке». Я улыбалась, обнимая его, чтобы успокоить. «Вечно ты так: мгновенно приходишь в себя, — нежно откликнулся Микеле. — Что ж, значит, никакого коньяка». Я в растерянности отвела взгляд. В шкафу, рядом с бутылкой коньяка, в старой коробке из-под печенья я спрятала тетрадь.
