автордың кітабын онлайн тегін оқу Трилогия об Иосифе Флавии. Иудейская война. Сыновья. Настанет день
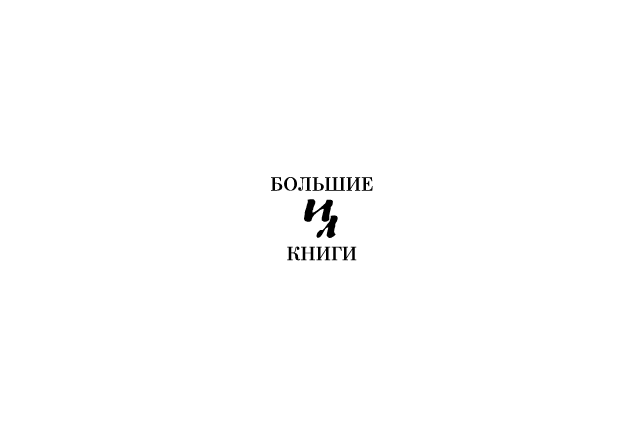
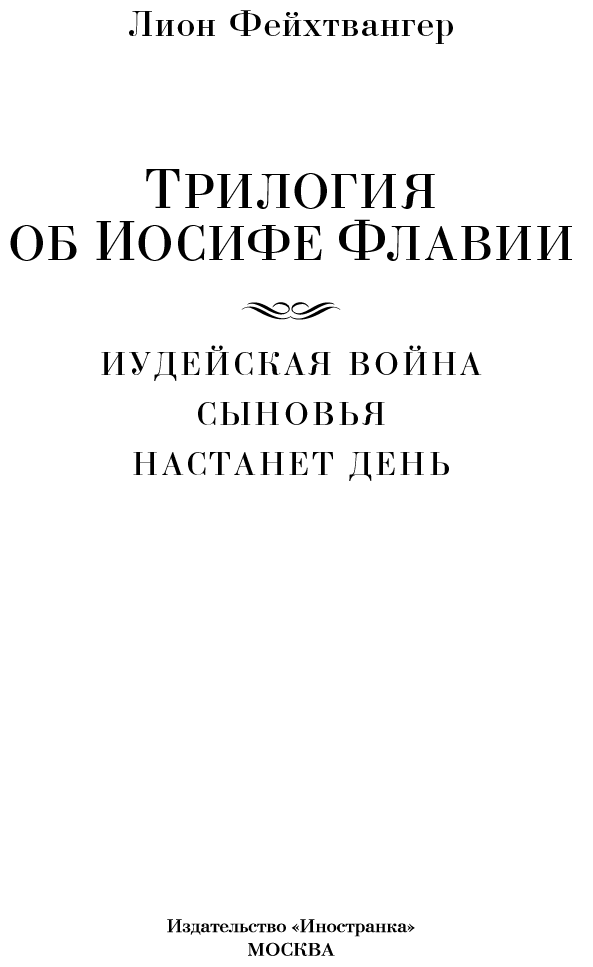
Lion Feuchtwanger
DER JÜDISCHE KRIEG
Copyright © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1959 and 2009
DIE SÖHNE
Copyright © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1960 and 2009
DER TAG WIRD KOMMEN
Copyright © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 1959 and 2009
All rights reserved
Перевод с немецкого Веры Станевич, Шимона Маркиша
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Фейхтвангер Л.
Трилогия об Иосифе Флавии. Иудейская война. Сыновья. Настанет день : романы / Лион Фейхтвангер ; пер. с нем. В. Станевич, Ш. Маркиша. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2024. — (Иностранная литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-25429-9
16+
В 1932 году выдающийся немецкий писатель Лион Фейхтвангер опубликовал роман «Иудейская война», в 1935 году последовал роман «Сыновья», в 1945-м — «Настанет день». Вместе они составили трилогию, посвященную жизни римского историка и военачальника иудейского происхождения Иосифа Флавия.
Священник первой чреды Иерусалимского храма, патриот и участник иудейского восстания, Иосиф бен Маттафий оказывается перед мучительным выбором: смириться с пленением или принять смерть, перейти на сторону римлян и предать веру отцов или погибнуть. Однако будущий создатель исторического трактата «Иудейская война» выбирает собственный путь, на котором он бесконечно одинок: живя в Риме и пользуясь покровительством Флавиев, он становится самым преданным проповедником уникальной роли еврейского народа в истории человечества…
В творчестве Фейхтвангера — немца еврейского происхождения, вынужденного покинуть Германию с приходом к власти нацистов, темы изгнания из родной страны и места еврейского народа в мире обретают особое, глубоко личное звучание.
© Ш. П. Маркиш (наследник), перевод, примечания, 1965, 1966
© В. О. Станевич (наследники), перевод, 1965, 1966
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус», 2024
Издательство Иностранка®
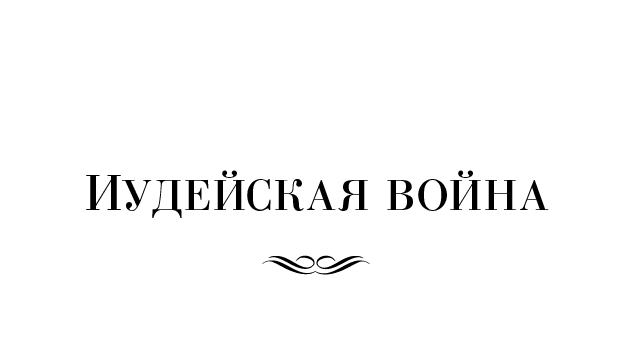
Книга первая
Рим
Шесть мостов вели через Тибр. Если оставаться на правом берегу, то можно было быть спокойным: здесь на улицах полно мужчин, по одним бородам которых вы уже видели, что это евреи; всюду попадались еврейские и арамейские надписи, а если вы к тому же немного знали греческий — то этого вполне хватало. Но как только вы переходили один из мостов и отваживались ступить на левый берег Тибра, вы попадали в большой буйный город Рим, вы — чужестранец, безнадежно одинокий.
И все же у Эмилиева моста Иосиф отпустил мальчика Корнелия, своего старательного проводника; он хотел наконец убедиться, справится ли один, проверить свою сообразительность и приспособляемость. Мальчик Корнелий охотно проводил бы чужеземца и дальше. Иосиф смотрел, как нерешительно он шагает обратно по мосту, и тогда, улыбаясь с шутливой приветливостью, он, еврей Иосиф, поднял руку с вытянутой ладонью и приветствовал мальчика римским жестом, и еврейский мальчик Корнелий, тоже улыбаясь, ответил ему тоже римским жестом, несмотря на запрет отца. Затем Корнелий свернул налево, за высокий дом; вот он скрылся из виду, теперь Иосиф — один, и теперь он убедится, чего стоит его латынь.
Пока что он знает: здесь перед ним Бычий рынок; вон, справа, Большой цирк, а где-то там, на Палатине [1] и за ним, где кишит такое множество людей, император строит для себя новый дом; тут вот, влево, Этрусская улица ведет к Форуму [2], а Палатин и Форум — это сердце мира.
Он много читал о Риме, но сейчас от этого мало толку. Пожар, случившийся три месяца тому назад, сильно изменил город. Он разрушил как раз все четыре центральных городских квартала [3], свыше трехсот общественных зданий, до шестисот дворцов и особняков, несколько тысяч доходных домов. Просто удивительно, сколько эти римляне за такой короткий срок успели понастроить заново! Он не любит римлян, он ненавидит их, но он вынужден отдать им должное: организационный талант у них есть, есть своя техника. «Техника», — мысленно произносит он иностранное слово, повторяет его несколько раз на иностранном языке. Ну, он не дурак — он кое-что выведает у римлян об этой их технике.
Иосиф решительно пускается в путь. С любопытством и волнением вдыхает он воздух этих чужих домов и людей, во власти которых и вознести его, и оставить в ничтожестве. Дóма, в Иерусалиме, месяц тишри очень жарок, даже последняя его неделя; но здесь, в Риме, он называется сентябрем, и, во всяком случае, сегодня дышится свежо и приятно. Легкий ветер развевает его волосы; они чуть длинны — в Риме носят короче. Ему бы следовало быть в шляпе, ибо, в противовес римлянам, еврею в его положении подобает выходить только с покрытой головой [4]. Да пустяки — здесь, в Риме, большинство евреев ходит с непокрытой головой, совершенно так же, как римляне, по крайней мере по ту сторону мостов. Если даже он будет ходить без шляпы, нерадивым евреем он от этого не станет.
Вот перед ним Большой цирк. Здесь все в развалинах, отсюда и начался пожар. Однако каменный остов здания остался нетронутым. Гигантская штука этот цирк! Нужно целых десять минут, чтобы пройти его в длину. Стадионы в Иерусалиме и в Кесарии [5] тоже ведь не маленькие, но рядом с этим сооружением они кажутся игрушечными.
Внутри цирка идет напластование — камень и дерево, работы уже начались. Бродят любопытные, дети, праздношатающиеся. Его одежда еще не вполне соответствует требованиям столицы; и все же, когда он проходит вот так, не спеша, молодой, стройный, статный, с жадными до всего глазами, он кажется элегантным, щедрым, настоящим аристократом. Вокруг него толпятся, ему предлагают амулеты, дорожные сувениры, слепки с обелиска, который высится, торжественный и чуждый, в середине бегового поля. Профессиональный гид предлагает показать ему все достопримечательности, императорскую ложу, модель новой постройки. Но Иосиф с напускной рассеянностью отклоняет его услуги. Он бродит один между каменных скамей, словно был здесь, на бегах, завсегдатаем.
Внизу, очевидно, скамьи высшей аристократии, сената. Ничто не мешает ему сесть на одно из этих мест, которых так домогаются люди. А тут хорошо, на солнце. Он принимает небрежную позу, подпирает голову рукой, устремляет невидящий взгляд на обелиск.
Лучшего момента для осуществления своих намерений, чем сейчас, в эти месяцы после пожара, ему не найти. Люди в благоприятном настроении, восприимчивы. Та энергия, с какой император принялся отстраивать город, действует на всех оживляюще. Все зашевелилось, всюду бодрость, деловитость, воздух свеж и ясен, он совсем иной, чем тяжелая, душная атмосфера Иерусалима, где никак не удавалось пробиться.
И вот сейчас, в Большом цирке, на сенатской скамье, в приятном солнечном свете этих ленивых дневных часов, среди шума заново отстраивающегося Рима, Иосиф еще раз страстно, и все же трезво, взвешивает свои шансы. Ему двадцать шесть лет, у него все данные для блестящей карьеры: аристократическое происхождение, разностороннее образование, политический талант, бешеное честолюбие. Нет, он не желает киснуть в Иерусалиме, он благодарен отцу за то, что тот в него верит и добился его отправки в Рим.
Правда, успех его миссии весьма сомнителен. С юридической точки зрения Иерусалимский Великий совет не имел ни оснований, ни правомочий посылать по данному делу в Рим особого представителя. И Иосифу пришлось откапывать аргументы во всех закоулках своего мозга, чтобы эти господа в Иерусалиме наконец сдались.
Итак, три члена Великого совета [6], которых губернатор Антоний Феликс вот уже два года назад отправил в Рим в императорский трибунал как бесспорных бунтовщиков, несправедливо приговорены к принудительным работам. Правда, эти трое господ находились в Кесарии, когда иудеи во время предвыборных беспорядков сорвали императорские значки с дома губернатора и переломали их; но сами они в мятеже не участвовали. Выбрать как раз этих трех высокопоставленных старцев, людей совершенно неповинных, было со стороны губернатора произволом, возмутительным злоупотреблением властью, оскорблением всего еврейского народа. Иосиф видел в этом тот долгожданный случай, который даст ему возможность выдвинуться. Он собрал новые доказательства невиновности трех старцев и надеялся добиться при дворе или их полной реабилитации, или хотя бы смягчения их участи.
Римские евреи, как он уже успел заметить, вероятно, не будут особенно усердствовать, помогая ему выполнить его миссию. Фабрикант мебели Гай Барцаарон, председатель Агрипповой общины [7], у которого он живет и которому привез от отца рекомендательные письма, намеками, хитро, доброжелательно и осторожно разъяснил ему ситуацию. Ста тысячам евреев, находящимся в Риме, живется неплохо. Они в мире с прочим населением. И они смотрят с тревогой на то, что в Иерусалиме националистическая антиримская партия «Мстителей Израиля» начинает приобретать все большее влияние. Они вовсе не намерены рисковать своим положением, вмешиваясь в постоянные трения этих господ с Римом и императорской администрацией. Нет, Иосифу придется всего добиваться самому.
Перед ним идет напластование: камень, дерево, кирпич, колонны, мрамор всех цветов. Стройка растет почти на глазах. Когда он через полчаса или через час уйдет отсюда, она уже успеет вырасти, не намного — может быть, на одну тысячную своих окончательных размеров, но мера, точно намеченная на этот час, будет выполнена. Однако и он достиг кое-чего за это время. Его стремление вперед стало горячее, пламеннее, неодолимее. Каждый звук, доносящийся со стройки, каждый удар молотка или скрип пилы словно обтесывает, обстругивает и выпиливает его самого, хотя он и сидит с непринужденным видом на солнышке, такой же праздношатающийся, как и остальные. Немало придется ему поработать, прежде чем удастся вызволить трех невинных из темницы, но он этого добьется.
Он уже не кажется себе таким маленьким и ничтожным, как в день приезда. Уже не испытывает такого почтения перед мясистыми замкнутыми лицами римских жителей. Он увидел, что римляне меньше его ростом. Он ходит среди них, высокий, стройный, и римские женщины смотрят ему вслед не меньше, чем женщины в Иерусалиме и в Кесарии. Наверно, Ирина, дочь Гая, председателя общины, вошла в комнату — хотя и мешала отцу — только потому, что там находился Иосиф. У него ладное тело, у него быстрый, гибкий ум. Когда ему исполнился двадцать один год, университет при Иерусалимском храме удостоил его высокой ученой степени доктора [8]; он овладел всей разветвленной и сложной наукой юридического и теологического толкования Библии. И разве он даже не прожил два года отшельником в пустыне у ессея Бана, чтобы научиться чистому созерцанию, погружению в себя и интуиции? Все есть у него, недостает лишь первой ступеньки на пути к успеху — благоприятного случая. Но этот случай придет, он должен прийти.
Молодой ученый и политический деятель Иосиф бен Маттафий сжал губы. «Подождите, вы, господа из Великого совета, и вы, гордецы из Каменного зала [9]! Вы меня унижали, вы не давали мне ходу. Если бы к той сумме, которую вы согласились выдать мне из вашего фонда, мой отец не приложил еще своих денег, я не смог бы сюда приехать. Но теперь я здесь, в Риме, и я — ваш делегат. И уж я это использую, будьте уверены. Я еще покажу себя, господа ученые!»
Люди на трибунах что-то крикнули друг другу, поднялись с мест, все стали смотреть в одну сторону. С Палатина что-то спускалось, поблескивая, — большая толпа, глашатаи, пажи, свита, носилки. Поднялся и Иосиф, чтобы лучше видеть. Тотчас рядом с ним опять очутился гид, и на этот раз Иосиф принял его услуги. Оказалось — не император, даже не начальник стражи: просто сенатор или какой-то знатный господин, который пожелал, чтобы архитектор Целер показал ему новостройку.
Вокруг теснились любопытные, но полиция и слуги архитектора и его спутников сдерживали их напор. Ловкому гиду удалось пробиться вместе с Иосифом в первый ряд. Да, он сразу узнал по ливреям лакеев, пажей и скороходов, что это сенатор Марулл, пожелавший осмотреть цирк. Даже Иосиф знал понаслышке, что это за фигура; в Иерусалиме, как и повсюду в провинциях, об этом Марулле ходили чудовищные сплетни как об одном из первых придворных кутил, который руководил императором во всем, что касалось самых утонченных наслаждений. Впрочем, шел слух, что он — автор многих народных комедий, например дерзких обозрений, исполняемых прославленным комиком Деметрием Либанием. Жадно разглядывал Иосиф знаменитого вельможу, который, небрежно раскинувшись в носилках, слушал объяснения архитектора и время от времени подносил к глазу смарагд, служивший ему лорнетом.
Иосиф обратил внимание на другого господина: с ним обходились с особой почтительностью. Но можно ли было назвать его господином? Он вышел из своих носилок; одетый бедно и неряшливо, он, шаркая, бродил среди нагроможденных вокруг строительных материалов, толстоватый, с кое-как обритой мясистой головой и тяжелым взглядом сонных глаз под выступающим лбом. Рассеянно слушал он объяснения архитектора; то поднимет кусок мрамора, повертит его в жирных пальцах, поднесет к самым глазам, понюхает, опять отбросит; то возьмет у каменщика из рук инструмент, ощупает. Наконец он уселся на какую-то глыбу и принялся, кряхтя, затягивать развязавшиеся ремни обуви, сердито отстранив подбежавшего лакея. Да, гид знал и его: это Клавдий Регин.
— Издатель? — спросил Иосиф.
Возможно, что он и книгами торгует, но гиду об этом неизвестно. Он знает его как придворного ювелира. Во всяком случае, человек весьма влиятельный, крупный финансист, хотя одевается почти нищенски и нимало не заботится о численности и пышности своей свиты. И это очень странно: ведь он родился рабом, от отца-сицилийца и матери-еврейки, а эти выходцы из низов обычно любят пускать пыль в глаза. Уж можно сказать: для своих сорока двух лет этот Клавдий Регин сделал баснословную карьеру. При нынешнем предприимчивом императоре возникло множество коммерческих дел, крупных дел, и Клавдий Регин имеет в каждом свою долю. На его судах доставляется бóльшая часть хлеба из Египта и Ливии, его зернохранилища в Путеолах [10] и Остии считаются достопримечательностями.
Сенатор Марулл и придворный ювелир Клавдий Регин разговаривали громко и без стеснения, так что первому ряду любопытных, в котором стоял и Иосиф, было слышно каждое слово. Иосиф ожидал, что эти двое людей, имена которых в литературных кругах всего мира произносились с почтением — ибо Клавдий Регин считался первым издателем Рима, — обменяются значительными мыслями об эстетической ценности нового сооружения. Он жадно прислушивался. Правда, уследить за их быстрой латинской речью ему было трудно, но он все же понял, что разговор идет вовсе не о вопросах эстетических или философских: они говорили о ценах, курсах, о делах. Отчетливо долетал из носилок высокий гнусавый голос сенатора, который спрашивал, весело поддразнивая собеседника, и притом так громко, что его слышали даже стоявшие в отдалении:
— А что, Клавдий Регин, на стройке цирка вы тоже зарабатываете?
Ювелир — он сидел в солнечных лучах, на каменной глыбе, положив руки на толстые колени, — ответил так же беззаботно:
— К сожалению, нет, сенатор Марулл. Я полагал, что при поставках для цирка наш архитектор взял в долю вас.
Иосиф мог бы услышать еще больше из беседы обоих господ, но ему мешали недостаточное знакомство с языком и отсутствие специальных познаний. Гид, и сам не вполне осведомленный, пытался ему помочь. По-видимому, Клавдий Регин, так же как и сенатор Марулл, в малозастроенных кварталах окраин заблаговременно скупил по дешевой цене огромные земельные участки; теперь, после пожара, император расчищал центр города для общественных зданий, и доходные дома были оттеснены к окраинам; поэтому трудно было даже точно определить, какую ценность приобрели эти окраинные участки.
— А разве членам сената не запрещено заниматься коммерцией? — вдруг спросил Иосиф гида. Тот растерянно взглянул на своего клиента. Некоторые из стоявших вокруг услышали, они рассмеялись; другие их поддержали, вопрос провинциала передавался дальше, и вдруг поднялся оглушительный хохот, хохотал весь огромный цирк.
Сенатор Марулл осведомился о причине. Вокруг Иосифа образовалось пустое пространство, он очутился лицом к лицу с обоими знатными господами.
— Вы чем-то недовольны, молодой человек? — спросил толстяк агрессивным, но не лишенным шутливости тоном; он сидел на каменной глыбе, вытянув руки вдоль массивных ляжек, словно статуя египетского царя. Ясно светило солнце, не очень жаркое, дул легкий ветерок, вокруг царило хорошее настроение. Многочисленная свита с удовольствием слушала беседу двух знатных римлян с провинциалом.
Иосиф держался скромно, но отнюдь не смущенно.
— Я в Риме всего три дня, — сказал он с некоторым трудом по-гречески. — Разве уж так смешно, что я не сразу разобрался в квартирном вопросе большого города?
— А вы откуда? — спросил не покидавший носилок сенатор.
— Из Египта? — спросил Клавдий Регин.
— Я из Иерусалима, — отвечал Иосиф и назвал свое полное имя: — Иосиф бен Маттафий, священник первой череды [11].
— Для Иерусалима недурно, — заметил сенатор, и трудно было понять, говорит он серьезно или шутит.
Архитектор Целер выказывал нетерпение, ему хотелось объяснить господам свои проекты, блестящие проекты, остроумные и смелые, и он не мог допустить, чтобы неотесанный провинциал помешал ему. Но финансист Клавдий Регин был любопытен от природы, он удобно сидел на теплом камне и выспрашивал молодого еврея. Иосиф охотно отвечал. Ему хотелось рассказать что-нибудь возможно более новое и интересное, придать себе и своему народу значительность. Бывает ли и здесь, в Риме, спрашивал он, чтобы здания заболевали проказой? Нет, отвечали ему, не бывает. А в Иудее, рассказывал Иосиф, это случается. Тогда на стенах появляются маленькие красноватые или зеленоватые углубления. Порой дело доходит до того, что дом приходится ломать. Иногда помогает священник, но церемония эта очень сложна. Священник приказывает выломать заболевшие камни, затем берет двух птиц, кусок кедрового дерева, червленую шерсть и исоп. Кровью одной из птиц он должен окропить дом семь раз, а другую птицу выпустить на свободу в открытом поле, за городом и тем умилостивить божество. Тогда считается, что благодаря этой жертве дом очищен. Стоявшие вокруг слушали его рассказ с интересом, большинство — без всякой насмешки, ибо их влекло к необычному и они любили все жуткое.
Ювелир Клавдий Регин серьезно рассматривал своими сонными глазами пылкого худощавого юношу.
— Вы здесь по делам, доктор Иосиф, — спросил он, — или просто хотите посмотреть, как отстраивается наш город?
— Я здесь по делам, — ответил Иосиф. — Мне нужно освободить трех невинных. У нас это считается неотложным делом.
— Я только боюсь, — заметил, позевывая, сенатор, — что мы в настоящее время настолько заняты строительством, что у нас не хватит времени разбираться в подробностях дела о трех невинных.
Архитектор сказал с нетерпением:
— Балюстраду в императорской ложе я сделаю вот из этого серпентина с зелеными и черными прожилками. Мне прислали из Спарты особенно хорошую глыбу.
— По дороге сюда я видел новостройки в Александрии, — сказал Иосиф, он не хотел, чтобы его вытеснили из разговора. — Там улицы широкие, светлые, прямые.
Архитектор пренебрежительно ответил:
— Отстраивать Александрию может каждый каменщик. У них просторно, ровная местность...
— Успокойтесь, учитель, — сказал своим высоким, жирным голосом Клавдий Регин. — Что Рим — это совсем другое, чем Александрия, ясно и слепому.
— Разрешите мне объяснить молодому человеку, — сказал, улыбаясь, сенатор Марулл. Он вдохновился, ему хотелось показать себя, как любил это делать император Нерон и многие знатные придворные. Он велел раздвинуть пошире занавески носилок, чтобы все могли его видеть — худое холеное лицо, сенаторскую пурпурную полосу на одежде [12]. Он осмотрел провинциала сквозь смарагд своего лорнета. — Да, молодой человек, — сказал он гнусавым, насмешливым голосом, — мы еще только строимся, мы еще не готовы. Но и сейчас уже не нужно обладать слишком богатым воображением, чтобы представить себе, каким мы станем городом еще до конца этого года. — Он слегка выпрямился, вытянул ногу, обутую в красный башмак на высокой подошве — привилегия высшей знати, — и заговорил, чуть пародируя манеру рыночного зазывалы: — Могу утверждать без преувеличения: кто не видел золотого Рима, тот не может сказать, что он действительно жил на свете. В какой бы точке Рима вы, господин мой, ни находились, вы всегда в центре, ибо у нас нет границы: мы поглощаем все новые и новые пригороды. Вы услышите здесь сотни наречий. Вы можете здесь изучать особенности всех народов. Здесь больше греков, чем в Афинах, больше африканцев, чем в Карфагене. Вы, и не совершая кругосветного путешествия, можете найти у нас продукты всего мира. Вы найдете здесь товары из Индии и Аравии в таком обилии, что сочтете тамошние земли навсегда опустошенными и решите, что населяющим их племенам для удовлетворения спроса на собственную продукцию придется ездить в Рим. Что вы желаете, господин мой? Испанскую шерсть, китайский шелк, альпийский сыр, арабские духи, целебные снадобья из Судана? Вы получите премию, если чего-нибудь не найдете. Или вы хотите узнать последние новости? На Форуме и на Марсовом поле в точности известно, когда в Верхнем Египте падает курс на зерно, когда какой-нибудь генерал на Рейне произнес глупую речь, когда наш посол при дворе парфянского царя чихнул слишком громко и тем привлек излишнее внимание. Ни один ученый не может работать без наших библиотек. У нас столько же статуй, сколько жителей. Мы платим самую высокую цену и за порок, и за добродетель. Все, что только может изобрести ваша фантазия, вы у нас найдете; но вы найдете у нас многое и сверх того, что ваша фантазия может изобрести.
Сенатор высунулся из носилок; его слушал широкий круг любопытных. Он выдержал до конца иронический тон, имитируя адвоката или рыночного зазывалу, но его слова звучали тепло, и все чувствовали, что эта хвала Риму больше чем пародия. Люди с восторгом слушали, как славословят город, их город, с его благословенными добродетелями и благословенными пороками, город богатейших и беднейших, самый живой город в мире. И, словно любимому актеру в театре, рукоплескали они сенатору, когда он кончил. Однако сенатор Марулл уже не слушал их, забыл он и об Иосифе. Он откинулся вглубь носилок, кивком подозвал архитектора, попросил объяснить ему модель нового цирка. Не сказал Иосифу больше ни слова и ювелир Клавдий Регин. Но когда поток толпы уносил Иосифа, он подмигнул ему насмешливо и ободряюще, и это подмигивание придало его мясистому лицу особое выражение хитрости.
Задумчиво, не замечая окружающего, наталкиваясь на прохожих, пробирался Иосиф сквозь сутолоку города. Он не все понял в латинской речи сенатора, но она согрела и его сердце, окрылила и его мысли. Он поднялся на Капитолий; жадно вбирал в себя вид храмов, улиц, памятников, дворцов. Из возводимого вот там Золотого дома римский император правил миром, на Капитолии сенат и римский народ выносили решения [13], изменявшие мир, а там, в архивах, отлитый из бронзы, хранился строй мира таким, каким его построил Рим. «Roma» означает силу [14]. Иосиф несколько раз произнес это слово: «Roma», потом перевел на еврейский: «Гевура» — теперь оно звучало гораздо менее страшно; потом перевел на арамейский: «Коха» — и тогда оно потеряло всю свою грозность. Нет, он, Иосиф, сын Маттафия из Иерусалима, священник первой череды, не боялся Рима.
Он окинул взглядом улицы, становившиеся все оживленнее: наступали вечерние часы с их усиленным движением. Крик, суета, толкотня. Он впитывал в себя зрелище города, но реальнее, чем этот реальный Рим, видел он свой родной город, Каменный зал в храме, где заседал Великий совет, и реальнее, чем шум Форума, слышал он резкий вой гигантского гидравлического гудка, который на восходе и на закате солнца возвещал всему Иерусалиму и окрестностям, вплоть до Иерихона, что сейчас происходит всесожжение [15] на алтаре Ягве. Иосиф улыбнулся. Только тот, кто родился в Риме, может стать сенатором. Этот сановник Марулл надменно взирает на людей с высоты своих носилок — рукой не достать, — ноги его обуты в красные башмаки на высокой подошве, с черными ремнями, — обувь четырехсот римских сенаторов. Но он, Иосиф, предпочитает быть рожденным в Иерусалиме, хотя у него даже нет кольца всадника [16]. Римляне посмеивались над ним, но в глубине души он сам смеялся над ними. Всему, что они могут дать, эти люди Запада, — их технике, их логике — можно научиться. А чему не научишься — это восточной силе видения, святости Востока. Народ и бог, человек и бог — на Востоке едины. Но это незримый бог: его нельзя увидеть, вере в него нельзя научить. Человек либо имеет его, либо не имеет. Он, Иосиф, носил в себе это ненаучимое. А в том, что он постигнет и остальное — технику и логику Запада, — у него не было сомнений.
Он стал спускаться с Капитолия. На его смугло-бледном худом лице удлиненные горячие глаза сверкали. Римляне знали, что среди людей Востока многие одержимы своим богом. Прохожие смотрели ему вслед, кто — чуть насмешливо, кто — с завистью, но большинству, и прежде всего женщинам, он нравился, когда проходил мимо них, полный грез и честолюбия.
Гаю Барцаарону, председателю Агрипповой общины, у которого жил Иосиф, принадлежала в Риме одна из наиболее процветающих фабрик художественной мебели. Его главные склады помещались по ту сторону Тибра, в самом городе, лавка для покупателей попроще — в Субуре [17], и два роскошных магазина — на Марсовом поле [18] под аркадами; в будние дни и собственный поместительный дом Гая в еврейском квартале, вблизи ворот Трех улиц, был набит изделиями его производства. Но сегодня, в канун субботы, от всего этого не оставалось и следа. Весь дом и прежде всего просторная столовая казались Иосифу преображенными. Обычно столовая была открыта со стороны двора; сейчас она отделялась от него тяжелым занавесом, и Иосиф был приятно тронут, узнав обычай своей родины — Иерусалима. Он знал: пока занавес опущен, каждый был в этой столовой желанным гостем. Но когда занавес поднимут и в комнату вольется свежий воздух, начнется трапеза, и кто придет тогда — придет слишком поздно. Освещена сегодня столовая была тоже не по-римски, а по обычаю Иудеи: с потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. На буфете, на столовой посуде, на кубках, солонках, на флаконах с маслом, уксусом и пряностями сверкала эмблема Израиля — виноградная кисть. А среди утвари — и это тронуло сердце Иосифа больше всего — стояли обернутые соломой ящики-утеплители: в праздник субботы запрещалось стряпать, поэтому кушанья были приготовлены заранее, и их запах наполнял комнату.
Несмотря на то что окружающее напоминало ему родину, Иосиф был недоволен. Он втайне рассчитывал, что ему, как священнику первой череды и носителю высокого звания иерусалимского доктора наук, предложат место на одной из трех застольных кушеток [19]. Но этому самоуверенному римскому жителю, как видно, вскружило голову то, что после пожара дела его мебельной фабрики идут так успешно, — он и не подумал предложить Иосифу одно из почетных мест. Наоборот: гостю предстояло сидеть с женщинами и менее почетными гостями за общим большим столом.
Непонятно, почему все еще стоят? Почему не поднимают занавес и не приступают к еде? Гай уже давно возложил руки на головы детей, благословляя их древним изречением: мальчиков — «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии!», девочку — «Бог да уподобит тебя Рахили и Лии!». Все охвачены нетерпением, проголодались. Чего еще ждут?
Но вот со двора, скрытого занавесом, раздался знакомый голос, из складок вынырнул жирный господин, которого Иосиф уже видел: финансист Клавдий Регин. Шутливо приветствует он на римский лад хозяина и древнего старика, отца хозяина — Аарона; он бросает и менее почтенным лицам несколько благосклонных слов, и Иосиф вдруг преисполняется гордостью: пришедший узнал его, подмигивает ему тусклыми сонными глазами, говорит высоким, жирным голосом, и все слышат:
— Здравствуй! Мир тебе, Иосиф бен Маттафий, священник первой череды!
И тотчас поднимают занавес, Клавдий Регин без церемоний занимает среднее ложе — самое почетное место, Гай — второе, старый Аарон — третье. Затем Гай над кубком, полным иудейского вина, вина из Эшкола [20], произносит освятительную молитву кануна субботы, он благословляет вино, и большой кубок переходит от уст к устам; он благословляет хлеб, разламывает его, раздает, все говорят «аминь» и только тогда наконец принимаются за еду.
Иосиф сидит между тучной хозяйкой дома и ее хорошенькой шестнадцатилетней дочкой Ириной, которая не сводит с него кротких глаз. За большим столом еще множество людей: мальчик Корнелий и другой сын Гая — подросток, затем два робких, незаметных студента-теолога, которые мечтают сегодня вечером наесться досыта, и прежде всего — некий молодой человек со смугло-желтым, резко очерченным лицом; он сидит против Иосифа и беззастенчиво разглядывает его. Выясняется, что молодой человек тоже родом из Иудеи, правда из полугреческого города Тивериады, что его зовут Юстом — Юстом из Тивериады — и что своим положением в обществе и своими интересами он до странности похож на Иосифа. Как и Иосиф, он изучал теологию, юриспруденцию и литературу. Но его главное занятие — политика; он живет здесь в качестве агента подвластного Риму царя Агриппы, и если род его по знатности и уступает роду Иосифа, то он с детства знает греческий и латынь; к тому же он в Риме уже три года. Оба молодых человека принюхиваются друг к другу с любопытством, вежливо, но с недоверием.
А там, на застольных ложах, идет громкая, непринужденная беседа. Обе пышные синагоги в самом городе сгорели, но три больших молитвенных дома здесь, на правом берегу Тибра, остались целы и невредимы. Конечно, гибель двух домов Божьих — испытание и великое горе, но все же председателей общин на правом берегу Тибра это втайне немножко радовало. Пять еврейских общин Рима имели каждая своего председателя; между ними шло яростное соперничество, и прежде всего между чрезвычайно аристократической Велийской синагогой на том берегу и многолюдной, однако неразборчивой общиной Гая. Отец Гая, древний старец Аарон, беззубо бранился по адресу надменных глупцов с того берега. Разве по старинным правилам и обычаям не следует строить синагоги на самом возвышенном месте, как построен Иерусалимский храм на горе, над городом? Но, конечно, Юлиану Альфу, председателю Велийской общины [21], нужно было, чтобы его синагога находилась рядом с Палатином, даже если из-за этого и пришлось поставить ее гораздо ниже. То, что дома божьи сгорели, — кара Господня. И прежде всего кара за то, что евреи с того берега покупают соль у римлян, а ведь каждому известно, что римская соль красоты ради бывает смазана свиным салом. Так бранил древний старец всех и вся. Судя по обрывкам слов, которые Иосифу удавалось уловить в его бессвязном злобном бормотании, старец поносил теперь тех, кто ради моды и успеха в делах перекраивал свои еврейские имена на латинский и греческий лад. Его сын Гай, которого первоначально звали Хаим, улыбался добродушно и снисходительно; детям все же не следовало бы этого слышать. Однако Клавдий Регин рассмеялся, похлопал старика по плечу, заявил, что его с рождения зовут Регином, так как он родился рабом и ему дал имя его господин. Но его настоящее имя Мелех: Мелехом называла его иногда и мать, и если старик хочет, то пусть тоже зовет его Мелехом, — он решительно ничего не имеет против.
Смугло-желтый Юст из Тивериады тем временем подобрался к Иосифу. Иосиф чувствовал, что тот непрерывно за ним наблюдает, у него было такое ощущение, что этот Юст в душе над ним издевается, над его речами, его произношением, иерусалимской манерой есть, над тем, например, как он подносит ко рту душистую зубочистку из сандалового дерева, держа ее между большим и средним пальцами. Вот Юст опять задает ему вопрос этаким высокомерным тоном, присущим жителям мирового города:
— Вы, вероятно, здесь по делам политическим, доктор и господин Иосиф бен Маттафий?
И тут Иосиф больше не в силах сдерживаться — он должен дать почувствовать насмешливому молодому римлянину, что его послали сюда по делу действительно большому и важному, — и рассказывает о своих трех невинных. Он горячится, его тон, пожалуй, слишком патетичен для ушей этого скептического римского общества; все же в обеих частях комнаты воцаряется тишина: на застольных ложах и за большим столом все слушают красноречивого юношу, увлеченного своими словами и своей миссией. Иосиф отлично замечает, как мечтательно поглядывает на него Ирина, как злится его коллега Юст, как благосклонно улыбается сам Клавдий Регин. Это его окрыляет, его пафос растет, вера в свое призвание разгорается, речь ширится; но тут старик сердито останавливает его: в субботу-де запрещено говорить о делах. Иосиф тут же смолкает, покорный, испуганный. Но в глубине души он доволен: он чувствует, что его слова произвели впечатление.
Наконец трапеза окончена. Гай читает длинную застольную молитву, все расходятся, остаются только почтенные мужи. Теперь Гай приглашает также Иосифа и Юста возлечь на ложах. На стол ставят сложный прибор для смешивания напитков. После ухода сердитого старика оставшиеся снимают предписанные обычаем головные уборы, обмахиваются.
И вот четверо мужчин возлежат вокруг стола, перед ними вино, конфеты, фрукты; они сыты, довольны, расположены побеседовать. Комната освещена приятным желтоватым светом, занавес поднят, с темного двора веет желанной прохладой. Двое старших болтают с Иосифом об Иудее, расспрашивают его. К сожалению, Гай побывал только раз в Иудее, юношей, уже давно; на праздник пасхи и он, среди сотен тысяч паломников, принес в храм своего жертвенного агнца [22]. Немало он с тех пор перевидал: триумфальные шествия, пышные празднества на арене Большого цирка, но вид золотисто-белого храма в Иерусалиме и охваченных энтузиазмом громадных толп, наполнявших гигантское здание, останется для него на всю жизнь самым незабываемым зрелищем. Все они здесь, в Риме, верны своей древней родине. Разве у них нет в Иерусалиме собственной синагоги для паломников? Разве они не посылают податей и даров в храм? Разве не копят деньги для того, чтобы их тела были отвезены в Иудею и погребены в древней земле? Но господа в Иерусалиме делают все, чтобы человеку опротивела эта его древняя родина.
— Почему, чтоб вам пусто было, вы никак не можете ужиться с римской администрацией? Ведь с императорскими чиновниками вполне можно сговориться, они — люди терпимые, уж сколько раз мы убеждались в этом. Так нет же, вы там, в Иудее, непременно хотите все делать по-своему; вам кажется, что вы всегда правы, у вас это в крови, и в один прекрасный день вы доиграетесь. Стручками питаться будете, — добавил он по-арамейски, хоть и улыбаясь, но все же очень серьезно.
Ювелир Клавдий Регин с усмешкой отмечает, что Иосиф, согласно строгому иерусалимскому этикету, выпивает свой кубок не сразу, но в три приема. Клавдий Регин отлично осведомлен о положении дел в Иудее, он был там всего два года назад. Не римские чиновники виноваты, что Иудея никак не может успокоиться, и не иерусалимские заправилы, но единственно только ничтожные агитаторы, эти «Мстители Израиля». Лишь потому, что они не видят иного способа сделать политическую карьеру, они подстрекают население к обреченному на провал вооруженному восстанию. Никогда евреям не жилось так хорошо, как при нынешнем благословенном императоре Нероне. Они пользуются влиянием во всех областях жизни, и оно все росло бы, если бы у них хватило ума не слишком его подчеркивать.
— Что важнее: иметь власть или показывать, что имеешь власть? — закончил он и прополоскал рот подогретым вином.
Иосиф решил, что пора замолвить слово в защиту «Мстителей Израиля». Евреям, живущим в Риме, сказал он, не следует забывать, что в Иерусалиме людьми управляет не только трезвый разум, но и сердце. Ведь там повсюду натыкаешься на знаки римского владычества. Гай Барцаарон с теплотой вспомнил о пасхе, о том, как она празднуется в храме. Но если бы он видел, сколь грубо и цинично ведет себя в этом храме, например, римская полиция, которая присутствует там на пасху для охраны порядка, то понял бы, что даже спокойный человек не может не вскипеть. Нелегко праздновать освобождение из египетского плена, когда при каждом слове чувствуешь на своем затылке римский кулак. Быть сдержанным здесь, в Риме, немудрено, вероятно, и он смог бы, но это невыразимо трудно в стране, избранной Богом, где пребывает Бог, в стране Израиля.
— Бог уже не в стране Израиля: теперь Бог в Италии, — произнес резкий голос. Все посмотрели на желтолицего, который сказал эти слова. Он держал кубок в руке, ни на кого не смотрел: его слова были предназначены только для него самого. В них не звучало также ни пренебрежения, ни насмешки — он просто констатировал факт и смолк.
И все молчали. Нечего было ответить. Даже Иосиф почувствовал, против воли, что в этом есть правда. «Бог теперь в Италии». Он перевел про себя эти слова на арамейский язык. Они поразили его.
— Тут вы, пожалуй, правы, молодой человек, — сказал через минуту Клавдий Регин. — Вы должны знать, — обратился он к Иосифу, — что я не только еврей, я — сын сицилийского раба и еврейки, по желанию моего господина меня не обрезали, и я, откровенно признаться, до сих пор ему за это благодарен. Я — человек деловой, всегда стараюсь избежать невыгодных сторон какого-нибудь положения, и наоборот: я пользуюсь его выгодами, где только могу. Ваш бог Ягве мне больше нравится, чем его конкуренты. Мои симпатии на стороне евреев.
Знаменитый финансист благодушно разлегся на ложе, в руке он держал кубок с подогретым вином, его хитрые заспанные глаза были устремлены в темноту двора. На среднем пальце блестело кольцо с огромной матовой жемчужиной. Иосиф не мог отвести от нее глаз.
— Да, доктор Иосиф, — сказал Гай Барцаарон, — это прекраснейшая жемчужина четырех морей.
— Я ношу ее только по субботам, — отозвался Клавдий Регин.
Если пропустить этот вечер, размышлял Иосиф, если не использовать сытого благодушия и послеобеденной сентиментальности этого могущественного человека, то, значит, он, Иосиф, кретин и никогда не сможет довести дело трех невинных до благополучного разрешения.
— Так как вы принадлежите к лагерю сочувствующих, господин Клавдий Регин, — обратился он к финансисту скромно и все же настойчиво, — не захотите ли вы проявить участие к судьбе трех невинных из Кесарии?
Ювелир порывисто поставил кубок на стол.
— Кесария, — произнес он, и взгляд его обычно сонных глаз стал колючим, а высокий голос — угрожающим. — Прекрасный город с великолепным портом, большой вывоз, исключительный рыбный рынок. Огромные возможности. Вы сами будете виноваты, если их у вас вырвут из рук. Вы, с вашими идиотскими претензиями. Тошно становится, когда я слышу об этих ваших «Мстителях Израиля».
Иосиф, испуганный внезапной резкостью всегда спокойного ювелира, возразил с удвоенной скромностью, что освобождение трех невинных — вопрос чисто этический, вопрос гуманности и с политикой не связан.
— Мы не хотим воздействовать ни политическими, ни юридическими аргументами, — сказал он. — Мы знаем, что при дворе можно добиться чего-нибудь только благодаря личным связям, — и посмотрел на Клавдия Регина покорным, просящим взглядом.
— А эти ваши трое невинных, по крайней мере, хоть действительно невинны? — спросил тот наконец, подмигнув.
Иосиф принялся тотчас страстно уверять, что в момент начала беспорядков они находились совсем на другом конце города. Но Клавдий прервал его, заявив, что это его не интересует. А он хочет знать, к какой политической партии эти трое принадлежат.
— В Голубом зале они выступали? — спросил он. В Голубом зале собирались «Мстители Израиля».
— Да, — вынужден был признать Иосиф.
— Вот видите, — сказал Клавдий Регин, и дело было для него, по-видимому, решено.
Юст из Тивериады смотрел на красивое, пылкое, алчущее лицо Иосифа. Иосиф явно потерпел неудачу, и Юст радовался ей. Он наблюдал за своим молодым коллегой, который и отталкивал, и привлекал его. Юст, как и Иосиф, жаждал стать известным писателем с большим политическим весом. У них были те же возможности, тот же путь, те же цели. Надменный Рим созрел для более древней культуры Востока, как он созрел сто пятьдесят лет назад для греческой культуры [23]. Содействовать тому, чтобы эта культура подтачивала его изнутри, работать над этим — вот что влекло Юста, казалось высокой миссией. Чувствуя это, он три года назад приехал в Рим, как приехал теперь Иосиф. Но ему, Юсту, было и труднее, и легче. Его воля была более цельной, способности ярче. Но он был чрезмерно строг в выборе средств, щепетилен. Он знал теперь слишком хорошо, как делают в столице литературу и политику, ему претили компромиссы, дешевые эффекты. Этот Иосиф, видимо, не столь разборчив. Он не отступает перед самыми грубыми приемами, он хочет возвыситься во что бы то ни стало, он актерствует, льстит, соглашательствует — словом, из кожи лезет, так что знатоку любо-дорого смотреть. Национальное чувство у Юста одухотвореннее, чем у Иосифа; очевидно, предстоят столкновения. Жестокое будет между ними состязание; сохранить честность не всегда окажется легко, но он не нарушит ее. Он предоставит противнику все шансы, на которые тот имеет право.
— Я посоветовал бы вам, Иосиф бен Маттафий, — сказал он, — обратиться к актеру Деметрию Либанию.
И снова все посмотрели на желтолицего молодого человека. Как эта мысль никому не пришла в голову? Деметрий Либаний [24], самый популярный комик столицы, баловень и любимец двора, иудей, по всякому поводу подчеркивающий свое иудейство, — да, это именно тот человек, который нужен Иосифу. Императрица охотно приглашала его, он бывал на ее еженедельных приемах. Остальные поддержали: да, Деметрий Либаний — вот к кому Иосифу следует обратиться.
Вскоре собеседники разошлись. Иосиф поднялся в свою комнату. Он скоро заснул, очень довольный. Юст из Тивериады отправился домой один, с трудом пробираясь в ночной темноте. Он улыбался. Председатель общины Гай Барцаарон даже не счел нужным дать ему факельщика.
Рано утром Иосиф, в сопровождении раба из челяди Гая Барцаарона, пришел к Тибурским воротам [25], где его ждал наемный экипаж для загородных поездок. Экипаж был маленький, двухколесный, довольно тесный и неудобный. Шел дождь. Ворчливый возница уверял, что они проедут не меньше трех часов. Иосифу было холодно. Раб, которого Гай приставил к нему прежде всего в качестве переводчика, оказался неразговорчивым и скоро задремал. Иосиф плотнее завернулся в плащ. В Иудее сейчас еще тепло. И все-таки лучше, что он здесь. На этот раз будет удача — он верит в свое счастье.
Здешние евреи непременно связывают его трех невинных с политикой «Мстителей Израиля», с делом в Кесарии. Разумеется, важно для всей страны, ограбят ли иудеев, лишив их господства в Кесарии, или нет, но он не желает, чтобы этот вопрос связывали с вопросом об его трех невинных. Он находит это циничным. Ему важен только этический принцип. Помогать узникам — одно из основных моральных требований иудейского учения.
Если уж быть честным до конца, то, видимо, эти трое невинных не совсем случайно оказались в Кесарии как раз во время выборов. Со своей точки зрения, тогдашний губернатор Антоний Феликс, вероятно, имел основания их забрать. Однако ему, Иосифу, совершенно незачем углубляться в побуждения губернатора, который, к счастью, теперь уже отозван. Для Иосифа эти трое невиновны. Узникам надо помогать.
Экипаж встряхивает. Адски плохая дорога. Вот они уже подъезжают к кирпичному заводу. Серо-желтый пустырь, повсюду столбы и частоколы, а за ними опять столбы и частоколы. У ворот их встречают любопытствующие, праздные, подозрительные взгляды караульных, довольных развлечением. Переводчик вступает с ними в переговоры, показывает пропуск. Иосиф стоит рядом, ему неловко.
Унылой, тоскливой дорогой их ведут к управляющему. Вокруг — глухое, монотонное пение: за работой полагается петь — таков приказ. У надсмотрщиков — кнуты и дубинки, они с удивлением смотрят на приезжих.
Управляющий неприятно изумлен. Обычно, когда бывают посетители, его предупреждают заранее. Он предчувствует ревизию, осложнения, не понимает или не хочет понимать Иосифовой латыни, сам говорит по-гречески весьма слабо. Чтобы понять друг друга, все время приходится обращаться к помощи раба. Затем появляется кто-то из подчиненных, шепчется с управляющим, и обращение управляющего сразу меняется. Он откровенно объясняет почему: со здоровьем этих трех заключенных дело обстоит не совсем благополучно, и он опасался, не отправлены ли они на работу, но сейчас выяснилось, что с ними поступили гуманно, их оставили в камере. Он рад, что вышло так удачно, оживляется, теперь он понимает латынь Иосифа несравненно лучше, улучшается и его собственный греческий язык, он становится словоохотливым.
Вот их «дело». Сначала их отправили в Сардинию, в копи, но они там не выдержали. Обычно приговоренные к принудительным работам используются для постройки дорог, очистки клоак, для работы на ступальных мельницах и на водокачках общественных бань. Работа на кирпичном заводе считается самой легкой. Управляющие фабриками неохотно берут заключенных евреев: и пища не по ним, и работать не желают в субботу. Сам он — и он может похвастаться этим — относится к трем старикам особенно гуманно. Но, к сожалению, даже гуманность должна иметь свои границы. В связи с ростом строительства именно к государственным кирпичным заводам предъявляются невероятно высокие требования. Тут каждый вынужден приналечь. Требуемое количество кирпича должно быть выработано во что бы то ни стало.
— И как вы понимаете, господин мой, аппетиты римских архитекторов отнюдь не отличаются умеренностью. Пятнадцать рабочих часов — теперь официальный минимум.
За неделю из восьмисот или тысячи его заключенных подыхают в среднем четверо. Он рад, что эти трое до сих пор не попали в их число.
Затем управляющий передает Иосифа другому служащему. И опять под глухое, монотонное пение они идут мимо надсмотрщиков с кнутами и дубинками, среди глины и жара, среди рабочих, согнувшихся в три погибели, стоящих на коленях, задыхающихся под тяжестями. В памяти Иосифа встают строки из Священного Писания — о фараоне, угнетавшем Израиль в земле Египетской: «Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами. И поставили над ними начальников работ, чтобы изнуряли их тяжкими работами, и построили они фараону города Пифом и Раамсес» [26]. Для чего же празднуют пасху с таким ликованием и блеском, если здесь сыны Израиля все еще таскают кирпичи, из которых их враги строят города? Глина тяжело налипала на его обувь, набивалась между пальцев. А вокруг все то же несмолкающее, монотонное, глухое пение.
Наконец перед ними камеры. Солдат зовет начальника тюрьмы. Иосиф ждет в коридоре, читает надпись на дверях — изречение современного писателя, знаменитого Сенеки [27]: «Они рабы? Но они и люди. Они рабы? Но они и домочадцы. Они рабы? Но и младшие друзья». Тут же лежит маленькая книжка: руководство писателя Колумеллы [28], специалиста по управлению крупными предприятиями. Иосиф читает: «Следует ежедневно производить перекличку заключенных. Следует также ежедневно проверять, целы ли кандалы и крепки ли стены камер. Наиболее целесообразно оборудовать камеры на пятнадцать заключенных».
Его ведут к его трем подзащитным. Камера — в земле; узкие окна расположены очень высоко, чтобы до них нельзя было достать рукой. Плотно придвинутые одна к другой, стоят пятнадцать коек, покрытых соломой, но даже сейчас, когда здесь только пять человек — Иосиф, сторож и трое заключенных, — в камере невыносимо тесно.
Три старика сидят рядом, скрючившись. Они полунагие, одежда висит на них лохмотьями; их кожа свинцового цвета. На щиколотках — кольца для кандалов, на лбах — клеймо: выжжена буква «Е» [29]. Головы их наголо обриты, и потому особенно нелепо торчат огромные бороды, свалявшиеся, патлатые, желто-белые. Иосиф знает их имена: Натан, Гади и Иегуда. Гади и Иегуду он видел редко и мимоходом, поэтому нет ничего удивительного, что он их не узнал; но Натан бен Барух, доктор теологии, член Великого совета, был его учителем, в течение четырех лет он проводил с ним ежедневно несколько часов, его-то Иосиф уж должен бы признать. Однако он не признал его. Натан был тогда довольно полный, среднего роста; а сейчас перед ним сидят два скелета среднего роста и один — очень большого. И ему никак не удается угадать, который из двух скелетов среднего роста — его учитель Натан.
Он приветствует трех заключенных. Странно звучит в этой жалкой яме его с трудом сдерживаемый голос здорового человека:
— Мир вам, господа.
Старики поднимают головы, и теперь он по густым бровям наконец узнает своего старого учителя. Иосиф вспоминает, как боялся этих буйных глаз под густыми бровями и как сердился на них, ибо этот человек мучил его; когда он, будучи девяти-десятилетним мальчиком, не мог уследить за его хитроумными толкованиями, учитель унижал его насмешкой, едко и обдуманно оскорблял самолюбие. Тогда Иосиф — и как часто — желал этому хмурому, ворчливому человеку всяких бед; теперь же, когда на нем останавливается мертвый взгляд этих ввалившихся потухших глаз, на сердце словно давит камень и сострадание сжимает горло.
Иосифу приходится говорить долго и бережно, пока его слова не начинают преодолевать тупую усталость этих стариков и доходить до их сознания. Наконец они отвечают, покашливая, заикаясь. Они погибли. Ведь если их и не могли заставить преступить запреты Ягве, то им все же не давали исполнять его заповедей. Поэтому они утратили и ту и эту жизнь. Поэтому все равно, будут ли их избивать дубинками, пока они не упадут на глинистую землю, или пригвоздят к кресту, согласно нечестивому способу римлян убивать людей, — чем скорее конец, тем он желаннее, Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Господне.
В тесной полутемной камере воздух сперт, сыр и холоден, через узкие оконные отверстия в нее попадает дождь, нависла густая вонь, издалека доносится глухое пение. Иосифу становится стыдно, что у него здоровое тело и крепкая одежда, что он молод, деятелен, что он через час может уйти отсюда, прочь из этого царства глины и ужаса. А эти трое не могут думать ни о чем, выходящем за тесный круг этой жуткой повседневности. Нет смысла говорить им о его миссии, о шагах, которые предпринимаются для их освобождения, о политике, о более благоприятной для них конъюнктуре при дворе. Самым горьким для них остается то, что они не могут соблюдать обрядов очищения, строгих правил ритуальных омовений. У них было много самых разных надсмотрщиков и сторожей: одни жестче — те отнимали у них молитвенные ремешки [30], чтобы старики не повесились на них; другие мягче — и не отнимали, но все равно, все они — необрезанные богохульники и прокляты богом. Трем старикам было все равно — лучше кормят заключенных или хуже, ведь они отказывались есть мясо животных, убитых не по закону. Таким образом, им оставалось только питаться отбросами фруктов и овощей. Они обсуждали между собой, нельзя ли им брать свои мясные порции и выменивать на хлеб и плоды у других заключенных. Они яростно спорили, и доктор Гади доказывал с помощью многих аргументов, что это дозволено. Но в конце концов и он согласился с остальными, что такой обмен разрешается только при непосредственной угрозе для жизни. А кто может сказать, на этот или только на будущий месяц им предназначено Господом умереть — да будет благословенно имя его! Значит, он тем самым и запрещен. Если они не очень устали и отупели, они неизменно затевают споры и приводят богословские аргументы относительно того, что дозволено, что не дозволено, и тогда они вспоминают Каменный зал в Иерусалимском храме. Иосифу казалось, что такие споры бывали порой весьма бурными и кончались бешеными ссорами, но это было, видимо, единственное, что еще связывало их с жизнью. Нет, невозможно говорить с ними хоть сколько-нибудь разумно. Когда он рассказывал им о симпатиях императрицы к иудеям, они возражали, что еще вопрос, разрешено ли вообще молиться здесь, в грязи, под землей; кроме того, они никогда не знали, который день недели, и поэтому опасались осквернить субботу наложением молитвенных ремешков, а будний день — неналожением.
Иосиф понял, что дело безнадежно. Он просто слушал их, и когда один из стариков привел какое-то место из Писания, Иосиф принял участие в споре и процитировал другое, где говорилось обратное; тогда они вдруг оживились, начали спорить и извлекать доказательства из своих бессильных гортаней, и он спорил вместе с ними, и для них этот день стал великим днем. Но долго они выдержать не могли и скоро опять погрузились в тупое оцепенение.
Иосиф смотрел, как они сидят, сгорбившись, в тусклом свете темницы. А ведь эти три жалких и тощих старика, грязные, униженные, были когда-то большими людьми в Израиле, их имена блистали среди имен законодателей из Каменного зала. Помогать узникам! Нет, дело не в том, будут евреи господствовать в Кесарии или нет: все это презренная суета. Помочь этим трем — вот в чем дело. Вид их потряс его, разжег в нем весь его пламень. Он был полон благочестивым состраданием, и его сердце чуть не разрывалось. Иосифа волновало и трогало, как упрямо держатся они в несчастье за свой закон, как они вцепились в него, и только закон дает им силу, поддерживает в них жизнь. Вспомнилось время, когда он сам пребывал в пустыне, терпя святые лишения, у ессеев, у своего учителя Бана, и как тогда, в лучшие минуты, к нему приходило познание не через рассудок, но через погружение в себя, через внутреннее видение, через Бога.
Освободить узников. Он сжал губы с твердым решением погасить всякую мысль о себе ради этих трех несчастных. Сквозь жалкое пение заключенных он услышал великие древние слова заповеди [31]. Нет, он здесь не ради суетного себялюбия — его послал сюда Ягве. Возвращаясь обратно под серым дождем, он не чувствовал ни дождя, ни глины, налипшей на обувь. Освободить узников.
В Иудее человеку с такими политическими убеждениями, как у Иосифа, было бы невозможно отправиться на бега или в театр. Один-единственный раз был он на представлении в Кесарии — тайком и снедаемый нечистой совестью. Но разве это представление по сравнению с тем, что он увидел сегодня в Театре Марцелла [32]! У него голова закружилась от танцев, буффонад, балета, от большой патетической пантомимы, от пышности и постоянной смены зрелищ на огромной сцене, которая в течение многих часов ни на минуту не оставалась пустой. Юст, сидевший рядом с ним, отмахнулся от всего одним пренебрежительным жестом. Он признавал лишь сатирическое обозрение, которое пользовалось заслуженным признанием у народа, и терпел все остальное, чтобы только сохранить за собой место до выступления комика Деметрия Либания.
Да, этот комик Деметрий Либаний, несмотря на все его неприятные черты, оставался художником с подлинно человеческим обликом. Он родился рабом в императорском дворце, затем был отпущен императором Клавдием на волю, заработал своей игрой неслыханное состояние и звание «первого актера эпохи». Император Нерон, которому он преподавал ораторское и драматическое искусство, любил его. Нелегкий человек этот Либаний, одновременно и гордый и подавленный своим еврейством. Даже просьбы и приказания императора не могли его заставить выступать в субботу или в большие еврейские праздники. Все вновь и вновь дебатировал он с богословами еврейских университетов вопрос о том, действительно ли отвержен богом за свою игру на театре. С ним делались истерики, когда ему случалось выступать в женском платье и тем нарушать заповедь: мужчина не должен носить женской одежды.
Одиннадцать тысяч зрителей в Театре Марцелла, утомленные многочасовой разнообразной программой первого отделения, с шумом и ревом требовали комедии. Дирекция медлила, так как, видимо, ждали императора или императрицу, в ложе которых все уже было подготовлено. Однако публика прождала пять часов, в театре она привыкла отстаивать свои права даже перед двором; и вот она кричала, грозила, — приходилось начинать.
Занавес повернулся и, опускаясь, открыл сцену: комедия с участием Деметрия Либания началась. Она называлась «Пожар»; говорили, что ее автор — сенатор Марулл. Главным героем — его играл Деметрий Либаний — был Исидор, раб из египетского города Птолемаиды, превосходивший умом не только всех остальных рабов, но и своего господина. Он играл почти без реквизита, без маски, без дорогих одежд, без котурнов; это был просто раб Исидор из Египта, сонливый, печальный, насмешливый парень, который всегда выходит сухим из воды, который всегда оказывается прав. Своему неповоротливому неудачнику-хозяину он помогает выпутываться из бесчисленных затруднений, он добивается для него положения и денег, он спит с его женой. Однажды, когда хозяин дает ему пощечину, Исидор объявляет грустно и решительно, что должен, к сожалению, его покинуть и что не вернется до тех пор, пока хозяин не расклеит во всех общественных местах объявлений с просьбой извинить его. Хозяин заковывает раба Исидора в кандалы, дает знать полиции, но Исидору, конечно, удается улизнуть, и, к бурному восторгу зрителей, он все вновь и вновь водит полицию за нос. К сожалению, в самый захватывающий момент, когда, казалось бы, Исидора уж непременно должны поймать, представление было прервано, ибо в эту минуту появилась императрица. Все встали, приветствуя одиннадцатитысячеголосым приветом изящную белокурую даму, которая поблагодарила, подняв руку ладонью к публике. Впрочем, ее появление вызвало двойную сенсацию, так как ее сопровождала настоятельница весталок [33], а до сих пор было не принято, чтобы затворницы-аристократки посещали народные комедии в Театре Марцелла.
Пьесу пришлось начать сызнова. Иосиф был этим очень доволен: неслыханно дерзкое правдоподобие игры было для него потрясающе ново, и во второй раз он понимал лучше. Он не сводил горящих глаз с актера Либания, с его вызывающих и печальных губ, с его выразительных жестов, со всего его подвижного, выразительного тела. Наконец дело дошло до куплетов, до знаменитых куплетов из музыкальной комедии «Пожар», которые Иосиф за то короткое время, что был в Риме, уже слышал сотни раз: их пели, орали, мурлыкали, насвистывали. Актер стоял у рампы, окруженный одиннадцатью клоунами, ударные инструменты звенели, трубы урчали, флейты пищали, а он пел куплет:
Кто здесь хозяин?
Кто платит за масло?
Кто платит за женщин?
И кто, кто платит за сирийские духи?
Зрители вскочили, они подхватили песенку Либания; даже янтарно-желтая императрица в своей ложе шевелила губами, а торжественная настоятельница весело смеялась. Но теперь раб Исидор наконец попался, пути к отступлению не было, его плотно окружили полицейские; он уверял их, что он не раб Исидор, но как это доказать? Танцем. Да. И вот он стал танцевать. На ноге Исидора еще была цепь. Танцуя, ему приходилось скрывать цепь, это было невообразимо трудно, это было одновременно и смешно, и потрясающе: человек, танцующий ради спасения своей жизни, ради свободы. Иосиф был захвачен, вся публика была захвачена. Как нога актера тянула за собой цепь, так каждое его движение тянуло за собой головы зрителей. Иосиф был до мозга костей аристократом, он не задумываясь требовал от рабов самых унизительных услуг. Большинство находившихся в театре людей тоже над этим не задумывалось; не раз на примере десятков тысяч казненных рабов эти люди доказывали, что отнюдь не намерены уничтожить различие между господами и рабами. Но сейчас, когда перед ними танцевал с цепью на ноге раб, выдававший себя за хозяина, все они были на его стороне и против его хозяина и все они — и римляне, и их императрица — рукоплескали смелому парню, когда он, еще раз надув полицейских, тихонько и насмешливо снова затянул:
Кто здесь хозяин?
Кто платит за масло?
А теперь пьеса стала уже совсем дерзкой. Хозяин Исидора действительно повсюду расклеил извинения, он помирился со своим рабом. Но тем временем он успел наделать глупостей: поругался с квартирантами, и они перестали ему платить. Однако выселить их, по известным причинам, он все же не решился — его дорогие дома были обесценены. Никто не мог выручить его из беды, кроме хитрого Исидора, и Исидор выручил. Он выручил его, прибегнув к тому же приему, к которому, по мнению народа, прибегли в аналогичном случае император и кое-кто из знати: взял да и поджег тот квартал, где находились обесцененные дома. В изображении Деметрия Либания это получилось дерзко и великолепно; каждая фраза звучала намеком на тех, кто спекулировал земельными участками, и на тех, кто наживался на новостройках. Он никого не пощадил: ни архитекторов Целера и Севéра, ни знаменитого старого политикана и писателя Сенеку, с его теоретическим прославлением бедности и фактической жизнью богача, ни финансиста Клавдия Регина, который носит на среднем пальце великолепную жемчужину, но, к сожалению, не имеет денег, чтобы купить себе приличные ремни для башмаков, ни даже самого императора. Каждое слово попадало не в бровь, а в глаз, публика ликовала, надрывалась от смеха, и когда в заключение актер пригласил зрителей разграбить горевший на сцене дом, они пришли в такое неистовство, какого Иосиф никогда не видел. С помощью сложных машин горящий дом был повернут к зрителям так, что они увидели его изнутри, с его соблазнительной обстановкой. Тысячи людей хлынули на сцену, набросились на мебель, посуду, кушания. Орали, топтали друг друга, давили, и по всему театру, по широкой площади перед ним, по гигантским стройным колоннадам и по всему огромному Марсову полю разносилось пенье и визг: «Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?»
Когда Иосиф по ходатайству Юста получил приглашение на ужин к Деметрию Либанию, ему стало страшно. По природе он был человек смелый. Ему приходилось представляться и первосвященнику, и царю Агриппе, и римскому губернатору, и это его отнюдь не смущало. Но к актеру Либанию он испытывал более глубокое почтение. Его игра захватила Иосифа. Он восхищался и дивился. Каким образом один человек, еврей Деметрий Либаний, мог заставить тысячи людей, знатных и простых, римлян и чужестранцев, думать и чувствовать, как он?
Иосиф застал актера лежащим на кушетке, в удобном зеленом халате; лениво протянул он гостю унизанную кольцами руку. Иосиф, смущенный и удивленный, увидел, как мал ростом этот человек, заполнивший собой весь гигантский Театр Марцелла.
Это была трапеза в тесном кругу: молодой Антоний Марулл, сын сенатора, еще какой-то едва оперившийся аристократ, затем еврей из совета Велийской синагоги, некий доктор Лициний, очень манерный и сразу же Иосифу не понравившийся.
Иосиф, попав первый раз в богатый римский дом, неожиданно хорошо ориентировался в непривычной обстановке. Назначение разной посуды, соусы к рыбе, пряные приправы, овощи — во всем этом можно было запутаться. Однако, наблюдая за несимпатичным доктором Лицинием, возлежавшим как раз против него, он скоро уловил самое необходимое и уже через полчаса тем же надменным и элегантным поворотом головы отказывался от того, чего не хотел, и легким движением мизинца приказывал подать себе то, что его привлекало.
Актер Либаний ел мало. Он жаловался на диету, на которую его обрекала проклятая профессия, ах, и в отношении женщин тоже, и сообщил скабрезные подробности о том, как некоторые антрепренеры вынуждали своих артистов-рабов к насильственному воздержанию с помощью особого прикрепленного к телу хитроумного механизма. Но за хорошие деньги знатным дамам удавалось смягчить этих антрепренеров, и они изредка снимали на ночь этот механизм с бедных актеров. Сейчас же вслед за этим он стал издеваться над некоторыми из своих коллег, приверженцами другого стиля, над нелепостью традиций, над масками, котурнами. Он вскочил, начал пародировать актера Стратокла, прошествовал через комнату так, что его зеленый халат раздувался вокруг него; он был в сандалиях без каблуков, но все ясно чувствовали и котурны, и напыщенность всего облика.
Иосиф набрался смелости и скромно выразил свое восхищение тем, как тонко и все же прозрачно Деметрий Либаний во время спектакля намекал на богача Регина. Актер поднял глаза:
— Значит, это место вам понравилось? Очень рад. Оно не произвело того впечатления, на которое я рассчитывал.
Тогда Иосиф с жаром, но опять-таки скромно, рассказал, как сильно потрясла его вообще вся пьеса. Он видел миллионы рабов, но только теперь впервые почувствовал и понял, что такое раб. Актер протянул Иосифу унизанную кольцами руку. Для него большая поддержка, сказал он, что человек, приехавший именно из Иудеи, так захвачен его игрой; Иосифу пришлось подробно описывать, как на него подействовала каждая деталь. Актер задумчиво слушал его и медленно ел какой-то особый, питательный салат.
— Вы вот приехали из Иудеи, доктор Иосиф, — перешел он в конце концов на другое. — О, мои любезные евреи, — продолжал он жалобно и покорно. — Они травят меня где только могут. В синагоге меня проклинают только за то, что я не пренебрегаю даром, данным мне господом богом, и пугают мною детей. Иногда я просто из себя выхожу, так меня злит эта ограниченность. А когда у них какое-нибудь дело в императорском дворце, они бегут ко мне и готовы мне все уши прожужжать своими просьбами. Тогда Деметрий Либаний для них хорош.
— Господи, — сказал молодой Антоний Марулл, — да евреи всегда брюзжат, это же всем известно.
— Я попрошу, — вдруг закричал актер и встал, выпрямившись, рассерженный, — я попрошу вас в моем доме евреев не оскорблять. Я — еврей.
Антоний Марулл покраснел, сделал попытку улыбнуться, но это ему не удалось; он пробормотал какие-то извинения. Однако Деметрий Либаний его не слушал.
— Иудея, — проговорил он, — страна Израиля, Иерусалим. Я никогда там не был, я никогда не видел храма. Но когда-нибудь я все-таки туда поеду и принесу своего агнца на алтарь. — Как одержимый смотрел он перед собой тоскующими серо-голубыми глазами на бледном, чуть отекшем лице.
— Я могу больше того, что вы видели, — обратился он уже прямо к Иосифу с значительным и таинственным видом. — У меня есть одна идея. Если она мне удастся, тогда... тогда я действительно заслужу звание «первого актера эпохи». Я знаю точно, как надо сделать. Это только вопрос мужества. Молитесь, доктор и господин Иосиф бен Маттафий, чтобы я нашел в себе это мужество.
Антоний Марулл доверчивым и вкрадчивым жестом обнял актера за шею.
— Расскажи нам свою идею, милый Деметрий, — попросил он. — Ты уже третий раз говоришь нам о ней.
Но Деметрий Либаний оставался непроницаемым.
— И императрица настаивает, — сказал он, — чтобы я наконец выступил со своей идеей. Думаю, она многое дала бы мне за то, чтобы я эту идею осуществил. — И он улыбнулся бездонно-дерзкой улыбкой. — Но я не намерен этого делать, — закончил актер. — Расскажите мне об Иудее, — снова обратился он к Иосифу.
Иосиф стал рассказывать о празднике пасхи, о празднике кущей [34]; о службе в храме в день очищения [35], когда первосвященник один-единственный раз в году называет Ягве [36] его настоящим именем и весь народ, слыша это великое и грозное имя, падает ниц перед невидимым богом и сто пятьдесят тысяч лбов касаются храмовых плит. Актер слушал, закрыв глаза.
— Да, настанет день, когда и я услышу это имя, — сказал он. — Год за годом откладываю я поездку в Иерусалим; пора расцвета длится у актера недолго. И силы нужно беречь. Но настанет день, когда я все-таки взойду на корабль. А когда состарюсь, я куплю себе дом и маленькое именьице под Иерусалимом.
Пока актер говорил, Иосиф напряженно и быстро соображал: сейчас присутствующие еще способны воспринимать, и они в подходящем настроении.
— Можно мне рассказать вам еще одну историю об Иудее, господин Деметрий? — просящим тоном обратился он к актеру.
И поведал о своих трех невинных. Он вспоминал при этом кирпичный завод, сырое холодное подземелье, трех старцев, подобных скелетам, и то, как он не узнал своего старого учителя Натана. Актер оперся лбом на руку и слушал, не открывая глаз, Иосиф говорил, и речь его была яркой и окрыленной.
Когда он кончил, все молчали. Наконец доктор Лициний из Велийской синагоги сказал:
— Очень интересно!
Но актер гневно накинулся на него; он хотел быть взволнованным, хотел верить.
Лициний стал оправдываться. Где же доказательство, что эти трое действительно невиновны? Конечно, доктор и господин Иосиф бен Маттафий в этом искренне убежден, но почему показания его свидетелей должны быть достовернее, чем показания свидетелей губернатора Антония Феликса, правдивость которых признал римский императорский суд? Иосиф смотрел на актера доверчиво и серьезно, он скромно ответил:
— Взгляните на этих трех людей, они на Тибурском кирпичном заводе. Поговорите с ними. Если вы и после этого будете убеждены в их виновности, я не скажу больше ни слова.
Актер шагал взад и вперед, его взгляд прояснился, вся его вялость исчезла.
— Это прекрасное предложение! — воскликнул он. — Я рад, доктор Иосиф, что вы пришли ко мне. Мы поедем в Тибур. Я хочу видеть этих трех невинных. Я помогу вам, доктор и господин Иосиф бен Маттафий. — Он стоял перед Иосифом, ростом он был ниже Иосифа, но казался гораздо выше. — А вы знаете, — сказал он загадочно, — ведь эта поездка лежит на пути к моей идее!
Он был оживлен, деятелен, сам приготовил смесь из напитков, сказал каждому что-нибудь приятное. Пили много. Позднее кто-то предложил сыграть. Играть стали четырьмя костями из слонового бивня. Вдруг Деметрия Либания осенило. У него же где-то должны быть спрятаны оставшиеся еще с детства игральные кости из Иудеи, странные, с осью, верхняя часть которой служила ручкой, так что их можно было вертеть, словно волчки. Да, Иосиф знал такие игральные кости. Их стали искать, нашли. Они были грубые, примитивные, смешно вертелись, Все играли с удовольствием. Невысокие ставки казались Иосифу огромными. Он вздохнул с облегчением, когда выиграл первые три круга.
Костей было четыре. На каждой — четыре буквы: «гимель», «хэ», «нун», «шин». «Шин» была самая плохая буква, «нун» — самая лучшая. Правоверные евреи гнушались этой игрой — они утверждали, что буква «шин» символизирует древнее изображение бога Сатурна, буква «нун» — древнее изображение богини Нога-Истар, которую римляне называют Венерой. После каждого тура кости собирали в кучу, и каждый игрок мог выбрать себе любую. Во время игры Иосифу очень часто выпадала счастливая буква «нун». Своим острым зрением он скоро установил, что причиной его везения была одна определенная кость, дававшая каждый раз, когда он ее кидал, букву «нун», и происходило это, видимо, оттого, что у кости был чуть отбит уголок.
Заметив это, Иосиф похолодел. Если заметят и другие, что буква «нун» выпадает ему столько раз благодаря кости с отбитым уголком, — конец успехам сегодняшнего вечера, конец благосклонности великого человека. Он стал очень осторожен, сократил свой выигрыш. Того, что у него оставалось, ему хватит, чтобы жить в Риме, не стесняя себя.
— С моей стороны будет большой нескромностью, господин Деметрий, — спросил он, когда игра была кончена, — если я попрошу вас подарить мне на память эти кости?
Актер рассмеялся. Неуклюже нацарапал он на одной из них начальную букву своего имени.
— Когда мы поедем к вашим узникам? — спросил он Иосифа.
— Хотите дней через пять?.. — нерешительно предложил Иосиф.
— Послезавтра, — решил актер.
На кирпичном заводе Деметрию Либанию устроили торжественную встречу. Бряцая оружием, отряд военной охраны оказал первому актеру эпохи те почести, какие полагалось оказывать только самым высокопоставленным лицам. Надзиратели, сторожа теснились у ворот и, приветствуя его, поднимали правую руку с вытянутой ладонью. Со всех сторон раздавалось:
— Привет тебе, Деметрий Либаний!
Небо сияло; глина, согбенные узники казались менее безутешными; всюду сквозь монотонное пение просачивался знаменитый куплет: «Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?» Смущенный, шел рядом с актером Иосиф; пожалуй, еще сильнее, чем восторг многих тысяч зрителей в театре, взволновало его то почитание, каким окружали Деметрия Либания даже здесь, в этой обители скорби.
Однако в подземном сыром и холодном застенке тотчас же исчезли те праздничные румяна, которыми был сегодня приукрашен кирпичный завод. Высоко расположенные узкие окна, вонь, монотонное пение... Три старика сидели скрючившись, как в прошлый раз, высохшие, с неизбежным железным кольцом цепи вокруг щиколотки, с выжженными «Е» на лбу, с патлатыми, торчащими бородами, такими нелепыми при наполовину обритых головах.
Иосиф попытался заставить их заговорить. С той же бережной любовью, что и в прошлый раз, извлекал он из них слова горя и безнадежной покорности.
Актер, слегка взволнованный, глотал слезы. Он не отрывал взгляда от старцев, когда те, истощенные, сломленные, с трудом двигая кадыками и давясь, выборматывали свои убогие жалобы. Жадно ловил его слух их хриплое, прерывистое лопотанье. Он охотно стал бы ходить взад и вперед, но это было невозможно в столь тесном помещении, поэтому он стоял на одном месте, оцепеневший, потрясенный. Его стремительное воображение рисовало ему, на какую высоту были некогда вознесены эти люди, облаченные в белые одежды, торжественно возвещавшие из Каменного зала храма законы Израиля. Слезы набежали ему на глаза, он не вытирал их, и они заструились по его слегка отекшим щекам. Деметрий замер в странной неподвижности; потом, стиснув зубы, очень медленно поднял покрытую кольцами руку и разодрал на себе одежду, как это делали евреи в знак великой скорби. Затем присел рядом с тремя несчастными, прижался вплотную к их смердящим лохмотьям, так что вонючее дыхание обдавало ему лицо и их грязные бороды щекотали ему кожу. И он заговорил с ними по-арамейски; он запинался, он словно извлекал этот полузабытый язык издалека, у него не было практики. Но это были слова, которые они понимали, более созвучные их настроению и состоянию, чем слова Иосифа, — слова участия к их маленьким, жалким будням, очень человеческие, — и они заплакали, и они благословили его, когда он уходил.
На обратном пути Деметрий Либаний долго молчал, затем высказал вслух свои мысли. Что́ великий пафос единожды обрушившегося удара, страдания горевшего Геракла, поверженного Агамемнона — в сравнении с ползущим, медленно пожирающим тело и душу несчастием этих трех? Какой бесконечный, горький путь прошли эти некогда великие люди Сиона [37], передававшие потомству факел учения, ныне же отупевшие и разбитые, ставшие какими-то сгустками небытия!
По возвращении в город, к Тибурским воротам, актер, прощаясь с Иосифом, прибавил:
— И знаете, что самое страшное? Не их слова, а эта странная манера раскачиваться взад и вперед верхней частью туловища и так равномерно. Это делают только люди, которые постоянно сидят на земле и проводят много времени в темноте. Слова могут лгать, но такие движения до ужаса правдивы. Я должен это обдумать. Этим можно воспользоваться и создать сильное впечатление.
В ту ночь Иосиф не ложился; он сидел в своей комнате и писал докладную записку о трех невинных. Масло в его лампе кончилось, и фитиль догорел: он вставил новый, долил масло и продолжал писать. Он писал очень мало о деле в Кесарии, гораздо больше — о бедственном положении трех старцев и очень много — о справедливости. Справедливость, писал он, с древнейших времен считается у иудеев первой добродетелью. Иудеи могут вынести нужду и угнетение, но не выносят несправедливости; они прославляют каждого, даже своего угнетателя, когда он восстанавливает право. «Пусть право течет, как быстрая река, — говорит один из пророков, — и справедливость — как неиссякающий ручей» [38]. «Золотое время наступит тогда, — говорит другой, — когда право будет обитать даже в пустыне». Иосиф пламенел. Он в собственном пламени раскалял мудрость древних. Он сидел и писал. Фитиль его лампы коптел; он писал. Со стороны ворот доносился гром ломовых повозок, которым запрещалось ездить днем по улицам; он не обращал на них внимания: он писал и тщательно отделывал свой труд.
Спустя три дня гонец Деметрия Либания принес Иосифу письмо, в котором актер сухо и кратко предлагал ему быть готовым послезавтра, в десять часов, чтобы вместе с ним засвидетельствовать свое почтение императрице.
Императрица. У Иосифа захватило дыхание. Кругом, на всех улицах, стояли ее бюсты, которым воздавались божеские почести. Что он ей скажет? Как ему найти слова для этой чужой женщины, чья жизнь и чьи мысли столь недосягаемо вознесены над остальными людьми, — слова, которые бы проникли ей в душу? Но, спрашивая себя об этом, он уже знал, что нужные слова найдет, ибо она была женщиной, а в нем жило затаенное легкое презрение ко всем женщинам, и он знал, что именно этим ее и покорит.
Он перечел свою рукопись. Прочел самому себе вслух, громким голосом, сильно жестикулируя, как прочел бы в Иерусалиме. Он написал ее по-арамейски и теперь с трудом перевел на греческий. Его греческий текст полон неловких оборотов, ошибок — Иосиф знает это. Может быть, неприлично преподносить императрице дурно обработанный, полуграмотный перевод? Или, быть может, именно его ошибки и подкупят ее своей наивностью?
Он не говорит ни с кем о предстоящей аудиенции. Он бегает по улицам. Встречая знакомых, он сворачивает, мчится к парикмахеру, покупает себе новые духи, с высот надежды падает в бездну глубочайшего уныния.
На бюстах у императрицы низкий, ясный, изящный лоб, удивленные глаза, не слишком маленький рот. Даже враги признают, что она красива, и многие утверждают, что каждый, кто ее видит впервые, теряет голову. Как устоит он перед ней — он, незаметный провинциал? Ему нужен человек, с которым он все это обсудил бы. Он бежит домой. Говорит с девушкой Ириной, заклинает ее, лучезарную, высокочтимую, сохранить тайну — он должен сообщить ей нечто ужасно важное; затем он не выдерживает: рассказывает, как представляет себе встречу с императрицей, что он ей скажет. Он репетирует перед Ириной слова, движения.
На другой день его торжественно несут в парадных носилках Деметрия Либания в императорский дворец. Впереди — глашатаи, скороходы, большая свита. Когда проносят носилки, люди останавливаются, приветствуют актера. Иосиф видит на улицах бюсты императрицы, белые и раскрашенные. Янтарно-желтые волосы, бледное точеное лицо, очень красные губы. «Поппея», — думает он. «Поппея» — значит «куколка». «Поппея» — значит «бебе». Он вспоминает еврейское слово «яники» [39]. Так звали когда-то и его. Должно быть, не так уж трудно будет убедить императрицу.
Судя по рассказам, Иосиф ожидал, что императрица примет его, по примеру восточных принцесс, среди роскошных диванов и подушек, окруженная опахальщиками, прислужницами с благовониями, облаченная в изысканнейшие одежды. Вместо этого она просто сидела в удобном кресле, была одета чрезвычайно скромно, почти как матрона, в длинной стóле, — правда, стóла была из материи, считавшейся в Иудее нечестивой, легкой, как дуновение, — из полупрозрачной косской ткани. И накрашена была императрица чуть-чуть, и причесана гладко, на пробор, волосы свернуты в узел — ничего похожего на те высокие, осыпанные драгоценностями сооружения, какие обычно воздвигают из своих волос дамы высшего общества. Грациозная, словно совсем юная девушка, сидела императрица в своем кресле, удлиненным красным ртом улыбалась вошедшим, протянула им белую детскую руку. Да, она по праву звалась Поппеей, бебе, яники, но она могла действительно свести с ума, и Иосиф забыл, что он должен говорить ей.
Она сказала:
— Прошу вас, господа.
И так как актер сел, сел и Иосиф, и наступило короткое молчание. Волосы императрицы действительно были янтарно-желтые, как называл их в своих стихах император, но брови и ресницы ее зеленых глаз были темные. У Иосифа промелькнула мгновенная мысль: «Она же совсем другая, чем на своих бюстах: она — дитя, но дитя, которое спокойно отдаст приказ убить человека. Что можно сказать такому ребенку? Кроме того, ходит слух, что она дьявольски умна».
Императрица смотрела на него неотступно, без смущения, и Иосиф с большим трудом, даже слегка потея, сохранял на своем лице выражение подчеркнутой покорности. Чуть-чуть, едва уловимо скривились ее губы, и тут она вдруг перестала быть похожей на дитя и, напротив, казалась теперь чрезвычайно опытной и насмешливой.
— Вы прямо из Иудеи? — спросила она Иосифа; она говорила по-гречески, очень звонким, слегка надменным голосом. — Расскажите, — попросила она, — что думают в Иерусалиме об Армении? — Это было действительно неожиданно, ибо если римская политика на Востоке и зависела от решения вопроса об Армении, то все же Иосиф почитал проблему своей Иудеи слишком важной, чтобы рассматривать ее не самостоятельно, а в связи с какой-то варварской Арменией. Поэтому в Иерусалиме совсем не думали об Армении, во всяком случае, он не думал об этом и не нашелся сразу что ответить.
— Евреям в Армении живется хорошо, — сказал он наконец после некоторого молчания, довольно некстати.
— Вот как? — отозвалась императрица, улыбаясь с явной иронией.
Она продолжала задавать вопросы в том же роде, ее забавлял этот молодой человек с удлиненными горячими глазами, который, по-видимому, даже не представляет себе, как остро стоит вопрос о его родине.
— Спасибо, — сказала она, когда Иосиф с большим трудом закончил обстоятельный рассказ о стратегическом положении на парфянской границе, — теперь я гораздо лучше информирована. — Она улыбнулась Деметрию Либанию, удовлетворенная: где он выкопал эту курьезную восточную редкость? — Я почти готова поверить, — бросила она актеру, удивленная и благодарная, — что он действительно выступил на защиту своих трех невинных просто по доброте сердечной... — И благосклонно, очень вежливо обратилась к Иосифу: — Пожалуйста, расскажите о ваших подзащитных. — Она непринужденно сидела перед ним в кресле; ее шея была матовой белизны, бедра и плечи просвечивали сквозь тонкую ткань строгого платья.
Иосиф извлек свою докладную записку. Но как только он начал читать по-гречески, императрица сказала:
— Что это вы вздумали? Говорите по-арамейски.
— А вы все поймете? — наивно опросил Иосиф.
— Кто вам сказал, что я хочу все понять? — возразила императрица.
Иосиф пожал плечами скорее высокомерно, чем обиженно, затем стремительно заговорил по-арамейски, как он первоначально подготовил свою речь, а цитаты из Писания, не смущаясь, приводил по-еврейски [40]. Но он не мог сосредоточиться и чувствовал, что говорит без подъема; он смотрел, не сводя глаз, на императрицу — сначала смиренно, потом немного застенчиво, потом с интересом, под конец даже дерзко. Он не знал, слушает ли она и тем более понимает ли его. Когда он кончил, почти тотчас же вслед за его последним словом, она спросила:
— Вы знаете Клею, жену моего губернатора в Иудее?
Особенно поразило Иосифа слово «моего». Как это прозвучало: «Моего губернатора в Иудее!» Он представлял себе, что такие слова должны быть точно высечены из камня, а тут перед ним сидело дитя и говорило, улыбаясь: «Мой губернатор в Иудее», — и это звучало убедительно, это соответствовало истине: Гессий Флор был ее губернатором в Иудее. Все же Иосиф не хотел допустить, чтобы это ему импонировало:
— Жены губернатора я не знаю. — И дерзко добавил: — Смею ждать ответа на свое сообщение?
— Я приняла ваше сообщение к сведению, — ответила императрица. Но кто мог отгадать, что это означало?
Актер решил, что пора вмешаться.
— У доктора Иосифа нет времени вести светскую жизнь, — помог он Иосифу. — Он занимается литературой.
— О! — сказала Поппея и стала очень серьезной и задумчивой. — Еврейская литература! Я мало ее знаю. То, что я знаю, прекрасно, но очень трудно.
Иосиф насторожился, взял себя в руки. Он должен, должен смягчить сердце этой дамы, сидевшей перед ним так спокойно и насмешливо. Он стал рассказывать о том, что его единственное желание — это раскрыть перед римлянами сокровищницу мощной еврейской литературы.
— Вы привозите с Востока жемчуга, пряности, золото и редких зверей, — заявил он. — Но его лучшее сокровище — его книги — оставляете без внимания.
Поппея спросила, как он думает раскрыть римлянам еврейскую литературу.
— Откройте же мне что-нибудь, — сказала она и внимательно посмотрела на него зелеными глазами.
Иосиф опустил веки, как это делали у него на родине рассказчики сказок, и начал. Он взял первое, что ему пришло на ум, и рассказал о Соломоне, царе Израиля, о его мудрости, его силе, его постройках, его храме, его женах, об его идолопоклонстве, о том, как царица из Эфиопии посетила его, и как он разрешил спор двух женщин из-за ребенка, и как он написал две замечательные книги: одну — о мудрости, под названием «Проповедник», и одну — о любви, под названием «Песнь песней». Иосиф пытался процитировать несколько строф из «Песни песней» на какой-то смеси арамейского и греческого. Это было нелегко. Теперь его глаза уже не были закрыты, и он переводил не столько словами, сколько старался дать ей почувствовать пламенные стихи с помощью жестов, вздохов и движений всего тела. Императрица чуть подалась вперед. Ее локти лежали на ручках кресла, рот был полуоткрыт.
— Это прекрасные песни! — сказала она, когда Иосиф остановился, тяжело дыша от напряжения. И обратилась к актеру. — Ваш друг — славный мальчик, — сказала она.
Деметрий Либаний, как бы несколько отодвинутый на второй план, воспользовался ее словами, чтобы снова занять первое место. Сокровища еврейской литературы неисчерпаемы, заметил он. И он нередко пользуется ими, чтобы освежить свое искусство.
— Вы были изумительно вульгарны, Деметрий, — с восхищением сказала императрица, — в последний раз, когда играли раба Исидора. Я так смеялась...
Лицо Деметрия Либания чуть скривилось. Императрица прекрасно знала, что слышать подобную похвалу именно от нее он вовсе не желал. Дерзкий и неотесанный юноша из Иерусалима не принес ему счастья. Вся эта аудиенция была ложным шагом, не следовало ее затевать.
— Вы еще обязаны сказать мне одну вещь, Деметрий, — продолжала императрица. — Вы все твердите о какой-то большой революционной идее, с которой носитесь. Может быть, вы ее наконец откроете мне? По правде говоря, я что-то в нее уже не верю.
Актер сидел мрачный и раздраженный.
— У меня больше нет оснований умалчивать о своей идее, — сказал он наконец вызывающе. — Она связана с тем, о чем мы все время говорим. — Он сделал короткую выразительную паузу, затем бросил очень легко: — Я хочу сыграть еврея Апеллу.
Иосиф испугался. Еврей Апелла — это был тот образ еврея, каким его создал злой народный юмор римлян, — крайне противный персонаж, суеверный, вонючий, отвратительный, шутовской; великий поэт Гораций пятьдесят лет назад ввел этот тип в литературу [41]. И теперь Деметрий Либаний хочет?.. Иосиф испугался.
Но он испугался еще больше, взглянув на императрицу. Ее матово-бледное лицо покраснело. В этой изменчивости и многогранности было что-то восхитительное и страшное.
Актер наслаждался произведенным впечатлением.
— На наших сценах, — пояснил он, — играли греков и римлян, египтян и варваров, но еврея еще никогда.
— Да, — сказала тихо и с усилием императрица. — Это хорошая и опасная идея.
Все трое сидели молча, задумавшись.
— Слишком опасная, — промолвил наконец актер, печально, уже раскаиваясь. — Боюсь, что не смогу ее осуществить. Мне не следовало открывать ее. Как хорошо было бы сыграть еврея Апеллу — не того смешного дурака, каким его делает народ, а настоящего, со всей его скорбью и комизмом, с его постами и невидимым богом. Вероятно, я единственный человек на свете, который мог бы это сделать. Это было бы замечательно! Но это слишком опасно. Вы, ваше величество, кое-что в нас, евреях, понимаете, но много ли еще таких людей в Риме? Будут смеяться, только смеяться, и все мои старания вызовут лишь злобный смех. А это было бы плохо для всех евреев. — И после паузы добавил: — Да и опасно для меня самого перед моим невидимым богом.
Иосиф сидел, оцепенев. Все это — вещи странные и сомнительные, и он тоже в них впутался. Он на себе испытал, с какой невероятной силой действует подобное театральное представление. Его пылкая фантазия уже рисовала ему актера Деметрия Либания на сцене; он вливает жуткую жизнь в образ еврея Апеллы, танцует, прыгает, молится, говорит тысячами голосов своего выразительного тела. Всему миру известно, как изменчивы настроения римской публики. Никто не мог предвидеть, какие последствия, до самой парфянской границы, вызовет такое представление.
Императрица поднялась. Своеобразным движением скрестила она руки на затылке под узлом волос, так что завернулись рукава, и принялась ходить взад и вперед по всему покою, шлейф ее строгого платья волочился вслед. Мужчины вскочили, как только поднялась императрица.
— Молчите, молчите!.. — бросила она актеру; Поппея загорелась его идеей. — Не трусьте же, если у вас наконец возникла действительно хорошая мысль. — Она остановилась рядом с актером, почти нежно обняла его за плечи. — Римский театр скучен, — пожаловалась она. — Или грубость и пошлость, или сплошные мертвые традиции. Сыграйте мне еврея Апеллу, милый Деметрий, — попросила она. — Уговорите его, молодой человек, — обратилась она к Иосифу. — Поверьте мне, всем вам будет чему поучиться, если он сыграет еврея Апеллу.
Иосиф стоял молча, в мучительной неуверенности. Румянец вспыхивал и гас на его смугло-бледном лице. Уговаривать ли ему Деметрия? Он знал, что актер всем существом своим жаждет показать свое еврейство во всей его наготе перед этим великим Римом. Достаточно одного его слова — и камень покатится. Но куда он покатится — не знает никто.
— Вы скучны! — сказала императрица недовольным тоном. Она снова села. Мужчины еще стояли. Хотя актер привык управлять своим телом, но теперь стоял в некрасивой, беспомощной позе. — Ну, говорите же, говорите! — убеждала императрица Иосифа.
— Бог теперь в Италии, — сказал Иосиф.
Актер поднял глаза; было ясно, что эти многозначительные слова попали в цель, что они отмели сложный клубок сомнений. На императрицу эти слова тоже произвели впечатление.
— Превосходно сказано! — Она захлопала в ладоши. — Вы умница! — прибавила она и записала имя Иосифа.
Иосиф почувствовал себя и осчастливленным, и удрученным. Он не знал, что подсказало ему эти слова. Неужели он их сам нашел? Говорил ли он их когда-нибудь раньше? Во всяком случае, это были нужные слова в нужную минуту. И совершенно все равно, он ли их придумал или кто другой. Все дело в том, в какой момент слова сказаны. Мысль: «Бог теперь в Италии» — только сейчас обрела жизнь, в этот миг ее великого воздействия.
Но возымела ли она действие? Актер все еще стоял в нерешительности или, по крайней мере, прикидывался нерешительным.
— Скажите же «да», Деметрий, — настаивала императрица. — Если вы заставите его согласиться, — обратилась она к Иосифу, — ваши трое невинных получат свободу.
В горячих глазах Иосифа вспыхнуло яркое пламя. Он низко склонился перед императрицей, бережно поднял ее белую руку, поцеловал долгим поцелуем.
— Когда же вы сыграете мне еврея? — спросила тем временем императрица актера.
— Я еще ничего не обещал, — быстро и испуганно возразил Деметрий.
— Дайте ему письменную гарантию насчет наших подзащитных, — попросил Иосиф.
Императрица признательно улыбнулась ему в ответ на эти «ему» и «наших». Она вызвала своего секретаря.
— Если актер Деметрий Либаний, — диктовала она, — сыграет еврея Апеллу, то я исходатайствую освобождение трем еврейским заключенным, находящимся на Тибурском кирпичном заводе.
Она велела подать ей дощечку. Поставила внизу свою букву «П», протянула дощечку Иосифу, посмотрела на него ясными зелеными насмешливыми глазами. И на ее взгляд он ответил взглядом — смиренным, но таким настойчивым и долгим, что насмешка медленно погасла в ее глазах и их ясность затуманилась.
После аудиенции Иосиф чувствовал себя на седьмом небе. Другие оказывали почести бюсту императрицы, великой, богоподобной женщине, которая с улыбкой приказала убить свою могущественную противницу — императрицу-мать и с той же улыбкой поставила на колени сенат и римский народ. Он же говорил с этой знатнейшей дамой мира, как разговаривал с любой девушкой в повседневной жизни... Йильди [42], яники... Достаточно было ему посмотреть ей в глаза долгим взглядом, и она уже обещала ему освобождение трех старцев, которого, при всей своей мудрости и политическом опыте, не мог добиться Иерусалимский Великий совет.
Окрыленный, бродил он по улицам правого берега Тибра, среди евреев. Люди почтительно смотрели ему вслед. За ним раздавался шепот: «Это доктор Иосиф бен Маттафий, из Иерусалима, священник первой череды, любимец императрицы».
Девушка Ирина положила к его ногам, словно коврик, свое почитание. Прошло то время, когда в канун субботы Иосифу приходилось сидеть среди менее чтимых гостей. Теперь Гай Барцаарон чувствовал себя польщенным, когда Иосиф занимал почетное место на застольном ложе. Больше того: хитрый старик перестал быть сдержанно-замкнутым и открыл Иосифу кой-какие затруднения, которые тщательно таил от остальных.
Дела его мебельной фабрики шли, как и раньше, прекрасно. Но все сильнее ему начинала угрожать некая опасность, которую он предчувствовал уже много лет. У римлян все больше входила в моду обстановка с украшениями в виде зверей — ножки от столов, рельефы, всевозможные детали. А ведь в Писании сказано: «Не сотвори себе кумира» [43], — и иудеям запрещалось создавать изображения живых существ. Поэтому Гай Барцаарон до сих пор избегал выделывать мебель с украшениями в виде животных. Однако конкуренты беззастенчиво пользовались этим; они заявили, что его продукция устарела, и его мучила потеря стольких клиентов. Отказ от подобных украшений обходился ему теперь, после пожара, в сотни тысяч. Гай Барцаарон искал выхода, обходов. Подчеркивал, что не сам же пользуется своей мебелью, а только продает ее. Добился экспертизы ряда теологов. Уважаемые ученые в Иерусалиме, Александрии и Вавилоне [44] объявили выработку таких украшений в данном случае грехом простительным или даже делом дозволенным. И все-таки Гай Барцаарон колебался. Он никому не говорил об этих отзывах. Ибо отлично знал: пренебреги он, опираясь на них, сомнениями правоверных, его положение в общине будет сильно поколеблено. А его отец, древний старец Аарон, может даже из-за такого либерализма, упаси боже, умереть от скорби. Вот почему этот столь самоуверенный на вид человек был полон колебаний и тревог.
Иосиф не слишком строго придерживался обрядов. Но «не сотвори себе кумира» — это более чем закон: это одна из основных истин иудаизма. «Слово» и «кумир» исключали друг друга. Иосиф был писателем до мозга костей. Он поклонялся незримому слову. Нет на свете ничего могущественней слова; безóбразное, оно действует сильнее всякого образа. Только тот может действительно обладать словом Божьим, святым, незримым, кто не осквернил его чувственными представлениями, кто отказывается в самых глубинах души от пустой суетности воплощенного образа. Он слушал разглагольствования Гая Барцаарона с замкнутым выражением лица, холодно. Но как раз это и привлекало старика. Да, Иосиф чувствовал, что Гай охотно взял бы его в зятья.
Тем временем постепенно просачивались слухи, что освобождение трех невинных связано с выполнением какого-то условия. Когда евреи узнали, что это за условие, их радость исчезла. Как? Актер Деметрий Либаний будет играть еврея Апеллу, да еще, пожалуй, в Помпеевом театре, перед сорока тысячами зрителей? Еврей Апелла! Евреев знобило, когда они слышали то злобно-насмешливое прозвище, в которое Рим вложил все свое отвращение к пришельцам, живущим на правом берегу Тибра. Во время еврейских погромов при императорах Тиберии и Клавдии [45] это прозвище сыграло немалую роль, оно знаменовало грабеж и резню. Разве дремлющая сейчас вражда не могла ежеминутно проснуться? Разве не глупо и не кощунственно будить ее? Существует немало печальных примеров того, на что способна римская публика в театре, когда она захвачена аффектом. Какая чудовищная дерзость со стороны Деметрия Либания — вызвать на подмостки видение еврея Апеллы!
И снова, с удвоенной яростью, обрушились правовернейшие из еврейских ученых на актера Либания. Грех уже одно то, что он выходит на сцену, облекаясь в одежду и плоть другого человека! Разве Господь Бог, благословенно имя его, не дал каждому собственный облик и собственную плоть? Разве поэтому не восстает против Бога тот, кто пытается заменить их другими? Но изображать еврея, одного из произошедших от семени Авраамова, избранных, выставлять его на потеху необрезанным — это смертный грех, недопустимая дерзость, это навлечет несчастье на головы всех. И они требовали опалы и изгнания Деметрия Либания.
Либералы-ученые горячо защищали актера. Разве то, что он хотел сделать, делалось не ради блага трех невинных? Разве это не единственное средство их спасения? Разве помогать узникам — не одно из высших велений Библии? Кто посмел бы сказать актеру: не делай этого, пусть они сгниют на кирпичном заводе, как сгнили тысячи их предков в каменоломнях Египта?
Происходили бурные споры. На семинарах студентов-теологов одни библейские цитаты хитроумно противопоставлялись другим библейским цитатам. Этот интересный вопрос был поставлен на обсуждение каждой еврейской высшей школы, о нем спорили в Иерусалиме, в Александрии, среди известных ученых Вавилона, на далеком Востоке. Случай, казалось, был прямо создан для того, чтобы юристы и теологи упражняли на нем свое хитроумие.
А сам актер Либаний открывал всем и каждому происходивший в нем конфликт между его религиозной и артистической совестью. В душе он давно решил сыграть еврея Апеллу, чего бы это ни стоило. И знал также совершенно точно, как он его сыграет. Уже его либреттисты, и прежде всего тонкий, остроумный сенатор Марулл, придумали яркий сценарий, выигрышные ситуации. Странному автоматическому и покорному раскачиванию трех невинных в темнице актер был обязан целым рядом особенно удачных, жутко-гротескных находок. Он поставил себе целью дать смелое сочетание трагического и смешного. В дешевых кабаках деловых кварталов, в кварталах, где находились склады, бараки, он осторожно исполнял отдельные сцены, проверяя впечатление. Затем снова тревожился, что ему, вероятно, все же этой пьесы сыграть не удастся, запрещает совесть. Довольный, наблюдал он, как постепенно весь Рим начал волноваться, будет актер Деметрий Либаний играть еврея Апеллу или не будет? Где бы ни появлялись его носилки, слышались радостные крики, люди аплодировали и кричали: «Привет тебе, Деметрий Либаний! Сыграй нам еврея Апеллу!»
Он говорил и императрице о том, в какое трудное, сомнительное предприятие ему приходится пускаться и как тяжелы его раздумия. А императрица смеялась, смеясь, смотрела на колеблющегося. Начальнику Тибурского кирпичного завода был послан приказ держать еврейских заключенных в хороших условиях, а то как бы они за это время не умерли. Поппея ждала заключения от министерства просьб и жалоб. Конечно, освобождение трех старцев — это, в сущности, пустяки, но политика Рима на Востоке сложна, а Поппея была в достаточной мере римлянкой, чтобы сейчас же отказаться от амнистии, если бы это вызвало малейшие политические сомнения. Нужно будет, и она с улыбкой кассирует свое обещание.
Но пока ей нравилось вновь и вновь подталкивать актера к исполнению его намерения. Она рассказывала ему, что оппозиционная высшая аристократия в сенате уже противодействует амнистии. Он должен поэтому решиться, — нехорошо бесцельно умножать страдания этих трех несчастных. Она улыбалась:
— Когда же вы нам сыграете еврея Апеллу, Деметрий?
Министр Филипп Талассий, начальник Восточного отдела императорской канцелярии, второй раз вызывает массажиста, чтобы тот растер ему руки и ноги. Еще ранняя осень, солнце только что село, никто еще не зябнет, но министр никак не может согреться. Он лежит, этот маленький старичок с хищным носом, на кушетке, обложенный подушками и одеялами, перед ним две грелки с углями: одна — для рук, другая — для ног. Стоя по ту сторону кушетки, раб-массажист с боязливым усердием растирает пергаментную сморщенную кожу, на которой, синея, выступают жилы. Министр бранится, грозит. Массажист старается осторожно скользить по шрамам на плечах старца; эти шрамы, он знает, остались от ударов бича, которые министр Талассий получил, когда был еще рабом в Смирне. Врачи испробовали сотни средств, чтобы свести шрамы, они оперировали его, знаменитый специалист Скрибоний Ларг [46] применял все свои мази, но старые шрамы не поддавались.
Сегодня скверный день, черный день, вся челядь в доме министра Талассия это уже почувствовала на собственной шкуре. Секретарь знает, что послужило причиной дурного настроения министра. Оно овладело им после того, как секретарь передал ему письмо из министерства просьб и жалоб, всего маленький формальный запрос. Господа из министерства, и прежде всего хитрый толстяк Юний Фракиец, охотно обошли бы министра Талассия, они не любят его. Но при теперешнем императоре Восточный отдел стал центральным пунктом всей государственной политики, а известно, какой неимоверный скандал устраивает каждый раз Филипп Талассий, когда его не слушают в каком-нибудь деле, имеющем хотя бы отдаленное отношение к его ведомству. Поэтому ни один вопрос в кабинете императрицы не разрешался без заключения Талассия.
Само по себе дело это пустяковое. Речь идет о каких-то старых евреях, в связи с еврейскими беспорядками в Кесарии несколько лет назад приговоренных к принудительным работам. На императрицу, как видно, опять нашла блажь — уже в который раз! — и она желает амнистировать преступников. Ее величество вообще питает подозрительную слабость к евреям. «Шлюха проклятая! — думает министр и сердито толкает массажиста локтем. — Наверное, сама произошла от блуда с каким-нибудь евреем, несмотря на свою старую аристократическую фамилию. Эти надменные римские аристократы спокон веков заражены всякими пороками и развращены до мозга костей».
Конечно, против каприза императрицы особенно не пойдешь, можно выдвинуть только самые общие доводы: положение на Востоке, дескать, требует непоколебимой решительности даже в делах, как будто и незначительных, и тому подобное.
Маленький крючконосый господин сердится. Он прогоняет массажиста — этот идиот все равно ничем ему не поможет. Министр перевертывается на бок, подтягивает острые коленки до самой груди, думает напряженно, желчно.
Вечно эти евреи! Везде становятся они поперек дороги.
После успехов фельдмаршала Корбулона [47] у парфянской границы политика на Востоке развивается очень удачно. Император ужален честолюбием, он мечтает стать новым Александром, расширить сферу римского влияния до Инда. Великие таинственные походы на далекий Восток, о которых Рим мечтает уже целое столетие, казавшиеся еще поколение назад наивными мальчишескими фантазиями, стали теперь предметом серьезных обсуждений. Авторитетные военные разработали планы; министерство финансов после тщательнейшей проверки заявило, что средства могут быть предоставлены.
В этом смелом проекте нового Александрова похода есть только одно уязвимое место: это провинция Иудея. Она лежит как раз на пути движения войск; и нельзя начинать великого дела, пока столь сомнительная точка не будет прибрана к рукам и укреплена. Другие члены кабинета его величества улыбаются, когда министр Талассий об этом заговаривает, они считают его юдофобство просто манией. Но он, Филипп Талассий, знает евреев по своему азиатскому прошлому! Он знает, что с ними невозможно жить в мире, это фанатичный, суеверный, до сумасшествия высокомерный народ, и они не успокоятся до тех пор, пока их окончательно не укротят, пока не сровняют с землей их дерзкую столицу. Все вновь и вновь попадаются губернаторы на удочку их миролюбивых обещаний, и все вновь оказывается, что эти обещания — ложь. Никогда эта маленькая нелепая провинция не могла лояльно подчиниться господству римлян, как подчинялось ему столько других, более обширных и мощных стран. Их бог не ладит с другими богами. В сущности, со смерти последнего царя, правившего в Иерусалиме [48], Иудея все время находится в состоянии войны, и смута в ней не утихнет, война будет продолжаться; Александров поход окажется невозможным, пока Иерусалим не разрушат.
Министр Талассий знает, что его соображения правильны, но он знает также, что не только в них причина того, что каждый раз, когда он слышит о евреях, у него начинается изжога и колики под ложечкой. Он вспоминает свое прошлое: то время, когда в виде приложения к драгоценному канделябру он попал в руки хозяина, культурного знатного грека; с каким трудом он выдвинулся благодаря своей памяти и красноречию, так что хозяин дал ему образование; как он участвовал в конкурсе тех, кого должны были принять на службу к цезарю и как начальник императорской канцелярии Гай экзаменовал его, а еврейский переводчик Феодор Заккаи издевался над его арамейским языком, почему его, Талассия, едва не отвергли. А сделал он всего-навсего крошечную ошибку, можно было даже спорить, ошибка ли это. Но еврей не спорил, он просто поправил его. «Наблион», — сказал Талассий, а еврей поправил: «Набла» [49] или, может быть, «небель», но ни в коем случае не «наблион», — и при этом так гнусно, оскорбительно улыбался. И что было бы с ним, Талассием, если после стольких лет труда и расходов его бы в Риме не приняли? Что бы с ним сделал хозяин? Велел бы засечь до смерти. Вспоминая улыбку того еврея, министр холодел от страха и ярости.
И все же это была не только личная обида: верное политическое чутье настраивало его против евреев. Мир был римским, в мире царило равновесие благодаря единой греко-римской системе. И только евреи мутили, не желали признавать неоценимое благо этой мощной, объединяющей народы организации. Великий торговый путь в Индию, предназначенный вести греческую культуру на самый далекий Восток, не мог быть открыт, пока этот надменный, упрямый народ не будет окончательно растоптан.
К сожалению, при дворе слепы к тому, чем угрожает Иудея. В императорском дворце веет ветер, дьявольски благоприятный для евреев. Его коллега толстяк Юний Фракиец, министр юстиции, покровительствует им. Они засели даже в финансовом управлении. Только за последние три года в списки всадников было внесено двадцать два еврея. Они проникали на сцену, в литературу. Разве не ощущается почти физически, как они своими нелепыми, суеверными книгами разлагают империю? Клавдий Регин выбрасывает теперь на рынок этот бред целыми партиями. Мысленно произнося имя Регина, старик-министр подтягивает колени еще выше. К хитрости этого человека, как он ему ни противен, министр все же чувствует почтение. Дело в том, что у этого Регина в ларце есть жемчужина — огромный нежно-розовый экземпляр, без единого порока. Талассий бы охотно купил у него эту жемчужину. Ему кажется, что, носи он ее на пальце, кожа станет менее сухой. Может быть, жемчужина повлияла бы благоприятно и на шрамы на его плечах; но несносный еврей богат, деньги его не привлекают, он жемчужину не продаст.
Министр Талассий раздумывает о том и о сем. Волнения в Кесарии. Регин и его кольцо. Не обратиться ли к сенату? Можно привести пример парфянской войны. А все-таки правильнее «наблион».
И вдруг он порывисто перевертывается на спину, вытягивается, смотрит покрасневшими сухими глазами в потолок. Желудочные боли прошли, исчез и озноб. У него возникла идея, превосходная идея. Нет, он не будет заниматься пустяками. Какой толк, если даже эти три пса на кирпичном заводе издохнут? Пусть господа евреи получают своих любимцев. Пусть их замаринуют с чесноком или хранят в своих ящиках-утеплителях. Он придумал кое-что получше. За освобождение трех старикашек он предъявит евреям такой счет, какого не придумать и господам из министерства финансов. Эдикт, эдикт о Кесарии. Он пристегнет амнистию к делу Кесарии. Завтра он снова предложит императору эдикт о Кесарии. Семь месяцев ждет он подписи; придравшись к этому случаю, он ее получит. Нельзя давать евреям все, чего они захотят. Нельзя им отдать трех преступников да еще город Кесарию в придачу. Или то, или другое. Так как этого желает императрица, то ее драгоценные мученики будут освобождены. Но от притязаний на Кесарию евреям придется отказаться навсегда.
Он вызывает секретаря, требует свою докладную записку о Кесарии. Насколько он помнит, она написана кратко и резко. Так любит император: он не хочет подолгу возиться с политикой, его интересуют другие вещи. Впрочем, соображает император хорошо — у него быстрый, острый ум. Только бы добиться, чтобы он действительно прочел докладную записку, и тогда его подпись под эдиктом гарантирована. Ведь историю с тремя приговоренными к принудительным работам и нельзя ликвидировать без того, чтобы весь этот вопрос о Кесарии не был в конце концов разрешен. Да, на этот раз императору придется согласиться. Какая удачная мысль пришла в голову Поппее — потребовать освобождения трех заключенных!
Приходит секретарь, приносит ему докладную записку. Талассий пробегает ее глазами. Да, он изложил дело ясно и убедительно.
Свободное население Кесарии состоит на сорок процентов из евреев и на шестьдесят — из греков и римлян. Однако в городском самоуправлении евреи имеют большинство. Они богаты, а закон о выборах дает право голоса на основе имущественного ценза. Построенное по этому принципу избирательное право в общем оправдало себя в провинциях Сирии и Иудее. Почему бы тем, кто дает общинам бóльшую часть налогов, и не распоряжаться этими средствами? Но в Кесарии избирательный закон является большой тяжестью для большинства населения. Ибо евреи, заседающие в магистрате, вносят в расходование общественных сумм неслыханный произвол. Они тратят их не на потребности жителей, а посылают несуразно большие взносы в Иерусалим, на храм и религиозные нужды. Поэтому неудивительно, что при выборах дело всегда доходит до кровавых столкновений. С горечью вспоминают греки и римляне Кесарии о том, что, когда в царствование Ирода был основан этот город [50], они были первыми его обитателями, они построили гавань, доходами от которой Кесария теперь кормится. Кроме того, там резиденция римского губернатора, и притеснения, которым подвергаются со стороны евреев римляне и греки, особенно недопустимы в главном городе провинции. С самолюбием евреев, право же, достаточно посчитались, предоставив им полную автономию в Иерусалиме. Идти и дальше навстречу этому вечно недовольному народу — недопустимо. История города Кесарии, происхождение и религия большинства ее жителей, ее основа и мощь не имеют ничего общего с еврейством. И город Кесария, от которого зависят покой и безопасность всей провинции, будет горестно удивлен, если наиболее лояльная, верноподданная часть его населения не получит в конце концов заслуженных ею избирательных прав.
В своей продуманной и хитрой докладной записке министр Филипп Талассий отнюдь не умолчал и об аргументах евреев. Он указывал на то, что в случае изменения избирательного закона греко-римское население получит право распоряжаться всеми еврейскими городскими налогами, а это практически означало бы широко проведенное отчуждение средств у еврейских капиталистов. Очень ловко доказывал он, однако, насколько это зло ничтожно в сравнении с той чудовищной несправедливостью, при которой главный город Иудеи — провинции, столь важной для всей восточной политики в целом, — ныне действующим избирательным законом фактически отдавался в руки небольшой кучке еврейских богачей.
Министр перечел свою докладную записку еще раз. Тщательно проверил рукопись: его аргументы неопровержимы. Он твердо решил, он улыбается. Да, он отдаст меньшее — этих трех заключенных, чтобы зато отнять у евреев большее — прекрасный портовый город Кесарию.
Он позвал слуг, стал браниться. Велел унести грелки, одеяла, подушки. Эти дураки хотят, чтобы он задохнулся от жары? Он забегал взад и вперед на своих высохших ножках, костлявые руки ожили. Министр настойчиво потребовал на завтра утром аудиенции у императора. Теперь его путь был ему ясен, задуманное наверняка должно удаться.
Ведь он не спешил, он мог бесстрастно насладиться своей местью. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как еврейский переводчик Феодор Заккаи улыбался. «Наблион», вот именно, и навеки «наблион». Он может подождать, пока эдикт, вырывающий у евреев присвоенную ими власть, будет подписан, но и тогда вовсе незачем его сразу же опубликовывать. Пусть документ еще спокойно полежит несколько месяцев, даже год, пока не выяснится вопрос о сроках великого Александрова похода.
Да, именно в такой форме предложит он завтра императору решить дело о Кесарии, и совершенно ясно, что в такой форме он его продвинет. Он улыбается. Еще до ужина диктует он ответ министерству просьб и жалоб в связи с запросом из кабинета императрицы относительно амнистирования евреев, приговоренных к принудительным работам на Тибурском кирпичном заводе. Как удивится толстяк Юний Фракиец, когда увидит, что министр Талассий ничего не имеет против их освобождения, решительно ничего.
За ужином гости министра с удивлением отмечают, что этот сварливый старик — хозяин дома — может быть даже веселым.
Иосиф все больше нравился Деметрию Либанию. Актер был уже не так молод, его образ жизни и его искусство отнимали немало сил, и ему казалось, что он может снова зажечься от огня, пылавшего в этом юноше из Иерусалима. И разве не встреча с Иосифом послужила толчком к тому, что он наконец выступил со своей великой и опасной идеей — сыграть еврея Апеллу? Он все чаще приглашал к себе Иосифа. Иосиф отвык от провинциальных манер, быстро усвоил своим живым умом подвижную и гибкую жизненную мудрость столицы, стал светским человеком. От многочисленных литераторов, с которыми его познакомил актер, он перенял технику, даже жаргон их ремесла. Он беседовал о политике и философии с людьми, занимавшими видное положение, вступал в любовные связи с женщинами, нравившимися ему, — с рабынями и аристократками.
Итак, Иосиф жил, окруженный уважением и удовольствиями. И все-таки, когда он оставался один, ему порой становилось не по себе. Он знал, конечно, что освобождение трех заключенных не может совершиться в одну минуту. Но проходили недели, месяцы, а он все еще ждал и ждал, как ждал когда-то в Иудее. И это ожидание изводило его: приходилось насиловать себя, чтобы не выйти из роли уповающего.
Клавдий Регин предложил Иосифу прислать свою докладную записку, которая произвела на императрицу столь сильное впечатление. Иосиф отослал рукопись и с волнением ждал отзыва знаменитого издателя. Но тот молчал. Иосиф ждал четыре долгих недели; Регин молчал. Может быть, он дал прочесть его рукопись Юсту? Сердце Иосифа сжималось, когда он вспоминал о своем бесстрастном, умном коллеге.
Наконец Регин пригласил его к обеду. Единственным гостем, кроме Иосифа, был Юст из Тивериады. Иосиф собрал все свои силы, он предчувствовал неприятные объяснения. Долго ждать ему не пришлось. Уже после первого блюда хозяин дома заявил, что он прочел Иосифову докладную записку. Форма ее говорит о бесспорном литературном таланте, но содержание, аргументация слабы. По предложению царя Агриппы Юст ведь тоже высказался о деле трех заключенных. Было бы очень любезно со стороны Юста, если бы он поделился своей точкой зрения. У Иосифа задрожали колени. Мнение целого Рима показалось ему вдруг ничтожным перед мнением его коллеги, Юста из Тивериады.
Юст не заставил себя просить. К делу трех стариков нельзя подходить вне связи с вопросом о Кесарии. А вопрос о Кесарии нельзя рассматривать вне связи с политикой Рима на Востоке в ее целом. С тех пор как на Востоке управляет генерал-фельдмаршал Корбулон, Рим если и шел на уступки, то лишь формально, по сути же — никогда. При всем уважении к литературному таланту Иосифа он не думает, чтобы на императорскую канцелярию докладная записка оказала решающее влияние, скорее — данные и выкладки финансового ведомства или генерального штаба. В докладной записке, которую он, Юст, подал по предложению царя Агриппы в Восточный отдел канцелярии, он осветил главным образом юридическую сторону вопроса о Кесарии. Он сослался на город Александрию, где Рим не поддержал происков антисемитов. Но он опасается, что министр Талассий, и без того юдофоб, да еще, вероятно, подмазанный кесарийскими греками, может, невзирая на все юридические аргументы, все же удовлетворить претензии нееврейского населения. И с точки зрения общей направленности римской политики на Востоке он, к сожалению, имеет для этого все основания.
Юст приподнялся на своем ложе; он аргументировал логично, остро, убедительно. Иосиф слушал лежа, закинув руки за голову. Вдруг он выпрямился, перегнулся к Юсту через стол, сказал враждебно:
— Это неправда, что дело тибурских мучеников — вопрос политический. Это вопрос справедливости, человечности. И я здесь — только чтобы добиться справедливости. Справедливость! Я взываю о ней с тех пор, как я в Италии. Моей жаждой справедливости я убедил императрицу.
Регин повертывал мясистую голову от одного к другому. Видел смугло-бледное худощавое лицо Иосифа, смугло-желтое худощавое лицо Юста.
— А знаете ли вы, господа, — и его высокий, жирный голос прозвучал взволнованно, — что вы очень друг на друга похожи?
Они были поражены. Каждый сравнивал себя с другим: ювелир был прав. И они ненавидели друг друга.
— Могу вам, впрочем, сказать по секрету, — продолжал Регин, — что вы спорите о деле, которое уже решено. Да, — продолжал он, глядя в упор на их растерянные лица, — вопрос о Кесарии решен... Может быть, пройдет некоторое время, пока эдикт будет обнародован, но он подписан и отправлен сирийскому генерал-губернатору. Вы правы, доктор Юст. Вопрос о Кесарии решен не в пользу евреев.
Оба молодых человека уставились на Клавдия Регина, сонно смотревшего перед собой. Они были так потрясены, что забыли и друг о друге, и о своем споре.
— Это худший выпад против Иудеи за все последнее столетие, — сказал Иосиф.
— Я боюсь, что из-за этого эдикта еще прольется кровь многих людей, — сказал Юст.
Они смолкли, выпили вина.
— Смотрите, доктор Иосиф, — сказал Регин, — чтобы ваши евреи не наделали глупостей.
— Здесь, в Риме, конечно, легко давать советы, — ответил Иосиф, и его голос был полон искренней горечи. Он сидел сгорбившись, усталый, словно опустевший. Новость, сообщенная этим противным жирным человеком, до того переполнила его сердце печалью, что в нем даже не оставалось места для унизительного ощущения, насколько смехотворна сейчас его миссия. Конечно, его соперник оказался прав, он все предвидел. А то, что нафантазировал по этому поводу Иосиф, оказалось дымом, и его успех — ничем.
Клавдий Регин заговорил:
— Впрочем, я теперь же, до того как будет обнародован эдикт, опубликую вашу докладную записку, доктор Юст. Вы должны с ней ознакомиться, — обратился он с непривычной живостью к Иосифу, — это просто маленький шедевр.
И он попросил Юста прочесть главу. Иосиф, несмотря на свою подавленность, прислушался и был захвачен. Да, в сравнении с этими ясными, стройными фразами его убогая патетическая болтовня ничего не стоила.
Он сдался. Он покорился. Решил вернуться в Иерусалим, занять скромную должность при храме. Иосиф плохо спал в эту ночь и весь следующий день ходил подавленный. Ел мало и без удовольствия, не был у Луциллы, с которой сговорился на этот день. Зачем он приехал в Рим? Лучше бы он сидел сейчас в Иерусалиме, ничего не ведая о тех злых и угрожающих кознях, которые замышлялись здесь против Иудеи! Он хорошо знал город Кесарию, ее гавань, ее торговые склады, верфи, синагоги, магазины, публичные дома. Даже здания, возведенные там римлянами, хоть евреи этими зданиями и гнушались, — дворец губернатора, колоссальные статуи богини — покровительницы Рима и первого императора, — все же они приумножали славу Иудеи, пока город управлялся евреями. Но если управление перейдет в руки греков и римлян, то город станет римским, и тогда все приобретет обратный смысл, и евреев всей Иудеи и даже Иерусалима в их собственной стране станут только терпеть. Когда Иосиф об этом думал, ему казалось, что земля ускользает у него из-под ног. Скорбь и гнев настолько овладели его сердцем и всем его существом, что он чуть не заболел.
Но когда Деметрий Либаний с торжественной решительностью сообщил ему, что теперь он наконец сыграет еврея Апеллу ради того, чтобы три тибурских мученика получили свободу, Иосиф снова просиял первой неомраченной радостью своего успеха. Римские евреи отнеслись к решению Деметрия Либания спокойнее, чем можно было ожидать, судя по их первоначальному волнению; но была зима, и актеру предстояло выступить сначала не перед широкой публикой, а в маленьком дворцовом театрике, находившемся в императорских садах. Собственно говоря, теперь бранился только один человек — древний старец Аарон; он упорно бормотал свои проклятия кощунственной затее актера и всему нынешнему поколению богохульников.
Пьеса «Еврей Апелла» была первой народной музыкальной комедией, исполняемой в собственном театре цезаря. Театр вмещал всего около тысячи человек, и в обществе завидовали тем немногим, кто получил приглашение на премьеру. Присутствовали все министры — и тощий Талассий, и толстый добродушный Юний Фракиец, министр просьб и жалоб, и начальник личной охраны и стражи Тигеллин. Затем до всего любопытная, жизнерадостная верховная весталка. Не забыли, само собой разумеется, и о Клавдии Регине. Из евреев присутствовали немногие: элегантный Юлиан Альф, председатель Велийской общины, и его сын; Иосифу с трудом удалось получить пропуск для Гая Барцаарона и его дочери Ирины.
Занавес свертывается, опускаясь [51]. На сцене стоит еврей Апелла, человек средних лет, с длинной острой бородой, уже начинающей седеть. Он живет в провинциальном городке Иудеи, его дом мал: он сам, жена, его многочисленные дети помещаются все в одной комнате. Половину его скудного заработка у него отнимают знатные господа в Иерусалиме; половину остатка забирают римляне в Кесарии. Когда смерть уносит его жену, он уходит из дома. Он берет с собой мезузу [52], чтобы прибить ее к дверям своего будущего дома, он берет с собой свои молитвенные ремешки, свой ящик-утеплитель для субботних кушаний, свои субботние светильники [53], всех своих многочисленных детей и своего невидимого бога. Он идет на Восток, в Парфянскую страну. Там он строит себе домик, прибивает у входа мезузу, надевает на голову и на руку ремешки, становится на молитву, лицом к западу, где Иерусалим и храм, и молится. Он питается плохо, впроголодь, но он доволен малым и даже ухитряется посылать кое-что в Иерусалим на храм. Но тут появляются одиннадцать клоунов, это парфяне, они издеваются над ним. Они отнимают у него мезузу и молитвенные ремешки, они смотрят, что там внутри, находят исписанный пергамент и смеются над смешными богами этого человека. Они хотят заставить его поклоняться их богам, светлому Ормузду и темному Ариману. И так как он отказывается, они начинают дергать его за бороду и за волосы и рвут до тех пор, пока он не падает на колени, и это очень смешно. Он не признает их видимых богов, а они не признают его невидимого! Но на всякий случай они отнимают у него для алтарей своих богов ту горсточку денег, которые он скопил, и убивают троих из его семи детей. Он хоронит своих трех детей, он ходит между тремя маленькими могилками, затем садится и поет старинную песнь: «На реках вавилонских, там сидели мы и плакали» [54]; он как-то странно раскачивается, и в этих движениях есть что-то нелепое и скорбное. Потом он умывает руки и снова уходит, на этот раз на юг, в Египет. Он бросает построенный им домик, но берет с собой мезузу, молитвенные ремешки, ящик-утеплитель, подсвечники, оставшихся детей и своего невидимого бога. Он строит себе новый домик, он берет себе новую жену, годы приходят и уходят, он опять копит деньги, и взамен троих убитых детей он родит еще четверых. Теперь он, когда молится, становится лицом к северу, где Иерусалим и храм, и он не забывает каждый год посылать свою дань в страну Израиля. Но и на юге враги не оставляют его в покое. Снова приходят одиннадцать клоунов, на этот раз они — египтяне, и требуют, чтобы он поклонялся их богам: Изиде, Озирису, Тельцу, Овну и Соколу [55]. Но тут появляется римский губернатор и приказывает им оставить его в покое. Одиннадцать клоунов очень смешны, когда они, разочарованные, уходят. Но сам еврей Апелла в своей радости победителя еще смешнее. Он снова странно раскачивается худым телом; на этот раз он пляшет перед богом, пляшет перед полкой со священными книгами. Неуклюже задирает он ноги до поседевшей бороды, лохмотья его одежды развеваются, высохшей грязной рукой бьет он в бубен. Он раскачивается, все его кости возносят хвалу невидимому богу. Так танцует он перед книжной полкой, как некогда Давид плясал перед ковчегом [56]. Римские знатные господа в зрительном зале смеются; очень громко, отчетливо сквозь всеобщий хохот доносится дребезжащий смех министра Талассия. Но многим становится не по себе, а несколько присутствующих здесь евреев смотрят растерянно, почти испуганно на подпрыгивающего, пляшущего, качающегося человека. Они вспоминают о левитах [57], как свято те стоят с серебряными трубами на высоких ступенях храма, и о первосвященнике, с каким величием и достоинством предстает он перед богом в блеске священных одежд и драгоценных камней. А не святотатство ли то, что проделывает там, на сцене, этот актер? Однако в конце концов даже римский губернатор уже не в силах защитить еврея Апеллу. Египтян слишком много, из одиннадцати клоунов стало одиннадцатью одиннадцать, и они нашептывают на ухо императору ядовитые обвинения, и они смешно танцуют, и они колют, и жалят, и стреляют в него маленькими смертоносными стрелами, и снова убивают они трех детей и, кроме того, жену. В конце концов еврей Апелла снова уходит — с мезузой и ремешками, с утеплителем и подсвечниками, с детьми и своим невидимым богом, и на этот раз он приходит в Рим. Но теперь пьеса становится особенно дерзкой и рискованной. Клоуны не решаются вредить ему физически, они держатся на краю сцены. Однако они все же влезают, подпрыгивая, словно обезьяны, на крышу его дома, они проникают и внутрь, они смотрят, что в мезузе и утеплителе. Они пародируют его, когда он становится на молитву, обратившись на этот раз к востоку, где Иерусалим и храм. Теперь на одиннадцати клоунах надеты очень дерзкие маски, маски-портреты, и можно без особого труда узнать и министра Талассия, и знаменитого юриста из сената — Кассия Лонгина [58], и философа Сенеку, и других влиятельных юдофобов. Однако на этот раз они ничем не могут повредить еврею Апелле, он под защитой императора и императрицы. Но клоуны стерегут минуту, когда он оплошает. И он действительно оплошал. Он женится на местной уроженке, на вольноотпущеннице. Тогда они действуют через эту женщину — вливая ей в сердце весь яд своей насмешки. Поют особенно злые куплеты насчет обрезанного, его чеснока, его вони, его поста, его утеплителя. Доходят до того, что жена высмеивает Апеллу при детях за то, что он обрезан. Тогда он прогоняет ее и остается один со своими детьми и со своим невидимым богом, под защитой одного только римского императора. Покорно, в дикой тоске поет он, покачиваясь, свою старую песню: «На реках вавилонских мы сидели и плакали»; издали, совсем тихо, его пародируют одиннадцать клоунов.
Зрители переглядываются; они хорошенько не знают, делать ли им веселые или печальные лица. Все косятся на императорскую ложу. А императрица заявляет своим звонким детским голоском, и он разносится по всему театру, что, пожалуй, ни одна из современных пьес не заинтересовала ее так, как эта. Она говорит комплименты сенатору Маруллу, а он с притворной скромностью отрицает свое авторство. Император сдержан; его преподаватель литературы Сенека столько проповедовал ему о традициях театра, что он пока не может разобраться в этой новой драматургической технике. Император молод, белокур, его интеллигентное лицо слегка припухло; озабоченно и несколько рассеянно рассматривает он публику, которая не имеет права уйти, пока он не уйдет. Находящиеся в зрительном зале евреи стоят растерянные: Клавдий Регин затягивает, кряхтя, ремни своих сандалий и, когда его спрашивают, сипит в ответ что-то нечленораздельное. Иосиф не знает, негодовать ли ему или восхищаться. Его глазам было больно от беспощадного света той жизненной правды, которую показал на сцене еврей Апелла. Он полон тревоги и восхищения оттого, что кто-то так бесстрашно сочетал все комические черты этого еврея с трагизмом его судьбы. В сущности, таковы чувства большинства зрителей. Публика озабочена и недовольна, евреи даже встревожены. Искренне доволен только министр Талассий.
Император вызывает его и министра юстиции Юния Фракийца к себе в ложу и говорит задумчиво, что с нетерпением ждет, как отнесутся евреи к некоему решению. Императрица перед уходом сообщает Иосифу, что завтра же его трое невинных будут освобождены.
На другой день, едва взошло солнце, три мученика были выпущены на свободу. В дачном поселке Тибур, в загородном доме Юлиана Альфа, председателя Ведийской общины, их под присмотром врача выкупали, накормили, переодели в роскошные одежды. Затем их посадили в роскошный дорожный экипаж Юлиана Альфа. Всюду по пути из Тибура в Рим стояли группы иудеев, и когда экипаж проезжал мимо них — впереди скороходы, сзади целая свита, — они произносили слова благословения, предписанные после спасения от великой опасности, и встречали трех старцев криками: «Благословенны грядущие! Мир вам, господа ученые!»
Но у Тибурских ворот происходила невероятная давка. Здесь, на месте, оцепленном полицией и войсками, мучеников ожидали председатели пяти иудейских общин, государственный секретарь Полибий из министерства просьб и жалоб, один из церемониймейстеров императрицы, но прежде всего — писатель Иосиф бен Маттафий, делегат Иерусалимского Великого совета, и актер Деметрий Либаний. Актер вызывал, конечно, и здесь всеобщее внимание; но все без исключения римские аристократы и евреи указывали друг другу на стройного молодого человека с худым лицом фанатика, смелым профилем и горячими глазами: это доктор Иосиф бен Маттафий, добившийся амнистии трех старцев. Для Иосифа это были великие минуты. Молодой, серьезный, взволнованный и гордый, он производил впечатление даже рядом с актером.
Наконец показался экипаж. Трех освобожденных вынесли из него на руках. Старцы были очень слабы, они странно раскачивались взад и вперед, как автоматы. Невидящим взором смотрели они на тысячи лиц, на праздничные белые одежды, тупо слушали речи, в которых их прославляли. Люди растроганно показывали друг другу их полуобритые головы с выжженными «Е», следы кандалов на щиколотках. Многие плакали. Актер же Деметрий Либаний опустился на колени, склонил голову в уличную пыль и поцеловал ноги старцев, пострадавших за Ягве и землю Израиля. В нем привыкли видеть комика, народ смеялся, где бы он ни показывался, но теперь, когда он лежал в пыли перед тремя старцами, целовал им ноги и плакал, никто не находил его смешным.
В первую же субботу в синагоге Агрипповой общины шло торжественное служение. Старейший из трех освобожденных прочел первые стихи предназначенного для этого служения отрывка из Библии; с трудом, словно из глубины гортани, извлекал он слова; просторный молитвенный дом был набит людьми вплоть до последнего уголка, и вдоль всей улицы люди стояли плотной стеной, безмолвные, потрясенные. Иосифу же предложили после чтения взять на себя возношение торы [59]. Стройный и серьезный, стоял он на возвышении, обеими руками высоко поднял тору, повернулся кругом так, чтобы все могли ее видеть, горячими глазами посмотрел поверх неисчислимых лиц. И римские евреи не отрываясь смотрели на пылкого юношу, вознесшего перед ними священный свиток.
В ту зиму трех мучеников много чествовали. Они постепенно поправлялись, их тощие тела наливались жизнью, бритые головы обрастали скудной растительностью; от лекарств, прописанных Скрибонием Ларгом, зажили следы цепей на их щиколотках. Одна община передавала их другой, один влиятельный еврейский аристократ — другому. Они принимали эти почести довольно равнодушно, как естественную дань.
По мере того как к ним возвращались силы, возвращалась и способность говорить. Оказалось, что мученики — сварливые, суетливые, придирчивые старички. Все казалось им недостаточно благочестивым и соответствующим предписаниям. Они спорили между собой и со всеми, они расхаживали среди евреев, точно здесь был Иерусалим и все эти евреи им подчинены, они приказывали и запрещали, пока наконец Юлиан Альф очень деликатно, но твердо не указал им на то, что его синагога им не подведомственна. Тогда они прокляли его и хотели подвергнуть великому отлучению [60] и объявить ему всеобщий бойкот. Так что в конце концов все были рады, когда вновь открылось судоходство и троих старцев отвезли в Путеолы и посадили на корабль, отплывавший в Иудею.
Миссия Иосифа в Риме была выполнена. Но он все-таки не уезжал. Перед его глазами отчетливо стояла та цель, ради которой он сюда приехал: завоевать этот город. И все яснее понимал он, что для него существует единственный путь — литература. Его влекла к себе одна величественная тема из истории его страны. В древних книгах, повествовавших о его народе, Иосифа издавна волновало больше всего одно повествование: освободительная борьба Маккавеев против греков [61]. Только теперь понимал он, почему его тянуло именно сюда. Рим созрел для того, чтобы воспринять мудрость и тайну Востока. Задача Иосифа — поведать миру об этом эпизоде из истории древнего Израиля, полном героизма и пафоса, поведать так, чтобы все увидели: страна Израиля действительно избранная страна, в ней обитает бог.
Он никому не говорил о своих планах. Вел жизнь молодого человека из общества. Но все, что видел, слышал, переживал, — все связывал он с предполагаемым исследованием. Надо было показать возможность понимания и Востока, и Запада. Надо было заключить историю Маккавеев с их верой и чудесами в суровые рамки ясной формы, как того требовала школа новейших прозаиков. Читая старые книги, он приобщался к мучениям людей прошлого, принявшим их, чтобы не осквернить заповедей Ягве, а на Форуме, под колоннадою Ливии, на Марсовом поле, в общественных банях, в театре он приобщался к остроте жизни и к «технике» города Рима, который так завораживал своих обитателей, что все бранили его и все любили.
В полной мере ощутил Иосиф соблазн великого города, когда представилась возможность остаться в нем навсегда. Случилось так, что Гай Барцаарон собрался выдать замуж свою дочь Ирину. По желанию матери он наметил в зятья молодого доктора Лициния из Велийской синагоги, но в глубине души не желал этого брака, да и глаза девушки Ирины были устремлены на худощавое фанатичное лицо Иосифа все с тем же мечтательным восторгом, что и в первый день встречи. Со свадьбой медлили; достаточно было Иосифу сказать слово — и он мог бы навсегда обосноваться в Риме на положении зятя богатого фабриканта. Это казалось соблазнительным, обещало спокойную, беззаботную жизнь, уважение и достаток. Но это означало также и застой, отказ от самого себя. Разве подобная цель не слишком ничтожна?
Иосиф с удвоенным жаром набросился на книги. Подготовлял с безмерной тщательностью свою «Историю Маккавеев». Не гнушался зубрить, как школьник, латинскую и греческую грамматику. Набивал себе руку на обработке труднейших деталей. Он занимался этой сложной и кропотливой работой всю весну, пока наконец не почувствовал себя созревшим, чтобы приступить к самому изложению.
Но тут произошло событие, потрясшее все его существо.
В начале лета, совершенно неожиданно и очень молодой, умерла императрица Поппея. Она всегда желала умереть молодой, в расцвете сил, она часто говорила о смерти, и вот ее желание исполнилось. Даже после смерти подтвердила она еще раз свою любовь к Востоку, ибо в завещании указала, чтобы ее тело было не сожжено, а набальзамировано по восточному обычаю.
Из своей печали и своей любви император сделал пышное зрелище. Бесконечная траурная процессия двигалась по городским улицам: оркестры, плакальщицы, хоры декламаторов. Затем вереница предков, в ряду которых последней стала теперь императрица. Для этого шествия были извлечены из священных шкафов восковые маски предков. Их надели актеры, облаченные в пышные должностные одежды покойных консулов, президентов, министров; при каждом из покойников были свои ликторы, шедшие впереди с дубинками и связками прутьев. Затем процессия мертвецов повторялась: ее повторяли — но уже как гротеск — танцоры и актеры, пародировавшие тех, кто шел впереди. Среди них была и умершая императрица. Деметрий Либаний настоял на том, чтобы оказать своей покровительнице этот последний тягостный акт дружеского внимания, и евреи, когда мимо них проходило подпрыгивавшее, порхавшее, мучительно смешное подобие их могущественной защитницы, выли от смеха и горя. Затем следовали слуги умершей — бесконечная вереница ее чиновников, рабов, вольноотпущенников, за ними — офицеры лейб-гвардии и наконец сама покойница, ее несли четыре сенатора; она сидела в кресле, как и при жизни, одетая в одну из тех строгих, но нечестивых прозрачных одежд, которые так любила, искусно набальзамированная еврейскими врачами, окруженная облаком курений. За ней — император с закрытой головой, в простой черной одежде, без знаков его сана. А за ним — сенат и население Рима.
На Форуме, перед ораторской трибуной, шествие остановилось. Предки сошли со своих колесниц и расселись в креслах из слоновой кости, а император произнес надгробную речь. Иосиф видел Поппею: она сидела в кресле, так же как сидела тогда перед ним, — блондинка, с янтарно-желтыми волосами, чуть насмешливая. Император кончил речь, и Рим в последний раз приветствовал свою императрицу.
Десятки тысяч людей стояли, подняв руку с вытянутой ладонью; предки тоже встали со своих мест и подняли руку с вытянутой ладонью; так простояли все целую минуту, приветствуя ее, и только умершая сидела.
Все это время Иосиф избегал своего коллегу Юста. Теперь он отыскал его в толпе. Молодые люди медленно брели под колоннадами Марсова поля. Юст считал, что теперь, после смерти Поппеи, господин Талассий и его сотоварищи уже не замедлят опубликовать эдикт. Иосиф только пожал плечами. Молча шагали они среди элегантной толпы гуляющих. Затем, как раз перед роскошным магазином Гая Барцаарона, Юст остановился и сказал:
— Если теперь у кесарийских евреев вырвут их права, это ни одному человеку не покажется странным. Евреи в данном случае, видимо, не правы. Когда их жалобы хоть сколько-нибудь обоснованы, Рим прислушивается к ним и идет навстречу. Разве ваших трех невинных не помиловали? Рим великодушен. Рим обращается с Иудеей очень мягко — мягче, чем с другими провинциями.
Иосиф побледнел. Неужели этот человек прав? И его успех — освобождение трех старцев — для еврейской политики в целом оказался вредным, так как Рим, проявив мягкость в деле второстепенного значения, получил тем самым возможность лицемерно подсластить суровость своего решения в главном? Невидящим взглядом рассматривал он мебель, выставленную для продажи перед магазином Гая Барцаарона.
Он ничего не ответил, вскоре попрощался. Иосиф буквально заболел от того, что ему сказал Юст. Это не смело быть правдой. Случалось, что и в нем говорило честолюбие, — с кем этого не бывает? Но в отношении трех невинных он действовал от чистого сердца, не ради личного мелкого успеха ухудшил он положение своего народа.
С новым, озлобленным рвением принялся он опять за свой труд. Обрек себя на пост, на аскезу, поклялся не прикасаться ни к одной женщине, пока его исследование не будет закончено. Работал. Закрывал глаза, чтобы яснее увидеть предмет своей книги, открывал, чтобы увидеть этот предмет в правильном освещении. Рассказывал миру удивительную историю освободительной войны своего народа. Он страдал вместе с изображаемыми им мучениками, побеждал вместе с ними; освящал вместе с Иудой Маккавеем Иерусалимский храм. Кротко и величественно окутывало его облако веры. Веру, освобождение, торжество, все те возвышенные переживания, которые ему внушали древние книги, — все это влил он в свою собственную. Пока он писал — он был избранным воином Ягве.
О Кесарии он забыл.
Затем Иосиф снова начал вести прежнюю жизнь, стал бывать в обществе, сближался с женщинами, смотрел на людей свысока. Иосиф прочел свою книгу о Маккавеях в избранном кругу молодых литераторов. Его поздравляли. Он послал ее издателю Клавдию Регину. Тот заявил сейчас же, что берется ее опубликовать.
Однако в том же издательстве Клавдия Регина вышел одновременно и труд Юста «Об идее иудаизма» [62]. Иосиф счел коварством то, что ни Регин, ни Юст ему не сказали об этом заранее. По поводу книги Юста он мямлил, что она слишком трезва, что в ней нет подъема. Но в душе собственный труд показался ему пошлым и напыщенным в сравнении с новыми убедительными логическими построениями его соперника. Он сравнил портрет Юста, нарисованный в начале книги, со своим портретом. Он перечел маленькую книжечку Юста дважды, трижды. Его собственное сочинительство показалось ему ребяческим, безнадежным.
Однако не только девушка Ирина, ставшая теперь женой доктора Лициния, и не только доброжелательные читатели с правого берега Тибра, но и литераторы, и молодые снобы обсуждали в фешенебельных банях левого берега книгу Иосифа о Маккавеях и находили, что она хороша. Известность Иосифа росла, этот еврейский военно-исторический трактат воспринимался как интересное и плодотворное возрождение героического эпоса. Молодые писатели восхищались им, у него уже появились подражатели, его стали считать главою новой школы. Семьи крупных аристократов приглашали его к себе почитать из его книги.
На правом берегу Тибра по его книге учились дети. Произведения же Юста из Тивериады никто не знал, никто не читал. Заведующий издательством Клавдия Регина рассказывал Иосифу, что продано всего сто девяносто экземпляров книги Юста, а книги Иосифа — четыре тысячи двести и что спрос из всех провинций, особенно же с Востока, все время растет. Сам Юст, вероятно, уехал из Рима; по крайней мере, в эти месяцы своего литературного успеха Иосиф нигде не встречал его.
Зима прошла, и ранняя весна была ознаменована внушительной демонстрацией римской мощи, давно подготовляемым торжеством Рима над Востоком, гордой прелюдией к новому Александрову походу. Соседнее Парфянское государство на Востоке, где царем был Вологез, — единственная, кроме Рима, великая держава из тогда известных миру, устав от войны, наконец уступила Риму Армению, эту столь спорную территорию. Император торжественно и собственноручно запер храм Януса [63] — в знак того, что на земле мир. Затем отпраздновал пышной церемонией первую победу над подлежащим завоеванию Востоком. Армянский царь Тиридат должен был самолично предстать перед ним, чтобы, как ленный государь, принять из его рук корону. Восточный властитель с огромной свитой на конях, с пышными подарками, с золотом и миррой ехал в течение многих месяцев на запад, чтобы воздать почести римскому императору. По всему Востоку распространялись легенды о трех восточных царях [64], пустившихся в путь, чтобы поклониться взошедшей на западе звезде. Впрочем, римское министерство финансов было весьма озабочено, как оплатить все эти расходы, которые были, разумеется, произведены за счет императорской кассы.
Когда наконец поезд царя Тиридата вступил в Италию, сенату и римскому народу было в особом воззвании предложено присутствовать при том, как Восток будет воздавать почести императору. На всех улицах толпились любопытные. Отряды императорской гвардии стояли шпалерами. Восточный царь шел между ними в своей национальной одежде, на голове тиара, короткая персидская сабля за поясом; но оружие, наглухо забитое в ножны, было обезврежено. Так он пересек Форум, поднялся на эстраду, на которой восседал римский император, склонил голову к земле. Император же, сняв с него тиару, возложил вместо нее диадему. Тогда войска ударили копьями в щиты и, словно единый огромный декламационный хор, воскликнули дружно, как их учили в течение многих дней:
— Привет тебе, цезарь, властитель, император, бог!
Трибуна на Священной улице, проходившей через Форум, была занята почетными гостями из провинций; и среди них был Иосиф. Глубоко взволнованный, видел он унижение Тиридата. Борьба между Востоком и Западом началась еще в глубокой древности. Когда-то персы оттеснили Запад далеко вспять, затем Александр на века отбросил назад Восток [65]. За последние десятилетия, с тех пор как сто лет назад парфяне уничтожили большое римское войско, Восток начал как будто опять выдвигаться на первый план.
Во всяком случае, он чувствовал свое внутреннее превосходство, и в сердцах евреев зажглась новая надежда, что на Востоке появится освободитель и, согласно предсказаниям древних пророчеств, сделает Иерусалим столицей мира. А теперь Иосиф видел собственными глазами, как Тиридат, брат могущественного восточного владыки, распростерся в пыли перед Римом. Парфянское царство лежало далеко отсюда, военные походы против него были сопряжены с исключительными трудностями; там еще жили внуки тех, кто разбил знаменитого римского генерала Красса и уничтожил людей и коней его войска [66]. И все же парфяне пошли на этот жалкий компромисс. И он, этот парфянский принц, согласился, чтобы ему забили саблю в ножны. Так ему, по крайней мере, удастся сохранить известную автономию и хоть пожалованную диадему. Если уж могущественный парфянин мог удовольствоваться этим, то разве не безумие, когда люди в маленькой Иудее начинают воображать, будто они могут тягаться с мощным Римом? Иудея легко достижима, она окружена латинизированными провинциями, и Рим уже больше столетия насаждает в них свое управление и военную технику. То, что болтают «Мстители Израиля» в Голубом иерусалимском зале, — чистый вздор. Иудея должна включиться в целостный строй мира, как и другие страны; бог теперь в Италии, мир стал римским.
И вдруг рядом с ним очутился Юст.
— Царь Тиридат сильно проигрывает рядом с вашими Маккавеями, доктор Иосиф, — сказал он.
Иосиф взглянул на Юста: лицо его коллеги было желто, скептично, и Юст казался намного старше Иосифа, хотя на самом деле они были почти ровесники. Что он — издевается над Иосифом? К чему эти слова?
— Я, во всяком случае, придерживаюсь того мнения, — отозвался Иосиф, — что сабля, забитая в ножны, менее симпатична, чем вынутая из ножен.
— Но во многих случаях первое разумнее, а иной раз и героичнее, — возразил Юст. — Нет, серьезно, — продолжал он, — жаль, что такой талантливый человек, как вы, превращается в такого вредителя.
— Я вредитель? — возмутился Иосиф. Кровь бросилась ему в голову оттого, что другой так точно и беспощадно сформулировал смутные упреки, нередко мучившие его по ночам. — Моя книга о Маккавеях, — продолжал он, — показала Риму, что мы, иудеи, все-таки продолжаем быть иудеями, а не становимся римлянами. Разве это вредительство?
— И теперь император, пожалуй, снимет свою подпись с эдикта о Кесарии, а? — спросил Юст мягко.
— Эдикт ведь еще не обнародован, — ответил Иосиф, сдерживая злобу. — «Есть люди, — процитировал он, — которые знают даже то, что Юпитер шепнул на ухо Юноне» [67].
— Боюсь, — заметил Юст, — что, когда Рим покончит с парфянами, опубликования долго ждать не придется.
Они сидели на трибуне, внизу проходила кавалерия в парадной форме, но солдаты сидели в седлах вольно, толпа рукоплескала, офицеры надменно смотрели прямо перед собой, ни направо, ни налево.
— Вам не следовало самому себе морочить голову, — сказал Юст почти презрительно, — Я знаю, — он сделал отстраняющее движение, — вы дали классическое изображение наших освободительных войн, вы — иудейский Тит Ливий [68]. Но видите ли, когда наши живые греки теперь читают о мертвом Леониде [69], это остается для них безвредным, чисто академическим удовольствием. А когда наши «Мстители Израиля» в Иерусалиме читают историю Иуды Маккавея, у них начинают сверкать глаза и их руки ищут оружия. Разве вы считаете, что так нужно?
В это время внизу проехал человек, опоясанный забитой в ножны саблей. Все, находившиеся на трибуне, встали. Народ приветствовал его неистовыми кликами.
— Кесария, — сказал Юст, — у нас отнята окончательно, и вы это дело римлянам до известной степени облегчили. Вы намерены дать им еще ряд предлогов, чтобы превратить и Иерусалим в римский город?
— Что может сделать в наши дни еврейский писатель? Я не хочу, чтобы Рим поглотил Иудею, — ответил Иосиф.
— Еврейский писатель, — возразил Юст, — должен прежде всего понять, что теперь нельзя изменить мир ни железом, ни золотом.
— Железо и золото тоже становятся частью духа, когда ими пользуются для духовных целей, — возразил Иосиф.
— Красивая фраза для ваших книг, господин Ливий, ничего более дельного вы сказать не в состоянии, — сыронизировал Юст.
— А что же делать Иудее, если она не хочет погибнуть? — спросил в свою очередь Иосиф. — Маккавеи победили потому, что были готовы умереть за свои убеждения и свое знание.
— Я не вижу в этом смысла, — возразил Юст, — умирать за какое-то знание. Умирать за убеждения — дело воина. Миссия писателя — передавать их другим. Не думаю, — продолжал он, — чтобы невидимый бог Иерусалима стоил теперь так же дешево, как бог ваших Маккавеев. И я не думаю, что если кто за него умрет, то это уж так много. Бог требует большего. Страшно трудно построить невидимую обитель для этого невидимого бога, и уж во всяком случае это не так просто, как вы себе представляете, доктор Иосиф. Ваша книга, может быть, и перенесет какую-то частицу римского духа в Иудею, но уж наверное ничего — от духа Иудеи в Рим.
Разговор с Юстом задел Иосифа больше, чем он ожидал. Тщетно твердил он себе, что в Юсте говорит только зависть, так как книги Иосифа имели успех, а Юстовы — нет. Обвинения Юста засели в нем, точно заноза, он никак не мог вырвать их из своего сердца. Он перечел свою книгу о Маккавеях, старался вызвать все великие чувства тех одиноких ночей, когда она была написана. Напрасно. Он должен Юста одолеть. Без этого он жить дальше не может.
Иосиф решил отнестись к делу Кесарии как к предзнаменованию. Рим вот уже год угрожает ей нелепым эдиктом. Только его подписание подтвердило бы правоту Юста. Хорошо. Если дело действительно решится не в пользу евреев, тогда он смирится, тогда он готов признать свою неправоту, тогда его книга о Маккавеях не выражает подлинного духа Иудеи, Юст — великий человек, а он — ничтожный, мелкий честолюбец.
Ряд долгих дней проходит в мучительном ожидании. Наконец Иосиф уже не в силах выносить тревоги. Он достает игральные кости. Если они лягут благоприятно, значит дело решится в пользу евреев. Он бросает их. Кости легли неблагоприятно. Он бросает вторично. Опять неудача. Он бросает в третий раз. На этот раз — удача. Он пугается. Совершенно бессознательно выбрал он перекошенную игральную кость.
И, как всегда, ему хочется назад, в Иудею. За эти полтора года пребывания в Риме он многое забыл, он уже не видит ее; он должен вернуться, чтобы набраться сил в Иудее.
Поспешно готовится он к отъезду. Добрая половина еврейского населения стоит у ворот Трех улиц, откуда отъезжает экипаж, который должен отвезти его на корабль, отплывающий из Остии. Трое провожают его и дальше: это Ирина, жена доктора Лициния, актер Деметрий Либаний, писатель Юст из Тивериады.
По пути Деметрий говорит о том, что и он некогда уедет в Сион, и уже навсегда. Нет, особенно долго ждать теперь не придется. Едва ли он еще будет играть больше чем семь-восемь лет. Тогда наконец он увидит Иерусалим. Актер грезит о храме: вот он, сияя, царит над городом, со своими гигантскими террасами и белыми с золотом залами. Он грезит о матово поблескивающей завесе, закрывающей святая святых, об этой ткани, равной которой по красоте нет в мире. Он знает каждую деталь святыни, вероятно, даже лучше, чем многие, видевшие ее воочию, — так часто заставлял он рассказывать о ней.
Они прибыли в остийскую гавань. Солнечные часы показывают восьмой час. Иосиф высчитывает по-детски, с трудом, обстоятельно: прошел год семь месяцев двенадцать дней и четыре часа, как он покинул Иудею. Его вдруг охватывает почти физическая тоска по Иерусалиму — ему хотелось бы дуть вместе с ветром в паруса корабля, чтобы тот шел быстрее.
Трое его друзей стоят на набережной. Серьезна и тиха Ирина, насмешлив и грустен Юст; но Деметрий Либаний поднимает торжественным жестом руку с открытой ладонью, наклонив вперед верхнюю часть тела. Это больше чем прощальное приветствие Иосифу — это приветствие всей их далекой, горячо желанной стране.
Исчезают люди, исчезают Остия, Рим, Италия. Иосиф в открытом море. Он едет в Иудею.
На том же корабле тайно едет курьер, который везет губернатору Иудеи приказ возвестить городу Кесарии императорское решение об избирательном законе.
[60] Великое отлучение — так называемый «херем», возбранявший какое бы то ни было общение с отлученным и сопровождавшийся конфискацией его имущества. В случае смерти подвергшегося отлучению всякий траур по нем был запрещен, а на гроб его клали камень, что символизировало побиение камнями.
[59] Тора. — Это слово означает заповедь божью, а также совокупность всех заповедей, данных богом израильскому народу через Моисея. Здесь — пергаментный свиток, содержащий Пятикнижие Моисеево. Свитки торы считались величайшей святыней; те из них, которыми пользовались для публичного чтения, хранились в синагогах, в драгоценных, богато украшенных ящиках (кивотах).
[58] Кассий Лонгин Гай — крупный авторитет в области римского гражданского права, основатель особой школы в юриспруденции. Нерон отправил его в ссылку за то, что среди изображений предков он хранил в своем доме восковую маску Гая Кассия — убийцы Цезаря.
[53] Субботние светильники. — В канун субботы и больших праздников, как только на небе появлялась первая звезда, хозяйка дома торжественно, с молитвой зажигала особые светильники.
[52] Мезуза (букв.: «дверной косяк», евр.) — кусок пергамента со стихами из Библии, говорящими о единстве бога, божественном промысле и обязанностях человека по отношению к богу. Свернутую в свиток мезузу заключают в футляр и прикрепляют к правому косяку двери. Весь этот обычай основан на словах Библии: «И ты напишешь их (т. е. слова учения) на дверных косяках твоего дома и твоих воротах» (Второзаконие, 6: 9).
[51] Занавес свертывается, опускаясь. — В римском театре, как и в наши дни, был занавес, до начала представления закрывавший сценическую площадку от зрителей, но, в отличие от нынешних времен, он не раздвигался и не поднимался, а опускался вниз.
[50] ...в царствование Ирода был основан этот город... — В действительности Ирод Великий не основал, а расширил прежде существовавшее укрепленное поселение Стратонову Башню (в 13 до н. э.) и в честь императора Августа — чье полное имя было Гай Юлий Цезарь Октавиан Август — назвал его Caesarea (Кесария).
[57] Левиты — по Библии, одно из двенадцати «колен Израилевых», потомки Левия, третьего сына Иакова (Израиля), избранное богом для служения при скинии (переносном храме). Когда был воздвигнут постоянный храм в Иерусалиме, левиты разделились на четыре класса: 1) певцов и музыкантов, 2) помощников священников, 3) привратников, 4) приставов и судей (последние несли свои обязанности вне храма и даже большей частью вне Иерусалима).
[56] ...как некогда Давид плясал перед ковчегом. — Библия (Вторая Книга Царств, 6) рассказывает, что царь Давид приказал перенести «ковчег завета Господня» (т. е. ящик с каменными скрижалями закона, данного богом Моисею на горе Синай) в Иерусалим, в специально поставленный для него шатер (прежде ковчег «кочевал» с места на место). На последнем этапе этого пути, подле самого Иерусалима, Давид «скакал и плясал изо всей силы пред Господом».
[55] ...требуют, чтобы он поклонялся их богам: ...Тельцу, Овну и Соколу. — Священный бык (телец) Апис, которого с величайшим благоговением чтили во всем Египте, считался телесной оболочкой души бога Озириса. Центром его культа был Мемфис. В образе барана (овна) египтяне поклонялись богу Аммону, которого греки и римляне отождествляли с Зевсом (Юпитером), а в образе сокола (точнее кобчика) — Гору, сыну Изиды, отождествлявшемуся с Аполлоном.
[54] «На реках вавилонских...» — псалом 136.
[49] «Наблион», — сказал Талассий, а еврей поправил... — Грек Талассий исказил на греческий лад латинское слово «nablium», обозначающее финикийскую арфу и представляющее собою семитское заимствование. «Nabla» — правильная греческая форма этого слова, «nebel» — еврейская.
[48] Последний царь, правивший в Иерусалиме — Агриппа I (37–44 н. э.), отец многократно упоминаемого ниже Агриппы II.
[47] Фельдмаршал Корбулон — полководец Гней Домиций Корбулон, нанесший в 58 и 61 гг. н. э. в Армении сокрушительные поражения армянскому царю Тиридату и его брату, царю Парфии Вологезу. Завидовавший его славе Нерон отозвал Корбулона с театра военных действий, и тот, не дожидаясь императорского приказания умереть, покончил с собой.
[42] Йильди (арам.) — дитя мое.
[41] ...Гораций... ввел этот тип в литературу. — В действительности Гораций («Сатиры», I, 5, 100) смеется лишь над легковерием Апеллы. Вообще, легковерие и суеверие было для римлян синонимом еврейского вероучения.
[40] ...заговорил по-арамейски... а цитаты из Писания... приводил по-еврейски. — В I в. н. э. разговорным языком Палестины был близкий к еврейскому халдейский, или арамейский (от слова «арам» — так евреи называли племена, обитавшие к северо-востоку от Палестины), тогда как Библия написана на еврейском (кроме некоторых книг позднего происхождения, обильно уснащенных арамеизмами).
[46] Скрибоний Ларг — римский врач первой половины I в. н. э., автор широко известного в древности труда «О составлении лекарств».
[45] Во время еврейских погромов при императорах Тиберии и Клавдии... — При Тиберии (14–37 н. э.) евреи подверглись гонениям вместе с последователями культа Изиды: они были выселены из Рима, синагоги закрыты, священные книги сожжены. Клавдий (41–54 н. э.) запретил римским евреям отправлять богослужение, и многие из них покинули город.
[44] Уважаемые ученые в... Вавилоне... — После первого разгрома Навуходоносором Иудейского царства (597 до н. э.) евреи неоднократно насильственно переселялись завоевателями в Вавилонию. Часть изгнанников затем вернулась на родину, но в Вавилонии остались многочисленные и многолюдные еврейские поселения. Насколько процветало там богословие в изображаемый Фейхтвангером период — неизвестно, но начиная с III в. н. э. центром духовной жизни еврейства на много столетий стала Вавилония.
[43] «Не сотвори себе кумира». — Исход, 20: 4, вторая из десяти заповедей.
[39] Яники (др.-евр.) — мой питомец, мой выкормыш.
[38] «Пусть право течет...» — Книга пророка Амоса, 5: 24.
[37] Сион — часть Иерусалима, где была расположена резиденция царя Давида. Позже Сион стал поэтическим названием холма, на котором стоял храм (Храмовой горы), всего Иерусалима в целом и даже всего Иудейского государства.
[36] ...называет Ягве его настоящим именем... — Библия употребляет много имен божиих, самое частое и важное из которых — так называемый «Тетраграмматон» («Четырехбуквенник») JHWH, по всей вероятности обозначающее «Сущий» или «Тот, который жив» и произносившееся «Яхве». Уже очень рано это имя стало считаться величайшей святыней, и потому его точное произношение сделалось табу и было забыто, а JHWH превратилось в идеограмму, произносимую постоянно, как Адонай («Господь», «Мой господин»). Вследствие этого гласные звуки слова «Адонай» как бы слились с согласными Тетраграмматона, отсюда традиционное его произношение — «Егова» или «Иегова». Подлинное (или как оно называется в Талмуде, «явное») произношение Тетраграмматона было строжайше запрещено: ослушник, учили богословы, лишится своего удела в будущей жизни. Лишь в царстве мессии оно должно стать доступно всем людям.
[31] ...великие древние слова заповеди. — Имеется в виду библейская заповедь «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Левит, 19: 18).
[30] Молитвенные ремешки — два черных кожаных, кубической формы ящичка, в каждом из которых заключено по четыре написанных на пергаменте цитаты из Библии. С помощью прикрепленных к ящичкам длинных ремней один из них привязывают к левой руке, а другой ко лбу, обвивая ремень вокруг головы. Обряд этот основан на понимаемой буквально заповеди: «И навяжи их (т. е. слова божии) в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими (Второзаконие, 6: 8).
[35] День очищения (иом-киппур) — праздник покаяния и отпущения грехов, справляющийся также осенью, за пять дней до кущей, один из торжественнейших праздников в году. До разрушения храма жертвы в этот день приносил сам первосвященник, одетый с головы до ног в белое, что символизировало душевную чистоту.
[34] Кущи — древний еврейский праздник жатвы, в более поздние времена справлявшийся в память о сорокалетнем странствовании евреев по пустыне (после исхода из Египта), когда они жили в шалашах и палатках («кущах»).
[33] Весталки — девственные жрицы богини домашнего очага Весты.
[32] Театр Марцелла — театр на двадцать тысяч зрителей, посвященный императором Августом памяти своего зятя Марцелла.
[28] Колумелла Луций Юний Модерат — современник Сенеки, автор дошедшего до нас сочинения «О сельском хозяйстве».
[27] Сенека Луций Анней (4 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ и писатель, воспитатель Нерона, покончивший с собою по приказу своего воспитанника. Его знаменитые слова о рабах — цитата из «Писем к Луцилию» (начало письма 47).
[26] «Египтяне с жестокостью...» — Исход, 1: 11–14 (цитата не совсем точна).
[25] Тибурские ворота — городские ворота, у которых начиналась дорога, ведущая на восток от Рима, в город Тибур.
[29] Буква «Е». — Вероятно, Фейхтвангер имеет в виду первую букву слова «ergastulum», означающего каторжную тюрьму описанного здесь типа.
[20] Эшкол — долина в южной части Палестины, славившаяся своими виноградниками.
[24] Актер Деметрий Либаний. — Из «Жизнеописания» Иосифа (гл. 13–16) известно, что актер-еврей, оказавший ему поддержку, звался Алитир. Другие источники об этом актере не упоминают. Фейхтвангер дает ему имя Деметрия, знаменитого актера, упоминаемого поэтом Ювеналом и ритором Квинтилианом.
[23] ...как он созрел сто пятьдесят лет назад для греческой культуры. — Рим стал усиленно усваивать греческую образованность и культуру еще в первой половине II в. до н. э., намного раньше, чем за сто пятьдесят лет до описываемых здесь событий. К концу I в. н. э. этот процесс зашел уже так далеко, что можно говорить о единой греко-латинской культуре времен Римской империи.
[22] ...на праздник пасхи и он... принес в храм своего жертвенного агнца. — В праздник пасхи, справлявшийся в память избавления евреев от египетского рабства, «исхода из Египта», каждый глава семейства должен был заколоть ягненка (пасхального агнца), чтобы затем изжарить его и съесть в кругу семьи. Со временем заклание жертвы стало исключительным правом священников, и к пасхе бесчисленные паломники со всех концов Палестины стекались в Иерусалим, к храму. Паломничество совершали иногда и иудеи из других стран.
[21] Велийская община. — Велией назывался невысокий пригорок в самом центре Рима (между Палатинским холмом и Форумом).
[69] Леонид — спартанский царь, во главе отряда из трехсот воинов оборонявший от огромной персидской армии Фермопильское ущелье, открывающее путь из Северной Греции в Среднюю (480 до н. э.). Леонид и его соратники пали все как один.
[64] По всему Востоку распространялись легенды о трех восточных царях... — Попытка рационально объяснить евангельское предание о трех волхвах, явившихся с дарами к новорожденному Иисусу (см. От Матфея, 2).
[63] Император... запер храм Януса... — Янус — италийское божество, бог-покровитель всякого начала. Плутарх («Нума», XX) сообщает: «В Риме Янусу воздвигнут храм с двумя дверями; храм этот называют вратами войны, ибо принято держать его отворенным, пока идет война, и закрывать во время мира. Последнее случалось весьма редко, потому что Империя постоянно вела войны...»
[62] Труд Юста «Об идее иудаизма» — вымысел Фейхтвангера.
[61] Освободительная борьба Маккавеев против греков. — В начале II в. до н. э. Палестина попала под власть сирийских царей Селевкидов. Их политика насильственной эллинизации, поддерживавшаяся еврейской аристократией, привела в 168 г. до н. э. — после того как Антиох IV Епифан запретил соблюдение всех иудейских религиозных обрядов и обязал евреев приносить жертвы греческим богам — к восстанию, которое возглавил священник Маттафий Хасмоней со своими пятью сыновьями. В 166 г. до н. э. он умер, и во главе повстанцев встал его третий сын, Иуда, по прозвищу Маккави (Молот), которое позже стало фамильным именем Хасмонеев (а также распространилось на всех вообще исповедников иудаизма и защитников его от чужеземных притеснителей). Иуда, многократно наносивший сирийцам сокрушительные поражения, освободивший Иерусалим и очистивший храм от «языческой скверны», пал в 160 г. до н. э. Младший из Маккавеев, Ионатан, достиг власти и сана первосвященника, но в 143 г. до н. э. был коварно убит сирийцами. Борьба успешно продолжалась под началом второго сына Маттафия — Симона; в 141 г. до н. э. народ, священники и старейшины провозгласили его первосвященником и князем. С Симона начинается династия Хасмонеев, правившая страной вплоть до середины I в. до н. э. Приписываемая Иосифу (а на самом деле ему не принадлежащая) книга о Маккавеях — так называемая «Четвертая книга Маккавеев», или «О господстве разума», — рассказывает не об «освободительной борьбе», а о мученической гибели нескольких евреев, отказавшихся вкусить мяса жертвенного животного, закланного в честь языческих богов.
[68] Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — великий римский историк.
[67] «Есть люди, которые знают...» — прозаический перевод стиха из комедии великого римского комедиографа Плавта (ок. 250–184 до н. э.) «Три монеты», 208.
[66] ...разбил знаменитого римского генерала Красса... — Поход Марка Лициния Красса (победителя Спартака и товарища Помпея и Цезаря по триумвирату) против парфян (53 до н. э.) окончился полным разгромом римского войска и гибелью самого Красса.
[65] Когда-то персы оттеснили Запад далеко вспять, затем Александр на века отбросил назад Восток. — Речь идет о Персидской державе, простиравшейся до берегов Эгейского моря и включавшей в себя Египет и греческие города Малой Азии, и о походах Александра Великого, покорившего всю юго-западную Азию вплоть до границ Индии.
[17] Субура — густонаселенный район Рима со множеством лавок и харчевен.
[16] Всадники — второе привилегированное сословие в Римском государстве; ядром его были крупные богачи. Всадники носили узкую пурпурную полосу на тунике и золотое кольцо.
[15] Всесожжение — обряд, при котором жертвенное животное сжигалось целиком. Среди общественных, совершаемых от имени всего народа всесожжений были два ежедневных — утреннее и вечернее.
[14] «Roma» означает силу. — Rhóme — «сила» по-гречески.
[19] ...место на одной из трех застольных кушеток. — Во времена Империи за едой обыкновенно лежали. К столу с трех сторон приставляли ложа, с четвертой, которая оставалась свободной, подавали кушанья.
[18] Марсово поле — поле на левом берегу Тибра, в городских пределах, первоначально — место военных (почему и называлось Марсовым) и гимнастических упражнений, впоследствии — военных и гражданских собраний. В I в. н. э. значительная часть поля была уже застроена.
[13] ...на Капитолии сенат и римский народ выносили решения... — Заседания сената часто происходили в храме Юпитера Капитолийского (на вершине Капитолийского холма).
[12] ...сенаторскую пурпурную полосу на одежде. — К числу знаков достоинства, отличавших сенаторское сословие — первое в государстве, принадлежали широкая пурпурная полоса на передней стороне туники, спускавшаяся от шеи вниз, и упоминаемые ниже высокие башмаки, украшенные полумесяцем из слоновой кости или серебра.
[11] Священник первой череды. — Священники, ведавшие жертвоприношениями и храмовой службой, делились на двадцать четыре череды, исполнявшие свои обязанности по очереди. По словам самого Флавия («Против Апиона», II, 8), число священников в каждой череде доходило до пяти тысяч. В изображаемую эпоху череды менялись еженедельно.
[10] Путеолы — приморский город близ Неаполя, ныне Поццуоли. Остия — город в устье Тибра, морская гавань Рима.
[6] Иерусалимский Великий совет — так Фейхтвангер называет Синедрион (или Великий синедрион), высшее коллегиальное учреждение в Иерусалиме с политическими и судебными функциями, состоявшее из семидесяти одного или семидесяти двух членов и возглавлявшееся первосвященником. Во времена римского владычества Синедрион играл роль верховного суда Иудеи.
[5] Кесария — большой приморский город в северной части Палестины со смешанным — еврейско-языческим — населением.
[4] ...еврею в его положении подобает выходить только с покрытой головой. — На самом деле еврейский религиозный обычай, запрещающий обнажать голову, гораздо более позднего происхождения.
[3] Городские кварталы. — Император Август разделил Рим на четырнадцать кварталов. Три из них (а не четыре, как пишет Фейхтвангер), те, что лежали к востоку и северо-востоку от Палатина, были совершенно уничтожены пожаром 64 г., и на расчищенной огнем территории Нерон задумал создать гигантскую императорскую резиденцию, но замысла своего осуществить не успел и только начал строить свой дворец — так называемый «Золотой дом».
[9] Каменный зал (или Зал Каменных плит) — так называлось одно из помещений Иерусалимского храма, служившее залом заседаний Синедриона.
[8] Ученая степень доктора — сан законоучителя и судьи. В I в. н. э. в Палестине лица, носившие этот сан, обычно именовались почетным титулом «рабби» («мой учитель»).
[7] Агриппова община. — В середине I в. н. э. в Риме было несколько еврейских общин со своими молельными домами (синагогами). Одну из них Фейхтвангер представляет себе основанной иудейским царем Агриппой или же находящейся под его покровительством.
[2] Форум (букв.: «торжище, рыночная площадь») — центр общественной, политической и деловой жизни Рима, находившийся у северного склона Палатинского холма.
[1] Палатин — один из холмов, на которых стоит город Рим. Здесь императоры, начиная с Августа, строили себе дворцы, впоследствии соединенные в один громадный дворец.
Книга вторая
Галилея
13 мая в девять часов утра губернатор Гессий Флор принял представителей городского самоуправления Кесарии и сообщил им решение императора относительно избирательного закона, согласно которому евреи теряли власть над официальной столицей страны. В десять часов правительственный глашатай возвестил эдикт с ораторской трибуны на большом форуме. В мастерской братьев Закинф уже приступили к отливке текста из бронзы, чтобы навеки сохранить его таким образом в архивах города.
Греко-римское население бурно ликовало. Гигантские статуи при входе в гавань, колонны с изображениями богини — покровительницы Рима и основателя монархии, бюсты правящего императора на углах улиц были украшены венками. По городу проходили оркестры, хоры декламаторов, в гавани бесплатно выдавалось вино, рабы получали отпуска.
Но в еврейских кварталах обычно столь шумные дома стояли белые и пустые, лавки были закрыты, над жаркими улицами навис тоскливый страх погрома.
На следующий день, в субботу, евреи, придя в главную синагогу, увидели у входа начальника греческого отряда со своими солдатами, приносившего в жертву птиц. Такие жертвы приносились обычно прокаженными, а в Передней Азии излюбленное издевательство над евреями состояло в том, что им приписывали происхождение от египетских прокаженных [70]. Служители синагоги предложили грекам поискать для своего жертвоприношения другое место. Греки нагло отказались, заявив, что миновали времена, когда кесарийские евреи могли орать на них. Еврейские служители обратились к полиции. Полиция заявила, что должна сначала получить соответствующие инструкции. Наиболее вспыльчивые из евреев, не пожелавшие оставаться дольше зрителями дерзкой проделки греков, попытались силой отнять у них жертвенный сосуд. Блеснули кинжалы, ножи. Наконец, когда уже были убитые и раненые, вмешались римские войска. Они задержали нескольких евреев как зачинщиков беспорядков внутри страны, у греков они конфисковали жертвенный сосуд. После этого те из евреев, кто мог, бежали из Кесарии, забрав свою движимость. Священные свитки с Писанием были спрятаны в безопасное место.
События в Кесарии, эдикт и его последствия послужили причиной того, что партизанская война против римского протектората, которую Иудея вела вот уже целое столетие, вспыхнула по всей стране с новым яростным озлоблением. До сих пор, по крайней мере в Иерусалиме, обеим партиям порядка, аристократической — «Неизменно справедливых» и буржуазной — «Подлинно правоверных», удавалось удерживать население от насилий над римлянами; теперь, после эдикта о Кесарии, перевес получила третья партия, «Мстителей Израиля».
Все большее число участников партии «Подлинно правоверных» переходило теперь к ним; даже сам начальник храмового управления, господин доктор Элеазар бен Симон, открыто перешел к «Мстителям Израиля». Повсюду пестрели их знаки: слово «Маккавей» и начальные буквы иудейского изречения «Кто сравнится с тобою, Господи?» [71] — служившего также девизом повстанцев. В Галилее откуда-то вдруг вынырнул агитатор Нахум [72], сын казненного римлянами вождя патриотов, Иуды. Почти целых десять лет о нем ничего не было слышно, его уже считали погибшим, а тут он неожиданно появился в городах и деревнях северной провинции, и повсюду стекались толпы, чтобы послушать его.
— Чего еще вы ждете? — с пылкостью фанатика убеждал он хмурых, озлобленных слушателей. — Одно присутствие необрезанных уже оскверняет нашу страну. Их войска дерзко попирают плиты храма, их трубы врываются отвратительным ревом в священную музыку. Вы избраны служить Ягве, вы не можете поклоняться цезарю, свиноеду. Вспомните о великих ревнителях Божиих, о Пинхасе [73], об Илии, об Иуде Маккавее. Неужели вас недостаточно грабят собственные эксплуататоры? Неужели вы еще дадите чужеземцам отнять у вас благословение, предназначенное вам Ягве, чтобы они устраивали бои гладиаторов и травили вас дикими зверями? Не заражайтесь трусостью «Подлинно правоверных». Не покоряйтесь жажде наживы «Неизменно справедливых», которые лижут руку поработителей, потому что те охраняют их денежный мешок. Времена исполнились. Царствие Божие близко. В нем бедняк стоит столько же, сколько и пузатый богач. Мессия родился, он только ждет, чтобы вы зашевелились, тогда он объявится. Убивайте трусов из Великого совета в Иерусалиме! Убивайте римлян!
Вооруженные союзы «Мстителей Израиля», которые были как будто начисто уничтожены, снова возродились по всей стране. В Иерусалиме дело дошло до бурных демонстраций. На дорогах страны римляне, появлявшиеся без военной охраны, подвергались нападениям, их забирали в плен в качестве заложников. И так как императорское финансовое управление ввело в это же время довольно суровые налоги, молодежь, приверженцы «Мстителей Израиля», стала ходить по улицам с сумой для сбора подаяний и приставала к прохожим:
— Подайте милостыню бедному неудачнику — губернатору!
Тогда Гессий Флор решил применить крутые меры и потребовал, чтобы ему выдали зачинщиков. Местные чиновники заявили, что они не смогут этого добиться. Губернатор отдал приказ войскам обыскать дом за домом весь Верхний рынок и прилегающие улицы, где, по его подозрениям, находился штаб «Мстителей Израиля». Обыски переходили в грабежи. Евреи пытались защищаться, с крыш некоторых домов открыли стрельбу. Убитые были не только среди евреев, но и среди римлян. Губернатор приказал судить бунтовщиков военным судом. Озлобленные солдаты тащили на суд и правых и виновных; простого доноса, что человек принадлежит к «Мстителям Израиля», было достаточно. Смертные приговоры так и сыпались. По закону римских граждан можно было казнить только мечом. Гессий Флор приказывал подвергать евреев позорной казни, пригвождая их к кресту, даже если у них было звание всадника и золотое кольцо этого второго сословия римской знати.
Когда же приговор должен был состояться над двумя членами Великого совета, перед офицерами, заседавшими в военном суде, появилась, сопровождаемая безмолвной, потрясенной толпой, сама принцесса Береника, сестра Агриппы, носившего титул царя. Исцеленная от тяжелой болезни, она, выполняя особенно строгий обет, остригла волосы, не носила никаких украшений. Это была красивая женщина, в Иерусалиме ее очень любили, охотно принимали и при римском дворе. Своей походкой она прославилась во всем мире. Ни одной женщине, от германской границы до Судана, от Англии до Инда, нельзя было сделать большего комплимента, чем сказать, что у нее походка как у принцессы Береники. И вот теперь эта знатная дама шла смиренной поступью, подобно тем, кто просит защиты, босая, в черной одежде, стянутой тонким шнурком, поникнув стриженой головой. Она склонилась перед председателем суда и просила о помиловании обоих священников. Офицеры были вежливы, галантно шутили. Но так как принцесса продолжала просить, они стали холодны и сухи, а под конец даже грубы, и униженной Беренике пришлось удалиться.
За эти пять дней, с 21 по 26 мая, в Иерусалиме было убито свыше трех тысяч человек, из них около тысячи женщин и детей.
Город кипел глухим возмущением. До сих пор ряды «Мстителей Израиля» пополнялись главным образом крестьянами и пролетариями, теперь в них вступало все больше зажиточных горожан. Повсюду люди шептали и даже кричали открыто, что вот послезавтра, нет, даже завтра страна восстанет против власти римлян. Местное правительство, Коллегия первосвященника и Великий совет взирали с тревогой на то, какой оборот принимает дело. Все высшие слои населения жаждали соглашения с Римом, боялись войны. «Неизменно справедливые» — по большей части аристократы и богатые люди, занимавшие главные государственные должности, — опасались, что война с Римом неизбежно перейдет в революцию против их собственного владычества, ибо они всегда жестоко и высокомерно отвергали скромные требования крестьян-арендаторов, ремесленников и пролетариев. Партия же «Подлинно правоверных», состоявшая из ученых при Иерусалимском храме, богословов и демократов, опиравшихся на широкие народные массы, считала, что восстановление былой свободы Иудейского государства надо предоставить Богу, и убеждала население не предпринимать никаких насильственных действий против римлян, пока те не покушаются на их веру и на шестьсот тринадцать заветов Моисея [74].
Вожди обеих партий настоятельно просили царя Агриппу, находившегося тогда в Египте, взять на себя посредничество между повстанцами и римским правительством. Правда, римляне оставили этому царю только область за Иорданом и некоторые галилейские города, в Иерусалиме же свели его власть к верховному надзору над храмом. Но он все же сохранил титул царя, считался первым иудеем среди иудеев, пользовался всеобщей любовью. В ответ на просьбы еврейского правительства он спешно отбыл в Иерусалим, решив, что будет сам говорить с массами.
Десятки тысяч пришли послушать его на большую площадь перед дворцом Маккавеев. Люди стояли плечом к плечу, за ними тянулась старая городская стена и лежала узкая долина, перетянутая полоской моста, а позади нее высился белый с золотом западный зал храма. Собравшиеся приветствовали царя хмуро, тревожно, с некоторым недоверием. Тогда между двумя рядами склоняющихся перед ней офицеров опять появилась принцесса Береника, она была снова в черном, но уже не в одежде просящей о защите, а в платье из тяжелой парчи. Под короткими волосами — удлиненное, породистое лицо казалось особенно смелым. Все смолкли, когда она вышла из дворцовых ворот. Так смолкают в день новолуния молящиеся [75], ожидая молодого месяца: он был скрыт облаками и невидим, а теперь он выходит, и они радуются. Медленно спустилась принцесса по лестнице к брату, тяжело вздувалась парча вокруг ног тихо идущей. И когда она затем подняла обе руки с вытянутыми ладонями, приветствуя народ, он пламенно и бурно ответил ей:
— Привет тебе, Береника, принцесса, грядущая во имя Господне.
Затем царь начал свою речь. Убедительно доказывал он, насколько безнадежна всякая попытка восстать против римского протектората. Он, этот элегантный господин, вздергивал плечи и вновь опускал их, выражая всем телом бессмысленность подобного начинания; разве все народы, населяющие землю, не стоят теперь на почве фактов? Греки, пожелавшие некогда самоутвердиться вопреки целой Азии, македоняне — их Александр посеял первые великие семена мировой империи, — разве теперь не достаточно было бы двух тысяч римских солдат, чтобы оккупировать обе страны? В Галлии жило до трехсот пяти различных племен, имелись превосходные естественные крепости, она сама производила все нужное ей сырье: и с помощью всего тысячи двухсот человек — столько же, сколько в стране городов, — разве не была подавлена в ней малейшая мысль о восстании? Двух легионов хватило на то, чтобы утвердить римский строй в огромном богатом Египте, с его древней культурой. А в отношении германцев, нравом более свирепых, чем дикие звери, Рим обошелся четырьмя легионами, и теперь можно путешествовать по эту сторону Рейна и Дуная так же спокойно, как и по Италии.
— Неужели вы, — царь озабоченно покачал головой, — не способны понять собственную слабость и оценить силы Рима? Скажите же мне, где ваш флот, ваша артиллерия, где источники ваших финансов? Мир стал римским. Где же вы раздобудете союзников и помощь? Может быть, в необитаемой пустыне?
Царь Агриппа убеждал своих евреев, словно они — неразумные дети. Если разобраться, то налоги, которых требует Рим, не так уж высоки.
— Подумайте только, ведь с одной Александрии Рим получает за один месяц больше налогов, чем со всей Иудеи за целый год. И он же дает взамен этих налогов очень многое. Разве он не проложил превосходные дороги, не построил водопроводы новейшей системы, не дал вам быстро работающее, дисциплинированное управление? — Широким настойчивым жестом убеждал он собравшихся. — Корабль еще находится в гавани. Будьте же благоразумны. Не пускайтесь навстречу ужасной непогоде и верной гибели.
Речь царя произвела впечатление. Многие закричали, что они не против Рима, они только против губернатора, против Гессия Флора. Но здесь ловко вмешались «Мстители Израиля». Молодой элегантный доктор Элеазар в убедительных выражениях потребовал, чтобы Агриппа первый подписал ультиматум Риму с предложением немедленно отозвать губернатора. Агриппа попытался уклониться, вилял, тянул. Элеазар стал торопить его с ответом, царь отказался. Все больше голосов кричали: «Подпись! Ультиматум! Долой Гессия Флора!» Настроение круто изменилось. Люди заявляли, что царь и губернатор — заодно, все они только грабят народ. Несколько парней с решительным видом напирали уже на царя. И он едва успел под защитой своей свиты укрыться во дворце. На следующий день он уехал из города весьма озлобленный и направился в свои безопасные Заиорданские провинции.
После этого поражения феодальных властителей и правительства радикалы всеми способами старались обострить конфликт. С основания монархии, вот уже сто лет, император и римский сенат еженедельно посылали жертву для Ягве и его храма. Теперь доктор Элеазар в качестве начальника храмового управления отдал дежурным священникам приказ больше не принимать этих жертвоприношений. Тщетно убеждали его и первосвященник, и его коллегия не провоцировать Рим такой неслыханной дерзостью. Доктор Элеазар с насмешкой отослал обратно жертву императора.
Для иудеев-ремесленников, для рабочих и крестьян это послужило сигналом к открытому восстанию против римлян и собственных феодальных властителей. Римский гарнизон был слаб. Вскоре «Мстители Израиля» овладели всеми важными стратегическими пунктами города. Они подожгли финансовое управление и под ликующие крики толпы уничтожили налоговые списки и закладные; разгромили и разграбили дома многих нелюбимых аристократов; заперли римские войска во дворце Маккавеев. С большой храбростью удерживали римляне этот последний, сильно укрепленный опорный пункт. Все же их положение было безнадежно, и когда евреи обещали им, при условии сдачи оружия, свободный выход, они с радостью приняли их предложение. Обе партии подтвердили клятвой и честным словом свое обещание отпустить их. Но как только осажденные отдали оружие, «Мстители Израиля» ринулись на беззащитных и начали их убивать. Римляне не оказывали сопротивления и не просили пощады, но они кричали: «Клятва! Условие!» Сначала они кричали эти слова хором, затем кричало все меньше голосов, все слабее становился хор, наконец остался только один голос, кричавший: «Клятва! Условие!» Но вот умолк и он. Это произошло в субботу, 7 сентября, 20 элула по еврейскому счислению.
Едва хмель бунта прошел, как городом овладела глубокая подавленность. И, словно подтверждая дурные предчувствия его обитателей, стали очень скоро приходить вести, что во многих городах со смешанным населением греки нападают на евреев. В одной Кесарии в ту черную субботу было перебито двадцать тысяч евреев; остальных губернатор погнал в доки и объявил рабами. В ответ на это в городах, где большинство населения составляли евреи, они предали разрушению греческие кварталы. Уже в течение ряда столетий греки и евреи, жившие вместе в городах на побережье, в Самарии и у границ Галилеи, питали друг к другу ненависть и презрение. Евреи гордились своим невидимым богом Ягве, они были убеждены, что только для них придет мессия, и расхаживали с надменным видом, уверенные в своей избранности. А греки издевались над их фанатическими идеями, над их вонючими суевериями, над смешными варварскими обычаями, и каждый старался причинить соседу как можно больше зла. Издавна происходили между ними кровавые распри. Теперь убийства, грабежи и пожары перебросились далеко за пределы Иудеи, и страна была полна непогребенных трупов.
Когда дело зашло так далеко, начальник Гессия Флора Цестий Галл, сирийский генерал-губернатор, решил наконец прибрать Иудею к рукам. Это был старый скептик, убежденный в том, что человек реже и меньше сожалеет о несодеянном, чем о содеянном. Но после того, как события приняли подобный оборот, нельзя было проявлять ложной слабости: Иерусалим следовало хорошенько проучить.
Цестий Галл мобилизовал весь Двенадцатый легион и еще восемь полков сирийской пехоты. Потребовал также от вассальных государств значительного контингента войск. Один только еврейский царь Агриппа, старавшийся доказать Риму свою верность, выставил две тысячи человек кавалерии да еще три стрелковых полка и встал самолично во главе своих войск. Цестий Галл обстоятельно, до малейшей детали, разработал всю программу карательной экспедиции. Не забыл он также подготовить сигнальные костры, чтобы сообщить о победе. Когда он войдет в Иерусалим судьей и мстителем, Рим должен узнать об этом в тот же день.
Бурным натиском ворвался он с севера в мятежную страну. Занял, следуя программе, прекрасный город колена Завулонова [76], разграбил его, сжег дотла. Занял, следуя программе, прибрежный город Яффу, разграбил его, сжег дотла. Его путь был отмечен разграбленными, сожженными городами, убитыми людьми; наконец 27 сентября он дошел, следуя программе, до Иерусалима.
Однако тут произошла задержка. Он рассчитал, что 9 октября овладеет фортом Антония [77], 10-го — возьмет храм. Наступало уже 14-е, а форт Антония все еще держался. «Мстители Израиля» не остановились перед тем, чтобы вооружить многочисленных паломников, приехавших на праздник кущей, и город был переполнен добровольческими отрядами. Наступало 27 октября, Цестий Галл стоял уже целый месяц перед Иерусалимом, а сигнальщики у заботливо оборудованных сигнальных постов все еще тщетно ждали, уже опасаясь, что, когда потребуется, их приспособления не будут действовать и их покарают. Цестий вызвал новые подкрепления, с большими жертвами подвел катапульты к самым стенам, подготовил к 2 ноября решительный штурм, намереваясь применить такие методы, при которых он, по всем человеческим расчетам, не мог не удаться.
Иудеи держались храбро. Но что значила храбрость отдельных людей перед обдуманной организацией римлян? Какое значение могло, например, иметь трогательное выступление трех освобожденных старцев, которые 1 ноября, накануне атаки, вышли одни за стены, чтобы поджечь римскую артиллерию? Среди бела дня появились они вдруг перед римскими сторожевыми постами, три дряхлых иудея со значком «Мстителей Израиля», с повязкой, на которой был начертан лозунг маккавеев, заглавные буквы еврейских слов: «Кто сравнится с тобою, Господи?» Сначала римляне решили, что это парламентеры и они должны передать что-то от осажденных, но они не были парламентерами: своими дрожащими старческими руками они стали пускать в машины горящие стрелы. Это было явным безумием, и римляне — да и как можно было иначе поступить с такими безумцами! — удивляясь, добродушно шутя, почти с состраданием прикончили их. В тот же день выяснилось, что это именно те три члена Великого совета, Гади, Иегуда и Натан, которые были некогда приговорены императорским судом к принудительным работам и затем с большой мягкостью амнистированы. Римляне все вновь ссылались на эту амнистию как на яркий пример своего доброжелательства и старались с ее помощью доказать, что причиной возникших волнений послужила не суровость римлян, а ослиное упрямство евреев; «Неизменно справедливые» и «Подлинно правоверные» тоже немало использовали эту амнистию в своих речах, приводя ее как подтверждение великодушия римлян. Так что трем мученикам наконец надоело расхаживать по городу в виде живой иллюстрации великодушия их заклятого врага. Их сердце принадлежало «Мстителям Израиля». Поэтому из педагогического фанатизма они решились на увлекающий других, благочестивый и героический подвиг.
Правда, вожди маккавеев прекрасно понимали, что одним настроением достигнешь немногого, если имеешь дело с осадными машинами римлян. И вот, решив не сдавать города и все же не надеясь удержать его, смотрели они на приготовления к последнему штурму, намеченному на следующий день.
Однако штурма не последовало. Ночью Цестий Галл отдал приказ свертывать палатки и начать отступление. Он казался больным и расстроенным. Что же случилось? Никто этого не знал. Все осаждали полковника Павлина, адъютанта Цестия Галла. Тот пожимал плечами. Генералы качали головой, Цестий не привел никакой причины для столь неожиданного приказа, а дисциплина не позволяла задавать вопросы. Армия снялась с места, начала отступать.
Сначала потрясенные, не веря, потом с облегчением, потом с беспредельным ликованием наблюдали евреи за уходом осаждавшего войска. Неуверенно, все еще опасаясь, что это тактический маневр, но затем все с большей энергией начали они преследование. Нелегким оказалось для римлян это отступление. От Иерусалима за ними шли по пятам повстанцы. В северной области, которую отступавшим надо было пересечь, некий Симон бар Гиора, галилейский вождь, организовал беспощадную партизанскую войну. Этот Симон бар Гиора, сделав быстрое обходное движение, засел с главной массой своих отрядов в ущелье Бет-Хорон. Имя этого ущелья звучало сладостной музыкой для уха еврейских партизан. Здесь Господь остановил солнце, чтобы генерал Иошуа [78] смог добыть Израилю победу; здесь Иуда Маккавей одержал верх над греками. Удался и маневр Симона бар Гиоры: римляне потерпели такое поражение, какого они не знали со времен своего поражения в Азии в эпоху Парфянской войны. У евреев число убитых еще не дошло до тысячи, а римляне уже потеряли пять тысяч шестьсот восемьдесят человек пехоты и триста восемьдесят кавалеристов. Среди убитых был и генерал Гессий Флор. Артиллерия, военные материалы, золотой орел легиона [79] и богатая военная казна в придачу — все досталось евреям.
Это произошло 3 ноября по римскому счислению, 8 диоса — по греческому и 10 мархешвана — по еврейскому, в двенадцатый год царствования Нерона.
Торжественно стояли со своими музыкальными инструментами левиты на ступенях храма, за ними, в самом храме, священники всех двадцати четырех черед. После удивительной победы над Цестием Галлом первосвященник Анан, хотя он и возглавлял партию «Неизменно справедливых», должен был совершить благодарственное служение; и вот они служили великий галлель [80]. События последних дней выплеснули на улицы города множество иностранцев; растерявшись, глазели они на строгую роскошь храма. Словно морской прибой, гремели голоса, разносясь по гигантским золотисто-белым залам:
— Настал день Господень. Будем радоваться и веселиться!
И все вновь и вновь, со всеми ста двадцатью тремя предписанными вариантами:
— Хвалите имя Господне!
Иосиф стоял впереди всех в своем белом иерейском облачении, с голубым, затканным цветами поясом вокруг талии. Захваченный, как и остальные, раскачивал он, следуя предписанному ритму, верхнюю часть тела. Никто не ощущал глубже, чем он, как чудесна эта победа, одержанная необученными партизанами над римскими легионами — этими шедеврами техники и точности, которые, состоя из многих тысяч людей, все же продвигались вперед, как один человек, управляемый единым мозгом. Бет-Хорон, Иошуа, чудо. Блестящее подтверждение того, что для покорения теперешнего Иерусалима одного разума недостаточно. Подлинно великие дела творятся не разумом, они — непосредственное внушение Божие. Тысячи людей, стоящие перед ступенями лестницы, взволнованы тем, как пламенно этот молодой пылкий священник поет вместе со всеми благодарственные гимны.
Однако, несмотря на все свое благочестивое воодушевление, он не может удержаться от размышлений о последствиях, вытекающих лично для него из этой непредвиденной победы маккавейских отрядов.
Иерусалим еще не имел времени отблагодарить его за успех в деле трех невинных. Едва прошла одна неделя после его возвращения, как уже начались беспорядки. Все же после своего успеха в Риме он стал популярным; умеренное правительство уже не могло теперь обращаться столь бесцеремонно с молодым аристократом; хотя его постоянно видели в Голубом зале среди «Мстителей Израиля», ему все же дали место и титул тайного секретаря при храме. Но это пустяк. Теперь, после великой победы, его шансы сразу высоко поднялись. Власть должна быть поделена заново. Голос народа заставит правительство включить в свой состав и некоторых маккавеев. Не позже чем завтра или послезавтра состоится собрание трех законодательных корпусов [81]. При новом распределении мест его обойти не посмеют.
— Хвалите имя Господне! — пел он со всеми. — Хвалите имя Господне!
Иосиф понимал, почему правительство до сих пор всячески старалось избежать войны с Римом. Даже вчера, после великой победы, многие вполне благоразумные люди все же поспешили покинуть город вслед за генерал-губернатором Цестием Галлом, чтобы доказать ему, несмотря на его поражение, что они не имеют никакого касательства к предательскому нападению бунтовщиков на армию императора. Старый богач Ханан, владелец огромных товарных складов на Масличной горе, ускользнул из города; государственный секретарь Завулон покинул свой дом и тоже уехал; священники Софония и Ирод бежали в Заиорданье, в область царя Агриппы. Многие ессеи сейчас же после победы над Гессием вернулись в пустыню, а сектанты, называющие себя христианами, просто сбежали. Иосифа мало влекло к себе и пресное благочестие одних, и безрадостная премудрость других.
Святое служение кончилось. Иосиф стал пробираться сквозь толпы, заполнявшие гигантский двор храма. У большинства были повязки, а на них знак «Мстителей Израиля» — слово «Маккавей». Тесной кучей стояли люди перед отбитыми у врага военными машинами, ощупывали их — пробивающие стены тараны, легкие катапульты, тяжелые камнеметы, которые могли посылать свои огромные снаряды на очень далекое расстояние. Повсюду в приятном ноябрьском солнце, вокруг римской добычи, идет веселая, добродушная суетня. Одежда, оружие, палатки, лошади, вьючные животные, утварь, украшения, сувениры всякого рода, связки розог и топоры ликторов [82]... С любопытством, злорадствуя, показывают зрители друг другу ремни, которые каждый римский солдат носил при себе для связывания пленных. Банкиры храма заняты разменом иностранных денег, оказавшихся при убитых.
Иосиф очутился возле горячо и взволнованно спорящей группы: солдаты, граждане, священники. Речь идет о золотом орле с портретом императора, о боевом знаке Двенадцатого легиона, также доставшемся в добычу. Партизанские офицеры требуют, чтобы орел был прибит к наружной стене храма, рядом с трофеями Иуды Маккавея и Ирода, на самом видном месте, возвещая о победе городу и всей стране. Но «Подлинно правоверные» не соглашаются; изображения животных, под каким бы то ни было предлогом, законом запрещены. Был наконец указан средний путь: пожертвовать орла в сокровищницу храма, отдать его в распоряжение доктора Элеазара, начальника храмового управления, который и сам ведь принадлежит к «Мстителям Израиля». Но нет, на это не соглашались офицеры. Люди, переносившие орла, стояли в нерешительности — они тоже предпочли бы, чтобы трофеи не исчезли в храмовой сокровищнице. Они положили на землю толстое древко с орлом. Грозный военный значок казался вблизи неуклюжим и аляповатым; грубым и некрасивым было и изображение императора в медальоне над ним, отнюдь не внушающее страха. Люди бурно спорили о том, как быть. И вот дух сошел на Иосифа, громко прозвучал его молодой голос, покрывая шум спора, требуя повиновения. Не нужно ни на стену, ни в сокровищницу: орла нужно разрушить, изрубить в куски. Он должен исчезнуть. Такое предложение пришлось всем по сердцу. Правда, выполнить его было нелегко. Орел оказался очень крепким; прошел целый час, пока его изрубили и люди разошлись, причем каждый уносил свой кусочек золота. Иосиф, герой, освободивший трех невинных из Кесарии, завоевал себе новые симпатии.
Иосиф устал, но он не может сейчас же отправиться домой, его влечет дальше, он идет по территории храма. Кто это там, перед кем с такой готовностью расступаются людские толпы? Молодой офицер невысокого роста; над короткой холеной бородкой выступает энергичный прямой нос, поблескивают узкие карие глаза. Это Симон бар Гиора, галилейский вождь повстанцев, победитель. Перед ним ведут белоснежное животное без единого пятна, очевидно — благодарственная жертва. Но Иосиф, неприятно изумленный, замечает, что Симон бар Гиора не снял оружия. Разве он хочет, имея при себе железо, идти к алтарю [83], которого железо никогда не касалось, ни во время построения, ни позже? Этого он делать не должен. Иосиф преграждает ему дорогу.
— Меня зовут Иосиф бен Маттафий, — говорит он.
Молодой офицер знает, кто это, здоровается почтительно, сердечно.
— Вы идете совершать жертвоприношение? — спрашивает Иосиф.
Симон подтверждает. Он улыбается, не теряя серьезности, от него веет глубоким удовлетворением и уверенностью. Однако Иосиф продолжает спрашивать:
— При оружии?
Симон краснеет.
— Вы правы, — соглашается он и велит людям, ведущим животное, подождать, сейчас он снимет оружие. Затем еще раз обращается к Иосифу. Сердечно, великодушно, так, что все слышат, он говорит: — Вы, доктор Иосиф, положили почин. Когда вы извлекли из римской темницы трех невинных, я почувствовал, что невозможное возможно. С нами Бог, доктор Иосиф! — Он кланяется ему, приложив руку ко лбу, в его глазах сияет благочестие, смелость, счастье.
Иосиф шел вдоль полого поднимавшихся улиц Нового города [84], через базары торговцев готовым платьем, через рынок Кузнецов, через улицу Горшечников. И снова отметил с удовлетворением, что в Новом городе все больше развивается торговля, промышленность, жизнь. Здесь Иосифу принадлежали земельные участки, которые владелец стекольной фабрики Нахум бен Нахум охотно купил бы у него. Иосиф уже было решил уступить их. Теперь, после великой победы, он раздумал. Стеклодув Нахум ждет ответа. Иосиф сейчас зайдет к нему и откажется. Он построит себе дом здесь, в Новом городе.
Стеклодув Нахум бен Нахум сидел перед своей мастерской, на подушках, скрестив ноги. У него в головах, над входом, висела эмблема Израиля — гроздь винограда из цветного стекла. Он встал, чтобы поздороваться с Иосифом, и предложил ему сесть. Иосиф опустился на подушки с некоторым усилием, он отвык от такой позы.
Нахум бен Нахум был статный плотный человек лет пятидесяти. Прекрасные живые глаза, которыми славились жители Иерусалима, свежее лицо, обрамленное густой четырехугольной черной бородой, где лишь изредка поблескивали седые нити. Нахуму очень хотелось узнать, как решил Иосиф, но он не подал и виду, а завел неторопливый разговор о политике. Может быть, хорошо, чтоб и молодые люди взялись наконец за кормило правления. После этой победы, одержанной «Мстителями», господам правителям из Зала совета следовало бы с ними объединиться. Он говорил оживленно, но твердо и с достоинством.
Иосиф внимательно слушал. Узнать, как смотрит на вещи Нахум бен Нахум после великой победы при Бет-Хороне, было интересно. Его мнение отражало мнение большинства иерусалимских горожан. Всего неделю назад все они были еще против «Мстителей Израиля»; теперь они об этом забыли, теперь они убеждены, что давно следовало допустить маккавеев к власти.
Из дома вышел доктор Ниттай, дальний родственник Иосифа со стороны матери, пожилой, ворчливый. Ниттай находился также в родстве с владельцем стекольного завода, и тот взял его в дело. Правда, доктор Ниттай ничего в деле не смыслит; но каждая фирма считалась более почтенной, если она принимала к себе ученого и уделяла ему часть доходов, «давала ему на зуб», как выражались по этому поводу с набожностью и легким презрением. Итак, доктор Ниттай, раздражительный и молчаливый, жил в доме стеклодува. Он считал великим благодеянием уже одно то, что разрешает владельцу фабрики вести дело под фирмой «Доктор Ниттай и Нахум» и содержать себя. Если он не был занят дискуссиями в университете при храме, то сидел перед домом на солнце, раскачиваясь, держа перед собой свиток с Писанием, повторяя нараспев доказательства и возражения в пользу или против тех или иных толкований. И никто тогда не смел ему мешать, ибо нарушающий изучение Священного Писания, чтобы сказать: «Взгляни, как прекрасно это дерево», как бы истребляет нечто.
На этот раз, однако, он не был занят изучением, и поэтому Нахум спросил его, не стои́т ли и он за то, чтобы включить «Мстителей Израиля» в правительство? Доктор Ниттай нахмурился.
— Не делайте себе из веры лопату, — сказал он сердито, — и не старайтесь копать ею. Писание существует не для того, чтобы вычитывать из него политику.
Завод и магазин Нахума торговали вовсю. Благодаря богатой военной добыче город был наводнен деньгами, и люди охотно покупали знаменитое нахумовское стекло. Нахум с достоинством приветствовал покупателей, предлагал им остуженные на снегу напитки, конфеты. Великая, блистательная победа, не правда ли? Коммерческие дела идут превосходно, хвала Богу. Если так будет продолжаться, то скоро можно будет обзавестись такими же большими складами, как склады братьев Ханан под кедрами Масличной горы [85]. «Тот, кто питается трудами рук своих, стоит выше, чем человек богобоязненный» [86], — не совсем кстати процитировал он. Однако достиг цели: доктор Ниттай рассердился.
Старик мог бы привести немало противоположных цитат, но он оставил их при себе, ибо, когда он начинал волноваться, его вавилонский акцент становился особенно заметен, и Иосиф со всей почтительностью вышучивал его.
— Вы, вавилоняне, разрушили храм [87], — говорил он обычно, а доктор Ниттай не выносил никакого поддразнивания.
Итак, он не участвовал в разговоре, он не занимался изучением Библии, он просто сидел, греясь на солнце, и о чем-то грезил, глядя перед собой. С тех пор как он перекочевал со своей родины, из вавилонского города Неардеи в Иерусалим, восьмой череде священников, череде Авии [88], к которой принадлежал и он, нередко выпадал жребий совершать служение в храме. Ему много раз приходилось приносить к алтарю отдельные части жертвенного животного. Но его высшая мечта, состоявшая в том, чтобы однажды высыпать на алтарь священный ладан из золотой чаши, еще ни разу не была осуществлена. Когда раздавался вой Магрефы, стозвучного гидравлического гудка, извещавшего о том, что вот сейчас совершается жертвенное воскурение, его охватывала глубокая зависть к священнику, на долю которого выпала эта благословенная задача. Он обладал всеми данными для этого, у него не было ни одного из ста сорока семи телесных изъянов, делающих священника непригодным для служения. Однако он уже не молод. Даст ли ему Ягве вытянуть жребий и совершить жертвенное воскурение?
Тем временем Иосиф сказал фабриканту о том, что решил не продавать участков. Нахум принял эту весть без малейших признаков гнева.
— Ваше решение да принесет нам обоим счастье, доктор и господин мой, — сказал он вежливо.
Пришел молодой Эфраим, четырнадцатилетний мальчик, младший сын Нахума. Он носил перевязь с начальными буквами девиза маккавеев. Это был красивый румяный подросток, но сейчас пламя жизни пылало в нем особенно ярко. Он видел Симона бар Гиору, героя. Удлиненные глаза на горячем смуглом лице Эфраима сияли воодушевлением. Может быть, нехорошо, что сегодня мальчик убежал из мастерской. Но не мог же он пропустить великое служение в храме. И был вознагражден: он видел Симона бар Гиору.
Иосиф уже собирался уходить, когда появился и старший сын Нахума, Алексий. Он был статен и плотен, как отец, с такой же густой четырехугольной бородой и румяным лицом; но глаза казались тусклее; он часто покачивал головой, часто поглаживал бороду огрубевшими пальцами, потрескавшимися от постоянных прикосновений к горячим массам. В нем не было такого спокойствия, как в отце, он всегда казался чем-то занятым, озабоченным. Увидев Иосифа, он оживился. Нет, теперь Иосифу нельзя уйти. Пусть Иосиф поможет ему убедить отца, пока еще, быть может, не поздно, покинуть Иерусалим.
— Вы знаете Рим, вы были там, — убеждал его Алексий. — Скажите сами, разве то, что делают сейчас маккавеи, не приведет к катастрофе? У меня прекрасные связи, у меня есть друзья-коммерсанты в Неардее, в Антиохии, в Батне. Клянусь жизнью моих детей — в любом городе за границей я в три года так поставлю дело, что оно не уступит здешнему. Уговорите отца уйти из этого опасного места.
Мальчик Эфраим накинулся на брата, его прекрасные глаза стали черными от гнева.
— Ты недостоин того, чтобы жить в такую эпоху! Все на меня смотрят косо, оттого что у меня такой брат. Иди-ка лучше к тем, кто жрет свинину! Ягве изверг тебя из уст своих!
Нахум останавливал мальчика, но нерешительно. Он и сам неохотно слушал речи своего сына Алексия. Правда, ему не раз становилось жутко, когда буйствовали «Мстители Израиля», и он, подобно другим «Подлинно правоверным», отказывался иметь с ними дело; но теперь почти весь Иерусалим признал маккавеев, и нельзя говорить такие вещи, какие говорил Алексий.
— Не слушайте моего сына Алексия, доктор Иосиф, — сказал Нахум. — Он хороший сын, но все у него должно быть не так, как у людей. Вечно голова набита всякими нелепыми идеями.
Иосиф знал, что именно этим нелепым идеям Алексия завод Нахума обязан своим процветанием. Нахум бен Нахум вел дела своей мастерской по старинке, как их вели отец и дед. Выделывал одно и то же, продавал одно и то же. Ограничивался иерусалимским рынком. Ходил на биржу, на «Киппу», заключал через нотариусов торжественные и обстоятельные сделки и следил за тем, чтобы они хранились в городском архиве. Отважиться на большее казалось ему дурным. Когда в Иерусалиме появилась вторая фабрика стекла, Нахум со своими простыми приемами не смог бы устоять против конкуренции. Тогда вмешался Алексий. До сих пор в мастерских Нахума работа выполнялась по большей части вручную, Алексий же модернизировал производство, и теперь применялась только длинная стеклодувная трубка, из которой рабочие выдували красивые округлые сосуды, так же как Бог вдувает в человеческое тело дыхание жизни. Кроме того, Алексий увеличил примесь истолченного в порошок кварца в стекольной массе, открыл крайне рентабельный филиал в Верхнем городе, где продавалось только роскошное стекло. Посылал товар на большие торговые рынки в Газу, Кесарию и на ежегодную ярмарку в Батну в Месопотамии. Алексию, которому едва минуло тридцать лет, пришлось вводить все эти новшества, непрерывно борясь с отцом.
Вот и сегодня Нахум изливал свое негодование на сына и на его сверхосторожные, предостерегающие речи. После такой пощечины римляне уже никогда не придут в Иерусалим. А если придут — их отбросят за море. Во всяком случае, он, Нахум бен Нахум, оптовый торговец, ни за что не покинет своего стекольного завода и не уйдет из Иерусалима.
— Стекло сначала вылепляли руками, потом его выдували из трубки, и Ягве благословлял это производство. Веками были мы стеклодувами в Иерусалиме и стеклодувами в Иерусалиме останемся.
Отец и сын сидели на подушках, внешне спокойные, но оба были взволнованы, и оба порывисто гладили свои четырехугольные черные бороды. Мальчик Эфраим гневно смотрел на брата; было ясно, что только почтение перед отцом удерживает его от того, чтобы не обрушиться на Алексия. Иосиф переводил взгляд с одного на другого. Алексий сидел спокойно, он вполне владел собой, даже улыбался, но Иосиф отлично видел, как грустно ему и горько. Наверное, Алексий прав, но его осторожность казалась скучной и презренной перед стойкостью отца и надеждами мальчика.
И снова Алексий начал взывать к разуму Нахума:
— Если римляне перестанут впускать в город наши транспорты песка с реки Бела [89], нам останется только прикрыть завод. Вы, конечно, другое дело, доктор Иосиф, вы — политический деятель, вам надо оставаться в Иерусалиме. Но мы, простые купцы...
— Крупные коммерсанты, — мягко поправил его Нахум и погладил бороду.
— ...Так не лучше ли нам как можно скорее убраться из Иерусалима?
Однако Нахум не хотел об этом и слышать. Он резко переменил тему.
— Наша семья, — заявил он Иосифу, — во всем крепка. Когда умер дед — память о праведном да будет благословенна, — у него еще оставалось двадцать восемь зубов, а когда умер отец — память о праведном да будет благословенна, — у него было тридцать. Мне сейчас за пятьдесят, и у меня целы все тридцать два зуба, а мои волосы почти не поседели и не падают.
Когда Иосиф хотел удалиться, Нахум предложил ему пойти вместе с ним в мастерскую и выбрать себе подарок. Ибо еще продолжается праздник победы при Бет-Хороне, а без подарка нет и праздника.
Печь дышала нестерпимым жаром, в мастерской стоял плотный дым. Нахум непременно хотел навязать Иосифу роскошную вещь — большой, прекрасной формы кубок в виде яйца, наружная поверхность которого была филигранной работы: казалось, весь он одет стеклянной сеткой. Нахум запел старую песенку:
«Если только раз, если только нынче есть роскошный кубок у меня, пусть он завтра разобьется...»
Однако Иосиф, как того требовали приличия, отказался от драгоценного подарка и удовольствовался предметом более скромным.
Мальчик Эфраим не мог удержаться, чтобы в дыму и зное мастерской не затеять новый бешеный политический спор с братом.
— Ты был на великом галлеле? — накинулся он на Алексия. — Конечно нет. Ягве покарал тебя слепотой. Но теперь меня уж не отговорят: я вступаю в гражданскую оборону.
Алексий насмешливо скривил рот. На слова пылкого мальчика он отвечал только молчанием да смущенной улыбкой. Как охотно уехал бы он с женой и двумя маленькими детьми из Иерусалима! Но он был глубоко привязан к своей семье, к своему прекрасному сумасбродному отцу Нахуму и к своему прекрасному сумасбродному брату Эфраиму. Один он в семье обладал здравым смыслом. И он должен остаться, чтобы оберечь их от худшего.
Наконец Иосиф ушел. Дверь с большой стеклянной виноградной кистью закрылась за ним, и после жары и дыма он радостно вдохнул приятный свежий воздух. Алексий проводил его часть дороги.
— Вы видите, — сказал он, — как всех охватывает безрассудство. Еще неделю тому назад мой отец был против маккавеев. Хоть вы-то сохраните благоразумие, доктор Иосиф. У вас есть пристрастия. Отрешитесь от некоторых из них и сохраните трезвость рассудка. Вы — наша надежда. От души желал бы, чтобы завтра в Зале совета вас призвали в правительство.
А Иосиф втайне думал: «Он хочет, чтобы я был таким же бесстрастным, как он сам». Алексий же, прощаясь, сумрачно проговорил:
— Хотел бы я, чтобы эта победа нам не была дана.
За полчаса до начала собрания Иосиф вошел в зал. Но оказалось, что почти все члены законодательных корпораций уже здесь. Господа из Коллегии первосвященника — в официальных голубых одеждах, участники Великого совета — в белых с голубым праздничных облачениях, члены Верховного суда — в белом с красным. Странно выделялся среди всех этих людей вооруженный Симон бар Гиора с группой своих офицеров.
Едва Иосиф вошел, как к нему бросился его друг Амрам. Будучи до того фанатичным приверженцем партии «Неизменно справедливых», он в последнее время примкнул к «Мстителям Израиля». С тех пор как Иосиф добился освобождения трех мучеников, Амрам был предан ему с удвоенной страстностью.
То, что он сообщил, доставило Иосифу огромное удовлетворение. Галилейские партизаны перехватили римского курьера и отняли у него, по-видимому, весьма важное письмо. Симон бар Гиора показал письмо доктору Амраму, которого очень ценил. В этом письме полковник Павлин, адъютант Цестия, наспех и откровенно рассказывал кому-то из своих друзей о поражении Двенадцатого легиона. Не было, писал он, решительно никаких разумных оснований для пресловутого приказа об отступлении. Просто у его начальника сдали нервы. И причиной этой истерики, этого странного, горького каприза судьбы послужил такой вздор, как самоубийство трех сумасшедших тибурских стариков. Его начальник всю жизнь верил только в разум. Нелепая и героическая смерть этой тройки его глубоко потрясла. Выставлять регулярные войска против народа, состоявшего из фанатиков и сумасшедших, показалось ему лишенным смысла. Он перестал бороться. Он отступил.
Иосиф прочел письмо, ему стало жарко под жреческой шапочкой, хоть и стоял свежий ноябрьский день. Это письмо явилось огромным, замечательным подтверждением его правды. Не раз охватывало его сомнение в целесообразности завоеванной им амнистии. И когда римляне, когда даже «Неизменно справедливые» то и дело приводили эту амнистию трех старцев как доказательство мягкости римской администрации, ему начинало казаться, что Юст, со своей голой математикой, действительно прав. Но теперь становилось ясно, что дело Иосифа все же привело к добру. «Да, доктор и господин Юст из Тивериады, мое поведение было, может быть, неразумно, но разве последствия блестяще не оправдали его?»
Первосвященник Анан открыл заседание. Сегодня ему предстояла нелегкая задача. Он стоял во главе «Неизменно справедливых», руководил крылом крайних правых аристократов, которые находились под защитой римского оружия и потому безжалостно и высокомерно отказывали ремесленникам, крестьянам и пролетариям в каком бы то ни было облегчении их участи. Его отец и три брата занимали, один за другим, пост первосвященника, эту высшую должность в храме и в государстве. Спокойный, хладнокровный и справедливый, он казался наиболее подходящим человеком для сношений с римлянами: и вот его соглашательская политика потерпела позорное поражение. Иудея стоит на пороге войны — и разве война уже не началась? Что же теперь скажет и сделает первосвященник Анан? Спокойно, как всегда, стоял он в одеянии гиацинтового цвета; ему не пришлось напрягать свой глубокий голос, — едва он заговорил, наступила тишина. Он был поистине храбрым человеком. Он сказал, словно ничего не произошло:
— Я очень удивлен, что вижу здесь, в Зале совета, господина Симона бар Гиору. Мне кажется, солдат решает все только на поле битвы. Как следует поступать в дальнейшем с этим храмом и со страной Израиля — зависит пока еще от Коллегии первосвященника, от Великого совета и Верховного суда. Поэтому предлагаю господину Симону бар Гиоре и его офицерам удалиться.
Со всех сторон раздались протестующие крики. Партизанский вождь осмотрелся вокруг, словно не понимая. Анан продолжал все тем же негромким, глубоким голосом:
— Но так как господин Симон бар Гиора оказался здесь, то я хочу все-таки спросить его: кому из властей сдал он отнятые у римлян сокровища?
Деловитость этого вопроса подействовала отрезвляюще. Офицер, густо покраснев, задорно ответил:
— Сокровища — у начальника храмового управления.
Все головы повернулись к молодому элегантному доктору Элеазару, безучастно смотревшему перед собой. Затем с коротким поклоном Симон бар Гиора удалился.
Едва он вышел, как доктор Элеазар перестал сдерживаться: никто в народе не поймет, как мог первосвященник столь высокомерно удалить с заседания героя Бет-Хорона! «Мстители Израиля» больше не желают терпеть бесплодный рационализм этих господ. Разве они, расчетливые и маловерные, упорно не твердили, что невозможно бороться с римскими войсками? Хорошо, а где теперь Двенадцатый легион? Бог стал на сторону тех, кто не хочет больше ждать; он совершил чудо.
— У Рима двадцать шесть легионов! — крикнул один из молодых аристократов. — Вы что, думаете, Бог сотворит еще двадцать пять чудес?
— Смотрите, чтобы ваших слов не услышали за этими стенами, — пригрозил ему Элеазар. — Народ больше не склонен выслушивать столь плоские остроты. Момент требует перераспределения власти. Вы будете сметены, все те, кто не принадлежит к «Мстителям Израиля», если во вновь образованном правительстве национальной самообороны не предложите Симону бар Гиоре место и голос.
— Я не намерен предлагать господину Симону место в правительстве, — сказал первосвященник Анан. — Кто-нибудь из господ имел это в виду? — Медленно обводил он присутствующих спокойным взглядом серых глаз, узкое продолговатое лицо под голубой с золотом первосвященнической повязкой казалось безучастным. Все молчали. — Как вы полагаете, на что нужно употребить те средства, которые вам передал господин Симон? — спросил Анан начальника храмового управления.
— Эти средства предназначаются исключительно для нужд национальной самообороны, — ответил доктор Элеазар.
— И больше ни для каких правительственных нужд? — спросил Анан.
— Я не знаю иных правительственных нужд, — возразил доктор Элеазар.
— Смелые действия вашего друга, — сказал первосвященник, — вызвали к жизни обстоятельства, вследствие которых нам показалось уместным передать некоторые из наших полномочий храмовому управлению. Но вы сами поймете, что мы нашей компетенции с вами делить не можем, если вы смотрите на наши задачи так узко.
— Народ требует, чтобы было создано правительство национальной самообороны, — упрямо продолжал молодой Элеазар.
— Такое правительство и будет создано, — отозвался первосвященник, — но боюсь, что доктору Элеазару бен Симону придется отказаться от участия в нем. В трудные времена в Израиле существовали такие правительства, где не сидело ни одного финансиста и ни одного солдата, только священники и государственные деятели. И это были не самые плохие правительства в Израиле. — Он обратился к собранию: — Закон предоставляет доктору Элеазару бен Симону право самостоятельно решать вопрос о денежных имуществах храмового управления. Касса правительства пуста, денежная наличность доктора Элеазара, благодаря добыче, взятой при Бет-Хороне, увеличилась по крайней мере на десять миллионов сестерциев [90]. Желаете ли вы, господа, чтобы мы включили доктора Элеазара в состав правительства?
Многие встали, сердито протестуя, и угрожающе потребовали, чтобы он снял свое предложение.
— Мне нечего брать назад и нечего добавлять, — прозвучал негромко глубокий голос первосвященника. — Деньги в наши трудные времена — вещь весьма важная, участие же пылкого доктора Элеазара в правительстве я считаю только тормозом. Все «за» и «против» ясны. Перехожу к голосованию.
— Голосовать незачем, — заявил серый от волнения доктор Элеазар. — Я сам уклоняюсь от участия в таком правительстве. — Он встал и, не прощаясь, покинул безмолвствующее собрание.
— У нас нет ни денег, ни солдат, — задумчиво сказал доктор Яннай, управляющий финансами Великого совета.
— Но за нас, — сказал первосвященник, — Бог, право и разум.
Установили программу действий правительства на ближайшие недели. Коллегия первосвященника, Великий совет и Верховный суд, тщательно изучив создавшееся положение, вынесли следующую резолюцию: они не находятся в состоянии войны с Римом. Мятежные действия совершены отдельными лицами, власти за них не ответственны. Иудейское центральное правительство в Иерусалиме должно при данных условиях объявить мобилизацию. Но оно исключает из нее область, непосредственно подчиненную Риму, Самарию и прибрежную полосу. Правительство строжайше запрещает всякое действие, которое может быть истолковано как нападение. Его программа: вооруженный мир.
Бороться против спокойствия и хладнокровия этих стариков было трудно. Тут же стало ясно, что, несмотря на победу при Бет-Хороне, «Неизменно справедливые» и «Подлинно правоверные» останутся у власти. А Иосиф пришел на это заседание с такими надеждами! Он знал, что, если страна будет поделена, кое-что достанется и ему, и теперь он уже наверное окажется среди сытых и все же прожорливых богачей и сможет урвать себе кусок. Право на это ему давала хотя бы его неистовая жажда. Но во время обсуждения программы действий из него ушла всякая надежда, как вино из дырявых мехов. Мозг его опустел. Когда он сюда пришел, то был уверен, что скажет этим людям что-то столь значительное, после чего они непременно предоставят ему руководящую роль. Теперь же он понял, что и этот день, и этот великий случай пройдут мимо, он останется внизу, как и был, только алчущим честолюбцем.
Для осуществления программы вооруженного мира правительство решило назначить над каждым из семи округов по два комиссара с диктаторскими полномочиями. Иосиф уныло сидел на своем месте, в одном из задних рядов. Какое ему до всего этого дело? Ведь предложить его никто не догадается.
Иерусалим — город и окрестности — был уже отдан, за ним последовали Идумея, Тамна, Гофна. Теперь решался вопрос о северной пограничной области, о богатой крестьянской провинции Галилее. Здесь у «Мстителей Израиля» было больше всего приверженцев. Отсюда началось освободительное движение, и здесь находились наиболее сильные союзы обороны. Было предложено послать в эту провинцию старого доктора Янная, дельного, рассудительного человека, лучшего финансиста Великого совета. Вдруг Иосифа словно рвануло из его пустоты. Эта восхитительная страна, с ее богатствами, с ее медлительными, задумчивыми людьми! Эта удивительная, трудная, загадочная провинция!.. И ее хотят отдать старику Яннаю? Он, конечно, превосходный теоретик, заслуженный специалист по политической экономии, но все же он — не для Галилеи. Иосифу хотелось крикнуть: «Нет!» — он привстал, наклонился вперед; соседи посмотрели на него, но он ничего не сказал — ведь все было бы напрасно, — он только тяжело вздохнул, как вздыхает тот, кто мог бы многое сказать, но оставляет это при себе.
Сидевшие близко от него улыбнулись неумению этого молодчика владеть собой. Еще один человек видел его негодующий порыв, его отчаяние. И этот человек не улыбался. Он сидел далеко впереди. Случайно заметил он резкое движение Иосифа, ибо обычно держал желтые морщинистые веки опущенными. Это был верховный судья Иоханан бен Заккаи, маленький человечек, очень старый, увядший, ректор храмового университета. Когда после единодушных выборов комиссара Янная присутствующие нерешительно смолкли, ожидая, чтобы кто-нибудь назвал второе имя, ректор поднялся. Неожиданно ярко и живо светились его глаза на сморщенном личике, иссеченном тысячью морщин. Он сказал:
— Я предлагаю вторым комиссаром для Галилеи доктора Иосифа бен Маттафия.
Иосиф, на которого теперь все смотрели, сидел, словно скованный странной неподвижностью. За этот день он десятки раз пережил в своем воображении надежду и отказ, вкусил до дна исполнение и разочарование; то, что назвали его имя, теперь уже не взволновало его. Он сидел опустошенный, словно речь шла о ком-то постороннем.
Других это предложение изумило. По каким мотивам кроткий, высохший от старости Иоханан бен Заккаи, уважаемый законодатель, назвал этого молодого человека? Ведь Иосиф до сих пор не зарекомендовал себя ни на каком ответственном посту; наоборот, с того времени, как он одержал ничтожную победу в деле трех невинных и завоевал симпатии масс, он явно кокетничал своим сочувствием Голубому залу. Может быть, судья считал полезным дать старому Яннаю молодого товарища, популярного и среди «Мстителей Израиля»? Да, вероятно, так оно и есть. Предложение заслуживало внимания. Пыл этих маккавеев, как только они достигают почета и власти, быстро угасает. Доктор Иосиф будет в Галилее покладистее, чем в Риме и Иерусалиме, а трезвой мудрости старого теоретика финансов Янная небольшая примесь юношеской пылкости Иосифа не повредит.
Тем временем Иосиф очнулся от своего оцепенения. Кажется, кто-то назвал его имя? Кто-то? Иоханан бен Заккаи, верховный судья. Ребенком Иосиф не раз ощущал с робостью, как на его голову ложится легкая благословляющая рука этого кроткого человека. Будучи в Риме, он узнал, что даже там старик слыл одним из мудрейших людей на земле. Иоханан достиг этого без всяких усилий, одним воздействием своей личности. Подобный склад характера, тихого и нечестолюбивого, был Иосифу чужд, вызывал почти жуткое чувство тревоги и угнетал; Иосиф охотнее всего сошел бы с пути Иоханана. И вот именно Иоханан предложил теперь Иосифа.
Молодой человек был глубоко взволнован, когда собрание приняло предложение судьи. Люди, избравшие Иосифа, были мудры и добры. Он тоже будет добрым и мудрым. Он отправится в Галилею не в качестве одного из «Мстителей Израиля» и без честолюбивых вожделений... Он будет тих и смиренен, будет ждать, чтобы дух истины осенил его.
Вместе со стариком Яннаем подошел он к первосвященнику, чтобы проститься. Холодный и ясный, как всегда, стоит перед ним Анан. Его директивы вполне определенны: Галилея находится под наибольшей угрозой. Необходимо во что бы то ни стало поддержать в этой провинции спокойствие.
— В сомнительных случаях лучше ничего не предпринимать, чем идти на риск. Дождитесь указаний из Иерусалима. Всегда ориентируйтесь на Иерусалим. У Галилеи сильные отряды гражданской обороны. Перед вами, господа, задача держать эти отряды в распоряжении Иерусалима. — Лично Иосифу он сказал еще, рассматривая его без особого благоволения: — Мы вам доверили ответственную должность. Надеюсь, мы не ошиблись.
Иосиф выслушал указания первосвященника вежливо, почти смиренно. Однако их восприняло только его ухо. Разумеется, пока он в Иерусалиме, нужно подчиняться первосвященнику. Но как только он перейдет границу Галилеи, он отвечает только перед одним человеком — перед самим собой.
Вечером Анан сказал Иоханану беи Заккаи:
— Надеюсь, мы поступили не слишком опрометчиво, послав этого Иосифа бен Маттафия в Галилею? Им движет только честолюбие.
— Возможно, — отозвался Иоханан бен Заккаи, — что есть люди надежнее его. Вероятно, многие годы будет казаться, что он действует лишь ради себя. Но пока он жив, я буду верить, что он в конце концов все же действует ради нас.
Новый комиссар Иосиф бен Маттафий исколесил свою провинцию вдоль и поперек. В том году период дождей изобиловал влагой. Ягве был милостив, водоемы наполнялись, на горах Верхней Галилеи лежал снег, горные ручьи весело шумели, сбегая вниз. В долинах крестьяне сидели на корточках, нюхали землю, вынюхивали по ней погоду. Да, богатая страна, плодородная, очень разнообразная, со своими долинами, холмами, горами, с Геннисаретским озером, рекой Иорданом, морским побережьем и двумя сотнями городов. Как истинный сад Божий, лежала она, овеянная волшебно светлым воздухом. Иосиф вздохнул полной грудью. Он все же достиг своей цели, поднялся очень высоко; как чудесно быть начальником этой провинции! Человек, приехавший сюда с такими полномочиями, как он, должен широко и навеки прославиться — иначе он просто бездарность.
Однако спустя всего несколько дней его начало томить глубокое недовольство, и оно росло с каждым днем. Он изучал дела, архивные документы, вызывал к себе деревенских старшин, беседовал с бургомистрами, священниками, со старейшинами синагог и школ. Он пытался вести организационную деятельность, давал указания; его вежливо выслушивали, его указания выполнялись, но он ясно ощущал, что это делается без веры, его мероприятия не приводили ни к каким результатам. Те же явления выглядели в Иерусалиме иначе, чем в Галилее. Когда в Иерусалим поступали все новые жалобы на то, что страна изнемогает под бременем налогов, там люди пожимали плечами, приводили цифры, посмеивались над галилейскими трудностями, словно это было просто всем надоевшее нытье, и под защитой римского оружия продолжали взимать те же налоги. Теперь Иосиф, сжав губы, сравнивает галилейскую действительность с иерусалимскими цифрами. Теперь он, нахмурившись, видит: жалобы галилейских крестьян, рыбаков, ремесленников, портовых и фабричных рабочих — не пустое нытье. Они живут в стране обетованной, но ее виноградники зреют не для них. Ее тук идет в Кесарию римлянам, а масло — знатным господам в Иерусалиме. Вот налоги с земли: третья часть урожая зерна, половина вина и масла, четвертая часть плодов. Затем десятина в пользу храма, ежегодный подушный храмовый налог, паломнический налог. Затем аукционный сбор, соляной налог, дорожный и мостовой сбор. Тут налог, там налог, везде налог.
Правда, финансы — дело его коллеги Янная. Но Иосиф не может винить галилеян за то, что они не доверяют ученым из Зала совета, которые, пользуясь хитрыми и запутанными толкованиями Библии, отнимают у них лучшее, и не доверяют ему, представителю этих ученых. В Риме и в Иерусалиме он насмотрелся на то, как недовольных успокаивают маленькими поблажками, кроткими и серьезными речами, торжественными ответами и дешевыми почестями. Но здесь эти приемы не помогут.
Жители Иерусалима высокомерно кривят губы, когда речь заходит о галилеянах: это, мол, деревенщина, провинциалы, необразованные, с неотесанными манерами. Но Иосифу пришлось в первые же недели отказаться от подобного дешевого высокомерия. Правда, здешние люди слабы насчет следования заповедям, ученое толкование Библии мало их трогает, но вместе с тем они по-своему строги и фанатичны. Они отнюдь не желают мириться с существующим положением вещей. Они говорят: следовало бы изменить самые основы государства и жизни, только тогда могут исполниться слова Писания. Все обитатели этой страны знают наизусть книгу пророка Исайи. Пастухи говорят о вечном мире, портовые рабочие — о царстве Божием на земле; недавно один ткач поправил его, когда он привел не дословно цитату из Иезекииля. По своему внешнему облику это медлительные тяжеловесные люди, спокойные и миролюбивые, но в душе они вовсе не миролюбивы, они бунтовщики, всего ожидающие, ко всему готовые. Иосиф чувствует вполне определенно: эти люди ему подходят. Их смутная буйная вера — более крепкая основа для человека больших масштабов, чем сухая ученость и лощеный скепсис Иерусалима.
Он прилагает все старания к тому, чтобы жители Галилеи поняли его. Он хочет быть здесь не ради Иерусалима, а ради них. Его сотоварищ, комиссар доктор Яннай, в его действия не вмешивается, никогда ни в чем не чинит ему препятствий. Его интересуют только финансы; засел с огромной кучей актов в Сепфорисе, в просторной и спокойной галилейской столице, и реорганизует эти финансы — бодро, упорно и обстоятельно. Все остальное он предоставляет своему более молодому коллеге. Но хотя Иосиф и может поступать, как ему вздумается, дело не двигается. Он отбрасывает все высокомерие своей учености, всю свою гордость аристократа и священника: он разговаривает с рыбаками, портовыми рабочими, крестьянами, ремесленниками как с равными. Люди приветливы, почтительны, но за их словами и манерой держаться он чувствует их внутреннюю замкнутость.
У Галилеи другие вожди. Иосиф не хочет этого признать, он не хочет иметь с ними никакого дела, но ему хорошо известны их имена. Это вожди союзов обороны, которых Иерусалим не признает, вожди крестьян — Иоанн Гисхальский [91] и некий Запита из Тивериады [92]. Иосиф видит, как сияют глаза людей, когда называют их имена. Ему хотелось бы встретиться с этими двумя вождями, услышать, что они говорят, узнать, как они начинали. Но он чувствует свою неопытность, неспособность, бессилие. У него есть его должность, его высокий титул, может быть, даже власть, но сила — сила у тех.
Он работает до изнеможения. Все мучительнее гложет его желание покорить именно Галилею. Но страна замыкается от него. Вот уже пять недель, как он здесь, а достиг не больше, чем в первый день.
В один из зимних вечеров Иосиф бродит по улицам маленького городка Капернаума, одного из центров «Мстителей Израиля». На бедном, запущенном доме вывешен флаг — знак того, что хозяином трактира получено новое вино. На собраниях совета, на заседаниях комиссии, в синагогах, в школах Иосиф насмотрелся на своих галилеян. Сейчас он посмотрит, каковы они за вином; и он входит.
Низкая комната, скудно и примитивно отапливаемая простой жаровней, в которой горит кизяк. В вонючем дыму сидит с десяток мужчин. Когда появляется хорошо одетый господин, они рассматривают его сдержанно, но не враждебно. Подходит хозяин, спрашивает, что ему угодно заказать, сообщает, что вот как удачно господин попал сегодня: проходил купец с караваном, велел наготовить целую кучу яств, осталось еще немного птицы, тушенной в молоке. Есть мясо с молоком строжайше запрещено [93], но деревенское население Галилеи считает, что птица — не мясо, и не отступает от обычая варить и тушить ее в молоке. Когда Иосиф вежливо отказывается от столь лакомого блюда, раздаются добродушные шутки. Его расспрашивают, кто он, у кого ночует, по его говору узнают в нем иерусалимского жителя. Иосиф отвечает приветливо, но довольно неопределенно. Ему неясно, узнали его или пет.
Хозяин подсаживается к нему, словоохотливо начинает рассказывать. Его имя Феофил, но теперь его зовут Гиора, «чужой», потому что он из сочувствующих и имеет намерение перейти в иудейскую веру. В Галилее население очень смешанное и есть много сочувствующих неевреев, которых влечет к себе невидимый бог Ягве. И этому Феофилу Гиоре богословы, как предписывает закон, советуют не переходить в иудейскую веру, ибо, пока он язычник, он не лишается права на спасение, даже если и не выполняет все шестьсот тринадцать заветов. Но если он возьмет на себя обязательство, то при неисполнении закона его душа окажется под угрозой гибели, а закон труден и суров. Феофил Гиора еще не обрезан, слова ученых произвели на него впечатление; но как раз эта суровость и привлекает его.
Остальные — кряжистые, мешковатые люди, они слегка возбуждены присутствием знатного человека из Иерусалима и опять начинают медленно, обстоятельно и нескладно обсуждать свою главную заботу — жестокий гнет правительства. Столяру Халафте пришлось продать свой последний виноградник. Раздобыл коз по ту сторону Иордана — римляне наложили на них очень высокие пошлины, хотел перетащить коз контрабандой — его накрыли. Неправильно они делают, эти сборщики пошлин! Горе тому, кто предъявит товар, горе и тому, кто его не предъявит. Теперь они обложили столяра десятикратно, потому что это — второй раз, и ему пришлось продать виноградник. У ткача Азарии надзиратель магдальского рынка отобрал третий станок, так как Азарин не уплатил ремесленного сбора. Все эти люди, жившие в такой богатой стране, ходили оборванные, сильно нуждались. В Галилее разводили много птицы, козье молоко стоило дешево, но они жадно причмокивали, когда хозяин Гиора рассказывал про свое жаркое, тушенное в молоке. Такое кушанье они ели только по большим праздникам. Люди, надрываясь, работают не ради собственного брюха, а чтобы набить пузо Кесарии и Иерусалима. Трудное время.
Исполнились ли времена и сроки? Агитатор Иуда уже возвестил об этом здесь, в Галилее, и основал партию «Мстителей Израиля», но римляне его распяли. Теперь по всей стране ходит его сын, Нахум, и возвещает то же самое. Объявился в Галилее и пророк Теуда [94], он совершал чудеса, был затем вызван в Иерусалим и заявил, что разделит надвое иорданские воды. Но римляне его распяли, и господа из Великого совета дали на то свое согласие.
Маслодел Терадион высказал предположение, что, может быть, этот пророк Теуда в самом деле шарлатан. Столяр Халафта медленно и удрученно покачал головой. Шарлатан? Шарлатан! Может быть, река и в самом деле не расступилась бы по велению человека. Но даже в таком случае он не шарлатан. Тогда он предтеча. Ибо когда же, как не теперь, настала пора исполниться срокам, раз Гог и Магог снова собрались напасть на Израиль, как написано у Иезикииля [95] и в Таргуме [96] Ионатана?
Ткач Азарин хитро заметил: тот Теуда наверняка не мог быть настоящим мессией, ибо, как ткач узнал от надежных людей, Теуда — египтянин, а египтянин не может же быть мессией.
Вино оказалось хорошим, его было вдоволь. Люди забыли о господине из Иерусалима и, окутанные вонючим дымом, поднимавшимся из жаровни, беседовали медлительно, пылко и убежденно о мессии, который должен прийти сегодня, может быть — завтра, но непременно в этом году. Конечно, мессия может быть и египтянином, настаивал тупо и упрямо столяр Халафта. Разве не написано о железной метле [97], которая выметет всякую гниль из Израиля и из всего мира? И разве спаситель — не эта железная метла? Но если так, то зачем Ягве посылать иудея, чтобы он поразил иудеев? Не предпочтет ли он послать необрезанного? Почему же мессии и не быть необрезанным?
Тут мелочной торговец Тарфон заныл на своем гортанном, неясном, тяжелозвучном диалекте:
— Ах и ой, конечно же мессия будет иудеем. Разве доктор Доса бен Натан не учит, что он соберет все рассеянные племена, и что тогда, ой и ах, он будет лежать убитый, непогребенный на улицах Иерусалима, и что его имя будет Мессия бен Иосиф? А как может нееврей называться Мессия бен Иосиф?
Но тут снова вмешался хозяин Феофил Гиора и поддержал столяра Халафту. Его обижало, как это нееврей не может быть мессией. Мрачно и упрямо продолжал он настаивать: только нееврей может быть мессией. Ибо разве в Писании не сказано, что он совьет небеса, как свиток, и что сначала будет наказание и великое избиение и пожар в преступном граде?
Несколько человек поддержали его, другие стали возражать. Все они были взбудоражены. Неторопливо, хмуро ныли и возмущались они, спорили друг с другом, горячо обсуждали загадочные, противоречивые пророчества. Они были тверды в своей вере в спасителя, эти галилеяне. Но только каждый представлял его по-своему и каждый защищал именно свой образ, видел его ясно, был уверен, что прав именно он, а другие не правы, и каждый спешил найти подтверждение своего образа в Писании.
Иосиф напряженно слушал. Его глаза и нос были весьма чувствительны, но на этот раз он не замечал едкого, противного, вонючего дыма. Он смотрел на людей, с трудом ворочавших свои доводы под толстыми черепами. Было прямо-таки видно, как они их откапывают, с усилием переплавляют в слова. Когда-то, когда он жил у отшельника Бана в пустыне, провозвестия пророков вставали перед ним, великие и непоколебимые, он вдыхал их вместе с окружающим воздухом. Но в Иерусалиме провозвестия потускнели, и из всего Писания те места, где говорилось о мессии, стали казаться ему наиболее смутными и непонятными. Ученые из Зала совета не любили, когда эти предсказания применялись к современности; многие склонялись к мнению великого законоучителя Гиллеля [98], что мессия уже давно пришел в лице царя Хизкии [99], они вычеркивали из восемнадцати молений [100] то, где говорилось о пришествии спасителя, и когда Иосиф спрашивал себя, то должен был признаться, что уже много лет надежда на это пришествие не живет ни в его мыслях, ни в его поступках; а теперь, в этот вечер, в темном, дымном трактире, ожидание спасителя вновь стало для него чем-то осязаемым, стало счастьем и тоскою, краеугольным камнем всей жизни. Жадно, с раскрытым сердцем слушал он речи этих людей, и верования бесхитростных ткачей, лавочников, столяров, маслоделов казались ему куда ценнее остроумных комментариев иерусалимских законников. Принесет ли спаситель меч или оливковую ветвь? Он отлично понимал, что люди эти все больше горячатся, волнуемые разногласиями в их бурной вере, и что, несмотря на их благочестие, спор между ними становится все более угрожающим.
Наконец дошло до того, что столяр Халафта хотел наброситься с кулаками на лавочника Тарфона. Вдруг один из более молодых сказал торопливо и тревожно:
— Бросьте, постойте, слушайте: он видит.
Тогда все посмотрели на место рядом с жаровней. Там сидел горбун, тощий костлявый и, по-видимому, близорукий. До того он почти не открывал рта. А теперь, мигая, с трудом вперялся в облака дыма, щурился, словно хотел рассмотреть что-то на границе своей зоркости, снова таращил глаза и моргал. Люди пристали к нему:
— Ты видишь, Акиба? Скажи нам, что ты видишь!
Все еще напряженно вглядываясь в сумрачный воздух, башмачник Акиба голосом, охрипшим от вина и дыма, сказал просто, с ярко выраженным галилейским выговором:
— Да, я вижу его.
— Как он выглядит? — спросили они.
— Он не велик ростом, — сообщил видящий, — но широк в плечах.
— Что он, иудей? — спросили они.
— Не думаю, — отвечал он. — У него нет бороды. Но кто узнает по лицу человека, иудей ли он?
— Он вооружен?
— Меча я не вижу, — отозвался Акиба, — но, кажется, он в доспехах.
— Что он говорит? — спросил Иосиф.
— Он шевелит губами, — отозвался Акиба, — но я не слышу, что он говорит. Кажется, он смеется, — добавил он значительно.
— Как он может смеяться, если он мессия? — недовольно спросил столяр Халафта.
Видящий возразил:
— Он смеется, и все же он страшен.
Затем он провел рукой по глазам и заявил, что теперь больше ничего не видит. Он устал и был голоден, ворчал, пил много вина, потребовал себе также птицы в молоке. Хозяин рассказал Иосифу про башмачника Акибу. Он очень беден, но все-таки каждый год совершает паломничество в Иерусалим и приносит своего агнца в храм. Во внутренние дворы его не пускают, так как он калека. Но он привязан к храму всем сердцем и всеми помышлениями и знает о внутренних дворах больше, чем многие, побывавшие в них. Может быть, именно потому, что ему нельзя видеть храм, Ягве и дал ему другое зрение.
Люди еще долго сидели в трактире, но о спасителе они больше не говорили. Они говорили о том, насколько возросла численность маккавеев, об их организованности и вооружении. Решительный день скоро наступит. Акиба, снова повеселевший, убеждал необрезанного хозяина, что, когда этот день настанет, ему тоже придется в него поверить. Затем они вновь обратились к господину из Иерусалима и стали поддразнивать его с присущей им неуклюжестью, но не зло; Иосиф не обижался и шутил вместе с ними. Под конец они потребовали, чтобы он считал себя их гостем и поел птицы в молоке. Больше всего настаивал Акиба, ясновидящий. Упрямо повторял он, хныча:
— Ешьте же, вы должны есть.
В Риме Иосиф мало заботился о соблюдении обычаев, но в Иерусалиме он строго придерживался запретов и заповедей. Здесь была Галилея. С минуту он подумал. Потом стал есть.
Иосиф избрал своей штаб-квартирой Магдалу, живописное большое селение на берегу Геннисаретского озера. Когда он катается по озеру, он видит на юге белый и пышный город, красивейший город страны, но этот город не в его округе, он подчинен царю Агриппе. Он называется Тивериадой. И в нем сидит Юст, которого царь назначил туда наместником. Городом управлять нелегко, больше трети его жителей римляне и греки, избалованные царем, но доктор Юст — тут ничего не скажешь — умеет поддерживать порядок. Когда Иосиф прибыл в Галилею, тот вежливо отдал ему визит. Но о политике Юст не обмолвился ни словом. Он, видимо, считает полномочия, данные иерусалимскому представителю, ограниченными. Иосиф, в самой глубине души, задет, его охватывает мучительное желание, чтобы Юст это понял.
Высоко над Тивериадой сверкает большой, величественный дворец царя Агриппы, теперешняя резиденция Юста. Вдоль набережных тянутся нарядные виллы и магазины. Но в Тивериаде есть и много бедняков — рыбаки и лодочники, грузчики и фабричные рабочие. Богачи в Тивериаде — это греки и римляне, а пролетарии — это евреи. Работать надо много, налоги высоки, а в городе еще острее, чем в деревне, бедняк ощущает, чего он лишен. В Тивериаде много недовольных. Во всех трактирах можно услышать речи бунтовщиков против римлян и царя Агриппы, который с ними заодно. Оратором и вождем этих недовольных является тот самый Запита, секретарь товарищества рыбаков. Он ссылается на слова Исайи: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю!» [101]
Юст всеми силами старается сдерживать движение, но его власть ограничена тивериадской городской территорией, и он не может помешать тому, чтобы союз обороны, возглавляемый Запитой, создал себе опорные пункты в остальных частях Галилеи и чтобы к нему стекалось все больше людей из этих районов.
Иосиф видит не без удовольствия, как приверженцы Запиты становятся все сильнее и как его банды все растут, даже на территории, непосредственно подчиненной иерусалимскому правительству. Люди Запиты требуют от областей, подвластных Иосифу, чтобы они делали взносы для национального дела, устраивают в случае отказа карательные экспедиции, весьма смахивающие на разбой и грабеж. Полиция Иосифа вмешивается редко, его суды мягко обходятся с виновными.
Иосифа охватывает бурная радость, когда к нему приходит Запита. Галилея начинает доверять Иосифу, Галилея приходит к нему. Теперь — он чует это — уже недалек тот час, когда он выманит Юста из его надменной замкнутости. Но он мудро скрывает свою радость. Он разглядывает Запиту. Это сильный человек, чрезмерно высокий, одно его плечо выше другого. У него трясущаяся раздвоенная борода, маленькие горящие фанатизмом глазки. Иосиф разговаривает с ним, договаривается, они понимают друг друга с полуслова. Столковаться с Запитой легче, чем с Юстом. Они ничего не записывают, но, когда Запита уходит, оба знают, что между ними заключено соглашение более действительное, чем обстоятельный договор. Те из людей Запиты, кто уже не чувствует себя в безопасности в Тивериаде, спокойно могут бежать на территорию Иосифа; тут к ним отнесутся снисходительно. А Иосиф пусть не тратит столько сил на выжимание денег для военных нужд из скряги Янная: то, в чем ему откажет Яннай, он получит от Запиты.
Уговор выполняется. Теперь Иосиф наконец довел Юста до того, что тот заговорил о политике. В письме, обращенном к иерусалимским правителям, Юст настойчиво требует, чтобы они больше не саботировали его усилий покончить с бандами в Галилее. Старик Яннай задает Иосифу несколько пренеприятных вопросов. Но Иосиф прикидывается изумленным — у Юста, должно быть, галлюцинации! Оставшись один, он удовлетворенно улыбается. Он рад борьбе.
Решено устроить встречу Иосифа с Юстом. Рядом со старым Яннаем едет Иосиф верхом на Стреле, своей красивой арабской кобыле, по вылизанным улицам Тивериады, и население с любопытством глазеет на всадников. Иосиф знает, что верхом он особенно хорош. С бесстрастным, слегка высокомерным видом смотрит он прямо перед собой. Всадники въезжают на холм, где стоит дворец царя Агриппы. Белая и великолепная, высится перед входом колоссальная статуя императора Тиберия, по имени которого назван город. Четыре аркады перед входом тоже полны статуй. Иосифа это раздражает. Он не сторонник старых обычаев, но сердце его полно невидимым богом Ягве, и он возмущен до глубины души, видя в стране Ягве запретные изображения. Создание образов остается исключительным правом Бога-творца. Людям он разрешил давать этим образам имена: но стремление творить их самому — гордыня и кощунство. Все эти кумиры вокруг дворца позорят невидимого Бога. Та легкая, виноватая тревога, с которой Иосиф ехал к Юсту, исчезла: теперь он полон высокого волнения, он чувствует свое превосходство над Юстом. Юст — представитель умеренной, трезвой политики; он, Иосиф, является к нему как солдат Ягве.
Юст, будучи противником всякой торжественности, старается лишить это свидание его служебной официальности. Все трое, завтракая, возлежат друг против друга. Юст сначала говорит по-гречески, затем вежливо переходит на арамейский, хотя этот язык для него, видимо, труднее. Постепенно разговор соскальзывает на политические темы. Доктор Яннай учтив и жизнерадостен, как всегда. Иосиф защищает свою тактику; он говорит резче, чем хотел бы. Именно для того, чтобы удержать военную партию от необдуманных агрессивных действий, ей следует пойти навстречу.
— Вы хотите сказать, что мир нужно активизировать? — спросил Юст с неприятной насмешливостью. — Я не могу не заявить автору книги о Маккавеях, что в политических приемах маккавеев, какова бы ни была их цель, многое кажется мне еще и теперь неуместным.
— Разве самые неприятные из нынешних маккавеев не сидят именно здесь, у вас в Тивериаде? — добродушно спросил доктор Яннай.
— К сожалению, — чистосердечно сознался Юст, — я не имею власти арестовать моего Запиту. Скорее вы, господа, могли бы это сделать. Но, как я вам уже писал, именно мягкость ваших судов и разводит у меня «Мстителей Израиля» в таком обилии.
— Арестовать их ведь и для нас не так просто, — оправдывается доктор Яннай. — Они же, в конце концов, не просто разбойники.
Тут вмещался Иосиф.
— Эти люди ссылаются на Исайю, — добавил он резко и вызывающе. — Они верят, что времена исполнились и что мессия придет очень скоро.
— Исайя учил, — возразил негромко, но раздраженно Юст, — остановитесь перед властью. Остановитесь и доверяйте, говорил Исайя.
Иосифа цитата уколола. Этот Юст, кажется, хочет поставить его на место?
— Очаг волнений — в вашей Тивериаде, — сказал он резко.
— Очаг волнений в вашей Магдале, доктор Иосиф, — любезно возразил Юст. — Я ничего не могу поделать, когда ваши судьи оправдывают моих воров. Но если вы, доктор Иосиф, и дальше будете пополнять ваши военные фонды из добычи этих воров, — теперь его тон был подчеркнуто вежлив, — я не поручусь, что мой государь в один прекрасный день не вернет ее силой.
Доктор Яннай так и привскочил:
— Разве в вашей кассе есть деньги Запиты, доктор Иосиф?
Иосифа охватило бешенство. Наверно, у этого проклятого Юста великолепно организованный сыск: посылки денег бывали тщательно замаскированы. Он отвечает уклончиво. Правда, он получал деньги на галилейскую оборону и из Тивериады, но не мог допустить мысли, что они — из добычи Запитовых банд.
— Поверьте мне, они оттуда, — предупредительно пояснил Юст. — Я вынужден вас очень просить таким способом больше не поддерживать черни. Я считаю несовместимым с моим служебным долгом, если позволю вам и впредь возбуждать мою Тивериаду к вооруженному восстанию.
Он все еще говорил очень вежливо; его волнение было заметно только потому, что он невольно опять перешел на греческий. Но старик Яннай вдруг забыл всю свою учтивость. Он вскочил и, жестикулируя, наступал на Иосифа.
— Вы получали деньги от Запиты? — кричал он. — Вы получали деньги от Запиты? — И, не дожидаясь ответа, обернулся к Юсту. — Если деньги из Тивериады поступали, то эти суммы будут вам возвращены, — пообещал он.
Едва выехав из города, оба комиссара расстались.
— Обращаю ваше внимание на то, — сказал Яннай ледяным тоном, — что вы посланы в Магдалу не как один из «Мстителей Израиля», а как иерусалимский комиссар. И я попрошу вас воздержаться от ваших экстравагантностей и соблазнительных авантюр! — крикнул он.
Иосиф, бледный от ярости, ничего не мог возразить. Он видел ясно, что переоценил свою силу. У этого доктора Янная хороший нюх, он чует, что стоит прочно, а что — нет. И если он рискнул отчитать его, как школьника, то, вероятно, Иосифово положение дьявольски шатко. Ему следовало выждать, повременить еще с этой борьбой против Юста. При первой возможности Иерусалим отзовет его, и Юст будет улыбаться; он опять спрячется за свою подлую улыбку, которую Иосиф так хорошо знает.
Нет, не будет он улыбаться! Уж Иосиф найдет способ погасить эту улыбку. Разве Юст понимает Галилею? А Иосиф теперь чувствует себя достаточно опытным. Он уже не испытывает перед галилейскими вождями ни страха, ни смущения. Запита к нему пришел сам, другого, Иоанна Гисхальского, он позовет. И тогда станет ясно, что не Иерусалиму принадлежит подлинная власть в стране, а триумвирату: Иосифу, Иоанну и Запите. Пусть партизан называют разбойничьими бандами, чернью, как угодно. Он совсем не собирается порывать связь с Запитой. Наоборот, он сольет в единый союз все вооруженные организации, находящиеся на территории иерусалимского правительства и за ее пределами, признаны они или нет. И не как иерусалимский комиссар, а как партийный вождь «Мстителей Израиля».
Иоанн Гисхальский, начальник хорошо вооруженных галилейских крестьянских отрядов, явно обрадовался, когда Иосиф пригласил его к себе. Возле его родного города, маленького горного местечка Гисхалы, по которому он и назывался, — в списках он значился под именем Иоанна бен Леви, — ему принадлежало не очень рентабельное именьице, производившее главным образом масло и финики. Иоанн был широкоплеч, медлителен, добродушен, очень хитер — человек, прямо созданный для галилеян. Во время похода Цестия он организовал в Верхней Галилее коварную и упорную партизанскую войну против римлян. Он много времени проводил в пути, знал в стране каждый закоулок. Когда Иоанн наконец пришел к нему, Иосиф даже удивился, как это он не связался с ним раньше. Невысокий, но гибкий и сильный, сидел перед ним Иоанн, лицо широкое, загорелое, короткие усы, вздернутый нос, серые лукавые глаза. При всей своей хитрости — добродушный, открытый человек.
Он сейчас же выдвинул вполне определенное предложение. Царь Агриппа по всей стране собрал хлеб в скирды, без сомнения — для римлян. Иоанн намеревался реквизировать этот хлеб для своих союзов обороны — крайняя мера, на которую он испрашивал согласия Иосифа. Под влиянием толстосумов и аристократов, жаловался он, Иерусалим отрекается от своей связи с его союзами обороны. Иосиф ему кажется иным, чем эти пронырливые господа из храма.
— Вы, доктор Иосиф, принадлежите сердцем к «Мстителям Израиля». Это чувствуется за три мили. Вам я хотел бы подчинить мои союзы обороны, — заявил он чистосердечно и вручил Иосифу точные списки организаций. В них значилось восемнадцать тысяч человек. Иосиф дал согласие на реквизицию хлеба.
Он не боялся той бури, которую вызовет подобная реквизиция. Если он бесстрашно использует выгоды своего положения, если реально захватит власть в Галилее, то, может быть, Иерусалим и не осмелится его отозвать. А если даже и отзовет, то ведь от него будет зависеть — подчиниться этому приказу или нет. И с почти веселой тревогой ждал он дальнейших событий.
Разговором с Иосифом остался доволен и Иоанн Гисхальский. Это был мужественный человек, не лишенный юмора. Вся Галилея знала, что именно он забрал хлеб царя Агриппы. А он прикинулся невинным, ничего не ведающим. То, что произошло, — произошло по приказу иерусалимского комиссара. Совершенно открыто уехал он на вражескую территорию, в Тивериаду, чтобы полечить свой ревматизм в тамошних горячих источниках. Иоанн знал, что, если Юст что-нибудь предпримет против него, его люди пойдут штурмом на Тивериаду. А Юст смеялся. Какими гибельными по своим последствиям ни казались ему поступки этого крестьянского вождя, его манера держать себя ему нравилась.
Однако в Иерусалим и в Сепфорис он послал возмущенную ноту. Разъяренный, задыхаясь от гнева, явился старик Яннай к Иосифу. Хлеб, конечно, должен быть возвращен немедленно. Иосиф принял его очень вежливо. К сожалению, хлеб вернуть нельзя, он перепродан дальше. И Яннаю пришлось уйти ни с чем от вежливо пожимающего плечами Иосифа. Одно маленькое утешение ему все же осталось: значительную часть выручки Иосиф отправил в Иерусалим.
Излюбленным агитационным приемом «Мстителей Израиля» в городе Тивериаде была борьба против безбожия правящего сословия, против его склонности ассимилироваться с греками и римлянами. Когда Запита в следующий раз пришел к Иосифу, тот заявил ему, что и в нем эти статуи, столь вызывающе расставленные перед царским дворцом, пробуждают глубочайшую скорбь. Мрачный, озабоченный вождь вздернул одно плечо еще выше, поднял свои небольшие глазки, снова опустил их, нервно подергал один из кончиков своей раздвоенной бороды. Иосиф хотел вызвать его на дальнейший разговор. Он процитировал пророка:
— «В стране — телец, Ягве отвергает его. Он создан человеческой рукой и не может быть Богом» [102].
Иосиф ждал, что Запита продолжит знаменитую цитату: «Поэтому телец должен быть уничтожен...» Но Запита только улыбнулся; он опустил первую часть цитаты и очень тихо, больше про себя, чем для Иосифа, произнес последующие слова:
— «Вы сеете ветер и пожнете бурю». — Затем деловито констатировал: — Мы постоянно протестуем против этого преступного бесчинства. Мы были бы благодарны иерусалимскому комиссару, если бы он подал соответствующее ходатайство в Тивериаду.
Запита не казался таким простодушным, как Иоанн Гисхальский, но на его осторожные намеки можно было положиться. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Не советуясь с доктором Яннаем, Иосиф просил Юста о втором свидании.
На этот раз Иосиф прибыл в Тивериаду с одним слугой, без всякой пышности. Юст приветствовал его, подняв по римскому обычаю руку с вытянутой ладонью, но тотчас снова опустил ее, улыбаясь, и, как бы исправляя свою ошибку, произнес еврейское приветствие: «Мир». Затем оба уселись друг против друга, без свидетелей; каждый знал о другом немало, они были искренни в своей вражде. Со времени своего объяснения в Риме оба они кое-чего достигли, получили власть над людьми и судьбами, стали старше, их черты — суровее, но они все еще были похожи друг на друга, смугло-бледный Иосиф и желто-бледный Юст.
— При нашей недавней встрече вы цитировали пророка Исайю, — сказал Иосиф.
— Да, — сказал Юст. — Исайя учил, что маленькая Иудея не должна вступать в борьбу с теми, кто обладает мировым могуществом.
— Он учил этому, — сказал Иосиф, — а в конце своей жизни он скрылся в дупле кедра и был распилен пополам [103].
— Лучше распилить одного человека, чем целую страну, — сказал Юст. — Чего вы, собственно говоря, хотите, доктор Иосиф? Я стараюсь отыскать разумную связь между вашими мероприятиями. Но или я слишком глуп, чтобы их понять, или все они сводятся к одной цели: Иудея объявляет Риму войну под водительством нового Маккавея, Иосифа бен Маттафия.
Иосиф сделал усилие и сдержался. К сожалению, он еще в Риме знал об этой навязчивой идее Юста, который считает его одним из подстрекателей к войне. Это не так. Он войны не хочет. Но он ее и не боится. Вообще же, став даже на точку зрения самого Юста, он находит его методы неправильными. Если то и дело твердить о мире — это так же неизбежно приведет к войне, как если твердить о войне. Нужно мудро идти на уступки военной партии и тем самым отнять у нее всякий повод к разжиганию страстей.
— А мы здесь, в Тивериаде, по-вашему, этого не делаем? — спросил Юст.
— Нет, — возразил Иосиф, — вы в Тивериаде этого не делаете.
— Слушаю вас, — вежливо сказал Юст.
— Вы в Тивериаде, — продолжал Иосиф, — живете, например, в царском дворце, полном изображений людей и животных, а это вызывает постоянное раздражение всей провинции, служит постоянным подстрекательством к войне.
Юст взглянул на него, затем по его лицу разлилась широкая улыбка.
— Вы приехали, чтобы мне это сообщить? — спросил он.
В Иосифе вспыхнула вся его ненависть к кощунственным изображениям.
— Да, — сказал он.
Тогда Юст попросил его последовать за ним. Он повел Иосифа по дворцу. Дворец заслужил свою славу, это было самое красивое здание во всей Галилее. Юст провел его через залы, дворы, галереи, сады. Да, повсюду их встречали изображения, они как бы срослись с этим зданием. Царь Агриппа, его предшественник и предшественник его предшественника приложили немало усилий, денег и вкуса на то, чтобы собрать и объединить здесь прекрасные вещи со всех концов света; часть их составляли старинные и прославленные произведения искусства. В одном из дворов, выложенном кусками коричневого камня, Юст остановился перед маленьким рельефом египетской работы, древним, обветренным, — он изображал ветку и на ней — птицу. Вещь была очень строгая, старинная, даже суховатая, но, несмотря на то что птичка еще сидела на ветке, в ней уже чувствовалась блаженная легкость полета, для которого она поднимала крылья. Юст постоял перед птицей, отдавшись созерцанию. Затем, словно пробудившись, сказал с нежностью:
— Я должен удалить эту вещь? — И, показывая кругом, продолжал: — И это? И это? Тогда потеряет смысл все здание.
— Тогда снесите здание, — заявил Иосиф, и в его голосе прозвучала такая безмерная ненависть, что Юст не прибавил ни слова.
На следующий же день Иосиф пригласил к себе предводителя банд Запиту. Запита спросил, добился ли он чего-нибудь от начальников Тивериады. Нет, ответил Иосиф, их сердца окаменели. Но, к сожалению, власть Иосифа кончается на границе города. Запита нервно дергал один из кончиков своей бороды. На этот раз он выговорил вслух те слова, которые в прошлый раз проглотил:
— Телец Самарии должен быть уничтожен.
Иосиф ответил, что, если тивериадцы уберут с глаз долой такой соблазн, он, Иосиф, поймет этих людей.
— И даст убежище? — спросил Запита.
— Может быть, и убежище, — сказал Иосиф.
Запита ушел и оставил Иосифа в состоянии странной двойственности. Этот Запита, несмотря на свое кривое плечо, здоровенный малый, в случае чего он едва ли будет особенно церемониться. Если он и его люди ворвутся во дворец, они, вероятно, удалят не только статуи. Прекрасное здание, потолки из кедрового дерева и золота, повсюду драгоценнейшие вещи. Оно, бесспорно, принадлежит царю Агриппе и, бесспорно, находится под защитой римлян. С некоторых пор в стране наступило успокоение, и в Иерусалиме надеются, что с Римом удастся столковаться. Башмачник Акиба в прокопченном капернаумском трактире видел мессию: мессия был без меча. Некоторые люди в Риме только и ждут, чтобы иерусалимское правительство предприняло какие-нибудь действия, которые могли бы рассматриваться как нападение. Сказанные им сейчас слова могут столкнуть с места тяжелый камень, который до сих пор руки многих людей с трудом удерживали от падения.
В следующую ночь дворец царя Агриппы был атакован. Это было обширное здание очень прочной стройки, и сровнять его с землей оказалось нелегко. Да это и не вполне удалось. Все произошло при слабом лунном свете и, как ни странно, в безмолвии. Множество людей деловито набросилось на камни, упрямо било по ним, вырывало их руками, топтало. Растаптывали и цветочные клумбы в саду. С особенной мрачной яростью разрушали они фонтаны. Деловито бегали туда и сюда, тащили драгоценные ковры и ткани, золотые инкрустации потолков, изысканные настольные доски, — и все это происходило в безмолвии. Юст скоро понял, что для успешного вмешательства его войска слишком слабы, и запретил всякое сопротивление. Однако «Мстители Израиля» уже успели прикончить около ста солдат и городских жителей — греков, которые, когда начался штурм, хотели было воспрепятствовать грабежу. Само здание горело потом еще чуть не целый день.
После взятия Тивериадского дворца вся Галилея замерла. В Магдале администрация испуганно требовала от Иосифа директив. Иосиф упорно молчал. Затем вдруг на другой же день после пожара с большой поспешностью уехал в Тивериаду, чтобы передать Юсту соболезнование иерусалимского правительства по поводу постигшего его несчастья и предложить свою помощь. Он нашел Юста среди развалин; тупо и неустанно ходил Юст взад и вперед. Он не потребовал войск от своего царя, ничего не предпринял против Запиты и его людей. Этот обычно столь деятельный человек опустил руки в бессилии и отчаянии. И теперь, увидев Иосифа, он не стал издеваться над ним, не отпустил ни одной колкости. Бледный, голосом, хриплым от волнения и горя, он сказал ему:
— Вы даже не знаете, что вы натворили. Не возвращение храмовой жертвы было ужасно, не нападение на Гессия и даже не эдикт о Кесарии. Самое ужасное — вот это, ибо это, бесспорно, означает войну. — От гнева и печали в его глазах стояли слезы. — Честолюбие ослепило вас, — сказал он Иосифу.
Значительную часть добычи, взятой во дворце, Запита предоставил Иосифу. Золото, драгоценное дерево, обломки статуй. Иосиф невольно стал искать среди них ветку с птицей из коричневого камня, но не нашел, — наверное, она была сделана из плохого материала и слишком хрупка.
Вести, пришедшие из Тивериады, были для господ в Иерусалиме словно удар обухом по голове. Через посредство миролюбиво настроенного полковника Павлина уже почти удалось добиться от императорского правительства согласия на мир. Если только Иудея будет соблюдать спокойствие, заявил Рим, он удовольствуется выдачей кое-кого из вождей. Симона бар Гиоры, доктора Элеазара. В Иерусалиме были рады отделаться от подстрекателей. Теперь из-за нелепой истории в Тивериаде все рухнуло.
«Мстители Израиля», уже припертые к стене, снова вздохнули свободнее. Место их собраний — Голубой зал — стал центром Иудеи. Они добились того, что доктор Элеазар был призван в правительство. Прежде чем принять предложенный пост, этот молодой элегантный господин долго заставил себя просить, надменно наслаждаясь уничижением других. Непокорного галилейского губернатора, который поступил так открыто против указаний своего правительства, не мог оставить на его месте даже Голубой зал. Доктор Яннай лично сделал доклад Великому совету и озлобленно требовал отставки и наказания преступника Иосифа бен Маттафия. «Мстители Израиля» не осмелились защищать его; при голосовании они воздержались. Среди членов правительства нашелся только один, выступивший в защиту Иосифа, а именно кроткий старик ученый Иоханан бен Заккаи. Он сказал:
— Не осуждайте никого, пока он не дошел до конца.
Старик, отец Иосифа, костлявый сангвиник Маттафий, настолько же впал теперь в отчаяние, насколько был счастлив при назначении Иосифа в Галилею. Он настойчиво убеждал сына приехать в Иерусалим еще до того, как декрет об отозвании дойдет до Галилеи, явиться самому, оправдаться. Если Иосиф останется в Галилее, то это приведет всех к верной гибели. Сердце его, отца, скорбит смертельно. Он не хочет лечь в могилу, пока не увидит еще раз своего сына Иосифа.
Иосиф, получив это письмо, улыбнулся. Отец его — старик, Иосиф очень его любил, но тот воспринимал все слишком боязливо и мрачно. Сердце Иосифа было полно надежд. Да и в Галилее все это выглядело иначе, чем в Иерусалиме. Галилея со времени низвержения кумиров в Тивериаде радостно приветствует Иосифа; вся страна знает, что без его согласия этого никогда бы не случилось. Он разрушил стену, стоявшую между ним и галилейским народом, теперь он для страны действительно стал вторым Иудой Маккавеем, как его называл в насмешку Юст. Вооруженные союзы послушны Иосифу. Не он зависит от Иерусалима, а Иерусалим от него. Он может теперь просто разорвать иерусалимский декрет об отозвании.
В ту ночь ему приснился дурной сон. По всем улицам шли римские легионы, он видел, как они катились, словно морские валы, медленно, неуклонно, в строгом порядке, рядами по шесть человек, многие тысячи, но все — как одно существо. Это надвигалась на него сама война, это была «техника», чудовище, мощная машина слепой меткости, защищаться против которой — бессмысленно. Он видел однообразную поступь легионов, он видел ее совершенно ясно, но не слышал, и это было самое страшное. Он застонал. То шагала единая гигантская нога в чудовищном солдатском сапоге, вверх, вниз, вверх, вниз, от нее нельзя было спастись, через пять минут, через три — она наступит и раздавит. Иосиф сидел верхом на своей Стреле. Запита, Иоанн Гисхальский — все смотрели на него мрачно и требовательно и ждали, чтобы он выхватил меч из ножен. Он схватился за меч, но меч не вынимался, он был забит в ножны. Иосиф застонал, Юст из Тивериады осклабился, Запита в диком бешенстве дергал один из кончиков своей бороды, столяр Халафта поднял мощные кулаки. Иосиф дергал меч, это длилось целую вечность, он дергал и дергал, но так и не мог вытащить. Башмачник Акиба хныкал: «Есть, вы должны есть», — а нога в гигантском сапоге — вверх, вниз — все приближалась.
Но когда Иосиф проснулся, было лучезарное зимнее утро, и ужасное, долгое, как вечность, ожидание солдатского сапога исчезло. Все, что случилось, — случилось к лучшему. Не Иерусалим — сам Бог поставил его на это место. Бог хочет войны.
С бешеным рвением принялся он за подготовку этой священной войны. Как могло случиться, что в Риме он ел за одним столом с иноверцами, спал с ними в одной постели? Теперь ему, как и другим, было противно вдыхать испарения их кожи, они заражали страну. Возможно, что римляне — хорошие хозяева, что хороши их дороги, их водопроводы; но святая земля Иудея становится прокаженной, если в ней жить не по-иудейски. Им овладела та одержимость, под влиянием которой он писал свою книгу о Маккавеях. Да, он написал ее в предчувствии своей будущей судьбы. Его силы росли, он неутомимо работал, день и ночь. Наказывал чиновников, копил запасы, дисциплинировал союзы обороны, укреплял крепости. Он проезжал по городам Галилеи, среди ее широких спокойных ландшафтов, через горы и долины, по берегам рек, через приозерную и приморскую области, мимо виноградников, оливковых и фиговых рощ. Он ехал на своем коне Стреле, молодой, полный сил, словно излучая пламенную бодрость и уверенность; впереди него развевалось знамя с начальными буквами девиза Маккавеев: «Кто сравнится с тобою, Господи?» — и весь его облик, его слово, его знамя воспламеняли галилейскую молодежь.
Многие, слыша речи Иосифа, эти огненные, уверенные слова, призывающие к уничтожению Эдома [104], вырывавшиеся из него, словно пламя и камни из горы, объявили, что в Израиле появился новый пророк. «Марин, марин, господин наш, господин наш!» — в страстной преданности кричали они, завидев его, и целовали его руки и плащ.
Он поехал в Мерон, находившийся в Верхней Галилее. Это был маленький городок, известный только своими оливковыми деревьями, университетом и древними гробницами. Здесь покоились законоучители прошлого, строгий Шаммай [105] и кроткий Гиллель. Обитатели Мерона слыли людьми особенно пламенной веры. Утверждали, что из гробниц учителей к ним притекает глубокая божественная мудрость. Может быть, Иосиф поехал в Мерон именно поэтому. Он говорил в старой синагоге; люди слушали его — по большей части ученые и студенты, — они были здесь тише, чем где-либо; внимательно слушая, они раскачивались и дышали взволнованно. И вдруг, когда после длинной напряженной фразы Иосиф умолк, среди наступившего молчания бледный, взволнованный совсем молодой человек судорожно прошептал:
— Это он.
— Кто же я? — гневно спросил Иосиф.
И молодой человек с собачьей преданностью в шалых глазах продолжал повторять:
— Это ты, да, это ты.
Выяснилось, что жители города считают молодого человека пророком Ягве и что за неделю перед тем они оставили на всю ночь двери своих домов открытыми, так как он предсказал, что в эту ночь к ним придет мессия.
Когда Иосиф это услышал, его охватил озноб. Он стал громко браниться и резко оборвал молодого человека. Даже в самых глубоких тайниках своего существа он отверг, как кощунство, мысль о том, что может быть мессией. Но все глубже становилась его вера в божественность своего посланничества. Те, кто называл его самого спасителем, были детьми и глупцами. Однако он действительно призван подготовить царство спасителя.
И все-таки жители Мерона остались при убеждении, что они видели мессию. Они залили медью следы от копыт его коня Стрелы, и это место стало для них священнее, чем гробницы законоучителей. Иосиф сердился, смеялся и бранил глупцов. Но он чувствовал себя все теснее связанным с тем, кто должен прийти, и все более страстно, почти с вожделением жаждал увидеть его во плоти.
Когда из Иерусалима прибыла комиссия, вручившая ему приказ об отозвании, он заявил, улыбаясь, что, вероятно, произошла ошибка и что, пока он не получит точных инструкций из Иерусалима, он вынужден, чтобы оберечь страну от волнений, взять под стражу приехавших. Представители Иерусалима спросили, кто уполномочил его возвестить войну с Римом. Он ответил, что его миссия возложена на него Богом. Прибывшие процитировали заповедь: «Кто дерзнет сказать слово от имени моего, а я не повелел ему говорить, тот да умрет». Полный снисходительного высокомерия, Иосиф, продолжая улыбаться, пожал плечами; надо подождать, пока выяснится, кто говорит от имени Господня и кто нет. Он сиял, он был уверен в себе и в своем Боге.
Он объединил свое ополчение с отрядами Иоанна Гисхальского и пошел на Тивериаду. Юст сдал город, не оказав сопротивления. И вот они снова сидели друг против друга; но на этот раз место старого Янная занимал сильный, добродушный и хитрый Иоанн Гисхальский.
— Отправляйтесь спокойно к своему царю Агриппе, — сказал он Юсту, — вы благоразумный господин, но для освободительной войны вы слишком благоразумны. Здесь нужно иметь веру и слух, чтобы услышать внутренний зов.
— Вы можете, доктор Юст, взять с собой все деньги и ценности, принадлежащие царю, — приветливо сказал Иосиф. — Я попрошу вас оставить здесь только правительственные акты. Вы можете уйти беспрепятственно.
— Я ничего не им
