автордың кітабын онлайн тегін оқу Я исповедуюсь
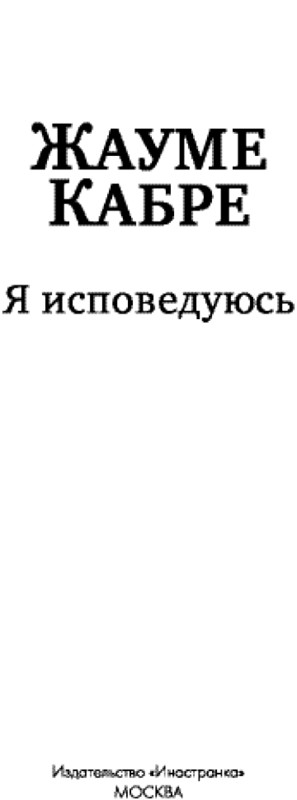
Jaume Cabré
Jo confesso
Copyright © Jaume Cabré, 2011
All rights reserved
First published in Catalan by Raval Edicions, SLU, Proa, 2011 Published by arrangement with Cristina Mora Literary & Film Agency (Barcelona, Spain)
The translation of this work was supported by a grant from the Institut Ramon Llull.

Перевод с каталанского Екатерины Гущиной, Анны Уржумцевой, Марины Абрамовой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Кабре Ж.
Я исповедуюсь : роман / Жауме Кабре ; пер. с каталан. Е. Гущиной, А. Уржумцевой, М. Абрамовой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. (Большой роман).
ISBN 978-5-389-10200-2
16+
Впервые на русском языке роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Я исповедуюсь». Книга переведена на двенадцать языков, а ее суммарный тираж приближается к полумиллиону экземпляров.
Герой романа Адриа Ардевол, музыкант, знаток искусства, полиглот, пересматривает свою жизнь, прежде чем незримая метла одно за другим сметет из его памяти все события. Он вспоминает детство и любовную заботу няни Лолы, холодную и прагматичную мать, эрудита-отца с его загадочной судьбой. Наиболее ценным сокровищем принадлежавшего отцу антикварного магазина была старинная скрипка Сториони, на которой лежала тень давнего преступления. Однако оказывается, что история жизни Адриа несводима к нескольким десятилетиям, все началось много веков назад, в каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки фантастически совершенной скрипки, созданной кремонским мастером, магически преображают людские судьбы. В итоге мир героя романа наводняют мрачные тайны и мистические загадки, на решение которых потребуются годы.
© Е. Гущина, перевод (главы 1–19), 2015
© А. Уржумцева, перевод (главы 20–38), 2015
© М. Абрамова, перевод (главы 39–59), 2015
© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015 Издательство ИНОСТРАНКА®
Маргарите
I
A capite1
Я станет ничем.
Карлес Кампс Мундо
1 С головы (лат.). Часть выражения a capite usque ad calcem — «с головы до пят», иногда употребляемого в значении «от начала до конца». — Здесь и далее примеч. перев.
1 С головы (лат.). Часть выражения a capite usque ad calcem — «с головы до пят», иногда употребляемого в значении «от начала до конца». — Здесь и далее примеч. перев.
1
Только вчерашней ночью, шагая по влажным улицам Валькарки2, я понял, что родиться в этой семье было непростительной ошибкой. Внезапно мне открылось, что я всегда был одинок, что никогда не мог рассчитывать ни на родителей, ни на Бога, чтобы переложить на их плечи ответственность за свои проблемы. С возрастом, размышляя о жизни или принимая решения, я привык опираться, словно на костыли, на смутные представления, почерпнутые из разных книг. Однако вчера — во вторник, ночью, — пережидая дождь по дороге от Далмау, я пришел к выводу, что эта ноша только моя. И все успехи, равно как и ошибки, мои, и только мои. И отвечаю за них — я. Мне потребовалось шестьдесят лет, чтобы осознать это. Надеюсь, ты поймешь меня. Как поймешь и то, насколько беспомощным и одиноким я чувствовал себя и как тосковал по тебе. Несмотря на расстояние, разделяющее нас, ты всегда служишь мне примером. Хотя меня и охватила паника, я не ищу спасательный круг. Несмотря ни на что, я держусь на плаву без веры, без священников, без готовых решений, которые облегчили бы мне путь неведомо куда. Я чувствую себя старым, и Дама с косой зовет меня за собой. Вижу, как она переставляет черного слона и учтивым жестом предлагает продолжить партию. Я знаю, что у меня осталось мало пешек. Тем не менее еще не конец, и я размышляю, какой фигурой сыграть. Я один на один с листом бумаги, и это мой последний шанс.
Не слишком мне доверяй. В жанре, столь склонном ко лжи, как воспоминания, написанные для единственного читателя, я знаю, что не смогу не приврать, но буду стараться не очень присочинять. Все было именно так, и даже хуже. Я понимаю, что должен был рассказать тебе об этом давно, но это трудно, и даже теперь не знаю, с чего начать.
Все началось, по сути, больше пятисот лет тому назад, когда этот измученный человек попросился в монастырь Сан-Пере дел Бургал. Если бы он этого не сделал или если бы отец настоятель дом3 Жузеп де Сан-Бартомеу отказался его принять, я бы не рассказывал тебе всего того, что хочу рассказать. Но нет, я не в силах перенестись так далеко. Начну гораздо ближе.
— Папа... Видишь ли, сын... папа...
Нет-нет. Не хочу и с этого начинать, нет. Лучше начну с кабинета, в котором я пишу перед твоим — таким живым — автопортретом. Кабинет — это мой мир, моя жизнь, моя вселенная; в нем собрано все... кроме любви. Когда я бегал по дому в коротких штанишках, с цыпками на руках от холода осенью и зимой, входить туда мне было запрещено, кроме особых моментов. Но я делал это тайком. Мне были знакомы все углы; в течение нескольких лет у меня там, за диваном, было тайное укрытие, которое приходилось тщательно маскировать после каждого незаконного вторжения, чтобы Лола Маленькая не нашла моих следов, подметая пол. Однако, попадая в кабинет на законных основаниях, я всегда должен был вести себя как в гостях: стоять спрятав руки за спину, пока отец показывает мне последний манускрипт, который нашел в лавке старьевщика в Берлине. Посмотри-ка! И следи за руками. Я не хочу тебя ругать. Адриа, заинтригованный, склонился над страницей:
— Это ведь по-немецки? — Он невольно протянул руку.
— Эй, следи за руками! — Отец ударил его по пальцам. — Что ты говоришь?
— Ведь это по-немецки, да? — Он трет ушибленную руку.
— Да.
— Я хочу выучить немецкий.
Феликс Ардевол с гордостью смотрит на сына и говорит: весьма скоро ты сможешь начать его учить, мальчик мой.
На самом деле это не манускрипт, конечно, а просто пачка бурых листов: на первой странице старинным шрифтом напечатано Der begrabene Leuchter. Eine Legende4.
— Кто такой Стефан Цвейг?
Отец, с лупой в руках, рассеянно изучает какую-то пометку на полях возле первого абзаца и, вместо того чтобы рассказать мне о писателе, бормочет: ну... один тип, покончивший с собой в Бразилии лет десять или двенадцать назад. Долгое время единственное, что я знал про Стефана Цвейга: этот субъект покончил с собой десять или двенадцать лет тому назад... потом — тринадцать, четырнадцать и пятнадцать — до тех пор, пока сам не прочитал книгу и не узнал о ее авторе.
Тем временем посещение кабинета закончено, и Адриа вышел, сопровождаемый просьбой не шуметь: дома не разрешалось ни бегать, ни кричать, ни цокать языком, поскольку отец если не изучал манускрипты с лупой в руках, то просматривал каталожные карточки с описью средневековых географических карт или размышлял, как найти новые места, где можно достать предметы, заставлявшие его трепетать. Единственный шум, который мне позволялось издавать — в своей комнате, — извлекать звуки из скрипки, на которой учился играть. Но и тогда нельзя было проводить весь день, снова и снова повторяя арпеджио номер XXIII из О livro dos exercicios da velocidade5, из-за которого я так возненавидел Трульолс, однако продолжал любить скрипку. Хотя нет, Трульолс я не ненавидел. Но она была невыносимой занудой, а уж когда речь шла об упражнении XXIII...
— Может быть, что-то другое поиграть? Для разнообразия?
— Здесь, — она тыкала в партитуру колодкой смычка, — все технически сложные моменты собраны в одном месте. Это абсолютно гениальное упражнение!
— Но я...
— В пятницу я хочу услышать безупречное исполнение упражнения двадцать три. Особое внимание — на такт двадцать седьмой.
Иногда Трульолс упряма как ослица. Но в целом она вполне терпима. А иногда даже больше чем терпима.
Бернат того же мнения. Когда я приступил к О livro dos exercicios da velocidade, то еще не был знаком с Бернатом. Однако в том, что касается Трульолс, мы сходимся. Она, должно быть, замечательный педагог, хотя и не вошла в историю, насколько мне известно. Кажется, нужно объяснить, что к чему, а то я все запутываю. Да, будут вещи, которые ты наверняка знаешь, особенно когда речь пойдет о тебе. Но есть и такие уголки души, которые, думаю, тебе неизвестны, потому что невозможно ведь познать человека до конца.
Магазин хотя и поражал воображение, но все-таки нравился мне меньше, чем кабинет. Возможно, потому, что когда я приходил туда — очень редко, — то не мог отделаться от чувства, что за мной следят. У магазина было одно явное преимущество: там я мог смотреть на красавицу Сесилию, в которую был всей душой влюблен. У нее были сияющие золотые волосы, всегда тщательно уложенные, и полные ярко-алые губы. Она вечно или хлопотала над своими каталогами и прейскурантами, или подписывала ценники. Немногих клиентов, заходивших в магазин, она приветствовала улыбкой, открывавшей взгляду прекрасные зубы.
— У вас есть музыкальные инструменты?
Мужчина даже не потрудился снять шляпу. Он стоял перед Сесилией, оглядывая все вокруг: лампы, канделябры, стулья вишневого дерева с тончайшей инкрустацией, козетки начала девятнадцатого века, вазы всех размеров и эпох... Меня он не заметил.
— Не слишком много. Но если вам будет угодно пройти за мной...
«Не слишком много» — это пара скрипок и одна виола с не очень хорошим звуком, но зато со струнами из чудом сохранившихся натуральных жил. А еще — помятая труба, два великолепных флюгельгорна и горн, который в отчаянии кричал людям из соседних долин, что лес в Паневеджио горит и Пардак просит помощи у Сирора, Сан-Мартино и особенно у Велшнофена, который пострадает чуть позже; у Моэны и Сораги, до которых, возможно, уже долетел тревожный запах этой беды, разразившейся в год 1690-й от Рождества Господа нашего, когда Земля была круглой почти для всех, и если неведомые болезни, безбожные дикари, чудища морские и земные, град, бури, бурные ливни не мешали кораблям, то они, отправляясь на запад, возвращались с востока, привозя обратно моряков, чьи тела были истощены, взгляд потерян, а ночи полны кошмаров. В лето от Рождества Господа нашего 1690-е в Пардаке, Моэне, Сироре, Сан-Мартино все жители, кроме прикованных к постели, бежали, полуослепшие от дыма, посмотреть на бедствие, разрушившее их жизни — чью-то в большей степени, чью-то в меньшей. Страшный пожар, который они наблюдали, не в силах что-либо предпринять, пожирал гектары прекрасного леса. Когда благословенные дожди погасили адский огонь, Иаким, четвертый — самый бойкий — сын Муреды из Пардака, тщательно обследовал весь лес в поисках мест, нетронутых пожаром, и деревьев, годных для дела. На середине спуска к оврагу Ос он присел справить нужду возле небольшой обугленной ели. Но то, что он увидел, заставило его забыть обо всем: несколько обернутых тряпками факелов из сосновых ветвей, источавших запах камфары или еще чего-то незнакомого. Очень осторожно сын Муреды из Пардака развернул тряпки, которые еще тлели, храня огонь адского пожара, уничтожившего его будущее. От увиденного его замутило: грязно-зеленая ткань, обшитая по краю желтым, не менее грязным шнуром, была не чем иным, как куском куртки Булхани Брочи, толстяка из Моэны. Найдя еще несколько обрывков той же ткани, правда сильно обгоревших, Иаким понял, что это чудовище — Булхани — выполнил свою угрозу уничтожить семейство Муреда и всю деревню Пардак вместе с ним.
— Булхани!
— Я с псами не разговариваю!
— Булхани!
Тон, которым было произнесено имя, заставил его обернуться с недовольной гримасой. Булхани из Моэны обладал внушительным брюхом, на котором — поживи он подольше да поешь получше — стало бы очень удобно складывать руки.
— Какого дьявола тебе нужно?
— Где твоя куртка?
— Тебе-то что до моей куртки?
— Что ж ты ее не надел? Ну-ка, покажи мне ее!
— Поди прочь! Ты думаешь, раз сейчас для Моэны плохие времена, мы должны плясать под твою дуду? А? — Его глаза потемнели от злобы. — И не подумаю тебе ничего показывать! Катись к чертовой матери!
Иаким, четвертый сын Муреды, ослепленный холодной яростью, вытащил короткий нож, который всегда носил за поясом, и воткнул его в брюхо Булхани Брочи, толстяка из Моэны, словно в кленовый ствол, с которого нужно снять кору. Булхани открыл рот и выпучил глаза — скорее от удивления, чем от боли: как это какое-то ничтожество из Пардака посмело тронуть его. Когда Иаким Муреда выдернул нож, раздался отвратительный хлюпающий звук. Лезвие было красно от крови. Булхани осел, будто из него выпустили воздух.
Иаким огляделся: на улице никого. Стараясь сохранять спокойный вид, он почти бегом бросился в сторону Пардака. Вот за спиной остался последний дом Моэны. Муреда заметил краем глаза, что горбунья с мельницы, держа охапку мокрого белья, смотрит на него, открыв рот... Может, она все видела. Вместо того чтобы прирезать и ее, он только прибавил шагу. Для него — лучшего знатока поющего древа, всего-то двадцати лет от роду, — жизнь только что разлетелась в куски.
Дома все поняли мгновенно и тут же послали в Сан-Мартино и Сирор людей, чтобы те в красках рассказали, как Булхани, понукаемый ненавистью и злобой, поджег лес; да только обитателям Моэны до правосудия не было дела, они желали поймать — немедленно — злодея Иакима Муреду.
— Сынок, — сказал старый Муреда, глядя еще более печально, чем обычно, — ты должен бежать отсюда.
И протянул ему мешочек, в котором лежала половина всего золота, скопленного семьей за тридцать лет работы в Паневеджио. Никто из сыновей не возразил, видя это. Глава семьи торжественно продолжил: хоть ты и лучший знаток поющей древесины и настоящий мастер, Иаким, сын сердца моего, четвертый отпрыск этого несчастного рода, твоя жизнь стоит много больше драгоценного дерева, которое мы никогда уже не сможем продавать. Только покинув эти места, ты избежишь разорения, каковое постигнет нас теперь, когда Булхани из Моэны оставил нас без леса.
— Отец, я...
— Давай беги, не мешкай! Беги через Велшнофен, потому что я уверен: в Сироре тебя будут искать. Мы пустим слух, что ты прячешься в Сироре или Тонадике. Оставаться в долине очень опасно. Ты должен бежать далеко отсюда, как можно дальше от Пардака. Беги, сынок, и да хранит тебя Господь!
— Но, отец, я не хочу уезжать. Я хочу работать в лесу.
— Леса больше нет. Что ты будешь здесь делать, дитя мое?
— Не знаю... Но если я покину долину, то умру!
— А если ты не покинешь долину сегодня же ночью, я сам тебя убью! Ты понял меня?
— Отец...
— Никому из Моэны я не позволю поднять руку на моего сына!
Иаким Муреда из Пардака попрощался с отцом и поцеловал одного за другим всех братьев и сестер: Агно, Йенна, Макса с их женами; Гермеса, Йозефа, Теодора и Микура; Ильзу, Эрику с их мужьями; Катарину, Матильду, Гретхен и Беттину. Затем в полной тишине сказал: «Прощайте!» — и уже в дверях услышал голос младшей, Беттины: «Иаким!» Он обернулся и увидел, что девочка протягивает ему медальон с Пресвятой Девой Марией Пардакской — образок, который мать дала ей перед смертью. Иаким молча обвел взглядом братьев, посмотрел на отца. Тот согласно кивнул. Тогда беглец подошел к младшей сестре, взял медальон и сказал: Беттина, сестренка, я буду носить его как драгоценность до самой смерти. Он не знал тогда, что говорит истинную правду. Беттина прикоснулась к его щекам ладошками, но не плакала.
Иаким вышел из дому, ничего не видя перед собой, пробормотал короткую молитву над могилой матери и растворился в снежной ночи, чтобы переменить жизнь, историю и воспоминания.
— У вас только это есть?
— У нас магазин антиквариата, — ответила Сесилия с тем ледяным выражением лица, которое вгоняло мужчин в краску. И прибавила, не скрывая иронии: — Отчего бы вам не наведаться в лавку музыкальных инструментов?
Мне нравится, когда Сесилия сердится. От этого она становится еще красивее. Даже красивее, чем мама. Чем мама, какой она была тогда.
С моего места виден кабинет сеньора Беренгера. Я услышал, как Сесилия провожает разочарованного клиента, так и не снявшего шляпу. Как только звякнул колокольчик и раздалось «Всего хорошего!» Сесилии, сеньор Беренгер поднял голову и подмигнул мне:
— Адриа!
— А?
— Когда за тобой придут? — говорит он громче.
Я пожимаю плечами. Я никогда толком не знал, где и когда мне следует быть. Родители не хотели, чтобы я оставался дома один, и отводили в магазин, если оба уходили по делам. Меня это устраивало: мне нравилось проводить время, рассматривая самые невероятные предметы, прожившие жизнь, а теперь ждали случая начать новую в новом месте. Я воображал себе их в разных домах — это было увлекательное занятие.
Заканчивалось все всегда одинаково: за мной приходила Лола Маленькая. Она вечно торопилась, потому что ей нужно было готовить ужин, а потом еще мыть посуду. И я пожал плечами в ответ на вопрос сеньора Беренгера: когда за мной придут.
— Иди сюда, — сказал он, доставая лист белой бумаги. — Сядь за тот тюдоровский стол и порисуй немножко.
Мне никогда не нравилось рисовать, потому что я не умею, совсем не умею. Оттого меня всегда восхищало твое умение, оно кажется мне чудесным. Сеньор Беренгер говорил мне «порисуй немножко», поскольку ему жаль было видеть, как я бездельничаю, хотя это было не так. Я не бездельничал, я — размышлял. Но с сеньором Беренгером спорить бесполезно. Так что, сидя за тюдоровским столом, я соображал, как бы сделать так, чтобы он оставил меня в покое. Вынул Черного Орла из кармана и попробовал нарисовать его. Бедняга Черный Орел, если б он увидел свой портрет... Кстати, Черный Орел все еще не нашел времени познакомиться с шерифом Карсоном, так как я только сегодня утром выменял его у Рамона Колля на губную гармошку Вейса. Если отец узнает об этом, он точно меня убьет.
Сеньор Беренгер не был похож на других; от его смеха мне становилось немного не по себе, а еще он обращался с Сесилией так, словно она никчемная служанка, и этого я ему так и не простил. Однако этот человек много знал о моем отце, который для меня был великой тайной.
2 Валькарка — район Барселоны.
3 Дом — обращение к духовному лицу, принятое в Средние века в монастырях ордена бенедиктинцев.
4 «Погребенный светильник. Легенда» (нем.). Новелла Стефана Цвейга.
5 «Сборник упражнений на скорость» (порт.).
2 Валькарка — район Барселоны.
3 Дом — обращение к духовному лицу, принятое в Средние века в монастырях ордена бенедиктинцев.
4 «Погребенный светильник. Легенда» (нем.). Новелла Стефана Цвейга.
5 «Сборник упражнений на скорость» (порт.).
2
«Санта-Мария» прибыла в Остию туманным утром второго четверга сентября. Плавание из Барселоны было значительно хуже, чем любое из путешествий Энея, предпринятых им в поисках своей судьбы и вечной славы. На борту «Санта-Марии» Нептун ему не благоволил: то и дело приходилось свешиваться над водой и кормить рыб, так что к концу путешествия цвет лица у него изменился с яркого и здорового, какой присущ крестьянам из долины Плана, на бледный, словно у загробного видения.
Монсеньор Жузеп Торрас-и-Бажес лично принял решение, что, учитывая превосходные качества этого семинариста — ум, старательность в учебе, благочестие, душевную чистоту и искреннюю веру, которыми, несмотря на юный еще возраст, обладает этот семинарист, — сей прекрасный цветок нуждается в более пышном цветнике, чем скромный огород семинарии в Вике, где он завянет и понапрасну растратит те сокровенные дары, которыми наделил его Господь.
— Но я не хочу ехать в Рим, монсеньор! Я хочу посвятить себя учебе...
— Именно по этой причине я и отправляю тебя в Рим, возлюбленный сын мой. Я хорошо знаю нашу семинарию и то, что такой ум, как твой, лишь понапрасну тратит здесь время.
— Но монсеньор...
— Господь создал тебя для высоких свершений. Твои преподаватели просто требуют от меня такого решения, — сказал он, несколько театральным жестом поднимая вверх бумагу, которую держал в руке.
«Рожденный в усадьбе Жес близ города Тона, сын достойных Андреу и Розалии; уже в возрасте шести лет обнаружил стремление к церковному служению и начал посещать вводный курс латыни под руководством моссена6 Жасинта Гарригоса. Был столь успешен в учении, что, осваивая курс риторики, написал сочинение Oratio Latina7 и был допущен к его защите, чем — как знает монсеньор по собственному опыту, ибо мы имели честь учить Вас в этих стенах, — учителя поощряют лишь наиболее достойных учеников, добившихся значительных успехов в изучении сего наипрекраснейшего языка. Сие событие произошло, когда юноше исполнилось только одиннадцать лет, что свидетельствует о его исключительном развитии. Таким образом, все получили возможность услышать блестящую ораторскую речь Феликса Ардевола, произнесенную на языке Вергилия в присутствии весьма впечатленной публики, равно как его родителей и брата. Дабы почтенная аудитория могла как следует видеть и слышать маленького оратора, ему пришлось встать на специальную подставку. Так Феликс Ардевол-и-Гитерес начал свое триумфальное восхождение в области философии, теологии, математики, чтобы сравняться с такими просветленными учениками этой семинарии, как отцы Жауме Балмес-и-Урпиа, Антони Мария Кларет-и-Клара, Жасинт Вердагер-и-Сантало, Жауме Коллеу-и-Бансельс8, профессор Андреу Дуран и Вы сами, Ваше преосвященство, коего мы удостоились в качестве епископа нашего возлюбленного диоцеза. Мы желали бы выразить благодарность всем славным предшественникам. Ибо сказал Господь наш: „Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua“ (Eccli., 44, 1)9. Суммируя все вышеизложенное, мы от всей души просим Вас направить в Папский Григорианский университет студента Феликса Ардевола-и-Гитереса, дабы он там изучал теологию».
— У тебя нет выбора, сын мой!
Феликс Ардевол не осмелился признаться, что ненавидит корабли, поскольку родился и всегда жил на твердой земле, очень далеко от моря. И теперь, из-за того что он не смог быть откровенным с епископом, ему пришлось предпринять это невыносимое путешествие. На задворках порта Остии, заваленных какими-то полусгнившими ящиками и кишащими крысами, он исторг из себя свою беспомощность и почти все воспоминания о прошлом. А за следующие несколько минут — пока пытался разогнуться и восстановить дыхание, пока отирал рот платком — он решительно облекся в сутану странствий и обратил взор к открывавшимся перед ним блестящим перспективам. Подобно Энею, когда тот прибыл в Рим.
— Это лучшая комната в общежитии.
Феликс Ардевол остановился и обернулся, удивленный. В дверном проеме, с приветливой улыбкой, стоял невысокий полный студент, истекающий потом в шерстяном доминиканском хабите.
— Феликс Морлен, из Льежа, — представился незнакомец, делая шаг вперед.
— Феликс Ардевол. Из Вика.
— А, тезка! — воскликнул тот, смеясь и протягивая руку.
С этого дня они сдружились. Морлен по секрету рассказал, что эта комната — самая желанная в общежитии, и спросил, кто составил ему протекцию. Ардевол ответил, что никто, просто толстый плешивый комендант посмотрел в свои бумаги и сказал: Ардевол? Cinquantaquattro10 — и не глядя сунул ему в руки ключ. Морлен не поверил, но с готовностью рассмеялся.
В ту же неделю, до начала учебы, Морлен представил его восьми или девяти студентам второго курса — тем, кого знал сам, и порекомендовал не тратить понапрасну времени на общение с теми, кто учится не в Григорианском университете и не в Библейском институте, подсказал способ, как незаметно проскользнуть мимо привратника-цербера, посоветовал приобрести какую-нибудь мирскую одежду на случай отлучки в город, показал новичкам-первокурсникам, как быстрее всего дойти от общежития до других зданий Папского Григорианского университета. По-итальянски он говорил с французским акцентом, но это не мешало. А еще Морлен прочел лекцию, как важно держаться подальше от иезуитов из Григорианского университета, потому что, коли не побережешься, они тебе мозг взорвут. Вот так — бабах!
Накануне начала занятий всех студентов — и новых, и старых, приехавших из тысячи разных мест, — собрали в огромном актовом зале палаццо Габриэлли-Борромео, и отец декан Папского Григорианского университета (он же — Римская коллегия) Даниэль д’Анжело, S. J.11, на безупречной латыни сообщил: вы должны ощущать то великое счастье, то великое преимущество, которые обретаете, получив возможность учиться на одном из факультетов Папского Григорианского университета и т. д. и т. д. и т. д. Здесь мы имеем честь собирать блестящих студентов, среди коих было немало Святых Отцов, последним из которых является достойнейший папа Лев XIII12. Мы от вас не требуем ничего, кроме прилежания, прилежания и прилежания. Сюда приходят, чтобы учиться, учиться, учиться и приобщаться к знаниям под руководством лучших профессоров в области теологии, канонического права, духовности, истории Церкви и т. д. и т. д. и т. д.
— Отец д’Анжело известен как д’Анжело-анжело-анжело, — шепнул ему на ухо Морлен с очень серьезным видом.
Закончив учебу, вы разъедетесь по всему миру, вернетесь в свои страны, в родные семинарии, в школы родных орденов. Те из вас, кто еще не рукоположен, обретут священнический сан и смогут собрать достойную жатву с того, что вам только еще предстоит познать в этих стенах. И т. д. и т. д. и т. д. Еще минут пятнадцать столь же полезных в каждодневной жизни рассуждений (увы, не таких полезных, как советы Морлена). Феликс Ардевол думал, что могло быть и гораздо хуже, ибо латинские речи в Вике бывали зачастую значительно более тоскливыми, чем этот набор простых и вполне осмысленных наставлений.
Первые месяцы учебы — до Рождества — прошли без потрясений. Феликс Ардевол восхищался просветленной мудростью отца Фалубы — иезуита, наполовину словака, наполовину венгра, великолепного знатока библеистики; педантичной сухостью рассуждений сурового в общении со студентами отца Пьера Блана, рассказывавшего им об Откровении Божьем и о передаче его Церкви, который, хоть и был тоже родом из Льежа, поставил на экзамене Морлену «неудовлетворительно», когда тот отвечал ему введение в мариологию13. Ардевол сблизился с Драго Градником, своим соседом по парте на занятиях. Это был словенец из Люблянской семинарии, огромного роста, с красным лицом и мощной, как у быка, шеей на которой, казалось, вот-вот лопнет белый воротничок. Говорили они мало, несмотря на то что латынь оба знали хорошо. Оба были застенчивы и стремились направить всю энергию на занятия. Пока Морлен жаловался на учебу и старательно обзаводился разными знакомыми и приятелями, Ардевол, запершись в келье номер пятьдесят четыре — лучшей в общежитии, — читал на демотическом египетском14, коптском, греческом или арамейском папирусы и прочие библейские рукописи, которые приносил ему отец Фалуба, обучая студентов искусству любви к вещам. Манускрипт, изъеденный временем, бесполезен для науки, говорил он. Если берешься реставрировать, то уж нужно отреставрировать, чего бы это ни стоило. У реставратора роль не меньше, чем у ученого, который будет потом толковать документ. Он никогда не вставлял «и т. д. и т. д. и т. д.», потому что всегда знал, о чем говорит.
— Идиотизм, — вынес приговор Морлен, выслушав его. — Эти типы счастливы, только если на столе перед ними лежат древние бумажки, изъеденные мышами.
— Счастливы, как и я.
— Да кому нужны эти мертвые языки? — спросил Морлен на изысканной латыни.
— Отец Фалуба говорил нам, что люди живут не в стране, а в языке. И что, оживляя мертвые языки...
— Sciocchezze!15 Глупости! Единственный мертвый язык, который еще жив, — это латынь.
Они шли по виа ди Сант-Игназио. Ардевол, защищенный от мира своей сутаной, Морлен — хабитом. Впервые Ардевол посмотрел на друга с удивлением. Он остановился и озадаченно спросил, во что же тот верит? Морлен тоже остановился и ответил, что решил стать монахом-доминиканцем, руководствуясь огромным желанием помогать другим и служить Церкви. И ничто не отвратит его с этого пути. Однако служить Церкви для него значит заниматься реальным делом, а не корпеть над истлевшими бумажками, значит влиять на людей и через них — на жизнь... Он перевел дух и добавил: ну и т. д. и т. д. и т. д. Оба друга расхохотались. В этот момент Каролина первый раз прошла около них, но ни тот ни другой не обратили на нее никакого внимания.
Когда я возвращался домой с Лолой Маленькой, то должен был упражняться на скрипке, пока она готовила ужин. Квартира была погружена в темноту. Мне это не нравилось, потому что во тьме за любой дверью мог притаиться злодей. Поэтому я всегда носил в кармане Черного Орла, ведь в доме — по давнишнему решению отца — не было ни образков святых, ни освященных предметов, ни молитвенников. А бедняга Адриа Ардевол отчаянно нуждался в незримой защите. Однажды вместо того, чтобы разучивать упражнения на скрипке, я застыл в столовой, наблюдая, как на картине над буфетом солнце прячется за вершины Треспуя, освещая волшебным светом монастырь Санта-Мария де Жерри. Этот магический свет неизменно завораживал меня и рождал в голове фантастические истории... Я не слышал, как хлопнула входная дверь. Голос отца громыхнул у меня за спиной, испугав до полусмерти:
— Та-а-ак... Позволь узнать, с какой стати ты тут прохлаждаешься? Тебе разве нечем заняться? У тебя нет домашнего задания по скрипке? Ты уже все сделал?
И Адриа идет в свою комнату. Сердце все еще бултыхается в грудной клетке и испуганно делает тук-тук-тук. Я не завидовал детям, которых родители обнимают и целуют, — думал, что такого не бывает.
— Карсон, позволь представить тебе: Черный Орел из славного племени арапахо16.
— Привет!
— Хау!
Черный Орел целует шерифа Карсона (то, чего никогда не делает отец), и Адриа ставит их обоих, вместе с лошадьми, на ночной столик, чтобы они получше познакомились.
— Я вижу, тебя что-то мучает.
— После трех лет изучения теологии, — задумчиво говорит Ардевол, — я все никак не могу понять, что тебя на самом деле интересует? Доктрина милости Божьей?
— Ты не ответил на мой вопрос, — напомнил Морлен.
— Это был не вопрос. Или надежность доктрины Откровения Божьего?
Морлен молчал, и Феликс Ардевол продолжал настаивать:
— Зачем ты учишься в Григорианском университете, если теология тебя не?..
Они отстали от остальных студентов, вихрем несшихся от учебного корпуса к общежитию. За два года христологии и сотериологии17, первой и второй части курса метафизики, Божественного Откровения и диатриб самых требовательных наставников — особенно Левински, преподававшего Божественное Откровение и полагавшего, что Феликс Ардевол не оправдывает возложенных на него надежд, — за два эти года Рим не слишком изменился. Несмотря на то что Европа билась в военных конвульсиях, город не стал кровоточащей раной, скорее — просто выглядел теперь беднее. Тем временем студенты Папского университета переживали свои собственные драмы и конфликты. Почти все. И разрешали их с мудростью и достоинством. Почти все.
— Ну а тебе что интересно?
— Теодицея18 и первородный грех меня больше не интересуют. Я не желаю никаких оправданий. Мне тяжело думать, что Господь допускает зло.
— Я подозревал это уже довольно давно.
— И ты тоже?
— Нет, ты не так понял: я подозревал, что ты слишком запутался. Попробуй смотреть на мир, как я. Меня устраивает факультет канонического права. Юридические отношения между Церковью и гражданским обществом, церковные санкции, имущество Церкви, харизма институтов посвященной Богу жизни, la Consuetudine canonica...19
— Да что ты такое говоришь?
— Отвлеченные ученые штудии — пустая трата времени, все эти крючкотворы заняты совершенной ерундой.
— Нет, нет! — воскликнул Ардевол. — Мне нравится арамейский, меня восхищают манускрипты, я наслаждаюсь, когда понимаю разницу в морфологии между восточным и северо-восточным новоарамейскими языками или, например, отличия халдейско-арамейского диалекта от диалекта млахсо.
— Слушай, я вообще не понимаю, о чем ты толкуешь. Мы в одном университете учимся, а? На одном факультете? Мы с тобой в Риме находимся или где?
— Не имеет значения! Пока мне преподает отец Левински, я хотел бы узнать все, что известно о халдейском, вавилонском, самаритянском и...
— И чем тебе это поможет в жизни?
— А чем тебе поможет знание тончайших отличий «брака законного» от «брака, осуществленного в полной мере» согласно каноническому праву?
Оба начали хохотать, стоя прямо посреди виа дел Семинарио. Глядя на этих молодых священнослужителей, так откровенно и бесстыдно проявляющих неуместное жизнелюбие, какая-то почтенная дама, одетая во все черное, казалось, была готова упасть в обморок.
— Так что же тебя гнетет, Ардевол? Вот это вопрос.
— Сначала скажи: а тебя-то что интересует по-настоящему? Если говорить начистоту?
— Все!
— И теология?
— Как часть всего, — ответил Морлен, воздевая руки, словно хотел благословить фасад библиотеки Казанате20 и человек двадцать прохожих, спешащих по своим делам.
Наконец они тронулись с места, продолжая разговор на ходу. Феликсу Ардеволу было непросто понять ход мысли друга.
— Возьмем войну в Европе, — говорил Морлен, энергично кивая куда-то в сторону Африки. Он понизил голос, словно опасался шпионов.
— Италия должна сохранять нейтралитет, потому что Тройственный союз21 — это только договор о взаимопомощи при обороне, — сказала Италия.
— В союзе мы выиграем войну, — ответила Антанта.
— Я не изменяю ради других интересов данному слову, — с достоинством заявила Италия.
— Мы обещаем отдать тебе спорные Трентино, Истрию и Далмацию.
— Повторяю, — говорит Италия величественно, глядя в никуда, — что нам приличествует сохранять нейтралитет.
— Хорошо. Но если ты подпишешь сегодня — не завтра, понимаешь? — если ты подпишешь сегодня, то получишь желаемое: и Альто-Адидже, и Трентино, и Венецию-Джулию, и Истрию, и Фиуме, и Ниццу, и Корсику, и Мальту, и Далмацию22.
— Где я должна подписать? — ответила Италия. И воскликнула с горящими глазами: — Да здравствует Антанта! Пусть рухнут старые европейские империи! Вот и все, Феликс, политика — такое дело. Сначала ты договариваешься с одними, а потом — с другими.
— А как же высокие идеалы?
Теперь Феликс Морлен остановился и посмотрел в небо, намереваясь изречь афоризм:
— Мировая политика — вовсе не высокие идеалы, а высокие международные интересы. И Италия это хорошо поняла: стоило ей встать на сторону добра, то есть на нашу, и тут же оборона в Трентино, контратака, битва при Капоретто23, триста тысяч убитых, Пьява, прорыв фронта возле Витторио-Венето24, перемирие в Падуе, создание Королевства сербов, хорватов и словенцев25 — фантома, не просуществовавшего и пары месяцев и превратившегося в то, что называется Югославией. Думаю, спорные регионы — это приманка, которую союзники заберут себе. В общем, тривиальная борьба союзников за вожделенные куски пирога. А Италия в ней останется с носом26. Покуда все заняты дележкой территорий, война не закончится. Надо ждать, когда на сцене появится настоящий враг — тот, что еще не проснулся.
— Какой?
— Большевистский коммунизм. Поверь, через пару лет ты поймешь, что я был прав.
— Откуда тебе все это известно?
— Из газет, из разговоров с умными людьми. Надо уметь грамотно пользоваться связями. Если бы ты знал, какую незавидную роль играет Ватикан во всех этих событиях...
— Когда же ты успеваешь изучать сакральное влияние таинств на душу или доктрину милости Божьей?
— То, чем я занимаюсь, — тоже учеба, дорогой Феликс. Это позволит мне стать хорошим слугой Церкви. Церкви нужны и богословы, и политики, и такие, как ты, — просветленные, изучающие мир сквозь стекло лупы. Отчего же ты унываешь?
Некоторое время они шли молча, опустив голову, каждый погруженный в свои мысли. Внезапно Морлен остановился и воскликнул: ну конечно!
— Что?
— Я знаю, что с тобой происходит! Знаю, отчего ты впал в уныние!
— Да неужели?
— Ты — влюбился!
Феликс Ардевол-и-Гитерес, студент четвертого курса Папского Григорианского университета в Риме, обладатель наград за выдающиеся успехи в учебе по итогам первых двух курсов, открыл рот, чтобы что-то возразить, и тут же закрыл. Они встретились в пасхальный понедельник. Страстная неделя закончилась, ему решительно нечем было заняться после того, как он написал работу о Вико: его el verum et factum reciprocantur seu convertuntur27 и о невозможности понять все (тогда как Феликс Морлен был, наоборот, настроен против идей Вико и производил впечатление человека, понимающего все странные процессы в обществе). Они переходили через Piazza di Pietra28, и тут он увидел ее в третий раз. Ослепительная. Их отделяло друг от друга несколько десятков голубей. Он приблизился, а она — в руке кулек с кормом для птиц — улыбнулась ему. И в тот же миг мир стал чудесным, прекрасным, сияющим. И это было совершенно логично: красота, такая красота, не может быть делом дьявольских рук. Красота — божественна, и ангельская улыбка тому подтверждение. Он вспомнил, как видел ее во второй раз, тогда Каролина помогала отцу разгружать повозку у дверей лавочки. Такая нежная спина должна была принимать на себя тяжесть грубых деревянных ящиков с яблоками? Этого он не мог вынести и бросился помогать девушке. Они вдвоем, молча, при ироничном одобрении мула, жующего сено из торбы, сгрузили три ящика. Он тонул в глубине ее глаз, не испытывая ни малейшего желания опустить взгляд в ложбинку между грудями, а все, кто был в лавочке Саверио Амато, молчали, потому что никто не знал, что делать, когда студент Папского университета, будущий священник, духовное лицо, подтыкает подол святой сутаны и, как грузчик, таскает тяжести, при этом так странно глядя на их дочь. Три ящика яблок — настоящий дар Божий в военное время; три мгновения наслаждения возле красоты — а затем очнуться, оглядеться вокруг, увидеть людей внутри лавочки синьора Амато, сказать buona sera29 — и пойти прочь, не смея обернуться и еще раз посмотреть на нее... а жена синьора Амато догоняет его и сует в руки пару румяных красных яблок... и невозможно отказаться... и он краснеет, потому что в голове вдруг проносится мысль, что так же в его ладонях могли бы лежать восхитительные груди Каролины... Он вспомнил, как увидел ее в первый раз. Каролина, Каролина, Каролина — самое прекрасное имя на свете. Но тогда еще безымянная девушка, что шла перед ним по улице, оступилась, подвернула ногу и вскрикнула от боли, бедняжка. А он шел с Драго Градником, который за два года учебы на факультете теологии вырос на добрых полпяди, да и в весе прибавил шесть или семь фунтов. Последние три дня тот был озабочен доказательством бытия Божия святого Ансельма30. Как будто на свете не было никаких других тому доказательств, например красоты этого нежнейшего существа. Драго Градник не обратил внимания на то, что девушка, должно быть, чувствует нестерпимую боль. А Феликс Ардевол нежно прикоснулся к ноге прекрасной Адалаизы31, Беатриче, Лауры, чтобы помочь ей встать, и в тот момент, когда он дотронулся до ее щиколотки, электрический разряд в сто раз сильнее, чем вольтова дуга, которую демонстрировали на Всемирной выставке, прошел по его позвоночнику. И, спрашивая, больно ли синьорине, на самом деле хотел одного — как можно быстрее сжать ее в объятиях. Первый раз в жизни Ардевол почувствовал желание такой силы — острое, безжалостное, страшное, требующее немедленного удовлетворения. А Драго Градник тем временем смотрел в другую сторону, размышляя о святом Ансельме и о других возможных аргументах, более рациональных, в пользу доказательства бытия Божия.
— Ti fa male?32
— Grazie, grazie mille, padre...33 — ответила она нежно, глядя на него бездонными глазами.
— Если Бог наделил нас разумностью, то, я считаю, вера может идти рука об руку с рациональным. Как думаешь, Ардевол?
— Come ti chiami (прекрасная моя нимфа)?34
— Carolina, padre. Grazie35.
Каролина, какое прекрасное имя! Так, и только так должно звать тебя, любовь.
— Ti fa ancora male, Carolina36 (сама Красота, без сомнения)? — повторил он обеспокоенно.
— Разум. Через разум к вере. Это ересь, а? Что скажешь, Ардевол?
Он был вынужден оставить ее сидеть на скамейке, потому что нимфа, покраснев от смущения, уверила, что за ней сейчас придет мать. Они двинулись дальше, и, слушая рискованные размышления Драго Градника на гундосой латыни о том, что, возможно, святой Бернард не всегда был святым, а эссе Тейяра де Шардена37, кажется, заслуживает внимания, Феликс внезапно обнаружил, что подносит к лицу руку и пытается уловить тонкий аромат кожи божественной Каролины.
— Влюбился? Я?! — Он в изумлении посмотрел на Морлена.
— У тебя налицо все симптомы.
— Ты-то откуда знаешь?
— Я уже через такое проходил.
— И как тебе удалось выбраться? — с тоской в голосе спросил Ардевол.
— Я и не выбирался, а, наоборот, с головой погрузился. До тех пор, пока влюбленность не прошла. А потом — долой!
— Но это же ужасно!
— Это жизнь. Я грешен, каюсь.
— Влюбленность — бесконечна, она не заканчивается никогда. Я не смог бы...
— Боже мой, как ты живешь, Феликс Ардевол!
Ардевол не ответил. Перед ним — три десятка голубей, в тот пасхальный понедельник на Piazza di Pietra. Непреодолимая страсть гнала его через толчею птиц, пока он не подошел к Каролине вплотную и та не протянула ему маленький сверток.
— II gioiello dell’Africa38, — сказала нимфа.
— Откуда ты знаешь, что я...
— Вы каждый день проходите здесь. Каждый день.
И вот, как сказано у Матфея (25: 51), завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли.
Тайна Бога и Слова Божия, ставшего плотью.
Тайна Пресвятой Девы и Матери Божьей.
Тайна христианской веры.
Тайна Церкви — человеческой и несовершенной, Божественной и вечной.
Тайна любви к девушке, вручившей мне сверток, который два дня лежит у меня на столе в комнате пятьдесят четыре и который только на третий день я решаюсь развернуть. Оберточная бумага скрывала небольшую коробочку. Господь Всемогущий! Я стою на краю пропасти.
Я ждал субботы. Большинство студентов сидели по своим комнатам. Некоторые вышли прогуляться, другие засели в многочисленных римских библиотеках, где погрузились, проклиная все на свете, в рассуждения о природе зла и о том, отчего Господь попускает его, о существовании злокозненных демонов, о правильном прочтении Священного Писания и о появлении невм39 в григорианских распевах и в распевах Амвросия Медиоланского. Феликс Ардевол был один в комнате пятьдесят четыре: пустой стол без единой книги, каждая вещь на своем месте, потому что если не соблюдать порядок, то воцарится безобразный хаос, за который будет цепляться взгляд и... Он подумал, что становится одержим порядком. Я думаю, что именно тогда это и началось: отец был помешан на порядке в доме. Зато беспорядок в голове не слишком его беспокоил. А вот книга, лежащая на столе, вместо того чтобы стоять на полке, или бумажка, забытая на подоконнике, — это абсолютно непозволительно и непростительно. Ничто не должно было оскорблять его взгляд, и все усердно соблюдали установленный порядок, особенно я, поскольку был обязан каждый день расставлять по местам все свои игрушки. Избегали этого только шериф Карсон и Черный Орел: они тайком отправлялись спать со мной, отец так никогда об этом и не узнал.
Комната пятьдесят четыре чиста и практически стерильна. Феликс Ардевол стоит и смотрит в окно. На мельтешение сутан, снующих у входа в общежитие. На лошадь, везущую кабриолет по виа дель Корсо, скрывающий за задернутым пологом постыдные и возмутительные секреты. На мальчишку — тот от нечего делать пинает металлическое ведро, и оно оглушительно грохочет. Он так скован страхом, что абсолютно все бьет по его натянутым нервам. На столе лежит вещь, которая появилась нежданно и у которой здесь нет места. Зеленая коробочка, подаренная Каролиной, с сокровищем из Африки внутри. Его судьба. Он дал себе слово, что, прежде чем колокола церкви Святой Марии пробьют полдень, он либо выбросит коробочку, либо откроет ее. Либо наложит на себя руки. Одно из трех.
Потому что одно дело — жить ради научных исследований, посвятить себя восхитительному миру палеографии, вселенной древних манускриптов, изучать мертвые языки, потому что веками они были законсервированы в ветхих папирусах, листы которых только и донесли их до потомков, разбираться в древней и средневековой палеографии, радоваться, что мир рукописей так огромен, что, коли надоест, всегда можно переключиться на санскрит и азиатские языки, и если однажды у меня будет сын, то я хотел бы, чтобы он...
С какой стати я пустился в размышления, что хотел бы иметь сына? — он возмутился, нет, рассердился на себя. И вернулся к созерцанию коробочки, нарушавшей своим присутствием чистоту стола в комнате пятьдесят четыре. Феликс Ардевол смахнул невидимую нитку, якобы приставшую к сутане, провел пальцем по раздраженной коже, натертой воротничком, и сел к столу. До того момента, когда колокола церкви Святой Марии начнут бить полдень, оставалось три минуты. Он глубоко вдохнул и принял решение: с самоубийством можно подождать. Феликс взял коробочку очень осторожно, словно ребенок, несущий в руках птичье гнездо, которое снял с дерева, чтобы показать маме лежащие там зеленые яйца или беззащитных птенцов; мама, я их покормлю, не волнуйся, я дам им много муравьев... Как лань, страждущая у потоков вод, Господи. Как бы он ни поступил — так или иначе, почему-то Ардевол знал, что его поступок оставит ощущение необратимости в душе. Две минуты. Дрожащими пальцами он попытался развязать красную ленту, но вместо этого узел затянулся еще крепче. В том не было вины бедняжки Каролины, во всем были виноваты его нервы. Он вскочил в нетерпении. Полторы минуты. Феликс подошел к умывальнику и взял опасную бритву. Торопливо раскрыл. Минута и пятнадцать секунд. Он безжалостно разрезал красную ленту, прекраснее которой не видел за свою долгую жизнь, поскольку в двадцать пять лет чувствовал себя старым и усталым и хотел, чтобы подобные вещи происходили не с ним, а с каким-нибудь другим Феликсом, который бы с легкостью мог отмахнуться от всего этого и... Минута! Во рту пересохло, руки стали влажными, капля пота скатилась по шее — и это дня не прошло с... Осталось две секунды, потому что колокола церкви на виа Лата бьют «Ангелус» точно в полдень. И в то время как в Версале компания весельчаков сообщала, что война закончилась, и, высунув от усердия язык, подписывала мирный договор, приведя в действие механизмы, сделавшие возможной новую блистательную войну несколько лет спустя — еще более кровавую и разрушительную (чего Господь не должен был бы допускать никогда), Феликс Ардевол-и-Гитерес открыл зеленую коробочку. Очень осторожно он приподнял ватку розового цвета и с первым ударом колокола — Angelus Domini nuntiavit Mariae40 — заплакал.
Потихоньку выскользнуть из общежития довольно просто. Мы — Морлен, Градник и еще пара-тройка проверенных друзей — проделывали это не один раз, и это всегда сходило нам с рук. Если ты одет в обычную одежду, Рим открывает для тебя множество дверей. В том числе те, что закрыты перед тобой, если на тебе сутана. Одетый как все, ты можешь пойти в музеи, куда вход духовным лицам запрещен. Или сидеть с чашкой кофе на пьяцца Колонна, разглядывая идущих мимо людей. Несколько раз Морлен водил меня, «возлюбленного ученика», знакомиться с теми, с кем, по его уверениям, полезно быть знакомым, и представлял там как Феликса Ардевола, ученого, знающего восемь языков, перед которым древние манускрипты раскрывают свои тайны. И передо мной открывали надежные футляры и позволяли взглянуть на оригинал La mandragora41 — невероятная прелесть! — или почти истлевшие папирусы эпохи Маккавеев. Однако сегодня, в день, когда Европа подписала мирный договор, мудрец-ученый Феликс Ардевол впервые вышел тайком из общежития, прячась не только от начальства, но и от своих друзей. Одетый в куртку и кепку, скрывающие его принадлежность к Церкви, он прямиком направился к фруктовой лавке синьора Амато, затаился неподалеку от нее и стал ждать, сжимая в кармане зеленую коробочку. Мимо него сновали беззаботные и счастливые люди, которых, в отличие от него, не трясло в лихорадке. И мать Каролины, и ее младшая сестра. Кто угодно, только не его возлюбленная. Сокровище — грубо сделанный медальон с вырезанной в романском стиле фигурой Пресвятой Девы возле огромного дерева, похожего на ель. А на обратной стороне выгравировано слово «Пардак». Из Африки? Может быть, коптский? Почему я произнес «моя любовь», если у меня нет никакого права на... Воздух сгустился так, что невозможно стало дышать. Начали звонить колокола, и Феликс, не знавший, по какой причине они звонят, решил, что все церкви в Риме звонят в честь его любви — тайной, скрытой от людских глаз и греховной. Люди останавливались в изумлении, быть может ища Абеляра, но вместо того, чтобы показывать на него пальцем, спрашивали, что произошло, почему бьют все городские колокола, хотя только три часа пополудни и не время для звона. Господи Боже, может, война закончилась?
Наконец появилась Каролина Амато. Она вышла из дому и пошла по улице прямо к тому месту, где ждал Феликс, хотя ему казалось, что он спрятался хорошо. Ее короткие волосы растрепались. Она молча остановилась перед ним — лицо лучилось улыбкой. Он сглотнул слюну, нащупал в кармане коробочку, открыл рот и... ничего не сказал.
— Я тоже, — ответила она. И, дождавшись паузы в звоне колоколов, прибавила: — Тебе понравилось?
— Не уверен, что могу принять такой подарок.
— Это сокровище — мое. Мне его подарил дядя Сандро, когда я родилась. Он привез его из Египта. Теперь оно твое.
— А дома что скажут?
— Оно мое, а теперь — твое. Ничего не скажут. Это мой залог.
И она взяла его за руку. В этот момент небо упало на землю и Абеляр не ощущал больше ничего, кроме кожи Элоизы. Он шел куда-то, пока не оказался в каком-то тупике, загаженном нечистотами, но чувствовал только аромат роз любви. И вошел в дом, двери которого были нараспашку и внутри никого не было, а колокола все звонили и звонили, и соседка кричала в окно: nuntio vobis gaudium magnum42, Elisabetta43, la guerra è finita!44 Но двое влюбленных были на пороге иного сражения и не слышали ничего.
6 Моссен — обращение к священнику, принятое у каталонцев.
7 «Латинское красноречие» (лат.).
8 Известные каталонские философы и теологи XIX в., деятели т. н. Каталонского Возрождения.
9 «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода» (лат.). Цит. по Вульгате.
10 Пятьдесят четыре (ит.).
11 S. J. (ит. Societatis Jesu) — мужской монашеский орден Римско-католической церкви. Был основан святым Игнатием Лойолой и одобрен папой Павлом III в 1540 г.
12 Лев XIII (1810–1903) — римский папа с 1878 по 1903 г. Среди выпускников Григорианского университета — 20 святых, 29 блаженных и 14 римских пап.
13 Мариология — раздел теологии, касающийся Девы Марии.
14 Демотический язык — одна из форм египетского письма, применявшаяся для записи текстов с VII в. до н. э. до V в. н. э.
15 Ерунда! (ит.)
16 Арапахо — индейский народ, живущий в штатах Оклахома и Вайоминг.
17 Сотериология — богословское учение об искуплении и спасении человека.
18 Теодицея — теологическая доктрина, согласующая сосуществование благого, мудрого и могущественного Бога и зла в мире.
19 Обычай в каноническом праве (лат.).
20 Библиотека, созданная в 1701 г. под патронажем кардинала Джироламо Казанате в доминиканском монастыре Санта-Мария сопра Минерва.
21 Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг., по которому Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она подвергнется нападению Франции. Договор возобновлялся в 1887, 1891, 1902 и 1912 гг.
22 Речь идет о Лондонском пакте — секретном соглашении между Италией и странами Антанты, подписанном в Лондоне 26 апреля 1915 г. представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Оно определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. В результате Италия должна была получить Тироль (что включает современные итальянские провинции Тренто и Больцано), Истрию, Северную Далмацию и ряд других территорий.
23 Битва при Капоретто (24 октября — декабрь 1917 г.). Одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, когда австро-германские войска осуществили широкомасштабное наступление на позиции итальянской армии и вытеснили ее за реку Пьява.
24 Битва при Витторио-Венето — наступательная операция войск Антанты на реке Пьява, проведенная 25 октября — 3 ноября 1918 г. В итоге союзные войска вынудили австро-венгерскую армию капитулировать. Перемирие было подписано 3 ноября 1918 г. на Вилла-Джусти (Падуя).
25 Королевство сербов, хорватов и словенцев — государственное образование, созданное 29 октября 1918 г. после распада Австро-Венгрии.
26 Поскольку Италия в результате Парижской мирной конференции не получила значительной части тех территорий, которые были ей обещаны Лондонским пактом 1915 г., то чувствовала себя, по распространенному тогда выражению, «побежденной в лагере победителей».
27 Истина и факт соответствуют друг другу или сходятся (лат.).
28 Площадь Святого Петра (ит.).
29 Добрый вечер! (ит.)
30 Ансельм Кентерберийский в 1078 г. предложил т. н. онтологическое доказательство бытия Божия.
31 Героиня поэмы «Граф Арнау» классика каталонской литературы Жуана Марагаля (1860–1911).
32 Тебе больно? (ит.)
33 Спасибо, большое спасибо, падре (ит.).
34 Как тебя зовут? (ит.)
35 Каролина, падре. Спасибо (ит.).
36 Тебе все еще больно, Каролина? (ит.)
37 В 1916 г. Шарден написал свое первое эссе «La vie cosmique» («Космическая жизнь») — философские и научные размышления о мистике и духовной жизни.
38 Сокровище из Африки (ит.).
39 Невмы — знаки для записи мелодии в системе средневековой вокальной нотации.
40 «Ангел Господень возвестил Марии» (лат.) — первая строчка молитвы «Ангел Господень».
41 Комедия «Мандрагора» Н. Макиавелли.
42 Возвещаю вам великую радость! (лат.) — начальные строки латинской формулы, объявляющей о том, что избран новый папа римский.
43 Елизавета (лат.).
44 Война закончилась (ит.).
6 Моссен — обращение к священнику, принятое у каталонцев.
7 «Латинское красноречие» (лат.).
8 Известные каталонские философы и теологи XIX в., деятели т. н. Каталонского Возрождения.
9 «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода» (лат.). Цит. по Вульгате.
10 Пятьдесят четыре (ит.).
11 S. J. (ит. Societatis Jesu) — мужской монашеский орден Римско-католической церкви. Был основан святым Игнатием Лойолой и одобрен папой Павлом III в 1540 г.
12 Лев XIII (1810–1903) — римский папа с 1878 по 1903 г. Среди выпускников Григорианского университета — 20 святых, 29 блаженных и 14 римских пап.
13 Мариология — раздел теологии, касающийся Девы Марии.
14 Демотический язык — одна из форм египетского письма, применявшаяся для записи текстов с VII в. до н. э. до V в. н. э.
15 Ерунда! (ит.)
16 Арапахо — индейский народ, живущий в штатах Оклахома и Вайоминг.
17 Сотериология — богословское учение об искуплении и спасении человека.
18 Теодицея — теологическая доктрина, согласующая сосуществование благого, мудрого и могущественного Бога и зла в мире.
19 Обычай в каноническом праве (лат.).
20 Библиотека, созданная в 1701 г. под патронажем кардинала Джироламо Казанате в доминиканском монастыре Санта-Мария сопра Минерва.
21 Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг., по которому Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она подвергнется нападению Франции. Договор возобновлялся в 1887, 1891, 1902 и 1912 гг.
22 Речь идет о Лондонском пакте — секретном соглашении между Италией и странами Антанты, подписанном в Лондоне 26 апреля 1915 г. представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Оно определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. В результате Италия должна была получить Тироль (что включает современные итальянские провинции Тренто и Больцано), Истрию, Северную Далмацию и ряд других территорий.
23 Битва при Капоретто (24 октября — декабрь 1917 г.). Одно из крупнейших сражений Первой мировой войны, когда австро-германские войска осуществили широкомасштабное наступление на позиции итальянской армии и вытеснили ее за реку Пьява.
24 Битва при Витторио-Венето — наступательная операция войск Антанты на реке Пьява, проведенная 25 октября — 3 ноября 1918 г. В итоге союзные войска вынудили австро-венгерскую армию капитулировать. Перемирие было подписано 3 ноября 1918 г. на Вилла-Джусти (Падуя).
25 Королевство сербов, хорватов и словенцев — государственное образование, созданное 29 октября 1918 г. после распада Австро-Венгрии.
26 Поскольку Италия в результате Парижской мирной конференции не получила значительной части тех территорий, которые были ей обещаны Лондонским пактом 1915 г., то чувствовала себя, по распространенному тогда выражению, «побежденной в лагере победителей».
27 Истина и факт соответствуют друг другу или сходятся (лат.).
28 Площадь Святого Петра (ит.).
29 Добрый вечер! (ит.)
30 Ансельм Кентерберийский в 1078 г. предложил т. н. онтологическое доказательство бытия Божия.
31 Героиня поэмы «Граф Арнау» классика каталонской литературы Жуана Марагаля (1860–1911).
32 Тебе больно? (ит.)
33 Спасибо, большое спасибо, падре (ит.).
34 Как тебя зовут? (ит.)
35 Каролина, падре. Спасибо (ит.).
36 Тебе все еще больно, Каролина? (ит.)
37 В 1916 г. Шарден написал свое первое эссе «La vie cosmique» («Космическая жизнь») — философские и научные размышления о мистике и духовной жизни.
38 Сокровище из Африки (ит.).
39 Невмы — знаки для записи мелодии в системе средневековой вокальной нотации.
40 «Ангел Господень возвестил Марии» (лат.) — первая строчка молитвы «Ангел Господень».
41 Комедия «Мандрагора» Н. Макиавелли.
42 Возвещаю вам великую радость! (лат.) — начальные строки латинской формулы, объявляющей о том, что избран новый папа римский.
43 Елизавета (лат.).
44 Война закончилась (ит.).
II
De pueritia45
Хороший воин не может быть постоянно влюблен во всех бледнолицых скво46, которых встречает на пути, как бы они ни раскрашивали лица в цвета войны.
Черный Орел
45 Из детства (лат.).
46 Скво — женщина (на языке североамериканских индейцев).
45 Из детства (лат.).
46 Скво — женщина (на языке североамериканских индейцев).
3
Не смотри на меня так. Я знаю, что могу и придумать кое-что, но не оставляю попыток говорить правду. Например, про мою первую комнату (где сейчас стоят книги по истории и географии). Мне кажется, что самое раннее мое воспоминание — как я лежу под кроватью, где устроил себе домик. Мне было там довольно удобно, и к тому же это забавно — видеть ноги входящих, которые ищут меня со словами Адриа, сынок, ты где? или Адриа, пора полдничать! Куда же он делся? Это было весело. Увы, мне часто бывало скучно, потому что наш дом не был предназначен для детей, равно как и моя семья. Мамы как бы не существовало, а отец интересовался только своими торговыми операциями, и меня терзала ревность, когда он восхищенно касался кончиками пальцев какой-нибудь гравюры или вазы тонкого фарфора. А мама... Мама, казалось, всегда начеку, всегда настороже, и в этом ей помогала Лола Маленькая. Сейчас я понимаю, что из-за отца она чувствовала себя дома не в своей тарелке. Это был дом отца, в котором он милостиво позволял ей жить. После смерти папы мама смогла вздохнуть спокойно и ее взгляд стал менее напряженным. Впрочем, она избегала смотреть на меня. Мама изменилась. Я задаюсь вопросом: почему? И еще: зачем они вообще поженились, мои родители? Не думаю, что они вообще любили друг друга. В нашем доме не ощущалось любви. И я появился в результате какого-то случайного пересечения родительских жизней.
В самом деле, забавно: мне столько всего нужно тебе рассказать, а я отвлекаюсь и трачу время на какие-то фрейдистские размышления. Наверное, дело в том, что все сложилось именно так из-за моих отношений с отцом. И возможно, умер он по моей вине.
Однажды (не знаю, сколько лет мне было, но я уже тайком вселился в кабинет отца — в то место между диваном и стеной, которое превратил в убежище для моих индейцев и ковбоев) отец вошел с кем-то в комнату: голос знакомый — вежливый и тем не менее вселяющий дрожь. Я тогда впервые услышал, как сеньор Беренгер разговаривает вне магазина: его манеры разительно переменились. С того момента мне перестал нравиться его голос что в магазине, что за его пределами. Я замер в своем укрытии, осторожно опустив на пол шерифа Карсона. Но тут гнедая лошадь Черного Орла, обычно такая тихая, упала со стуком и напугала меня — как бы враг нас не засек. Однако отец продолжал говорить: я не обязан давать никаких объяснений.
— А я думаю, должны.
Сеньор Беренгер сел на диван, отчего тот немного придвинулся к стене. У меня промелькнула геройская мысль: пусть уж лучше меня раздавят, чем обнаружат. Я услышал, как сеньор Беренгер чем-то щелкает и папа ледяным тоном произносит: в этом доме запрещено курить. А сеньор Беренгер говорит, что по-прежнему требует объяснений.
— Вы работаете на меня. — И продолжил иронично: — Или я ошибаюсь?
— Я достал десять гравюр, я сделал так, чтобы потерпевшие не слишком протестовали. Я провез эти гравюры через три границы, я сделал экспертизу за свой счет, а теперь вы мне сообщаете, что продали их. Не посоветовавшись со мной. А автор одной из них — Рембрандт, знаете ли!
— Мы покупаем и продаем, чтобы заработать на эту ссучью жизнь.
Выражение «ссучья жизнь» я услышал впервые, и оно мне понравилось. Отец его так и произнес с двойным «с» — «ссучью жизнь». Думаю, оттого, что был очень раздражен. Я понял, что сеньор Беренгер улыбнулся, — я тогда отлично умел разбираться в самых разных типах молчания и был уверен, что сеньор Беренгер улыбается.
— О, добрый день, сеньор Беренгер! — это голос мамы. — Ты не видел мальчика, Феликс?
— Нет.
Надвигалась катастрофа. Что я мог предпринять, чтобы исчезнуть из своего убежища за диваном и объявиться в другой части дома, сделав вид, что ничего не слышал? Я спросил совета у шерифа Карсона и Черного Орла, но они, увы, не могли мне помочь. Тем временем мужчины сидели молча, очевидно ожидая, когда мама выйдет из кабинета и закроет дверь.
— Всего доброго.
— Всего доброго, сеньора. — И он вновь заговорил, едва сдерживая раздражение: — Да вы меня попросту обокрали! Я требую заплатить мне достойные комиссионные. — Молчание. — Слышите? Настаиваю!
Разговор про комиссионные меня совершенно не интересовал. Чтобы успокоиться, я начал в уме переводить разговор на французский; конечно, это был весьма несовершенный французский, ведь мне было всего семь лет. Я периодически прибегал к этому способу, когда нужно было подавить внутреннее беспокойство, внезапные приступы тревоги. В тишине кабинета, замерев в своем убежище, я слышал каждое слово. Moi, j’exige ma comission. C’est mon droit. Vous travaillez pour moi, monsieur Berenguer. Oui, bien sûr, mais j’ai de la dignité, moi!47
Где-то в глубине дома мама звала: Адриа, малыш! Лола, ты не видела его? Dieu sait où est mon petit Hadrien!48
Не помню точно, но мне кажется, что сеньор Беренгер, разъяренный, ушел довольно скоро и что отец выпроводил его со словами: любите кататься — любите и саночки возить, сеньор Беренгер, я не знал, как это перевести. К тому же гораздо больше мне хотелось, чтобы мама никогда не называла меня mon petit Hadrien.
Наконец у меня появился шанс выбраться из своего убежища. Пока отец провожал гостя к выходу, я успел уничтожить следы своего присутствия: партизанская жизнь дома наделила меня невероятной способностью к камуфляжу и даже, можно сказать, вездесущности.
— Вот ты где! — Мама вышла на балкон, откуда я наблюдал за машинами, которые уже включили фары (по моим воспоминаниям, в то время были вечные сумерки). — Ты разве не слышишь, что я тебя зову?
— Что? — У меня в руках были шериф и гнедая лошадь, и я сделал вид, что только пришел из сада.
— Нужно примерить школьную форму. Как ты мог меня не слышать?
— Форму?
— Сеньора Анжелета переделала рукава. — И тоном, не терпящим возражений, прибавила: — Идем!
В комнате для шитья сеньора Анжелета, зажав булавки во рту, оценивающим взглядом смотрела на новые рукава:
— Ты слишком быстро растешь, парень!
Мама вышла из комнаты, чтобы попрощаться с сеньором Беренгером, Лола Маленькая пошла в гладильню за чистыми рубашками, а я стоял в куртке без рукавов, как это не раз бывало в моем детстве.
— И слишком быстро протираешь рукава, — припечатала сеньора Анжелета, которой, наверное, было не меньше тысячи лет.
Хлопнула входная дверь. Шаги отца удалились в сторону кабинета, и сеньора Анжелета подняла седую голову:
— В последнее время у него много посетителей.
Лола Маленькая промолчала, сделав вид, что ничего не слышала. Сеньора Анжелета пришпилила булавками рукава к халату и сказала:
— Временами я слышу, они прямо-таки кричат...
Лола Маленькая молча взяла сорочки. Сеньора Анжелета не унималась:
— Поди знай, о чем они говорят...
— О ссучьей жизни! — сообщил я, не подумав.
Сорочки выпали из рук Лолы Маленькой на пол, сеньора Анжелета уколола мне руку булавкой, а Черный Орел отвернулся и начал всматриваться в сухой горизонт сквозь полуприкрытые веки. Он учуял облака пыли раньше, чем кто бы то ни было. Даже раньше, чем Быстрый Кролик.
— Приближаются три человека, — сказал он. Ему никто не ответил. В пещере в это нещадно знойное лето жара была не так мучительна, но никто: ни одна скво, ни один ребенок — и не думал интересоваться ни нежданными гостями, ни их намерениями. Черный Орел едва заметно опустил веки — и три воина направились к лошадям. Сам он не переставал следить за облаками пыли. Они двигались прямо к пещере, никакого сомнения. Словно птица, отвлекающая внимание птицелова и различными уловками отводящая его от гнезда, Черный Орел с тремя воинами поскакал на запад. Обе группы встретились возле пяти дубов. Пришельцы оказались тремя белыми мужчинами: один совсем светлый, с белыми волосами, а двое других — смуглые. Мужчина с внушительными усами проворно спрыгнул с коня и усмехнулся.
— Ты — Черный Орел, — утвердительно сказал он, держа руки на виду в знак мирных намерений.
Великий вождь племени арапахо из Южных Земель, что недалеко от Уошито, едва заметно согласно наклонил голову, оставаясь в седле, при этом у него не шелохнулся ни один волос. А затем спросил: чем мы обязаны вашему визиту? Черноусый вновь усмехнулся, после чего отвесил изящный полупоклон: я — шериф Карсон из Рокленда, что в двух днях пути от ваших земель.
— Мне известно, где находится Рокленд, — сухо ответил великий вождь. — На территории пауни49. — И плюнул на землю в знак презрения.
— Это мои помощники, — продолжил Карсон, не обращая внимания на плевок. — Мы ищем беглого преступника. — И тоже сплюнул.
— Что он сделал, что вы зовете его преступником?
— Ты знаешь его? Видел?
— Я спросил, что он сделал, что вы называете его преступником?
— Убил кобылицу.
— И обесчестил двух женщин, — добавил светловолосый.
— Да, конечно, и это тоже, — подтвердил шериф Карсон.
— Почему вы ищете его здесь?
— Он — арапахо.
— Мой народ рассеян на много дней к западу и на много дней к востоку, к холоду и к жаре. Отчего ты пришел его искать именно сюда?
— Ты знаешь, кто это. Мы хотим, чтобы он предстал перед судом.
— Ты ошибаешься, шериф Карсон. Твой убийца — не из арапахо.
— Вот как? Откуда тебе это известно?
Тем временем зажгли свет, и Лола Маленькая сделала ему знак выйти из кладовки. Перед Адриа — мама, в боевой раскраске на лице, не глядя на него, не сплюнув на землю, говорит: Лола, проследи, чтобы рот у него был как следует вымыт. С мылом. А если понадобится — добавь еще пару капель хлорки.
Черный Орел мужественно вынес эту пытку, не испустив ни единого стона. Как только Лола Маленькая закончила процедуру и уже вытирала его полотенцем, он посмотрел на нее и спросил: Лола, ты знаешь, что в точности значит «обесчестить женщину»?
Когда мне было семь или восемь лет, я думал, что сам решаю, как мне жить. Одним из лучших моих решений было доверить свое образование маме. Но, как видно, в нашей семье все происходило иначе. Я узнал об этом в тот вечер, когда меня больше всего волновало, как отец отреагирует на мою оплошность, и я установил подслушивающее устройство в столовой. Это не составило особого труда, поскольку между моей комнатой и столовой стена была тонкая. Официально я отправился в кровать рано, поэтому, когда отец вернулся, я уже якобы спал. Это было лучшим способом избежать нравоучений и опасных вопросов, потому что если бы я все же сказал ему в свою защиту, что выражение «ссучья жизнь» я услышал от него, то тогда бы тема беседы перешла от «у тебя такой грязный рот, что я его тебе сейчас вымою специальным мылом для плутов» к «откуда, черт побери! ты знаешь, что я сказал „ссучья жизнь“, бесстыжий лжец! А? А? Может, ты шпионишь за мной?». А я ни за что не должен был раскрывать, что подслушиваю, потому как благодаря этому я потихоньку стал единственным обитателем дома, кто знал тайну каждого угла, каждого разговора, каждого обсуждения и необъяснимых слез. Как в ту неделю, которую Лола Маленькая провела в слезах и, выходя из своей комнаты, скрывала свое горе, которое, видимо, было огромно. Я лишь через много лет выяснил, почему она плакала, а тогда просто узнал, что бывают страдания, которые длятся целую неделю, и это внушило мне некоторый страх перед жизнью.
Итак, я присутствовал при разговоре родителей, приложив ухо к донышку стакана, приставленного к стене. Поскольку, судя по голосу, папа устал, мама просто сообщила, что я достаточно наказан, и он не стал вникать в детали. Отец сказал, что все решено.
— Решено что? — тревожно спросила мама.
— Я запишу его в иезуитскую школу на улице Касп.
— Но, Феликс... ведь...
В тот день я узнал, что в нашей семье все решает только отец. И что мое образование зависит только от него. Я также отметил про себя, что потом надо посмотреть в Британской энциклопедии, кто такие иезуиты. Отец молча выдержал взгляд мамы. Наконец она решилась спросить:
— Почему именно иезуиты? Ты — неверующий и...
— Потому что это образование высочайшего уровня. Нам это по карману, у нас только один сын, так что нельзя упустить шанс.
Итак, у них был только один ребенок. Или нет. Впрочем, не это в данном случае важно. Ясно было, что они не хотели просчитаться. Поэтому отец решил сделать ставку на языки, которые, как он знал, мне нравились.
— Что ты сказал?
— Десять языков.
— Ты хочешь сделать из нашего сына монстра.
— Он может их выучить.
— Хорошо, а почему — десять?
— Потому что патер Левински из Григорианского университета знал девять. Наш сын должен превзойти его.
— С какой стати?
— С той, что он назвал меня бестолочью перед другими учениками. Бестолковым — только потому, что мой арамейский был недостаточно беглым, хоть я и прослушал весь курс падре Фалубы.
— Не смеши меня. Мы сейчас говорим об образовании нашего сына.
— Я вовсе не шучу. И говорю об образовании моего сына.
Я знал, что мама всегда очень переживала, когда отец говорил обо мне только как о своем сыне. Но сейчас ее мысли были заняты, как видно, другим, потому что она начала говорить, что не желает превращать меня в какое-то чудовище. С настойчивостью, которой я в ней и не подозревал, она говорила: слышишь, я не хочу, чтобы мой сын чувствовал себя ярмарочным уродцем только ради того, чтобы превзойти патера Лувовски.
— Левински.
— Монстр Левински.
— Он — авторитетный теолог и библеист. И монстр эрудиции.
— Послушай, нам нужно поговорить спокойно.
Этого я не понял: разве они и так не говорили спокойно о моем будущем? Я тоже не волновался: главное, что не обсуждалась история с «ссучьей жизнью».
— Каталанский, испанский, французский, немецкий, итальянский, английский, латынь, греческий, арамейский и русский.
— Что это такое?
— Десять языков, которые он должен выучить. Три первых он уже знает.
— Нет, французский еще только начал.
— Но выучит, это понятно. Мой сын со всем справится. С языками все очень просто: он должен их выучить. Десять.
— А когда он будет играть?
— Он уже большой мальчик. И когда придет время выбирать ему занятие, он уже должен знать языки. — Отец устало вздохнул. — Об этом мы поговорим в другой раз.
— Ради всего святого, ему же только семь лет!
— Я не настаиваю на том, чтобы он сейчас начинал учить арамейский. — Отец, подводя итог, хлопнул ладонью по столу. — Начнет с немецкого.
Мне эта идея пришлась по душе, поскольку Британскую энциклопедию я понимал самостоятельно, а со словарем — так и вообще без труда, а вот немецкий представлялся мне очень загадочным. Меня очаровывал мир склонений, мир языков, где слова меняют окончание в зависимости от своей функции в предложении. Я, конечно, не формулировал это именно так, но почти что так: немецкий требовал усилий.
— Нет, Феликс! Мы не можем совершить такую ошибку.
Я услышал, как кто-то сплюнул на землю.
— Да?
— Что это за арамейский? — спросил басом шериф Карсон.
— Я толком не знаю, нужно посмотреть.
Я был уникальным ребенком и знал это. А сейчас, вспоминая, как слушал разговоры о своем будущем, сжимая в руках шерифа Карсона и храброго вождя арапахо и стараясь не выдать себя, я понимаю, что был не просто уникальным, а совершенно уникальным.
— Нет тут никакой ошибки. В первый день занятий придет учитель, которого я нанял преподавать мальчику немецкий.
— Нет.
— Его зовут Ромеу, и этот юноша дорогого стоит.
Это известие меня очень взволновало. Преподаватель у нас дома? Мой дом — это мой дом. И я тот, кто знает обо всем, что здесь происходит, мне не нужны тут лишние глаза. Нет, мне совершенно не нравился этот Ромеу, который будет повсюду совать свой нос и приговаривать: о, как мило, личная библиотека в семь лет. Но, фу, что за глупые книги — как говорят все взрослые, приходящие к нам домой. Нет уж, спасибо!
— Он будет учиться на трех факультетах.
— Что?
— Юридический и исторический. — Молчание. — Третий выберет по собственному желанию. Но главное — право. Оно просто необходимо, чтобы преуспеть в этом мире, живущем по законам крысиной стаи.
Тук, тук, тук, тук, тук. Моя нога начала непроизвольно дергаться: тук, тук, тук, тук. Я ненавидел право. Вообразить нельзя, как я его ненавидел. Сам не зная, что это такое, я ненавидел его смертельно.
— Je n’en doute pas, — disait ma mère. — Mais est-ce qu’il est un bon pédagogue, le tel Gomeu?50
— Bien sûr, j’ai reçu des informations confidentielles qui montrent qu’il est un individu parfaitement capable en langue allemagne51. Allemande?52 Tedesque?53 Et en la pédagogie de cette langue. Je crois que...54
Я начал успокаиваться. Нога перестала дергаться, и я услышал, как мама поднялась и спросила: а что делать со скрипкой? Перестать брать уроки?
— Нет. Но она отойдет на второй план.
— Я не согласна с этим.
— Спокойной ночи, дорогая! — сказал отец, разворачивая газету. Он всегда в это время читал газету.
Итак, предстоит сменить школу. Ну и дела! Как страшно! Хорошо еще, что у меня есть шериф Карсон и Черный Орел. Скрипку на второй план? И почему арамейский следует учить потом? В ту ночь я долго не мог уснуть.
Уверен, что путаю события. Не знаю — было мне тогда семь, восемь или девять лет. Но способности к языкам у меня были, и родители, видя это, не хотели, чтобы они пропали впустую. Французский я начал учить, поскольку провел одно лето в Перпиньяне, в доме тети Авроры, и там очень быстро, к некоторому их смущению, перешел с горлового каталанского на французский. Поэтому, когда сейчас я говорю на французском, то говорю на диалектном Midi55, что составляет предмет моей особой гордости. Не помню, сколько мне было лет. Немецкий я начал учить позже, английский — не знаю точно когда. Потом, кажется. Не то чтобы я хотел их изучать. Просто меня учили.
Теперь, когда я размышляю над всем этим, чтобы рассказать тебе, то вижу свое детство как длинный и тоскливый вечер воскресенья, когда я уныло брожу, изыскивая возможность проскользнуть в кабинет, и думаю, что было бы здорово иметь брата, что в какой-то момент читать надоедает, что Энид Блайтон56 в меня уже больше не лезет, а еще — что завтра надо отправляться в школу, и это самое ужасное. Не потому, что я боюсь школы, преподавателей и отцов-иезуитов, а из-за других детей. Меня в школе пугали ребята — они смотрели на меня как на диковину.
— Лола!
— Что?
— Чем мне заняться?
Лола Маленькая перестает вытирать руки или красить губы и смотрит на меня.
— Можно мне пойти с тобой? — с надеждой спрашивает Адриа.
— Нет-нет, тебе будет скучно!
— Но если я останусь тут, то точно умру со скуки.
— Включи радио!
— Надоело.
Тогда Лола Маленькая берет пальто и выходит из комнаты, где всегда пахнет особым — ее — запахом, и тихонько, чтобы никто не услышал, шепчет мне: попроси маму сводить тебя в кино. А потом громко говорит: всего хорошего, до встречи! — открывает входную дверь, подмигивает мне и выходит на улицу. Она-то знает, как сделать вечера воскресенья интересными, не знаю уж, каким образом, а я остаюсь дома, словно приговоренная проклятая душа.
— Мама!
— Что?
— Нет, ничего.
Мама поднимает голову от журнала, делает глоток кофе и, почти не глядя на меня, продолжает:
— Говори, сын.
Мне страшно просить ее сводить меня в кино.
Очень страшно — не знаю почему. Они такие серьезные, мои родители.
— Мне скучно.
— Так почитай. Если хочешь — повторим французский.
— Пойдем на Тибидабо!57
— Господи, об этом нужно было просить утром.
Мы никогда не пойдем туда, на Тибидабо, ни утром, ни вечером в воскресенье. Я бывал там в мечтах, представляя это место по рассказам приятелей — полное хитрых механических аппаратов, таинственных аттракционов и... не знаю точно, чего еще. Главное, что это место, куда родители водят детей. Мои родители не водили меня ни в зоопарк, ни погулять по волнорезу. Они были холодными людьми. И не любили меня. Так мне кажется. Хотя в глубине души я все еще спрашиваю себя: зачем я был им нужен?
— А я все равно хочу на Тибидабо!
— Это что еще за крики? — раздраженно спрашивает отец из кабинета. — Хочешь, чтобы тебя наказали?
— Не хочу повторять французский!
— Я сказал: ты хочешь, чтобы тебя наказали?
Черный Орел пришел к заключению, что, в общем, это было очень несправедливо. И это знали и он, и шериф Карсон, и я. И чтобы уж совсем не скиснуть от скуки и, главное, чтобы избежать наказания, я принимаюсь за скрипичные упражнения, которые рассчитаны на продвинутых учеников, а потому сложны для исполнения. И еще, их тяжело выполнить так, чтобы это звучало хорошо. Скрипка у меня звучала ужасно, пока я не познакомился с Бернатом. Я бросал упражнения, так толком и не разучив.
— Папа, можно будет поиграть на Сториони?
Отец поднял голову. Он рассматривает, как всегда с лупой в руках, какой-то листок странного вида.
— Нет, — ответил он. И указал на то, что лежало перед ним на столе. — Смотри, какая прелесть!
Это очень старый документ, в нем что-то написано незнакомыми мне буквами.
— Что это?
— Фрагмент из Евангелия от Марка.
— А на каком это языке?
— На арамейском.
Слышишь, Черный Орел? На арамейском! Арамейский — это очень древний язык. Язык папирусов и пергаментов.
— Я смогу его выучить?
— Когда придет время.
Он говорит с чувством удовлетворения. И не скрывает этого. Когда я веду себя как надо, он думает: ну ладно, побалую смышленого ребенка. Я решил ковать железо, пока горячо.
— Можно мне поиграть на Сториони?
Феликс Ардевол молча смотрит на меня, отложив в сторону лупу. Адриа топает ногой:
— Только один разок! Ну, папа...
Взгляд отца, когда тот рассердился, пугает. Адриа может его выдержать не больше пары секунд, а потом приходится опустить голову.
— Ты не знаешь, что значит «нет»? Niet, nein, no, ez, non, ei, nem. Слышишь?
— «Ei» и «nem»?
— Это финский и венгерский.
Выходя из кабинета, Адриа обернулся и, кипя от злости, бросил страшную угрозу:
— Что ж... Тогда я не стану учить арамейский!
— Ты будешь делать то, что я тебе скажу, — заметил отец очень холодно и спокойно, потому что знал, кто здесь указывает, что делать. Он. После чего вернулся к своему манускрипту, арамейскому и лупе.
С того дня Адриа твердо решил, что будет вести двойную жизнь. У него уже были свои секреты, но отныне тайный мир расширит свои границы. Он поставил перед собой великую цель: разведать код от сейфа и, когда отца не будет дома, поиграть на Сториони. Никто и не заметит. А потом вернуть скрипку в футляр и в сейф, спокойно уничтожив все следы преступления. Пока же, поскольку никто не обращал на него внимания, он пошел разучивать арпеджио и ничего не рассказал ни шерифу, ни вождю арапахо, отдыхавшим на ночном столике.
47 Я требую свои комиссионные! Это мое право. Вы работаете на меня, месье Беренгер. Да, конечно, но у меня есть чувство собственного достоинства! (фр.)
48 Одному Богу ведомо, где мой малыш Адриен! (фр.)
49 Пауни — индейское племя, жившее на территории современных штатов Небраска и Канзас.
50 — Не сомневаюсь в этом, — сказала мама. — Вопрос в том, насколько он хороший педагог, этот Гомеу.
51 — Конечно, я получил все необходимые рекомендации, которые свидетельствуют, что он исключительно одарен в немецком языке (фр.).
52 Немецкий (фр.).
53 Немецкий (ит. с французским окончанием).
54 И в сфере преподавания этого языка. Я думаю... (фр.)
55 Midi-Pyrénées — регион на юге Франции (главный город — Тулуза).
56 Энид Блайтон (1897–1968) — известная британская писательница, автор книг для детей и подростков.
57 Тибидабо — гора, район Барселоны, где расположен парк аттракционов.
47 Я требую свои комиссионные! Это мое право. Вы работаете на меня, месье Беренгер. Да, конечно, но у меня есть чувство собственного достоинства! (фр.)
48 Одному Богу ведомо, где мой малыш Адриен! (фр.)
49 Пауни — индейское племя, жившее на территории современных штатов Небраска и Канзас.
50 — Не сомневаюсь в этом, — сказала мама. — Вопрос в том, насколько он хороший педагог, этот Гомеу.
51 — Конечно, я получил все необходимые рекомендации, которые свидетельствуют, что он исключительно одарен в немецком языке (фр.).
52 Немецкий (фр.).
53 Немецкий (ит. с французским окончанием).
54 И в сфере преподавания этого языка. Я думаю... (фр.)
55 Midi-Pyrénées — регион на юге Франции (главный город — Тулуза).
56 Энид Блайтон (1897–1968) — известная британская писательница, автор книг для детей и подростков.
57 Тибидабо — гора, район Барселоны, где расположен парк аттракционов.
4
Я помню отца только пожилым. А мама всегда была мамой. Жаль, что она меня не любила. Адриа знал, что его дедушка воспитал ее так, как мог это сделать человек, в очень молодом возрасте ставший вдовцом и оставшийся с ребенком на руках. Который растерянно озирается, ожидая, что кто-нибудь вручит ему пошаговую инструкцию «Как встроить ребенка в свою жизнь». Бабушка Висента умерла рано, когда маме было всего шесть лет. У нее сохранились какие-то смутные воспоминания о раннем детстве, а вот я о нем мог судить лишь по двум фотографиям: одна снята в день свадьбы дедушки и бабушки в фотоателье на улице Кариа — на ней молодожены выглядят юной привлекательной парой, одетой специально «для портрета», а на другой бабушка держит маму на руках и натужно улыбается, словно знает, что не увидит ее первого причастия, и спрашивает: почему я должна умереть такой молодой и оставить внуку лишь одну выцветшую фотографию? Я ведь предвижу, что у меня будет чудесный внук, но мне не суждено познакомиться с ним. Мама росла одна. Никто не водил ее на Тибидабо, и, возможно, поэтому и она не водила туда меня, а я так хотел узнать, что это за живые автоматы, которые, если бросить в них монету, начинают волшебным образом двигаться и становятся похожи на людей.
Мама росла одна. В двадцатые годы, когда убивали на улицах, Барселона была цвета сепии, а диктатура Примо де Риверы58 наполняла глаза барселонцев горечью. Дедушка Адриа понимал, что его дочь выросла и пришло время объяснять ей вещи, в которых он ничего не смыслит, ибо они не имеют отношения к палеографии. Тут-то в доме появилась дочь Лолы — экономки бабушки Висенты, которая продолжала вести все домашнее хозяйство, с восьми утра до восьми вечера, словно ее хозяйка была жива. Двухлетнюю дочку Лолы тоже звали Лола, поэтому Лолу-маму стали называть Большая. Бедная женщина умерла, так и не узнав о провозглашении Республики. На смертном одре она завещала дочери заботиться о Карме, как о самой себе. И Лола Маленькая навсегда осталась с моей матерью. До самой маминой смерти. Лолы появлялись и исчезали в нашей семье, когда кто-то умирал.
С возникновением республиканских надежд и бегством короля, с провозглашением Каталонской республики59 и последующими интригами мадридского правительства Барселона из сепии перекрасилась в серый цвет. Люди ходили по улицам, пряча от холода руки в карманы, но при этом приветствовали друг друга, угощали сигаретами и смеялись, потому что появилась надежда. Никто толком не знал на что, но она была. Феликс Ардевол, равнодушный и к сепии, и к серому, совершал вояжи и заключал выгодные сделки с одной-единственной целью: увеличить свою коллекцию, удовлетворить сжигавшую его жажду — даже не коллекционера, а собирателя. Ему было все равно — сепия или серый. Он замечал лишь то, что могло помочь расширить коллекцию. Поэтому он обратил внимание на доктора Адриа Боска, знаменитого палеографа из Барселонского университета, который, как утверждала молва, был настоящим знатоком и мог безошибочно датировать любую вещь. Ардевол завязал с ним взаимовыгодные отношения и стал так часто бывать в его кабинете в университете, что кое-кто из ассистентов профессора Боска начал косо смотреть на частого посетителя. Тогда Феликс предпочел навещать профессора Боска дома, а не в университете. Особых причин не ходить в старое здание у него не было. И все же там он мог встретить бывшего товарища по учебе в Григорианском университете, к тому же там преподавали философию два каноника, знавшие его по семинарии в Вике, и могли бы удивиться его частым визитам к знаменитому профессору и в святой простоте спросить: а чем, собственно, ты, Ардевол, занимаешься? Или: а правда, что ты все бросил ради женщины? Правда, что променял блестящее будущее с санскритом и теологией на женскую юбку? Правда? Об этом тогда столько говорили! Если бы ты только знал, что про тебя рассказывали! Куда же пропала твоя знаменитая итальянка?
Когда Феликс Ардевол сказал профессору Боску «я хочу поговорить о твоей дочери», прошло шесть лет с того момента, как она обратила на него внимание. И когда Ардевол приходил с визитом к дедушке Адриа, она всегда спешила открыть ему дверь. Вскоре после начала Гражданской войны60 (ей к тому времени исполнилось семнадцать) девушка заметила, что ей нравится манера сеньора Ардевола снимать шляпу при встрече с ней. И то, что он всегда при этом спрашивал: как поживаешь, красавица? Это ей особенно нравилось. Как поживаешь, красавица? И еще — цвет глаз сеньора Ардевола. Насыщенно-каштановый. И запах английской лаванды, который оставался после него.
Но он пришел в плохие времена: три года войны, Барселона была не цвета пастели, не серой, а просто цвета огня, тоски, голода, бомбежек и смерти. Феликс Ардевол отсутствовал целыми неделями, уезжая по своим таинственным делам. Университет же оставался открытым, однако тревога сгущалась под сводами его аудиторий. Потом все успокоилось, но это было тяжелое спокойствие: тех преподавателей, что не покинули страну, Франко вычистил из университета, заменив профессурой, говорящей по-испански и без стеснения демонстрирующей свое невежество. Однако сохранялись островки — такие, как кафедра палеографии, — которые победители не сочли заслуживающими внимания. Сеньор Феликс Ардевол возобновил свои визиты, принося еще больше интересных вещей. Они с профессором Боском классифицировали, датировали, подтверждали подлинность, а потом Феликс торговал этими сокровищами по всему миру, а прибыль делил с профессором пополам, что было спасением в эти годы нужды. И те преподаватели, что выжили во франкистской мясорубке, снова косо смотрели на этого коммерсанта, который с хозяйским видом ходил по кафедре. По кафедре и по дому профессора Боска.
Пока шла война, Карме Боск видела его не слишком часто. Однако это время закончилось, и сеньор Ардевол вновь стал наносить визиты ее отцу. Мужчины запирались в кабинете, а Карме возвращалась к своим делам и говорила Лоле Маленькой: сегодня я не хочу идти покупать сандалии, и Лола знала, что причина тому — приход сеньора Ардевола, засевшего с хозяином в кабинете над древними бумагами, и потому отвечала, пряча улыбку: как скажешь, Карме. После войны отец, практически не посоветовавшись, записал ее во вновь открытую Библиотечную школу. Те три года, которые она там провела, почти что возле дома, поскольку они жили на улице Делс-Анжелс, стали самыми счастливыми в ее жизни. В школе она нашла подруг, с которыми обменялась обещаниями видеться и после окончания учебы, даже когда все выйдут замуж и т. д., и с которыми больше никогда не виделась, даже с Пепитой Масриерой. Карме устроили работать в университетскую библиотеку — возить тележки с книгами, и девушка безуспешно пыталась выглядеть так же сурово, как сеньора Каньямерес. Иногда она встречала сеньора Ардевола, тот отчего-то стал чаще заходить в библиотеку и всегда спрашивал: как поживаешь, красавица? Но Карме все же скучала по своим подругам из школы, особенно по Пепите Масриере.
— Нет такого цвета — насыщенно-каштановый.
Лола Маленькая смотрела на Карме с иронией, ожидая ответа.
— Ладно. Красивый каштановый. Как темный мед. Эвкалиптовый.
— Он ровесник твоему отцу.
— Вот и нет! На семь с половиной лет моложе.
— Все, я молчу.
Сеньор Ардевол, несмотря на «чистку», все равно не доверял новой профессуре. Как и старой. Эти, конечно, уже не могли обсуждать его прошлое, потому что не знали о нем, но наверняка подумают: ты карабкаешься вверх по скользким камням, друг мой.
Феликс Ардевол желал бы избежать любых объяснений с теми, кто смотрел на него с вежливой иронией и молча ждал. Пока в один прекрасный день он не сказал самому себе: ну все, хватит! я не могу жить под дамокловым мечом! — и отправился на виа Лаэтана61, где выдохнул: профессор Мунтельс с кафедры палеографии.
— Как вы говорите?
— Профессор Мунтельс с кафедры палеографии.
— Мунтельс с кафедры палеографии, — медленно выводил буквы комиссар. — А зовут его?
— Элой. А вторая фамилия...62
— Элой Мунтельс с кафедры палеографии, та-а-ак.
Кабинет комиссара Пласенсии выкрашен в буро-оливковый цвет, шкаф с картотекой проржавел, а на потрескавшейся стене висят портреты Франко и Хосе Антонио63. Через грязное оконное стекло можно было увидеть кусок виа Лаэтана. Но сеньору Феликсу Ардеволу некогда было разглядывать обстановку. Он писал полное имя доктора Элоя Мунтельса, чья вторая фамилия была Сиурана, — сотрудника кафедры палеографии, также когда-то учившегося в Григорианском университете и очень косо смотревшего на Ардевола, когда тот приходил к профессору Боску по своим таинственным делам.
— И как вы его охарактеризуете?
— Каталонист. Коммунист.
Комиссар присвистнул и сказал: ну-ну, ну-ну... И как это его до сих пор не сцапали?
Сеньор Ардевол ничего не ответил, поскольку вопрос был явно риторический и было бы нетактично говорить, что виной тому — плохая работа полиции.
— А ведь это второй преподаватель, о котором вы нам сообщаете. Не правда ли, странно? — Он постукивал карандашом по столу, словно посылал кому-то сообщение морзянкой. — Притом что вы сами — не сотрудник университета. Почему вы так поступаете?
— Потому что я — патриот. Да здравствует Франко!
Их будет больше. Трое или четверо. И все они были каталонисты и коммунисты. И все они приводили неопровержимые доказательства лояльности режиму и восклицали: коммунист? я? Но их «даздравствуетфранко», выкрикиваемое перед комиссаром, было абсолютно бесполезно, потому что тюрьма Модел работает без выходных и в нее без устали отправляют отщепенцев, не ценящих тех благ, что несет отечеству Каудильо, и упорствующих в своих заблуждениях. Своевременные доносы расчистили пространство вокруг профессора Боска, а тот ничего не замечал и служил источником информации для этого ловкого человека, которого так любил.
Вскоре после арестов профессоров кафедры Феликс Ардевол на всякий случай стал посещать профессора Боска не в его университетском кабинете, а дома, чему Карме Боск очень радовалась.
— Как поживаешь, красавица?
Девушка, чья красота расцветала день ото дня, отвечала улыбкой и опускала глаза, неизменно делая это так очаровательно, что ее взгляды стали для Феликса Ардевола самой захватывающей тайной, суть которой хотелось немедленно постичь. Почти так же страстно, как заполучить рукопись Гёте, не имевшую владельца.
— Сегодня я принес вам работу посложнее и лучше оплачиваемую, — сказал он, входя в кабинет профессора Боска.
И дедушка Адриа оценивал, подтверждал подлинность, получал гонорар и никогда не спрашивал: слушай, Феликс, откуда ты тащишь все это? Как, черт возьми, достаешь?
Вместо этого, пока тот доставал из портфеля очередные раритеты, дедушка Адриа протирал пенсне. Потом рукопись оказывалась перед ним на столе и начиналось действо.
— Готический канцелярский курсив, — сказал профессор Боск, водрузив пенсне на нос и жадно глядя на страницы, выложенные Феликсом перед ним. Он взял их в руки и начал осматривать со всех сторон.
— Она не целая, — наконец произнес профессор.
— Четырнадцатый век?
— Да. Вижу, ты научился.
К тому времени Феликс Ардевол организовал целую сеть поиска разнообразных рукописей, папирусов, пергаментов — разрозненных и переплетенных, тех, что обычно пылятся в забвении на полках архивов, библиотек, институтов, мэрий и церковных приходов в различных уголках Европы. Молодой сеньор Беренгер — ловкий и пронырливый лазутчик — объезжал эти забытые богом уголки, оценивал — в первом приближении — возможную добычу и докладывал результаты по телефону (хоть это в те времена и было непросто). Получив добро, он платил сущие гроши владельцам документов, если нельзя было этого избежать, и передавал находку Ардеволу, который исследовал ее совместно с профессором Боском. Все оказывались в выигрыше — и документы, извлеченные из забвения, тоже. Однако лучше не говорить об этом. Никому. За эти десять лет было найдено немало ничего не стоящего мусора. Целая куча. Но иногда попадались и настоящие жемчужины, как, например, издание 1876 года L’après-midi d’un faune64 с иллюстрациями Мане, а среди страниц книги лежали листки, исписанные рукой самого Малларме — последнее созданное им — спавшее мертвым сном на чердаке ничтожной городской библиотеки в Вальвене. Или три целых пергамента и часть документов из канцелярии Иоанна II65, чудесным образом обнаруженные на аукционе в Гётеборге. Каждый год находилось три-четыре таких жемчужины. Ради них-то и трудился Ардевол день и ночь. Постепенно в тишине огромной квартиры, которую он снимал в Эшампле66, у него созрела идея открыть антикварный магазин, куда можно будет отдавать то, что истинной жемчужиной не является. Вслед за этим решением пришло и другое: скупать у наследников не только манускрипты. Стекло, фарфор, мебель, оружие, зонты, разную мелочовку — словом, все, чему много лет и что практически бесполезно. Вот так к нему в дом попал первый музыкальный инструмент.
Шли годы. Сеньор Ардевол, мой отец, продолжал приходить в дом профессора Боска, моего дедушки, которого я еще застану в младенчестве. Карме, моей маме, исполнилось двадцать два года. И однажды сеньор Феликс Ардевол сказал своему коллеге: я хочу поговорить о твоей дочери.
— А что с ней? — Профессор Боск, несколько встревоженный, снял пенсне и посмотрел на своего друга.
— Я хочу на ней жениться. Если у тебя нет возражений.
Профессор Боск поднялся и вышел в темную прихожую в полной растерянности, размахивая пенсне. Ардевол пошел за ним, отстав на несколько шагов. Профессор некоторое время нервно шагал вперед, потом повернулся и посмотрел на Ардевола, совершенно не замечая, что глаза у него насыщенно-каштанового цвета.
— Сколько тебе лет?
— Сорок четыре.
— А Карме должно быть восемнадцать или девятнадцать, самое большее.
— Двадцать два с половиной. Твоей дочери исполнилось двадцать два.
— Ты уверен?
Молчание. Профессор Боск нацепил на нос пенсне, словно хотел тщательно изучить возраст дочери. Он посмотрел на Ардевола, открыл рот, снял очки и с потерянным видом, словно обнаружив, что держит в руках папирус эпохи Птолемеев, сказал восхищенно: Карме двадцать два года...
— Да, исполнилось несколько месяцев назад.
В этот момент открылась входная дверь и вошли Карме с Лолой Маленькой. Дочь профессора удивленно посмотрела на двух мужчин, молча стоявших посреди прихожей. Лола Маленькая исчезла, унеся корзину с покупками, а Карме, пристально глядя на отца с гостем, сняла пальто и спросила:
— Что-то случилось?
58 Мигель Примо де Ривера (1870–1930) — испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 гг. председатель правительства Испании. В 1923 г. совершил государственный переворот, в результате которого было приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент, введена цензура.
59 Имеется в виду 2-я Испанская республика, провозглашенная в 1931 г. и просуществовавшая до установления диктатуры Франсиско Франко в 1939 г.
60 Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.
61 На этой улице находилось главное полицейское управление Барселоны.
62 У испанцев и каталонцев двойная фамилия, которая состоит из фамилии отца и фамилии матери.
63 Хосе Антонио Примо де Ривера (1903–1936) — сын генерала Мигеля Примо де Риверы, основатель партии «Испанская фаланга».
64 «Полуденный отдых фавна» (фр.). Стихотворение Стефана Малларме, написанное в 1865 г., однако впервые изданное только в 1876 г.
65 Иоанн II Безверный (1398–1479) — с 1458 г. король Арагона, Валенсии, Майорки, Сицилии и Наварры, граф Барселонский.
66 Эшампле — престижный район Барселоны.
58 Мигель Примо де Ривера (1870–1930) — испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 гг. председатель правительства Испании. В 1923 г. совершил государственный переворот, в результате которого было приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент, введена цензура.
59 Имеется в виду 2-я Испанская республика, провозглашенная в 1931 г. и просуществовавшая до установления диктатуры Франсиско Франко в 1939 г.
60 Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.
61 На этой улице находилось главное полицейское управление Барселоны.
62 У испанцев и каталонцев двойная фамилия, которая состоит из фамилии отца и фамилии матери.
63 Хосе Антонио Примо де Ривера (1903–1936) — сын генерала Мигеля Примо де Риверы, основатель партии «Испанская фаланга».
64 «Полуденный отдых фавна» (фр.). Стихотворение Стефана Малларме, написанное в 1865 г., однако впервые изданное только в 1876 г.
65 Иоанн II Безверный (1398–1479) — с 1458 г. король Арагона, Валенсии, Майорки, Сицилии и Наварры, граф Барселонский.
66 Эшампле — престижный район Барселоны.
