автордың кітабын онлайн тегін оқу Юрий Любимов: путь к «Мастеру»
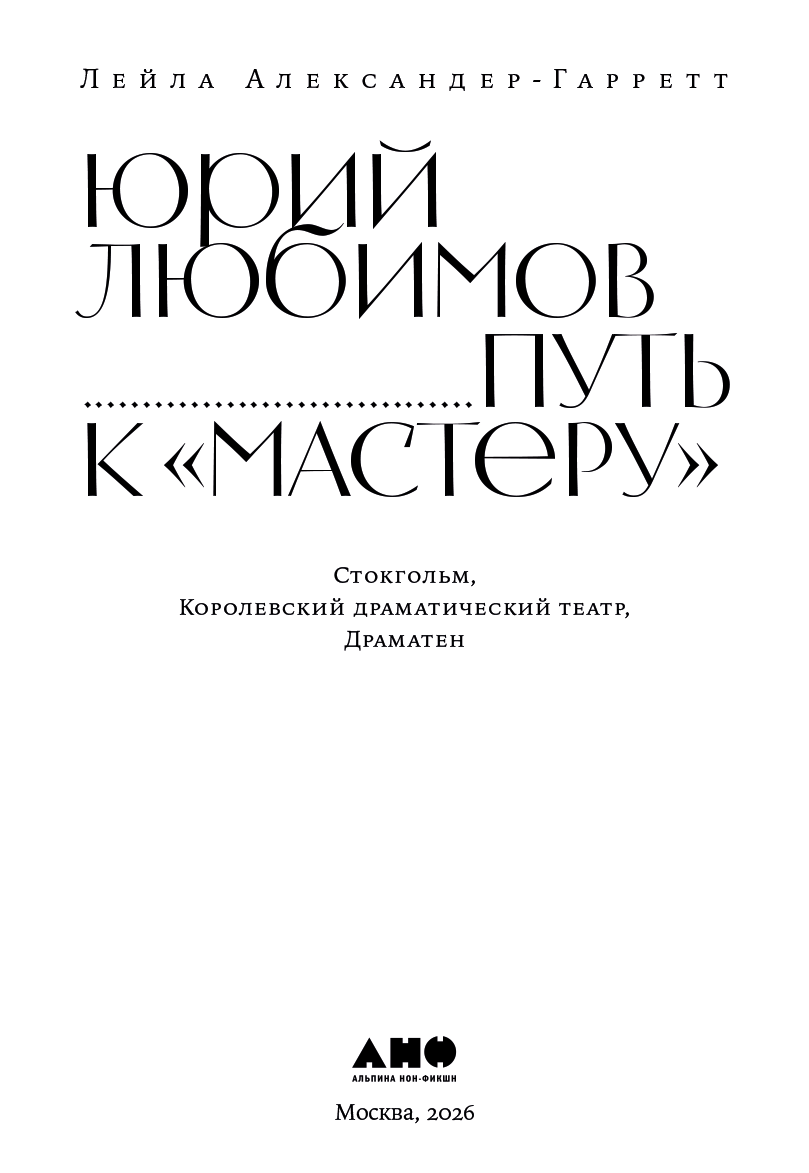
Искренняя благодарность
Вячеславу Амирханяну и моей дочери Лене
за помощь в работе над книгой
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.
Гёте. Фауст
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презрение.
Ты пил вино, ты как никто шутил…
Анна Ахматова. Памяти Булгакова
Делай свое дело, а там будет видно!
Юрий Любимов
Стокгольм, 1988 год
11 октября, вторник
Сегодня в десять утра в шведском Королевском драматическом театре, который жители Стокгольма называют просто Драматен (Dramaten), начались репетиции спектакля «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Афанасьевича Булгакова в постановке «титана русской сцены», как охарактеризовала Юрия Петровича Любимова лондонская The Times. Шведский национальный театр «разговорной драмы» был основан в 1788 году королем Густавом III, представителем просвещенного абсолютизма, который через четыре года погиб от рук заговорщиков. У короля была неуемная тяга к искусству, особенно к театру. Невзирая на предупреждения тайной полиции о готовящемся на него покушении, эксцентричный шведский монарх отправился в стокгольмскую Королевскую оперу, основанную им же в 1773 году, на бал-маскарад, где и прозвучал роковой выстрел. «Если я стану бояться, то смогу ли я править?» — надменно поучал король своих тайных советников. Еще одно высказывание шведского монарха-театрала вошло в историю: «Весь мир — это подмостки сцены. А все мужчины и женщины главным образом актеры». Эта фраза почти дословно повторяет шекспировскую: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры». Сюжет оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» (1859) основан на реальной истории убийства Густава III.
Актеры Драматенa на первой же репетиции прозвали Юрия Петровича Любимова Lubbe (Люббе), прибавив к этому иронично рифмующееся окончание gubbe (губбе), что означает «старикашка». Юрий Петрович знал, что его называют Люббе-губбе, и посмеивался над своим прозвищем: «Пусть болтают. Я любого из них уложу на лопатки…»
Юрию Петровичу в 1988 году едва перевалило за семьдесят; он был полон сил и творческой энергии. Работал Любимов вплоть до своей кончины 5 октября 2014 года. 30 сентября того же года ему исполнилось девяносто семь лет!
Юрий Петрович непрестанно подчеркивал, что он, как и Антон Павлович Чехов, внук крепостного крестьянина; он — крепкий орешек. Правда, Чехов, в отличие от Любимова, умер в сорок четыре года.
Как-то на банкете после одной из театральных премьер Юрия Любимова и Ингмара Бергмана посадили рядом за столом, а меня как переводчика — между ними. Сначала вместе со всеми мы подняли тост в честь двухсотлетнего юбилея Драматена, после чего Бергман рассказал нам, как впервые попал в этот театр в марте 1928 года. На воскресный дневной спектакль он, десятилетний мальчик, пришел один, без родителей. Сидел во втором ряду амфитеатра. До сих пор это его любимое место в театре. Придя домой после спектакля, он слег с температурой от перевозбуждения и неописуемого восторга. «Я обожаю этот театр! — сказал Бергман, похлопывая русского коллегу по плечу. — Драматен — лучший репертуарный театр в мире, и мы очень рады, что вы будете работать здесь в юбилейный год».
Любимов, в свою очередь, поведал Бергману свое детское впечатление от первого увиденного им спектакля в Художественном театре, где у его отца была отдельная ложа [1]. Отец привез троих детей на «Синюю птицу» Метерлинка. «Мне было лет семь-восемь. Я страшно испугался, когда погас свет, но делал вид, что ничего не боюсь, а моя младшая сестренка Наташа забилась под кресло и ревела. Да, детское восприятие самое сильное», — заключил Любимов. Выяснилось, что у обоих режиссеров были старшие братья и младшие сестры.
Затем, предвкушая реакцию Бергмана, Любимов как бы невзначай бросил: «Я и Станиславского видел в Художественном театре…» Бергман восторженно ахнул и стал пристально вглядываться в своего визави, словно пытаясь выманить из лабиринтов памяти Любимова образ прославленного реформатора театра и основателя системы сценического искусства.
Потом они заспорили, кто из них старше. Бергман родился в 1918 году, а Любимов — в 1917-м, в год революции. Казалось бы, Любимов выиграл спор, но неожиданно он заявил, что на самом деле родился не в 1917-м, а в 1914 году! Скорее всего, Любимов пошутил, ведь он — прославленный балагур. Но если это правда, то Юрий Петрович Любимов дожил до ста лет. А Бергману не исполнилось и девяносто, когда 30 июля 2007 года он ушел в мир иной. И тут он проиграл.
Во время съемок «Жертвоприношения» Ингмар Бергман наотрез отказался встретиться с Андреем Тарковским в Шведском киноинституте, хотя находились они в нескольких шагах друг от друга. Возможно, поэтому Бергман играл роль столь радушного хозяина с Любимовым. Заглаживал вину перед русской культурой.
Прежде чем продолжить рассказ о репетициях «Мастера и Маргариты» в Стокгольме, я хочу упомянуть о работе с Любимовым в лондонском Королевском оперном театре Ковент-Гарден, а также о скандалах, возникших во время постановки вагнеровского цикла четырех музыкальных эпических драм (определение принадлежит самому композитору) «Кольцо нибелунга».
Андрей Тарковский, узнав о том, что Любимов пригласил меня работать с ним в Драматене на спектакле «Пир во время чумы» по «Маленьким трагедиям» Пушкина, предупредил меня: «Не связывайся с ним! Ты с ним наплачешься, я тебе обещаю. Он — известный скандалист. Самый мелкий конфликт он выносит в публичную плоскость. Без скандалов Любимов не может. Он тебя предаст!»
Тарковский явно оберегал меня от козней своего соотечественника — легендарного и скандального режиссера Театра на Таганке, но я не обратила тогда внимания на его предостережения, приписывая их обычной режиссерской ревности. К тому же работа с создателем культового московского театра, известного в советское время по всей стране как «островок свободы», вызывала у меня огромный интерес. Осенью 1986 года я стала переводчицей и ассистентом Юрия Петровича Любимова на постановке «Пира во время чумы» в Стокгольме, затем в Лондоне в Ковент-Гардене на опере «Енуфа» чешского композитора Леоша Яначека и, наконец, на «Мастере и Маргарите».
С первых же дней работы у нас сложились весьма теплые деловые отношения как с самим Любимовым, так и с его женой Каталин Кунц. В Швеции Любимов называл ее Катей, а в разговорах с продюсером Анитой Брундаль — «моей Катькой». Аниту Брундаль Юрий Петрович сразу же окрестил Пуделем из-за ее химической завивки и «кусачего» характера. К пуделям Любимов симпатии не испытывал.
Помню, как мы впервые встречали Любимова с Анитой Брундаль в стокгольмском аэропорту Арланда в 1986 году, куда он прилетел из Швейцарии после премьеры «Енуфы» для постановки в Драматене «Пира во время чумы». По дороге в центр города Анита предложила маэстро заехать в старинный шведский ресторан перекусить. Любимов, узнав, что я не пью водку, незаметно подлил мне ее в бокал с газированной минеральной водой «Рамлеса» (Ramlösa), когда я отлучилась кому-то позвонить по телефону (о нынешних смартфонах никто в ту пору и не мечтал). Я жаловалась официанту, что «Рамлеса» почему-то горчит, а Любимов хохотал на весь зал красивым актерским баритоном и радовался своей шутке как ребенок.
Подобные шутки продолжались и с моим вегетарианством: Любимов незаметно поливал мои овощные салаты каким-нибудь мясным соусом. Через какое-то время ему это надоело, и он вместе со мной с удовольствием хрустел салатными листочками.
Каждое утро Любимов склонял меня присоединиться к нему на утренней зарядке. Перед служебным входом в Драматен он устраивал театр одного актера, делая разминку с приседаниями, прыжками, бегом на месте и всевозможными подтягиваниями. Раньше у входа в театр стояла скамейка (сейчас ее убрали), служившая русскому режиссеру спортивным снарядом. Любимов находился в прекрасной форме: он лихо перепрыгивал через скамейку, сгибался и разгибался… и все это сопровождалось чтением стихов. На протяжении всего репетиционного периода Любимов дразнил меня пушкинскими строками:
От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».
За свои утренние импровизации убеленный сединами русский режиссер, к тому же неотразимый, импозантный красавец, срывал аплодисменты проходивших мимо оторопевших шведов. Любимов сиял, раскланивался, как оперная дива, и удалялся от немногочисленной публики в лоно театра. В пустом репетиционном зале, а приходили мы всегда раньше артистов, я, будучи совсем не спортивной, но с детства гибкой, села на спор с ним на шпагат. Юрий Петрович ахнул, развел руками: «Ну вы даете!» — а затем оставил меня в покое с утренней зарядкой…
После блистательной премьеры «Пира во время чумы» Любимов подарил мне жемчужное ожерелье с браслетом (у его жены Каталин отменный вкус!) и открытку с благодарностью за «спокойную работу». Судя по его словам, это была высшая похвала.
По настоянию Любимова дирекция лондонской Королевской оперы заключила со мной контракт на период постановки оперы «Енуфа» с 6 октября по 17 ноября 1986 года. Получить разрешение на работу в Англии подданному Королевства Швеции в те времена было довольно сложно, но Любимов не привык отступать, он всегда добивался своего.
На опере «Енуфа» все прошло гладко: выдающийся дирижер, рыцарь Британской империи, обладатель ордена Кавалеров Почета Бернард Хайтинк после премьеры прислал мне письмо с благодарностью за мою чуткость и понимание в такой сложной работе, а также за то, что я помогала сглаживать углы между Любимовым, администрацией и капризными исполнителями. Поясню, что конкретно Бернард Хайтинк имел в виду: Любимов, будучи уверенным в том, что вокруг него никто, кроме меня, ни бум-бум по-русски, частенько выходил из себя, повышал на певцов голос, посылал их по матушке; в лучшем случае называл их отпетыми бездарными идиотами… Мне же приходилось выкручиваться и объяснять избалованным дивам, что это не оскорбление, а всего лишь русский глагол движения «идет», который звучит идентично обидному слову «идиот». Бернард Хайтинк, прекрасно все понимавший, одобрительно кивал мне головой, а после репетиций пожимал руку, приговаривая: «Как я вам благодарен: ведь звезды могут разозлиться, хлопнуть дверью и сорвать постановку, а Любимов — московский царек — не понимает, что своим поведением унижает певцов».
Через два года Юрий Петрович навсегда рассорится с Бернардом Хайтинком. Но на «Енуфе» они относились друг к другу с предельной учтивостью и почтительностью.
Юрий Петрович восхищался трудолюбием балетных артистов и ни в грош не ставил оперных певцов, которые, по его мнению, даром получили свой талант, а на самом деле они законченные идиоты с раздутым самомнением. «Вот полюбуйтесь! — Любимов разглядывал в столовой Ковент-Гардена раскрасневшихся после репетиций балерин, поедающих на обед свои скудные салатики. И затем презрительным кивком головы указал на дородных певиц, на тарелках которых высились горы жирных блюд. — Балетные потеют, трудятся. А эти коровы только жрут! Какое им, к черту, искусство!»
В воскресенье, 9 октября 1988 года, Любимов снова прилетел в стокгольмский аэропорт Арланда, но на этот раз его встречала только Анита Брундаль. До последнего момента я сомневалась, смогу ли вообще находиться рядом с человеком, способным на предательство. Лев Толстой точно подметил: «Когда тебя предали — это все равно что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается».
Предсказания Тарковского, как это ни печально, сбылись. Благодаря уговорам и убеждениям Аниты Брундаль я согласилась приехать в Стокгольм работать с Любимовым на «Мастере и Маргарите». Разорвать контракт с Драматеном и уподобиться Любимову я не могла. С этим театром у меня до сих пор сохранились добрые отношения.
К столетию Ингмара Бергмана, в 2017 году, Драматен выпустил пьесу Эрланда Юзефсона «Одна ночь шведского лета» (En natt i den svenska sommaren), посвященную съемкам фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение» (1985), которые проходили на Готланде. Вместе с пьесой театр организовал мою фотовыставку и многочисленные встречи со зрителями.
Я прилетела в Стокгольм 10 октября. На следующее утро пришла на репетицию. Увидев меня в кабинете нашего продюсера Аниты Брундаль, несколько растерянный Любимов сразу же набросился на меня: «Что ж вы даже не соизволили явиться в аэропорт и встретить меня?!» Общеизвестный прием: лучшая защита — нападение. Подчеркнуто вежливо и холодно я объяснила, что с этого момента работаю с ним только в стенах театра по строго отведенным часам: в мои обязанности больше не входят встречи, проводы, сопровождения его куда бы то ни было. Юрий Петрович молниеносно смекнул, что дело серьезное: «А кто же мне будет помогать? Я же не говорю по-шведски!» Все подмечающая Анита вклинилась в наш разговор и подтвердила мои слова, что отныне я работаю только в стенах театра. Если же Любимову понадобится помощь, то она найдет переводчика, за которого ему придется платить самому. Такой расклад дел совершенно не устраивал Любимова, и он принялся бесцеремонно катить бочку на художника-постановщика из Ковент-Гардена Пола Хернона, с которым мы начинали работу над вагнеровским «Золотом Рейна». Мы даже ездили с ним к Любимову в Иерусалим для обсуждения постановки оперы.
Юрий Петрович назвал Пола Хернона интриганом и пронырой, сваливая причину своего поступка на него. Я отказывалась развивать эту тему, но он настаивал: «Вы меня ставите в неловкое положение!» Я молчала. «Неужели вы полагаете, что я способен на такой, мягко говоря, непорядочный поступок? Ведь мы с вами прекрасно ладили на "Енуфе", да и на Пушкине тоже», — не унимался Любимов, вызывая меня на диалог. «Еще как способен!» — подумала я про себя, не отвечая на его вызов. Видно было, что он ищет оправдания своему поступку. Вмешалась Анита Брундаль: «Юрий, я знаю, что произошло в Ковент-Гардене. Мы все знаем».
Мне не хотелось оповещать Любимова о моем разговоре с директором оперного театра Полом Финдли (он занимал эту должность с 1987 по 1993 год до конфликта с генеральным директором театра Джереми Айзексом). Когда я, ничего не подозревая, пришла в назначенное время на репетицию, Финдли почему-то сразу же пригласил меня в свой кабинет. Он долго извинялся, говорил, что Бернард Хайтинк и весь коллектив крайне разочарованы решением Любимова заменить меня в последний момент, что это ставит их в крайне неловкое положение, но что же делать? Оказывается, незадолго до начала репетиций Любимов заявил администрации оперного театра, что нашел в Израиле нового переводчика — специалиста по Вагнеру, и теперь требует, чтобы вместо меня назначили переводчиком этого человека. Разумеется, Любимов обещал им, что со мной проблем у театра не возникнет: он все берет на себя. От такого неожиданного заявления у меня буквально подкосились ноги. Самое странное и необъяснимое заключалось в том, что Любимов все время звонил мне в Стокгольм, мы обсуждали всевозможные вопросы, связанные с постановкой «Золота Рейна», премьера которого должна была состояться 29 сентября 1988 года. Однако он ни словом не обмолвился об израильском переводчике.
Все это время я находилась в полном неведении, а Любимов как ни в чем не бывало продолжал мне лгать. Согласно заключенному контракту, я прилетела из Стокгольма в Лондон, мой билет был оплачен Ковент-Гарденом. Почему же никто не удосужился сообщить о решении Любимова заменить меня? Зачем я летала с художником Полом Херноном к Любимову в Иерусалим для работы над «Золотом Рейна», где осенью 1987 года он жил с женой Катей и сыном Петей?
Поскольку Вагнер запрещен в Израиле, нам приходилось «скрываться» в арабских кварталах, где мы прямо на улице раскладывали на столиках партитуру «Золота Рейна», рисунки костюмов, планы декораций. Несколько раз звучала сирена, хозяин кафе ловко выхватывал из-под нашего носа столик и тащил его внутрь помещения, но вскоре выносил обратно, и мы снова усаживались за него и как ни в чем не бывало продолжали работу.
В Иерусалиме стоял теплый октябрь, и я умудрилась получить солнечный удар, но не в бунинской интерпретации от внезапно нахлынувшей влюбленности (ах, как этот рассказ хотел экранизировать Андрей Тарковский, боготворивший Бунина!), а настоящий солнечный удар, когда казалось, что из тебя вытягивают душу и ты умираешь. В отеле меня предупреждали, что блондинам в Иерусалиме следует носить шляпу даже в октябре, но я проигнорировала советы мудрых израильтян и горько потом пожалела…
Меня захлестнули отчаяние, слезы, горечь и обида. Я смогла выдавить лишь один вопрос: «Почему же меня никто не оповестил, что со мной разрывают контракт? Я бы тогда не приехала в Лондон. Зачем нужно было подвергать меня столь жестокой и унизительной экзекуции?» Пол сдержанно ответил, что эту обязанность Ковент-Гарден возложил на Любимова: он им обещал все уладить. Вне всякого сомнения, сложившаяся ситуация послужила мне уроком, как я это вижу теперь, но тогда я с трудом перенесла причиненную мне боль. Это был неожиданный удар. А я неслась на первую репетицию окрыленная, радостная, готовая обнять Юрия Петровича и Бернарда Хайтинка — с подарками из Швеции…
Покинув кабинет дирекции оперного театра, я спустилась на станцию метро «Ковент-Гарден», где не могла сдержать слез, мне стало плохо с сердцем… и я потеряла сознание прямо в вагоне поезда. Очнулась на платформе, а рядом на скамейке увидела пожилого приветливого англичанина. Когда я пришла в себя, он спросил, что со мной произошло. Я сбивчиво рассказала совершенно незнакомому человеку о подлом и трусливом поступке режиссера, которым восхищалась, о разрыве контракта с Ковент-Гарденом. После такого признания мне стало немного легче; я уже собиралась уходить, когда мой спутник остановил меня и предложил свою помощь. «Постойте-постойте, мне кажется, я могу быть вам полезным», — загадочно улыбаясь, произнес он и протянул свою карточку. Оказалось, что незнакомец, вытащивший меня из душного вагона на платформу, — адвокат, специализирующийся в вопросах, связанных с шоу-бизнесом (an entertainment lawyer).
Вот так свыше пришла поддержка, которая помогла мне пережить предательство всемирно известного режиссера Юрия Петровича Любимова.
Вскоре я вернулась в Стокгольм; мой новый знакомый сообщил по телефону, что встретился с дирекцией Ковент-Гардена, которая, конечно же, надеялась, что неопытная и неискушенная в финансовых делах девушка не обратится за советом к адвокату и им не придется платить мне ни пенни. А Любимов пребывал в уверенности, что ему все сойдет с рук, ведь на Таганке он был царем и богом!
Все бы оставалось шито-крыто, но после предъявленных Ковент-Гардену обвинений в нарушении контракта театру пришлось не только заплатить мне весь причитающийся гонорар, но и увеличить сумму чуть ли ни вдвое за причиненный моральный ущерб.
Я предложила своему ангелу-адвокату компенсировать его время и затраты, но тот уверил, что во избежание скандала в прессе, чего Ковент-Гарден боялся больше всего на свете (увы, скандала с Любимовым театру избежать не удалось), он без проблем добился щедрой компенсации как для меня, так и для себя. Не зря же в романе Достоевского «Игрок» фигурирует благородный мистер Астлей. Именно такого мистера Астлея я встретила в трудную минуту своей жизни в лондонском метро.
Позже мне стало известно, что Любимов разругался со своим израильским переводчиком и обвинил в желании подсидеть и занять его режиссерское место.
Прошло много лет. В парке Примроуз-Хилл я иногда встречала бывшего директора Ковент-Гардена Пола Финдли, где он выгуливал свою собаку, а я своего Шарика. При первой встрече мы слегка оторопели, я уловила едва заметный и смущенный кивок в мою сторону, но прошла мимо: мне было по-прежнему больно вспоминать ту гнусную историю, хотя вина лежала на одном лишь Любимове. Осенью 2016 года Пола Финдли не стало, о чем я прочитала в газете. И пожалела, что проигнорировала его приветствие, ведь он оказался невольным исполнителем в этой скверной истории. Как говорят мудрые китайцы, «разочаровывают не люди, разочаровываешься ты сам, когда ждешь от них чего-то большего»…
«Юрий, не надо нам рассказывать сказки, мы все знаем, — повторила Анита Брундаль. — У нас тоже есть свои осведомители. С Лейлой у нас контракт, мы ее в обиду не дадим. А теперь давайте начнем работу. Нам еще предстоит поприветствовать начальство». Мы отправились в кабинет директора театра Ларса Лёфгрена.
Когда за год до этих событий, в декабре 1987 года, Иосиф Бродский получил в Стокгольме Нобелевскую премию по литературе, в большом репетиционном зале Драматена для него был устроен торжественный прием. Директор театра Ларс Лёфгрен подошел ко мне с вопросом: «Лейла, вы что-нибудь знаете о Бродском?» Я удивленно посмотрела на него и утвердительно кивнула головой. «Тогда спасайте нас! Полагаю, вы единственная в театре, кто читал его стихи. Пожалуйста, задайте ему какой-нибудь умный вопрос». Я согласилась и спросила Бродского, что он думает о субъективности времени. Помню, я обратилась к нему на английском языке: «Mister Brodsky, what's your opinion…» Он тут же прервал меня: «Мистер? Да какой я мистер…» А потом долго и подробно отвечал, как время воспринимается им по-разному в разных странах: когда он жил в Питере, время текло отлично от того, как он ощущает его в Нью-Йорке. Время в процессе творчества — явление весьма загадочное и не изученное: иногда часы пролетают как одно мгновение, а иногда наоборот — тянутся бесконечно.
Потом мы несколько раз встречались с Бродским в Лондоне. Однажды на семинаре, посвященном творчеству Осипа Мандельштама, Бродский раздраженно бросил коллегам: «Разве можно так скучно говорить о поэте!» В перерыве он подошел ко мне и сказал: «Я озвучил ваши мысли. У вас на лице была написана такая скука и разочарование, но вы — человек воспитанный, не могли им это сказать в лицо, а мне все равно…»
Мне также посчастливилось присутствовать в Институте современного искусства (ICA) на лекции Иосифа Бродского и Стивена Спендера, известного британского поэта, писателя и публициста. Это было 3 октября 1990 года, в день объединения Западной и Восточной Германии (ФРГ и ГДР). Стивен Спендер ратовал за их объединение, а Бродский, напротив, был уверен, что Германия никогда не интегрируется в Европу, а поглотит ее. И Европа снова станет частью Германии. «Мы порождаем монстра», — заключил Бродский.
В Лондоне я познакомила с Бродским своего любимого московского друга Юрия Норштейна, известного режиссера мультипликационных фильмов, писателя и лектора. Я даже снимала их беседу на кассетную камеру, но запись куда-то затерялась…
Итак, мы поднялись в кабинет Ларса Лёфгрена, где за столом уже сидели семь-восемь человек; все обступили Юрия Петровича с приветствиями: «Добро пожаловать в наш театр! Как приятно, что вы снова с нами в Драматене!» Любимов мгновенно переключился на свое парадное настроение, не забывая вставлять между делом колкости в адрес Ковент-Гардена. «Единственное, что они умеют делать превосходно, так это красиво говорить по-английски — джентльмены! А на самом деле весь Ковент-Гарден превратился в театр красных, хотя у руля по-прежнему стоят одни голубые».
После весьма прохладного приема у Аниты Брундаль в кабинете директора театра Любимов был в ударе, он пародировал гомосексуалов Ковент-Гардена, их чванливые манеры общения, их надменность и снобизм. Анита Брундаль напомнила ему, что пора заканчивать велеречивое выступление и идти знакомиться с артистами.
Перед нашим уходом Ларс Лёфгрен вручил Любимову юбилейный значок Драматена. Анита заявила, что мне тоже нужно подарить такой же значок; тогда Ларс Лёфгрен снял с лацкана пиджака свой значок и пристегнул его мне на блузку со словами «Как мы ценим, что вы снова с нами». Я понимающе кивнула и сказала, что в этом заслуга Аниты Брундаль, иначе меня бы здесь не было.
Юрий Петрович хочет взбодриться перед встречей с актерами и выпить кофейку. Мы поднимаемся на лифте на последний этаж в уютное кафе, где встречаем некоторых актеров и выдающегося переводчика Ларса-Эрика Блумквиста, с которым я была знакома со времен работы над «Жертвоприношением». Ларс-Эрик Блумквист — переводчик от Бога. Он необыкновенно тонко чувствует русский язык, прекрасно знает и любит его. Он блестяще перевел роман Булгакова «Мастер и Маргарита», а также пьесу Любимова по этому роману, которую сегодня мы начнем разбирать [2]. В Драматене Ларс-Эрик уже работал с нами на «Пире во время чумы». Благодаря его переводу тогда впервые со сцены Драматена зазвучал на шведском языке наш любимый и непереводимый Александр Сергеевич Пушкин.
Актеры в кафе вскакивают со своих мест, обнимают Юрия Петровича и меня, хлопают его по плечу, искрятся счастьем от предстоящей совместной работы. Все как полагается. Я заказываю Любимову кофеек, себе — смородиновый чай, мы усаживаемся за стол, покрытый пестрой клеенкой, как в России, и начинаем чаепитие.
Ларс-Эрик Блумквист показывает фотографии подъезда московского дома на Большой Садовой, а также снимки «нехорошей квартиры», где с 1921 по 1924 год жил Михаил Афанасьевич Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппой. Стены подъезда расписаны призывами: «Мастер, приди к нам опять! Воланд, навести Москву и наведи порядок! Мы тебя ждем!» И все в этом роде…
Наконец мы заходим в громадный репетиционный зал, где год назад, в декабре 1987-го, Драматен чествовал нобелевского лауреата Иосифа Бродского, а осенью 1986-го мы работали над постановкой «Пира во время чумы» по «Маленьким трагедиям» Пушкина.
Юрий Петрович, по обыкновению, начинает знакомство с актерами с пародий на Сталина, Брежнева, Андропова — те же самые анекдоты, которые, должно быть, слышали еще актеры Таганки, да и некоторым шведским артистам они тоже были знакомы.
Актеры на первых порах лезут из кожи вон, дабы угодить Люббе-губбе, они безудержно смеются и аплодируют актерскому таланту режиссера-пародиста, хотя им абсолютно безразличны вожди Советского государства; все, что им нужно, — это понравиться режиссеру. Замечу, что Любимов своими байками развлекает прежде всего самого себя: «Вы знаете, уважаемые артисты, как Брежнев учился у Громыко говорить "гуд бай"? Леонид Ильич долго бился над произношением, уж очень ему хотелось попрощаться с американским народом на его родном языке. Мир затаил дыхание: все ожидали, что в этот момент решается судьба планеты. В ту пору американцы как огня боялись Советского Союза. Брежнев все мучился, потел, но никак не мог запомнить два слова "гуд бай", а уж тем более произнести их вслух! Вот так-то, уважаемые артисты. Надеюсь, ваша память получше брежневской и вы выучили текст пьесы наизусть». Причмокивая, Любимов несколько минут произносил брежневское goodbye. Как говорят в Англии, «once an actor — always an actor!» («раз актер — всегда актер!»).
По привычке я записываю за режиссером все его наставления, замечания, а вместе с ними и его бесконечные анекдоты, небылицы и импровизации. Любимов прожил богатейшую на события и встречи жизнь. До чтения пьесы Юрий Петрович рассказывает про Булгакова. Поддавшись давлению некоторых друзей и уговорам жены — Елены Сергеевны Булгаковой, которая является прототипом Маргариты, хотя в первых вариантах романа никакой Маргариты, да и самого Мастера не было, — Михаил Афанасьевич решил завоевать расположение Сталина и написать пьесу «Батум», вскоре после чего тяжело заболел и умер. Пьеса о Сталине стала началом конца Булгакова. «Очевидно, — рассуждал Любимов, — нельзя продавать душу дьяволу, даже если на этом настаивает любимая жена. Как говорил Мольер в пьесе Булгакова "Кабала святош", "всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. И все-таки раздавил. Тиран!"».
Любимов помнит все реплики наизусть, так как играл Мольера в телеспектакле «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», поставленном Анатолием Эфросом в 1973 году на Центральном телевидении СССР.
Юрий Петрович рассказывает актерам о том, что Сталин смотрел во МХАТе пьесу Булгакова «Дни Турбиных» по роману «Белая гвардия» пятнадцать раз. «Вождю что, делать больше нечего, как смотреть одну и ту же пьесу столько раз? Отсюда следует вывод, что пьеса запала ему в душу. Сталин до поры до времени ценил творчество Булгакова и не трогал его. Булгаков, человек далеко не наивный, купился на хитрость Сталина и погубил себя тем самым раньше времени».
К тридцатым годам все булгаковские пьесы были сняты с репертуаров московских театров, наступил период безденежья, нищеты и забвения. Булгаков осознает, что потерял своего покровителя, но не понимает, по какой-то причине Сталин от него отвернулся. Почему, как Пилат, он умыл руки? Судьба писателя Булгакова стала основой для романа «Мастер и Маргарита». Жизнь художника неизбежно затрагивает его творчество, и наоборот. Линию предательства мы встречаем в столкновении между Понтием Пилатом и Иешуа Га-Ноцри. Многие считают, что за Воландом стоит фигура Сталина, но это не так. Понтий Пилат куда более ближе Сталину: может помиловать, а может и казнить.
Отчаявшись и потеряв всякую надежду на трудоустройство, Булгаков пишет письмо Сталину, в котором описывает, что его положение в Стране Советов становится невыносимым. «Мыслим ли я в СССР?» — задает он вопрос себе и вождю. Булгаков перечисляет все публикации, всех критиков, которые травили его в прессе; приводит все грубые цитаты, где его публично оскорбляли. В конце письма Булгаков просит Сталина: «Отпустите меня за границу, я здесь не могу. А если это невозможно, тогда дайте мне какую-нибудь работу, иначе я просто умру с голода… Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо».
Булгаков просит советское правительство в срочном порядке отпустить его за пределы СССР в сопровождении второй жены, Любови Евгеньевны Белозерской, подсказавшей ему ввести в будущий роман женский образ главной героини, который получит имя Маргариты. Прообразом Маргариты станет третья и последняя жена Булгакова — Елена Сергеевна Шиловская, бесцеремонно отбившая у подруги мужа, то бишь Михаила Афанасьевича, а также гётевская Маргарита из «Фауста».
Я читала в воспоминаниях Любови Белозерской, что замысел романа о дьяволе возник у Булгакова не на ровном месте. Она утверждала, что еще в январе 1926 года в руки к Булгакову попала повесть ученого-экономиста и писателя-фантаста Александра Васильевича Чаянова, впоследствии репрессированного. Книга называлась «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». «С полной уверенностью я говорю, что небольшая повесть эта послужила зарождением замысла, творческим толчком для написания романа "Мастер и Маргарита"» [3]. Книга оказала огромное влияние на Булгакова и косвенным образом подарила нам великий шедевр XX века — «Мастера и Маргариту».
Александру Чаянову приписывали дар провидца: он предсказал снос храма Христа Спасителя в Москве за одиннадцать лет до его уничтожения в 1931 году. В 1932 году Чаянова осудили на пять лет тюремного заключения. В марте 1937 года Чаянов был снова арестован, а 3 октября приговорен к расстрелу; приговор привели в исполнение в тот же день.
По словам Любови Белозерской, невероятным совпадением для Михаила Афанасьевича стала фамилия героя книги Чаянова, которого звали Булгаков.
По сюжету повести судьба сталкивает Булгакова с Венедиктовым, и тот рассказывает ему о своей дьявольской способности овладевать человеческими душами. «Беспредельна власть моя, Булгаков» [4], — говорит он. Привожу признание Булгакова из повести Чаянова: «Казалось, потерял я свободу духа и ясность душевную безвозвратно, и чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа. <…> Проходя по московским улицам, посещая театры и кондитерские, я чувствовал в городе чье-то несомненное жуткое и значительное присутствие. <…> я отчетливо чувствовал его дьявольскую волю и адское дыхание совсем близко в темноте направо… Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи…» [5]
Все повествование связано с пребыванием сатаны в Москве и с борьбой персонажа Чаянова за душу любимой женщины, которая попала в подчинение к дьяволу. Встреча с сатаной произошла в московском театре Медокса. На сцене прелестная артистка все время всматривалась в темноту зрительного зала «с выражением покорности и страдания душевного». Для чаяновского Булгакова эта женщина становится смыслом жизни. Стоит ли говорить, перед кем она трепещет? «Это был он… Он роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором… Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность насыщена значительным и властвующим…» Воланда Михаил Булгаков тоже оденет в костюм серого цвета, хотя в его внешности не будет ничего «обыденного и обычного».
Любимов подробно рассказывает актерам об увольнении Булгакова из театра, о письме к Сталину, в котором он просил вождя отпустить его за границу или дать возможность работать.
Самоубийство «первого поэта революции» Владимира Маяковского в понедельник, 14 апреля 1930 года, и неожиданный звонок Сталина Булгакову в пятницу, 18 апреля, без всякого сомнения, тесно связаны. Звонок был вызван опасением вождя, что за трибуном революции Маяковским может последовать один из лучших драматургов Страны Советов.
После самоубийства Владимира Маяковского Сталин не только сам позвонил Булгакову, но и предложил писателю работу во МХАТе. Сталин понимал, что письмо Булгакова — крик души человека в состоянии полного отчаяния и безвыходности, а второго громкого самоубийства нельзя было допустить.
Можно только гадать: что, если бы Булгаков не струсил и попросил выпустить его за рубеж? После самоубийства Маяковского Сталин вполне мог осуществить мечту писателя. В феврале 1937 года Булгаков сам вынесет себе приговор: «Я узник… меня никогда не выпустят отсюда… Я никогда не увижу света…»
С другой стороны, если бы Булгаков покинул СССР, стал бы он на Западе известным писателем и драматургом? Шла бы постановка «Дней Турбиных» на лучшей сцене страны? Скорее всего, нет. Был бы у нас роман «Мастер и Маргарита»? Однозначно — нет. Для Запада Булгаков оставался советским писателем, а в Советском Союзе — буржуазным. Судьба, в которую верил Булгаков, распорядилась оставить его в Москве, где он встретил свою последнюю любовь, Елену Сергеевну Булгакову; ей он посвятил свой «закатный роман» и на ее руках умер.
Как ни странно, но смерть Маяковского подстегнула Булгакова продолжить работу над рукописью своего романа. Дата смерти Маяковского появляется во второй главе первой части романа под названием «Понтий Пилат»: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Месяц нисан в еврейском календаре — это первый месяц весны, совпадающий с первым астрологическим апрельским месяцем Овна. Иудеи в этот день ожидают пришествие Мессии.
Любимов блестяще изображает Сталина, копируя его грузинский акцент, замедленную и выразительную манеру речи: «А может быть, правда, отпустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?» После такого вопроса в лоб Булгаков растерялся и ответил, что в последнее время он много думал, может ли русский писатель жить вне родины. И решил, что не может. «Я тоже так думаю, — подтвердил вождь и посоветовал подать заявление в Художественный театр. — Идите работайте. Я думаю, они передумают во МХАТе». И Художественный театр, сначала снявший спектакль «Дни Турбиных» с репертуара, встретил Булгакова с распростертыми объятиями. Мыслимо ли ослушаться вождя? Так известного драматурга Булгакова зачислили в Художественный театр на должность ассистента режиссера. Вождь играл с Булгаковым, как кошка с мышкой. Вера Булгакова в Сталина оказалась его роковой ошибкой, но что-либо изменить уже было невозможно. В письме к Викентию Викентьевичу Вересаеву, вместе с которым в 1935 году Булгаков написал пьесу о Пушкине «Последние дни», Михаил Афанасьевич сообщал: «Поверьте моему вкусу: он — Сталин — вел разговор сильно, государственно и элегантно». До самого конца Булгаков вел внутренний диалог со Сталиным, что было схоже с дьявольской одержимостью.
В этой книге я привожу не только размышления режиссера, его наставления шведским актерам, но и свои наблюдения, а также некоторые сведения, которые помогут читателю лучше разобраться в особенностях постановки «Мастера и Маргариты» в Театре на Таганке, ставшей первой в мире театральной инсценировкой великого романа Булгакова.
Премьера московского спектакля состоялась 6 апреля 1977 года. Инсценировка спектакля была создана Любимовым по сокращенному варианту романа, напечатанному в журнале «Москва» в 1966–1967 годах. Между заявкой, поданной в 1967 году, и постановкой спектакля прошло десять лет. В то время мало кто из актеров верил, что у Любимова получится осуществить столь дерзкую затею. Но колдовству стоит только начаться, а там его уже ничем не остановишь.
Любимов говорил, что ему хотелось поставить что-то необычное к десятилетию театра. Самым интересным, конечно же, был легендарный роман Булгакова. К десятилетию театра в 1974 году осуществить этот проект не удалось. Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» состоялась лишь к тринадцатилетию театра, 6 апреля 1977 года; постановка на долгие годы стала его визитной карточкой. По указанию режиссера спектакль ставили по тринадцать раз в месяц. Очередь за билетами, по словам Любимова, тянулась «чуть ли не на четыре остановки». За вожделенный билетик на «Сеанс черной магии на Таганке», как называлась статья в газете «Правда» за 29 мая 1977 года, можно было купить банку импортного растворимого кофе; французские духи, стоившие на черном рынке пятьдесят рублей. Актер Таганки Вениамин Смехов утверждал, что за билет на «Мастера» можно было договориться с чиновниками даже о получении разрешения на выезд за границу, что в те времена казалось невозможным.
Финансирования от государства спектакль не получил, а потому реквизит и декорации были взяты из других спектаклей. Для Любимова было важно сохранить эстетику условного, авангардного театра. Вязаный занавес он позаимствовал из «Гамлета», оттуда же и деревянный крест — как напоминание о том, что каждый несет на себе свою тяжелую ношу. К занавесу со словами «Быть или не быть» много лет обращался Владимир Высоцкий, любимый артист Юрия Петровича. Из мольеровского «Тартюфа» в спектакль перекочевала золоченая рама для Понтия Пилата: золото ассоциируется с Древним Римом, с цезарями, вот и прокуратор Иудеи будет восседать в раме весь спектакль. Из эпохи 1960-х Любимов взял трибуну из постановки «Живой» по повести Бориса Можаева, на трибуне будет ораторствовать Берлиоз. Плаха перешла в новый спектакль из есенинского «Пугачева», маятник — из «Часа пик» Ежи Ставинского, кубы для Воланда — из поэтического спектакля «Послушайте!» по Маяковскому.
В роли Мастера Юрий Любимов хотел видеть Леонида Филатова, но тот не поверил в жизнеспособность спектакля. В итоге первым исполнителем Мастера стал Дальвин Щербаков. Роль Ивана Бездомного режиссер собирался поручить Владимиру Высоцкому. Любимову казалось, что ироничный характер Высоцкого идеально соответствует этому персонажу. Высоцкий же метил на роль Воланда, доставшуюся Вениамину Смехову. Если бы Высоцкий намекнул Любимову, что хочет сыграть Воланда, по всей вероятности, тот бы не устоял и дал своему любимцу воплотить свою мечту, но Высоцкий промолчал; в итоге он вообще не вошел в спектакль. Юрий Любимов долго не мог определиться, кто бы мог сыграть Маргариту, так как по сюжету она должна быть в одной сцене обнаженной, а в советском театре это не приветствовалось. В конце концов на эту роль Любимов утвердил первую красавицу Таганки Нину Шацкую; ее наготу подавали зрителям и чиновникам как «произведение искусства». Роль Иешуа сыграл Александр Трофимов. По словам актера, эта роль стала для него самой важной.
И вот что удивительно: почти все спектакли Любимова так или иначе закрывались, а «Мастер и Маргарита» прошел. Для получения окончательного разрешения на показ спектакля требовалась резолюция цензурного комитета. Обычно согласование в таких учреждениях проходило мучительно долго, но здесь резолюция была получена на следующий день с формулировкой «Классика в цензуре не нуждается». Колдовство!
Всего в спектакле были задействованы двадцать актеров и десять мимов. Почти все актеры исполняют несколько ролей. Продолжительность спектакля — чуть дольше трех часов, с одним антрактом. В отличие от Питера Брука, делавшего спектакли необычайно длинными, порой в несколько вечеров, Любимов не был склонен, как он выражался, «тянуть резину», хотя и у него были постановки, не укладывающиеся в один вечер: такие, как «Преступление и наказание» и «Бесы», которые он поставил в Англии. Любимов неоднократно повторял, что следует сжимать спектакли и уважать время зрителей, не злоупотреблять их вниманием; нужно уметь выразить себя в коротком метраже — не более трех часов.
Любимов считал, что «Мастер и Маргарита» на Таганке получился у него гораздо лучше, чем в Швеции. Несомненно, что со своими актерами ему было легче работать.
К сожалению, «Мастера и Маргариту» не показали в других странах, хотя Таганка была первым театром, инсценировавшим великий роман Булгакова. Однажды труппу пригласили в Израиль, но потом передумали: как же можно допустить, чтобы на израильской сцене расхаживал Христос? То же самое возмущало и советских чиновников: кто позволил Христу появиться на столичной сцене? Почему-то дьявол совсем не тревожил советских чиновников.
В репетиционном зале уже висел деревянный маятник и двигающийся в разные стороны занавес, правда, в несколько в упрощенном виде. Мы сидим с актерами за четырьмя столами. Наш с Любимовым стол у окна. Шведское телевидение снимает некоторые репетиции. Любимов ораторствует: «Булгаков написал роман о дьяволе в Москве. Напечатан был роман в журнале "Москва". Не странно ли это? Воланд вершит суд над неугодными ему пройдохами-москвичами. Россия большевиков, которых Булгаков ненавидел, стала безбожной страной. Там, где есть Бог, там нет места дьяволу, а когда у человека пусто в душе, туда вселяется всякая нечисть. Вы согласны?» Актеры соглашаются и добавляют: «Да, но и в Швеции полно безбожников». Любимов загорается: «То-то и оно, дьявольская сила завладела всем миром. Ваша задача — пробить шведского зрителя». После успеха любимовской постановки «Пира во время чумы» актеры не сомневаются в триумфе «Мастера и Маргариты». Весь театральный Стокгольм ждет премьеры спектакля.
Режиссер продолжает погружать артистов в атмосферу советской Москвы сталинской эпохи, рассказывая о посмертной судьбе Михаила Булгакова, который подтвердил свое же пророчество о том, что «рукописи не горят». «Дописать раньше, чем умереть», — записал писатель 30 октября 1934 года на полях рукописи романа. Из последних сил, ослепший, страдающий от неизлечимой болезни почек, Михаил Афанасьевич диктовал своей жене Елене Сергеевне дополнения к роману. Почти через тридцать лет после того, как Булгаков написал: «Свой суд над этой вещью я уже совершил, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно…» — роман «Мастер и Маргарита» был опубликован в стране победившего атеизма и имел неслыханный читательский интерес.
В пьесе у нас примерно пятьдесят пять ролей, которые будут исполнять двадцать актеров и десять мимов, как на Таганке. Актеры начинают читать текст. Любимов их поправляет. У него удивительное чутье: не владея языком, он чувствует малейшую фальшь. Андрей Тарковский обладал той же способностью улавливать неверные интонации актеров. Им приходилось повторять одни и те же фразы десятки раз до тех пор, пока режиссер не услышит нужную тональность и не ощутит правильный настрой актера.
Параллельно с читкой пьесы Любимов посвящает актеров в историю их персонажей. У Юрия Петровича отличный педагогический талант: он пробуждает их интерес и собственную фантазию. Когда Люббе-губбе в ударе, ему нет равных! Он приводит пример с икотой Берлиоза и Бездомного в начале романа, когда они выпивают теплую абрикосовую воду с обильной желтой пеной, перед грядущей встречей с дьяволом на Патриарших прудах. Встреча на пустынной аллее в закатной Москве, что в реальной жизни невозможно себе представить, навсегда изменит их судьбы. Берлиоза эта встреча лишит жизни, а его младшего коллегу по перу заточит в сумасшедший дом и заставит пересмотреть всю свою безалаберную жизнь.
Мизансцена такая: Берлиоз начинает икать, и всех вокруг ни с того ни с сего одолевает икота. Зрители-атеисты сразу должны почувствовать: что-то неладно в их спокойном «Датском королевстве». «Вот как вы должны икать, ребята! Чтобы дух захватывало!»
Любимов иллюстрирует каждый новый эпизод пьесы, растолковывает подтексты каждой новой реплики. К примеру, Коровьев — хулиганистый приближенный Воланда — после икоты двух московских литераторов будет обливать Берлиоза и публику, сидящую в первых рядах, водой из детской резиновой клизмы. «Он — озорник, ему скучно, он так развлекается». У меня промелькнула мысль, что и наш режиссер такой же проказник, не терпящий скуки.
В другом месте Понтий Пилат говорит: «Мне тесно». На шведский это переведено как «Jag kväs!» («Я задыхаюсь!»). На что первосвященник Иудеи Каифа отвечает: «Сегодня душно, где-то идет гроза…» Оба понимают, что речь, разумеется, не о погоде; они ненавидят друг друга, но по долгу службы обязаны продолжать ритуальную игру слов. В следующей реплике Пилат взрывается: «Нет, это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. Побереги себя, первосвященник!» Пилат — солдафон. Он привык отдавать команды, а не плести дипломатическую паутину. Римская империя держит весь мир в страхе, и Пилат — достойный ее представитель — должен соответствовать. Почему он предает Иешуа? Потому что боится римского императора Тиберия, которому Каифа регулярно строчит на него доносы. Между Пилатом и Каифой происходит невидимая борьба: чья воля сильнее, чья возьмет? Они оба в ловушке — каждый заложник своей трусости.
Любимов подчеркивает, что здесь заключена главная мысль автора о том, что «трусость — один из самых страшных человеческих пороков». Но побеждает в этой дуэли более хитрый Каифа. Всесильный Пилат идет на поводу у коварного иудейского первосвященника.
Любимов говорит, что в прологе пьесы собраны все темы романа. Автор в пьесе — сам Булгаков. Это его исповедь. В конце пьесы, когда Воланд спрашивает Левия Матвея: «А что же вы не берете его к себе в свет?» — Левий Матвей отвечает: «Он не заслужил света, он заслужил покой…» Здесь важно понять, что вердикт Мастеру выносит Иешуа, а не Левий Матвей: тот лишь озвучивает его Воланду. Почему Мастер не заслужил света? Что значит покой без света? Покой во тьме — это все равно что покой в гробу. Возлюбленная Мастера Маргарита продала душу дьяволу со всеми потрохами, да и его — безвольного — за собой утащила.
Любимов оглядывает артистов и многозначительно произносит: «У русских первую жену называют женой от Бога, вторую жену — от людей, а третью — от дьявола. Вот вам и совпадение. Вот вам и мистика».
Сам Булгаков был весьма суеверным человеком, не чуждым мистицизму. Он даже Сталину в письме признался, что он «писатель мистический». Артисты спрашивают, был ли Булгаков религиозным человеком. «Он был верующим, но не религиозным, — отвечает Любимов. — Он отшатнулся от церкви, хотя отец его, Афанасий Иванович Булгаков, был профессором Киевской духовной академии. Михаил Булгаков вырос в богословской среде, читал и Ветхий, и Новый Завет. Его назвали в честь святого покровителя Киева — архангела Михаила».
В черновиках «закатный роман» о дьяволе имел разные варианты названий: «Копыто инженера», «Великий канцлер», «Черный маг», «Консультант с копытом», «Жонглер с копытом», «Подкова иностранца», «Князь тьмы», «Вечером страшной субботы», «Гастроль», «Сатана», «Черный богослов», «Он появился», «Вот и я», «Шляпа с пером», «Сын В.».
Впервые название «Мастер и Маргарита» появилось на титульном листе в 1937 году, после чего не менялось. До 1933 года Мастера вообще не было в романе: в первых редакциях фигурировал поэт.
Иоганн Вольфганг фон Гёте в «Фаусте», в «Прологе в театре», представляет трех персонажей: директора, поэта и комика. Поэт был явно заимствован Булгаковым из «Фауста». Поэт у Гёте — истинный творец:
Иль не художник я?..
Мне высшие права природа уделила.
Предам ли на позор высокий дар богов?
Продажна ли певца святая сила? [6]
Жена Булгакова, Елена Сергеевна, хранила рукопись романа двадцать шесть лет. Михаил Афанасьевич не верил, что его роман будет когда-либо напечатан, но она дала ему слово перед смертью, что роман увидит свет, и выполнила свое обещание. «Как ей удалось обвести вокруг пальца советскую цензуру? Тут не обошлось без потусторонних сил», — интригует Любимов заслушавшихся артистов, добавляя, что Елена Сергеевна принадлежала к разряду колдовских, фатальных женщин.
Я вспомнила посвященное Елене Сергеевне стихотворение Анны Ахматовой «Хозяйка», написанное в августе 1943 года. В эвакуации, в Ташкенте, Анна Ахматова поселилась в комнате, где до нее жила Елена Сергеевна.
В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне полнолунья,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво, и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама… Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.
Первый муж Анны Ахматовой, Николай Гумилев, подобным же образом описывал свою неприкаянную жену:
Из логова змиева
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться…
Любимов ошарашивает актеров признанием, что он вполне мог встретиться с Булгаковым в Москве во МХАТе или в Театре имени Вахтангова, где он служил с 1936 года, а Михаил Афанасьевич приходил туда на репетиции своей пьесы «Зойкина квартира». Кроме того, Булгаков дружил с известным сценаристом и драматургом Николаем Робертовичем Эрдманом, с которым Любимов также водил дружбу.
Однажды Сталин сказал Максиму Горькому, хлопотавшему за пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца», что он не против ее постановки в театре Станиславского, но ему лично пьеса не нравится: «Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! Это мне нравится!» Таков был вердикт вождя.
Любимов еще раз подчеркивает, что с Булгаковым произошло чудо: он остался жив во времена жесточайших сталинских чисток, когда многие известные писатели и поэты были уничтожены. Среди них — Исаак Бабель, Борис Пильняк, Даниил Хармс, Николай Клюев, Владимир Нарбут, Сергей Клычков, Бенедикт Лившиц, Борис Корнилов, Тициан Табидзе, Осип Мандельштам и многие другие. А сколько всего было арестованных и репрессированных!
Ольга Федоровна Берггольц — известная ленинградская поэтесса, которую арестовывали дважды, подвергали пыткам, вследствие чего она потеряла ребенка, вспоминая о пережитом, сказала: «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: "Живи!"» Ее первого мужа Бориса Корнилова расстреляли в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны Ольга Берггольц осталась в Ленинграде, стала голосом осажденного города. Она читала свои стихи по радио до конца блокады, и вся страна знала, что Ленинград не сломлен. Слова Ольги Берггольц высечены в граните на Пискаревском кладбище, где похоронены тысячи жертв ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Любимов замолкает и испытующе смотрит на актеров: осознают ли они хоть немного трагедию тех времен? Затем спрашивает: «Вы допускаете, господа актеры, что Булгакову помогал дьявол, то есть сам Сталин?» Артисты выкрикивают, что в Советском Союзе все возможно. В Швеции дьявол не помогает, а строит козни, но у них есть некоторые «персоны», которые не скрывают своих сделок с дьяволом. Несомненно, это был намек на Ингмара Бергмана, который во время съемок «Седьмой печати» обещал отдать душу дьяволу, только бы успеть доснять сцену в «режимное время» (magic hour), когда освещение — до и перед заходом солнца — самое красивое.
Любимов продолжает свой рассказ. Он говорит, что Елена Сергеевна Булгакова питала симпатию к Сталину до конца своей жизни, будучи абсолютно уверенной в том, что тот подарил Михаилу Афанасьевичу десять лет жизни. Она искренне верила в то, что жизнь Булгакова изменится в лучшую сторону, если только он напишет пьесу о Сталине. Как и Владимиру Маяковскому, Булгакову пришлось наступить на горло собственной песне. Злосчастная пьеса «Батум» о молодости Сталина погубила Булгакова.
В молодости Сталин был причастен к «экспроприациям» денежных средств для нужд революции (нападения на отделения банков, почтовые кареты). Булгаков же ненавидел революцию и большевиков, он верил в эволюцию, о чем написал в 1919 году в своей ранней статье «Грядущие перспективы», когда служил военным врачом в Добровольческой армии. Булгаков втайне надеялся, что Сталину покажется лестным, что его сравнивают со всемогущим «Пастырем», как первоначально называлась пьеса. Пастырь — одна из партийных кличек молодого Иосифа Виссарионовича Джугашвили.
Булгаков торопился дописать роман «Мастер и Маргарита» и представить его на суд всемогущего вождя, культ которого возрос до немыслимых масштабов. «Вы представляете себе бесстрашие этого писателя? Безумный поступок! А Булгаков не боится, он мечтает, что вождь оценит его роман». Любимов снова внимательно оглядывает всех присутствующих, как бы спрашивая: вы понимаете, о чем я говорю? Актеры молча внимают его рассказам.
Я замечаю, что, когда Любимов не в настроении, он пытается поддеть меня и уличить в ошибках перевода. Для сцены похорон Берлиоза понадобятся музыкальные тарелки, что я дословно перевожу заведующему реквизитом Стефану Лундгрену. Любимов хмурится: «Что же вы неправильно переводите: я не говорил ни про символы, ни про цимбалы, я говорил про музыкальные тарелки, а вы что сказали?» На шведском языке музыкальные тарелки называются так же, как и цимбалы, — cymbaler, что звучит как «символы». Я не спорю и советую ему обратиться к Ларсу-Эрику Блумквисту, сидящему рядом с нами в репетиционном зале. Ларс-Эрик подтверждает мои слова. Юрий Петрович разводит руками: перечить известному переводчику он не смеет, но бурчит что-то себе под нос в адрес бедного шведского языка. «Вот придира!» — думаю я, продолжая безмятежно переводить его вступительное слово. Следую изречению мудрых китайцев: «Защищайся улыбкой, атакуй молчанием, побеждай равнодушием».
Перед тем как я начну представлять вниманию читателей наших актеров, мне бы хотелось прояснить одну важную особенность написания шведских фамилий, которые пишутся то с одним «с», то с двумя, так что, если на одной странице вы заметите разное написание, к примеру Андерсон и Андерссон, — это не ошибка, а правильное фамильное именование.
12 октября, среда
Утренняя репетиция. Сегодня нет Автора — Бьерна Граната. Любимов с первых же минут знакомства выделяет его как стержень всего актерского состава.
Юрий Петрович оговаривается и называет Варенуху Варимухой. Оговорка ему так понравилась, что он просит меня перевести актерам свой каламбур с вареной мухой. «Варимуха звучит даже лучше. Уверяю вас, уважаемые артисты, Булгаков оценил бы мой каламбур, — смеется Любимов и добавляет: — В Малороссии варенухой называли алкогольный напиток с медом, яблоками, грушей, сливой и другими фруктами». Затем Любимов принимается рассказывать очередную байку о посещении МХАТа Сталиным.
Константин Сергеевич Станиславский при виде Сталина так «перетрухал», что от испуга представился вождю своей настоящей фамилией: «Алексеев». А Сталин ему в ответ: «Джугашвили». «Как же у вас тут скучно», — пожурил мхатовского режиссера вождь. «Очень скучно», — заскулило сталинское окружение блюдолизов, глядя на великого Станиславского. «Скучно в антрактах», — пощипывая усы, уточнил Сталин. Все онемели от страха, а когда Станиславский ушел, Сталин сказал: «Совсем ребенок — безопасный». Его спутники сразу же оживились и дружно согласились. Артистам байки из театральной жизни чрезвычайно интересны, ведь они выросли на системе Станиславского.
Любимов продолжил свой рассказ: когда Булгаков снялся на фотокарточку в монокле, некоторые советские писатели возненавидели его и перестали с ним общаться; для них он был представителем старой буржуазной эпохи и культуры.
И снова о Сталине… Ему, например, явно не нравился «меланхолический» памятник Николаю Васильевичу Гоголю скульптора Николая Андреевича Андреева. «Сколько страдания в этом мученике за грехи России!» — сказал знаменитый художник Илья Ефимович Репин. «О, великий учитель! Укрой меня своей чугунной шинелью», — обращался Булгаков к Гоголю. Но вождь распорядился заменить сидящего в шинели Гоголя, печально смотрящего с постамента на снующих мимо него людей, более веселым образом: ведь при Сталине «жить стало лучше, жить стало веселее»! Гоголя, простоявшего в Москве с 1909 года, после сорока двух лет (как ни странно, но столько же прожил сам писатель) отвезли на территорию Донского монастыря в филиал Архитектурного музея. (Он там пробыл до 1959 года и теперь сидит во дворике на Никитском бульваре.) Старый памятник заменили стоящей во весь рост на высоком постаменте фигурой улыбающегося писателя работы советского скульптора Николая Томского. Памятник «веселого» Гоголя украсила надпись: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза 2 марта 1952 года». На «печальном» памятнике Гоголю написано было просто: «Гоголь»…
Мне по долгу службы приходилось переводить все, что говорил режиссер, а говорил он порой вещи, понятные только ему; выяснять, что конкретно он имел в виду, не было времени: актеры и так изнемогали от бездействия. По просьбе Любимова я записывала в толстую тетрадь относящиеся к спектаклю замечания и указания, а заодно и его анекдоты.
Любимов рассказывает актерам еще одну байку из своей жизни: в Театре имени Вахтангова он играл Бенедикта в спектакле «Много шума из ничего». Какая-то дамочка в зале, как жена Семплеярова в театре Варьете на сеансе черной магии Воланда, ударила зонтом другую. Что-то или кого-то они не поделили, скорее всего, мужчину. Зал хохотал, пришлось дать занавес, пока обеих дерущихся дам не вывели из зала. «Это они вас не поделили», — шутят актеры. Юрий Петрович невинно пожимает плечами: «Запомните, господа актеры: в жизни все гораздо интереснее, чем на сцене». Вдруг он спрашивает: «А как будет "стерва" на шведском?» Актеры выкрикивают несколько вариантов: «Din subbla!», «Din häxa!», «Jävla tik!», «Din slyna!», «Din satans slyna!». Это переводится как «сука, ведьма, сучка, волчица, сатанинская сучка». Любимов торжествует: «Я так и знал! У вас и стерв нормальных нет. У нас скажешь — стерва, и сразу образ возникает, а вы тут раздумываете». Люббе-губбе любит подкалывать актеров.
Потом Юрий Петрович говорит о травле Булгакова коллегами по перу. Вспомнил почему-то Ленина с бревном и коммунистический субботник. До сих пор ищут, кто же нес это бревно вместе с вождем. Разыскали человек триста, хотя бревно маленькое. Даже Воланд улетел с крыши дома Пашкова — старого здания Ленинской библиотеки. Надоели ему чекисты и субботники.
Любимов объясняет, что занавес в спектакле — это символ времени и судьбы. Все в команде Воланда — демоны, так что играть нужно хулиганов, кривляк разного толка, но не забывать своей истинной натуры. С людьми черти забавляются и заземляют свои инфернальные способности, но они — страшная сила.
Далее следовал рассказ о возвращении Любимова в Москву 8 мая 1988 года после пятилетнего пребывания на Западе. В августе 1983 года Любимов прилетел в Лондон для постановки «Преступления и наказания» Достоевского, но после интервью газете The Times, в котором он осмелился критиковать советскую цензуру, его сначала изгнали из Театра на Таганке, а потом и лишили советского гражданства. Затем, по словам Любимова, ему стали угрожать представители советского посольства. Он боялся, что спецслужбы похитят его маленького сына Петю.
На паспортном контроле в Москве его спросили прямо, как Воланда: с какой целью вы прибыли в Москву? Он ответил, что на могилы. — «А дальше куда?» — «В свой театр». — «Что, ваш театр на кладбище?» — «Нет, на Таганке». — «Так бы и сказали. Идите». Он хотел добавить, что Таганка находится на месте бывшей тюрьмы, но передумал: не стоит дразнить гусей в погонах.
Разговор переходит на Сталина, Петра I и Ивана Грозного. «Петруша не добил, Иван Грозный не дорубил, зато Сталину пришлось за них отдуваться. Они сами составляли списки, кого им еще убить».
Любимов вздыхает и обращается к артистам: «Мотто Булгакова: никогда и ничего не просить, особенно у сильных мира сего. Это очень важная мысль. Вы спрашивали, был ли Булгаков религиозным. Вот вам и ответ. Как в Евангелии сказано? Просите, и дано будет вам: ищите, и найдете; стучите, и отворят вам… ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят… А Булгаков призывает ничего ни у кого не просить. Это — гордыня, а для церкви гордыня — один из смертных грехов».
Артисты требуют перечислить все грехи. Мы припоминаем семь смертных грехов: первый — уже упомянутый — гордыня, затем жадность, гнев, зависть, похоть, чревоугодие и уныние. Актеры не унимаются и просят перечислить теперь все добродетели. С горем пополам мы припоминаем: вера, надежда, любовь, сострадание, а дальше застреваем… Любимов оперативно переходит на другую тему: просит не ставить друг другу подножки, что свойственно артистам.
Он рассказывает, каким в Москве был финал спектакля: маятник двигался между Иисусом и дьяволом, между добром и злом, между светом и тьмой. Актеры тем временем подходили к чаше с вечным огнем, затем поднимали портрет Булгакова и склоняли головы.
В заключение Любимов говорит: «Мне надо установить связь с Булгаковым. Вам тоже. Я буду с ним говорить по ночам, а утром приходить на репетицию с его указаниями». Кто-то из актеров предлагает послать меня для перевода. «Такой контакт осуществляется без переводчиков», — поясняет режиссер.
Так закончился еще один репетиционный день. Наш продюсер Анита Брундаль нервничает: когда же Люббе-губбе приступит к работе? К чему эти разговоры вокруг да около? Я вступаюсь за Любимова: так он вводит артистов в свое пространство, а также в фантасмагорический мир Булгакова. «До них его толкования не доходят, — уверяет меня Анита. — Артистам нужны конкретные указания: вышел оттуда, встал туда, сделал то-то, сказал реплику и ушел со сцены вправо или влево. Если из-за него придется переносить премьеру, то все шишки полетят на мою голову». Анита как в воду глядела, хотя тогда мы и представить себе не могли, что премьеру придется перенести.
13 октября, четверг
С утра мы отправляемся с Любимовым, Анитой Брундаль и Яном Лундбергом, нашим художником-оформителем и художником по костюмам, в театральные мастерские, в пригород Стокгольма Хегернес, и проводим там добрую половину дня. Юрий Петрович всем доволен, кроме самого главного — занавеса. Он просит огрубить и утяжелить его; ему отвечают, что это опасно, конструкция не выдержит дополнительной тяжести. Любимов их уверяет, что занавес все выдержит: у него на Таганке с ним не было проблем. По молчаливой реакции шведов можно заключить, что на такой риск они не пойдут, но спорить с режиссером не намерены.
На самом деле проблема с занавесом на Таганке была и чуть не закончилась трагедией: во время репетиции «Гамлета» с Владимиром Высоцким в главной роли на артистов упала стальная конструкция, к которой крепился занавес, о чем мне позже рассказал сам Любимов. В тот момент они репетировали сцену похорон Офелии. Любимов в ужасе думал, что актеров раздавило насмерть, но, к счастью, все остались живы.
После работы Любимов попросил меня зайти к нему домой разобраться с оперными постановками «Валькирии», которые для него раздобыла Анита Брундаль, а также сделать копии записей на видеокассеты. Юрий Петрович не любил Вагнера и не собирался «заморачиваться» с этой постановкой, но считал необходимым пересмотреть работы своих предшественников, все из которых были страстными кумирами немецкого композитора.
Я нарушила свое слово не принимать участия в его жизни, помимо работы в Драматене, и отправилась к нему домой смотреть записанные на видео постановки «Валькирии». Отказать Любимову было невозможно.
Вечером к Любимову зашел «на водочку и потрепаться» его давний московский приятель — балетмейстер и педагог Михаил Мессерер. Мы просидели у Юрия Петровича на съемной квартире неподалеку от театра не один час, а хозяин дома, вместо того чтобы заниматься «Валькирией», по обыкновению травил анекдоты про советское руководство и рассказывал, как его «выперли» из Советского Союза, не забыв упомянуть о недопитой дымящейся чашке чая, оставленной впопыхах на кухонном столе…
Юрий Петрович принялся расспрашивать меня об актере и режиссере Петере Лукхаусе: надежный ли он? Я сказала, что в 1982 году Петер Лукхаус поставил в Драматене «Мастера и Маргариту». В театре Петер считался человеком своенравным и неуправляемым, к тому же запойным. «Так мы ему спрячем пол-литра в пианино, чтобы был надежным!» — оживляется Любимов.
Вскоре «под водочку» полились небылицы о том, что в любовницах у Сталина числилась не только свояченица Булгакова Ольга Бокшанская, а также легендарная секретарша Немировича-Данченко (эффектная и демоническая личность Поликсена Торопецкая из «Театрального романа»), но и сама Елена Сергеевна. Вождь советского народа будто бы боялся, что жена Булгакова проболтается своему мужу о том, что у него шесть пальцев на ноге. (В Кирилловской церкви в Киеве, которую расписывал Михаил Врубель, я видела шестипалого Иисуса Христа.)
Потом Любимов хвастался, что академик Сергей Петрович Капица дал ему номер правительственного телефона, по которому можно было напрямую звонить Брежневу. Для Любимова общение с вождями имело невероятно притягательную силу. Андрей Тарковский, например, напротив, чурался всего связанного с партийным руководством и правительством; он обращался к ним в самых отчаянных ситуациях, когда его очередной фильм не выпускался или запрещался.
Любимов вспомнил анекдот о грешнике, который пришел к раввину признаться в том, что он курит во время молитвы. Раввин предупредил, что Бог его накажет. Грешник возмутился и сказал, что раввин сам курит, когда молится. Не гневается ли на него Господь Бог? «Нет», — ответил раввин. «Но почему?» — удивился грешник. «Да потому, что я у него не спрашиваю!» Юрий Петрович заразительно хохочет, а мне не терпится поскорее уйти домой от всех этих рассказов о шестипалом вожде, о членах правительства, о раввинах, от водки, от бесконечных тостов. Не мое это все… к тому же уже поздно, а завтра, по всей вероятности, я вновь услышу те же самые байки.
Напоследок Юрий Петрович вспоминает о своем посещении морга с трупами, цинковыми столами, руками, ногами и другими частями человеческого тела, лежащими отдельно от тела. Посещение морга произвело на него крайне удручающее впечатление; выйдя оттуда, он решил напиться. С приятелем они подошли к рябине, усыпанной спелыми красными гроздьями, и ободрали ее, как козы. «Килограмма два нарвали и сделали отличную рябиновую водку. Настроение сразу поднялось!» — хвастался режиссер.
Приехав на 62-м автобусе домой, я записала все любимовские байки, хотя к работе они не имели никакого отношения, зато ярко высвечивали его неугомонный характер. Откуда у него столько энергии? «От деда — крепостного крестьянина и от бабки-цыганки», — ответил бы мне Юрий Петрович.
14 октября, пятница
До начала репетиции идем с Юрием Петровичем в кабинет музыкального оформителя спектакля Дэниела Белла — щуплого, крайне нервного, прихрамывающего и легковоспламеняющегося шотландца — расписывать музыкальную партитуру спектакля. «Этот хромой черт выпьет из меня всю кровь!» — жалуется Юрий Петрович. Все, что предлагал режиссер, воспринималось Дэниелом в штыки. Отпаивать чаем мне приходилось то одного, то другого. Любимов хочет повторить привычное для него музыкальное оформление, где композитором выступал Эдисон Денисов. В спектакле использовались фрагменты из произведений Сергея Прокофьева, Иоганна Штрауса, Томазо Альбинони. Дэниел Белл уверяет режиссера, что нужно разнообразить список композиторов, иначе будет скучно. Крикам и воплям не было предела. Справедливости ради замечу, что Любимов был на высоте, он изо всех сил старался сдерживаться и терпеливо выслушивал нападки в свой адрес, что предложенная им музыка устарела, да и, судя по всему, ему медведь на ухо наступил, как всем режиссерам. После столь бурного знакомства Любимов заявил Аните Брундаль, что ноги его больше не будет в кабинете этого «чокнутого шотландца». Решили, что в следующий понедельник я приду к Беллу одна, запишу все пожелания и передам их Любимову.
После скандала у Дэниела Белла наш главный осветитель Кристоф Козловски проболтался Юрию Петровичу о премьере «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта на большой сцене театра (всего в Драматене шесть сцен). Дело в том, что в театре не хотели приглашать Любимова на премьеру, предвидя его негативную реакцию и критические высказывания, которые тут же просочились бы в прессу, ведь журналистов на премьере хоть пруд пруди.
Козловски свалил все на меня, что, мол, это я настояла на приглашении Любимова на злополучную премьеру. Анита тут же раскусила подвох и попросила меня не обращать на подобные вещи внимания, добавив, что все хотят выслужиться перед режиссером.
15 октября, суббота
Театру ничего не оставалось делать, как вручить Любимову два билета на премьеру «Трехгрошовой оперы» в постановке Питера Лангдаля. Юрий Петрович настоял, чтобы я, а не Кристоф, сопровождала его. «Вы же знаете этот спектакль наизусть, зачем вам переводчик?» — сказала я. «Да, но, может, я захочу с кем-нибудь пообщаться», — ответил Любимов. Именно этого и боялись в театре.
Вечером я встретила Юрия Петровича в фойе театра, мы поднялись на лифте на последний этаж в кафе,
