автордың кітабын онлайн тегін оқу Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши
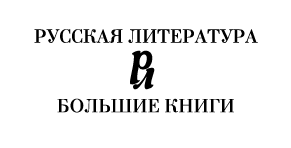
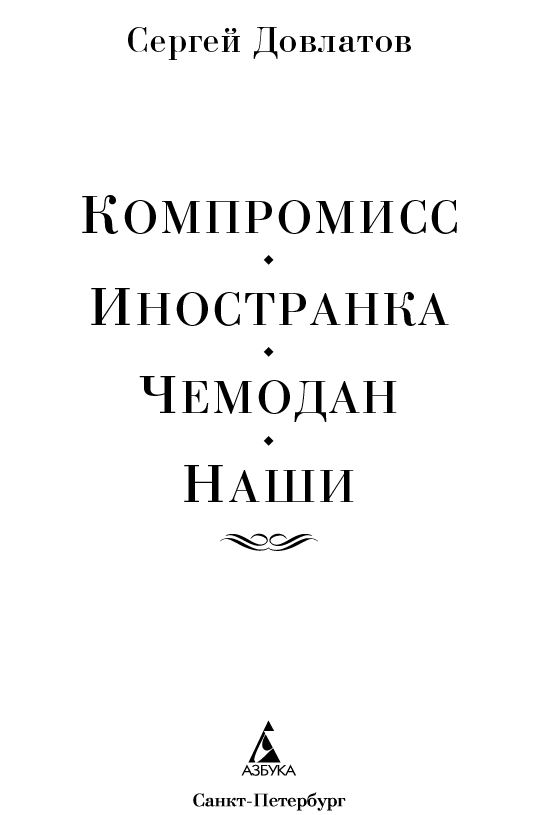
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
В оформлении обложки использована
фотография автора работы Нины Аловерт
Довлатов С.
Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши / Сергей Довлатов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — (Русская литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-21928-1
18+
Сергей Довлатов — один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ века, и он «обречен» оставаться таким еще долгое время. Его произведения — та самая великая классика, которая, при всей своей значимости, остается интересной и близкой читателям, независимо от возраста, национальности, эрудиции или, говоря словами самого Довлатова, «степени интеллектуальной придирчивости». Лев Лосев сформулировал это качество довлатовской прозы так: «Довлатов знал секрет, как писать интересно».
В настоящее издание вошли ранние рассказы и повести Довлатова, а также широко известные и любимые произведения: «Зона», «Компромисс», «Наши», «Иностранка» и «Чемодан».
© С. Д. Довлатов (наследники), 2022
© Фотоматериалы Н. Н. Аловерт, 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство АЗБУКА®
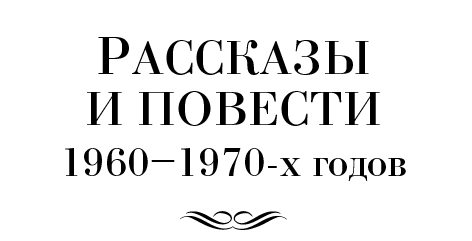
Из сборника
«Демарш энтузиастов»
Хочу быть сильным
Когда-то я был школьником, двоечником, авиамоделистом. Списывал диктанты у Регины Мухолович. Коллекционировал мелкие деньги. Смущался. Не пил...
Хорошее было время. (Если не считать культа личности.)
Помню, мне вручили аттестат. Директор школы, изловчившись, внезапно пожал мою руку. Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инженеру с окладом в девяносто шесть рублей?
Я вел размеренный, уединенный образ жизни и написал за эти годы два письма.
Но при этом я знал, что где-то есть другая жизнь — красивая, исполненная блеска. Там пишут романы и антироманы, дерутся, едят осьминогов, грустят лишь в кино. Там, сдвинув шляпу на затылок, опрокидывают двойное виски. Там кинозвезды, утомленные магнием, слабеющие от запаха цветов, вяло роняют шпильки на поролоновый ковер...
Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина — 340 метров, а ширина и высота зданий — 34 метра. Впрочем, это не имеет значения.
Два близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль улицы Чкалова формируют два гастронома и отделение милиции...
Актрисы и балерины разгуливают по этой улице. Актрисы и балерины! Их сопровождают любовники, усачи, негодяи, хозяева жизни.
Распахивается дверца собственного автомобиля. Появляются ноги в ажурных чулках. Затем — синтетическая шуба, ридикюль, браслеты, кольца. И наконец — вся женщина, готовая к решительному, долгому отпору.
Она исчезает в подъезде театра. Над асфальтом медленно тает легкое облако французских духов. Любовники ждут, разгуливая среди колонн. Манжеты их белеют в полумраке...
Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве домоуправления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз напролом. Пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова.
— Привет, — сказал мне тренер, — как делишки?
— Помаленьку, — отвечаю. — Где тут выход?..
С физкультурой было покончено, и я написал рассказ. Что-то было в рассказе от моих ночных прогулок. Шум дождя. Уснувшие за рулем шоферы. Безлюдные улицы, которые так похожи одна на другую...
Бородатый литсотрудник долго искал мою рукопись. Роясь в шкафах, он декламировал первые строчки:
— Это не ваше — «К утру подморозило...»?
— Нет, — говорил я.
— А это — «К утру распогодилось...»?
— Нет.
— А вот это — «К утру Ермил Федотович скончался...»?
— Ни в коем случае.
— А вот это, под названием «Марш одноногих»?
— «Марш одиноких», — поправил я.
Он листал рукопись, повторяя:
— Посмотрим, что вы за рыбак... Посмотрим...
И затем:
— Здесь у вас сказано: «...И только птицы кружились над гранитным монументом...» Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы?
— Ничего, — сказал я, — они летают. Просто так. Это нормально.
— Чего это они у вас летают, — брезгливо поинтересовался редактор, — и зачем? В силу какой такой художественной необходимости?
— Летают, и все, — прошептал я, — обычное дело...
— Ну хорошо, допустим. Тогда скажите мне, что олицетворяют птицы в качестве нравственной эмблемы? Радиоволну или химическую клетку? Хронос или Демос?..
От ужаса я стал шевелить пальцами ног.
— Еще один вопрос, последний. Вы — жаворонок или сова?
Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу.
Вслед донеслось:
— Минуточку! Хотите, дам один совет в порядке бреда?
— Бреда?!
— Ну, то есть от фонаря.
— От фонаря?!
— Как говорится, из-под волос.
— Из-под волос?!
— В общем, перечитывайте классиков. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. Особенно — Толстого. Если разобраться, до этого графа подлинного мужика в литературе-то и не было...
С литературой было покончено.
Дни потянулись томительной вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн.
Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню, как Тору, — справа налево. Мы заказали блинчики и кофе.
Фрида сказала:
— Все мы — люди определенного круга.
Я кивнул.
— Надеюсь, и вы — человек определенного круга?
— Да, — сказал я.
— Какого именно?
— Четвертого, — говорю, — если вы подразумеваете круги ада.
— Браво! — сказала девушка.
Я тотчас же заказал шампанское.
— О чем мы будем говорить? — спросила Фрида. — О Джойсе? О Гитлере? О Пшебышевском? О черных терьерах? О структурной лингвистике? О неофрейдизме? О Диззи Гиллеспи? А может быть, о Ясперсе или о Кафке?
— О Кафке, — сказал я.
И поведал ей историю, которая случилась недавно:
«Прихожу я на работу. Останавливает меня коллега Барабанов.
— Вчера, — говорит, — перечитывал Кафку. А вы читали Кафку?
— К сожалению, нет, — говорю.
— Вы не читали Кафку?
— Признаться, не читал.
Целый день Барабанов косился на меня. А в обеденный перерыв заходит ко мне лаборантка Нинуля и спрашивает:
— Говорят, вы не читали Кафку. Это правда? Только откровенно. Все останется между нами.
— Не читал, — говорю.
Нинуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым...
Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был, по обыкновению, с некрасивой девушкой.
— В Ханты-Мансийске свободно продается Кафка! — издали закричал он.
— Чудесно, — сказал я и, не оглядываясь, поспешил дальше.
— Ты куда? — обиженно спросил геолог.
— В Ханты-Мансийск, — говорю.
Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушился сосед-дошкольник Рома.
Рома обнял меня за ногу и сказал:
— А мы с бабуленькой Кафку читали!
Я закричал и бросился прочь. Однако Рома крепко держал меня за ногу.
— Тебе понравилось? — спросил я.
— Более или менее, — ответил Рома.
— Может, ты что-нибудь путаешь, старик?
Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел:
— РУФКИЕ НАРОДНЫЕ КАФКИ!
— Ты умный мальчик, — сказал я ему, — но чуточку шепелявый. Не подарить ли тебе ружье?
Так я и сделал...»
— Браво! — сказала Фрида Штейн.
Я заказал еще шампанского.
— Я знаю, — сказала Фрида, — что вы пишете новеллы. Могу я их прочесть? Они у вас при себе?
— При себе, — говорю, — у меня лишь те, которых еще нет.
— Браво! — сказала Фрида.
Я заказал еще шампанского...
Ночью мы стояли в чистом подъезде. Я хотел было поцеловать Фриду. Точнее говоря, заметно пошатнулся в ее сторону.
— Браво! — сказала Фрида Штейн. — Вы напились как свинья!
С тех пор она мне не звонила.
Дни тянулись серые и неразличимые, как воробьи за окнами. Как листья старых тополей в унылом нашем палисаднике. Сон, кефир, работа, произведения Золя. Я заболел и выздоровел. Приобрел телевизор в кредит.
Как-то раз около «Метрополя» я повстречал бывшего одноклассника Секина.
— Где ты работаешь? — спрашиваю.
— В одном НИИ.
— Деньги хорошие?
— Хорошие, — отвечает Секин, — но мало.
— Браво! — сказал я.
Мы поднялись в ресторан. Он заказал водки.
Выпили.
— Отчего ты грустный? — Секин коснулся моего рукава.
— У меня, — говорю, — комплекс неполноценности.
— Комплекс неполноценности у всех, — заверил Секин.
— И у тебя?
— И у меня в том числе. У меня комплекс твоей неполноценности.
— Браво! — сказал я.
Он заказал еще водки.
— Как там наши? — спросил я.
— Многие померли, — ответил Секин, — например, Шура Глянец. Глянец пошел купаться и нырнул. Да так и не вынырнул. Хотя прошло уже более года.
— А Миша Ракитин?
— Заканчивает аспирантуру.
— А Боря Зотов?
— Следователь.
— Ривкович?
— Хирург.
— А Лева Баранов? Помнишь Леву Баранова? Спортсмена, тимуровца, победителя всех олимпиад?
— Баранов в тюрьме. Баранов спекулировал шарфами. Полгода назад встречаю его на Садовой. Выходит Лева из Апраксина двора и спрашивает:
«Объясни мне, Секин, где логика?! Покупаю болгарское одеяло за тридцать рэ. Делю его на восемь частей. Каждый шарф продаю за тридцать рэ. Так где же логика?!.»
— Браво! — сказал я.
Он заказал еще водки...
Ночью я шел по улице, расталкивая дома. И вдруг очутился среди колонн Пушкинского театра. Любовники, бретеры, усачи прогуливались тут же. Они шуршали дакроновыми плащами, распространяя запах сигар. Неподалеку тускло поблескивали автомобили.
— Эй! — закричал я. — Кто вы?! Чем занимаетесь? Откуда у вас столько денег? Я тоже стремлюсь быть хозяином жизни! Научите меня! И познакомьте с Элиной Быстрицкой!..
— Ты кто? — спросили они без вызова.
— Да так, всего лишь Егоров, окончил матмех...
— Федя, — представился один.
— Володя.
— Толик.
— Я — протезист, — улыбнулся Толик. — Гнилые зубы — вот моя сфера.
— А я — закройщик, — сказал Володя, — и не более того. Экономно выкраивать гульфик — чему еще я мог бы тебя научить?!
— А я, — подмигнул Федя, — работаю в комиссионном магазине. Понадобятся импортные шмотки — звони.
— А как же машины? — спросил я.
— Какие машины?
— Автомобили? «Волги», «Лады», «Жигули»?
— При чем тут автомобили? — спросил Володя.
— Разве это не ваши автомобили?
— К сожалению, нет, — ответил Толик.
— А чьи же? Чьи же?
— Пес их знает, — откликнулся Федя, — чужие. Они всегда здесь стоят. Эпоха такая. Двадцатый век...
Задыхаясь, я бежал к своему дому. Господи! Торговец, стоматолог и портной! И этим людям я завидовал всю жизнь! Но про автомобили они, конечно, соврали! Разумеется, соврали! А может быть, и нет!..
Я взбежал по темной лестнице. Во мраке были скуповато рассыпаны зеленые кошачьи глаза. Пугая кошек, я рванулся к двери. Отворил ее французским ключом. На телефонном столике лежал продолговатый голубой конверт.
Какому-то Егорову, подумал я. Везет же человеку! Есть же такие счастливчики, баловни фортуны! О! Но ведь это я — Егоров! Я и есть! Я самый!..
Я разорвал конверт и прочел:
«Вы нехороший, нехороший, нехороший, нехороший, нехороший!
Фрида Штейн
P. S. Перечитайте Гюнтера де Бройна, и вы разгадаете мое сердце.
Ф. Штейн
P. P. S. Кто-то забыл у меня в подъезде сатиновые нарукавники.
Ф. Ш.»
Что все это значит?! — думал я. Торговец, стоматолог и портной! Какой-то нехороший Егоров! Какие-то сатиновые нарукавники! Но ведь это я — Егоров! Мои нарукавники! Я нехороший!.. А при чем здесь Лев Толстой? Что еще за Лев Толстой?! Ах да, мне же нужно перечитать Льва Толстого! И еще — Гюнтера де Бройна! Вот с завтрашнего дня и начну...
Блюз для Натэллы
В Грузии — лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа...
Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает: баррикады пушистых ресниц — неприступны.
В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимою — длиннее, и все.
В Грузии — лучше. Там все по-другому...
Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха. Ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет! Твой портрет, Бокучава Натэлла!
О Натэлла! Ты — чаша на пиру бородатых и сильных! Ты — глоток родниковой воды после драки! Ты — грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон! Ты — ливень, который застал нас в горах! И дерево, под которым спаслись мы от ливня! И молния, разбивающая дерево в щепки!.. Ты — юность прекрасной страны!..
Каждое утро Натэлла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли.
Натэлла уплывает, изменчиво белея под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда «изабель». А за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник.
Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому.
— Арчил, — заявила ему старуха Кеке Пирадзе, — я жду. Я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться.
— Хорошо, — сказал Арчил.
Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье. Потом зарядил его и направился к реке.
Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы. Натэлла ступает по гладким камням...
Что на свете прекраснее этой картины?! Каково это видеть Арчилу Пирадзе?! Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь?!.
И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше. Затем нажимает курок.
Дым медленно рассеивается, смолкает грохот. Затихает далекое эхо в горах.
— Это опять вы, Пирадзе? — строго говорит Натэлла. — Так я и знала. Сколько это может продолжаться?! Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели пятнадцать суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович?
— Я стал другим человеком, Натэлла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я — студент.
— В это трудно поверить.
— У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?
— Взятку кому-нибудь дали?
— Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником.
— Я рада за вас.
— Так вернись же, Натэлла. У тебя будет все — патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать.
— На чем?
— На карусели.
— Не могу. При всем обаянии к вам.
— Я изменился! — воскликнул Пирадзе. — Учусь. Потом и градом мне все достается, Натэлла!
— Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий, я дала ему слово.
— Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну книгу.
— Как она называется?
— Она называется — повесть.
— И больше никак?
— Она называется — Серафимович!
— Лично я импонирую больше Толстому, — сказала Натэлла.
— Я прочту его книги. Пусть не волнуется.
— Тихо! — сказала Натэлла. — Вы слышите?
Из-за кустов доносились нежные слова:
Ты сказала мне — нет!
И по снегу, эх, по снегу ушла.
Был суров твой ответ,
Ночь в мученьях,
ах, в мученьях прошла...
По дороге медленно шел киномеханик Гиго Зандукели с трофейной винтовкой. Тридцать шесть лет оружие пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин.
Завидев Натэллу с Пирадзе, Гиго остановился. Винтовку он теперь держал наперевес.
— Вы пришли, чтобы убить меня, Гиго Рафаэлевич? — спросила Натэлла.
— Есть маленько, — ответил Гиго.
— Все только и делают, что убивают меня. То вы, Арчил, то вы, Гиго! Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он — настоящий мужчина. Я дала ему слово...
Тут вмешался Пирадзе:
— Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бокучаву Натэллу?
— А кто дал это право тебе? — спросил Зандукели.
Одновременно прозвучали два выстрела.
Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем — печальный и укоризненный голос Натэллы:
— Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил!
— И верно, — сказал Пирадзе, — зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?!
— Пожалуй, — согласился Зандукели.
Пирадзе достал из кармана «маленькую». Сорвал зубами жестяную крышку.
— Наполним бокалы! — сказал он.
Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гиго. Тот не заставил себя уговаривать.
— Жаль, нечем закусить, — сказал Арчил.
— У меня есть луковица, — обрадовался Зандукели, — держи. Я захватил ее на случай, если меня арестуют.
— Будь здоров, Рабинович Григорий! — сказали они, допивая...
Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе — тесно и сыро.
Завтра в одном ЦКБ инженер Бокучава склонится над кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы.
Натэлла шла вдоль перрона. Остался наконец позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами. Забыты темные избы. Забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед.
Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бокучаву Натэллу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный — буду идти до конца.
Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей!
Эмигранты
Район Новая Голландия — один из живописных уголков Ленинграда...
Путеводитель
Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы. Бросалось под колеса машин на холодный асфальт. Блуждало в зарослях телевизионных антенн.
В грязном маленьком сквере проснулись одновременно Чикваидзе и Шаповалов.
Ах, как славно попито было вчера! Как громко спето! Какие делались попытки танца! Как динамичен был замах протезом! Как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров! Как был хорош охваченный лезгинкой Чикваидзе! (Выскакивали гривенники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над духом.) И как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устои, фонари... И вот теперь проснулись на груде щебня...
Шаповалов и Чикваидзе порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья молча позавтракали.
Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поссориться недолго. Обувь летняя, мозоли на виду.
— Я тебя зарежу! — вскричал Чикваидзе. (Шаповалов отдавил ему ногу.)
— Не тебя, а вас, — исправил Шаповалов.
Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле Шаповалова:
— Вспомнил, где я тебя видел. На премьере Тарковского в Доме кино...
С тех пор они не расставались.
Дома обступили маленький сквер. Бледное солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной темноты прятались среди мусорных баков.
Друзья поднялись и вышли на улицу, залитую робким апрельским солнцем.
— Где мы находимся? — обращаясь к первому встречному, спросил Чикваидзе.
— В Новой Голландии, — спокойно ответил тот.
Качнулись дома. Запятнанные солнцем фасады косо поползли вверх. Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремилась к горизонту.
— Ничего себе, — произнес Шаповалов, — хорошенькое дело! В Голландию с похмелья забрели!
— Беда, — отозвался Чикваидзе, — пропадем в незнакомой стране!
— Главное, — сказал Шаповалов, — не падать духом. Ну, выпили. Ну, перешли границу. Расскажем все чистосердечно, может, и простят...
— Я хочу домой, — сказал Чикваидзе. — Я не могу жить без Грузии!
— Ты же в Грузии сроду не был.
— Зато я всю жизнь щи варил из боржоми.
Друзья помолчали. Мимо с грохотом проносились трамваи. Тихо шептались постаревшие за ночь газеты.
— Обрати внимание! — закричал Чикваидзе. — Вот изверги! Чернокожего повели линчевать!
И верно. По людной улице, возвышаясь над толпой, шел чернокожий. Его крепко держали под руки две стройные блондинки...
— Будем тайком на родину пробираться, — сказал Чикваидзе.
— Беднейшие слои помогут, — откликнулся Шаповалов.
Они перешли мост. Затем миновали аптеку и пестрый рынок.
— Противен мне берег турецкий, — задушевно выводил Чикваидзе.
— И Африка мне ни к чему, — вторил ему Шаповалов.
Друзья шли по набережной. Свернули на людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло мороженое. Улыбались женщины и светофоры.
— Посмотри, благодать-то какая! — неожиданно воскликнул Шаповалов.
— Живут неплохо, — поддакнул Чикваидзе.
— А как одеты!
— Ведь это — Запад!
— Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?!
— Еще бы! Тут за этим следят!
Возникла пауза. Ее нарушил Шаповалов.
— Датико, я хочу с тобой поговорить.
— И я.
— А ты презирать меня не будешь?
— Нет. А ты?
— Может быть, того... Ну, как его?.. Убежища попросим... Опять же, частная торговля...
— Ночные рестораны!
— Законы джунглей!
— Торжество бездуховности!
— Ковбойские фильмы!
— Моральное и нравственное разложение! — зажмурился Чикваидзе...
Через минуту друзья, обнявшись, шагали в сторону площади. Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блюститель порядка, расцветкою напоминавший снегиря.
Победители
Дело происходит в спортивном зале академии Можайского. Все мужчины здесь — широкоплечие. Манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников. На шершавом ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столиком — Жульверн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку Русский Лев...
Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов.
Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал:
— Прости, что за вопрос тебе достался?
— Пушкин, — говорил один.
— Мне повезло, — восклицал Хачатурян, — именно этого я не учил!
— Лермонтов, — говорил второй.
— Повезло, — восклицал Хачатурян, — именно этого я не учил!
Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там было написано: «Гоголь».
— Вай! — закричал Хачатурян. — Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил!..
Впрочем, мы отвлеклись.
Информатор произнес в микрофон:
— Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска! В красном — Олег Гарбузенко из Мелитополя!
Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты.
Борцы пожали друг другу руки и начали возиться.
Каждый из них весил центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили вразвалку, а борьбу ненавидели с детства.
Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы.
— Пассивная борьба! — выкрикнул информатор. — Спортсменам делается замечание!
Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. Бра руле, двойной нельсон, захват, подсечка... Жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку...
— Синий не борется! — орали зрители. — Халтура! И красный не борется!..
Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали.
Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства. Как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга.
Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жульверн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов.
Хачатурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную. Зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни.
— Если бы ты знал, как я ненавижу спорт, — произнес Аркадий Дысин, — гипертония у меня.
— И у меня, — сказал Гарбузенко.
— Тоже гипертония?
— Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем — целый день без сна. То одно, то другое...
— Пора завязывать, старик!
— Давно пора...
— Прости, кто выиграл? — заинтересовался очнувшийся Жульверн Хачатурян.
— Какая разница, — ответил Гарбузенко.
Потом он сел на ковер и закурил.
— То есть как? — забеспокоился Хачатурян. — Ведь иностранцы наблюдают! «Расцветали яблони и груши...» — нежно пропел он в сторону западных корреспондентов.
— «Поплыли туманы над рекой», — живо откликнулись корреспонденты Гарри Зонт и Билли Ард.
— Аркаша выиграл, — сказал Гарбузенко, — он красивый, пусть его и фотографируют.
— И ты ничего, — возразил Аркадий Дысин, — ты — смуглый.
— Короче, ты судья, Жульверн Арамович, ты и решай, — высказался Гарбузенко.
— Какой там судья, — покачал головой Хачатурян. — Бог вам судья, ребята.
— Идея! — сказал Дысин, вытащил монету, бросил ее на ковер.
— Орел! — закричал Гарбузенко.
Дысин задумался.
— Решка, — молвил он наконец.
Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка.
— Победила дружба! — торжественно выкрикнул он.
Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон.
Три старушки деликатно уступили им места.
Чирков и Берендеев
К отставному полковнику Берендееву заявился дальний родственник Митя Чирков, выпускник сельскохозяйственного техникума.
— Дядя, — сказал он, — помогите! Окажите материальное содействие в качестве двенадцати рублей! Иначе, боюсь, пойду неверной дорогой!
— Один неверный шаг, — реагировал дядя, — ты уже сделал. Ибо просишь денег, которых у меня нет. Я же всего лишь полковник, а не генерал.
— Тогда, — сказал Чирков, — разрешите у вас неделю жить и хотя бы мимоходом питаться.
— И это утопия, — сказал культурный дядя, — взгляни! Видишь, как тесно у нас от импортной мебели? Где я тебя положу? Между рамами?
— Дядя, — возвысил голос захолустный родственник, — не причиняйте мне упадок слез! Я сутки не ел. Между прочим, от голода я совершенно теряю рассудок. А главное — сразу иду по неверной дороге.
— Дорогу осилит идущий, — не к месту сказал Берендеев.
— К тому же я мерзну. Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вигоневых кальсон и шапки. Знаете, чем это кончилось? Я отморозил пальцы ног и уши головы!..
Воцарилась тягостная пауза.
Неожиданно племянник выговорил:
— Чуть не забыл. Я вам брянского самогона привез.
Берендеев приподнял веки. Он просветлел и затуманился. Так, словно вспомнил первую любовь, рабфак и будни Осоавиахима. Затем недоверчиво произнес:
— Из буряка?
— Из буряка.
— Очищенный?
— Очищенный.
— Дважды?
— Трижды, дядя, трижды!
— Давай его сюда, — произнес Берендеев, — хочу взглянуть. Просто ради интереса.
Племянник расстегнул штаны и вытащил откуда-то сзади булькающую грелку.
Дядя принес из кухни макароны, напоминающие бельевые веревки. Достал из шкафа стаканы. Грелка, меняя очертания, билась в его руках, как щука.
— Будем здоровы! — сказали они хором.
— Закусывай! — широко угощал дядя. — Соль бери, не жалей!
Они выпили снова, раскраснелись, закурили.
Дядя разлил по третьей и сказал:
— Эх, Митька! Завидую я тебе! Годиков семь пройдет, и не узнаешь ты родной деревни! Колхозные поля зальем асфальтом! Все пастбища кафелем облицуем! В каждом стойле будет телевизор! В каждой избе — стиральная машина! Еще Ленин велел стирать грань между райцентром и деревней...
— Этот точно, — поддакивал Митя, — это без сомнения.
Он снял дождевик, повесил на гвоздик. Гвоздик оказался мухой и взлетел. Дождевик упал на пол.
— Чудеса, — сказал Митя.
Затем он тайком развязал шнурки на ботинках.
А дядя все не унимался:
— Коммунизм построим! Поголовную безграмотность ликвидируем! Кухарка будет управлять государством!..
— Это бы не худо, — кивал племянник.
— Есть, конечно, недовольные. Которые на службе у империалистов. Декаденты! Но их мало. Заметь, даже в русском алфавите согласных больше, чем несогласных...
— Еще бы, — соглашался племянник.
Они снова выпили.
Неожиданно дядя схватил Митю за руку и прошептал:
— Слышь, давай улетим!
— Это как же?! — растерялся племянник.
— Очень просто. Как Валентина Терешкова. Вздохнем полной грудью. Взглянем на мир широко раскрытыми глазами...
Дядя подошел к окну. Затем распахнул его и вылез на карниз. Митя последовал за ним. Под Митиными башмаками грохотало кровельное железо. Из-под ног его шарахнулся голубь, царапая жесть. Пальцами он держался за раму, усеянную бугорками масляной краски.
— Поехали! — скомандовал Берендеев.
— Лечу-у, — отозвался Митя.
И вот герои летят над сонной Фонтанкой, огибают телевизионную башню, минуют пригороды. Позади остаются готические шпили Таллина, купола Ватикана, Эгейское море. Земля уменьшается до размеров стандартного школьного глобуса. От космической пыли слезятся глаза.
Внизу едва различимы горные хребты, океаны, лесные массивы. Тускло поблескивают районы вечной мерзлоты.
— Благодать-то какая! — восклицает полковник.
— Жаль только, выпивка осталась дома, — откликается Митя.
Но дядя уже громко выкрикивает:
— Братский привет мужественному народу Вьетнама! Руки прочь от социалистической Кубы! Да здравствует нерушимое единство стран — участников Варшавского блока!
— Бей жидов, спасай Россию! — откликается Митя...
Приземлились они в два часа ночи. Над дядиным подъездом желтела тусклая лампочка. Черный кот независимо прогуливался возле мусорных баков.
— Ну, прощай, — сказал Берендеев, вынимая ключи.
— То есть как это? — растерялся племянник. — Вы шутите! Вместе космос осваивали, а я теперь должен спать на газоне?!
— Здесь чисто, — ответил ему Берендеев, — и температура нормальная. Июль на дворе. Ну, прощай. Кланяйся русским березам!
Тяжелая, обитая коленкором дверь — захлопнулась.
Несколько минут Чирков простоял в оцепенении. Затем обхватил свою левую ногу. Вытащил зубами из подметки гвоздь, который целую неделю язвил его стопу. Нацарапал этим гвоздем около таблички с дядиной фамилией короткое всеобъемлющее ругательство. Потом глубоко вздохнул, сатанински усмехнулся и зашагал неверной дорогой.
Когда-то мы жили в горах
Когда-то мы жили в горах. Эти горы косматыми псами лежали у ног. Эти горы давно уже стали ручными, таская беспокойную кладь наших жилищ, наших войн, наших песен. Наши костры опалили им шерсть.
Когда-то мы жили в горах. Тучи овец покрывали цветущие склоны. Ручьи — стремительные, пенистые, белые, как нож и ярость, — огибали тяжелые, мокрые валуны. Солнце плавилось на крепких армянских затылках. В кустах блуждали тени, пугая осторожных.
Шли годы, взвалив на плечи тяжесть расплавленного солнца, обмахиваясь местными журналами, замедляя шаги, чтобы купить эскимо. Шли годы...
Когда-то мы жили в горах. Теперь мы населяем кооперативы...
Вчера позвонил мой дядя Арменак:
— Приходи ко мне на день рождения. Я родился — завтра. Не придешь — обижусь и ударю...
К моему приходу гости были в сборе.
— Четыре года тебя не видел, — обрадовался дядя Арменак, — прямо соскучился!
— Одиннадцать лет тебя не видел, — подхватил дядя Ашот, — ужасно соскучился!
— Первый раз тебя вижу, — шагнул ко мне дядя Хорен, — безумно соскучился.
Тут все зарыдали, а я пошел на кухню. Мне хотелось обнять тетушку Сирануш.
Тридцать лет назад Арменак похитил ее из дома старого Беглара. Вот как было дело.
Арменак подъехал к дому Терматеузовых на рыжем скакуне. Там он прислонил скакуна к забору и воскликнул:
— Беглар Фомич! У меня есть дело к тебе!
Был звонкий июньский полдень. Беглар Фомич вышел на крыльцо и гневно спросил:
— Не собираешься ли ты похитить мою единственную дочь?
— Я не против, — согласился дядя.
— Кто ее тебе рекомендовал?
— Саркис рекомендовал.
— И ты решил ее украсть?
Дядя кивнул.
— Твердо решил?
— Твердо.
Старик хлопнул в ладоши. Немедленно появилась Сирануш Бегларовна Терматеузова. Она подняла лицо, и в мире сразу же утвердилось ненастье ее темных глаз. Неудержимо хлынул ливень ее волос. Побежденное солнце отступило в заросли ежевики.
— Желаю вам счастья, — произнес Беглар, — не задерживайтесь. Погоню вышлю минут через сорок. Мои сыновья как раз вернутся из бани. Думаю, они захотят тебя убить.
— Естественно, — кивнул Арменак.
Он шагнул к забору. Но тут выяснилось, что скакун околел.
— Ничего, — сказал Беглар Фомич, — я дам тебе мой велосипед.
Арменак посадил заплаканную Сирануш на раму дорожного велосипеда. Затем сказал, обращаясь к Беглару:
— Хотелось бы, отец, чтобы погоня выглядела нормально. Пусть наденут чистые рубахи. Знаю я твоих сыновей. Не пришлось бы краснеть за этих ребят.
— Езжай и не беспокойся, — заверил старик, — погоню я организую.
— Мы ждем их в шашлычной на горе.
Арменак и Сирануш растворились в облаке пыли. Через полчаса они сидели в шашлычной.
Еще через полчаса распахнулись двери и ворвались братья Терматеузовы. Они были в темных костюмах и чистых сорочках. Косматые папахи дымились на их беспутных головах. От бешеных криков на стенах возникали подпалины.
— О, шакал! — крикнул старший, Арам. — Ты похитил нашу единственную сестру! Ты умрешь! Эй, кто там поближе, убейте его!
— Пгоклятье, — грассируя сказал младший, Леван, — извините меня. Я оставил наше гужье в багажнике такси.
— Хорошо, что я записал номер машины, — успокоил средний, Гиго.
— Но мы любим друг друга! — воскликнула Сирануш.
— Вот как? — удивился Арам. — Это меняет дело.
— Тем более что ружье мы потеряли, — добавил Гиго.
— Можно и пгидушить, — сказал Леван.
— Лучше выпьем, — миролюбиво предложил Арменак...
С тех пор они не разлучались...
Я обнял тетушку и спросил:
— Как здоровье?
— Хвораю, — ответила тетушка Сирануш. — Надо бы в поликлинику заглянуть.
— Ты загляни в собственный паспорт, — отозвался грубиян Арменак. И добавил: — Там все написано...
Между тем гости уселись за стол. В центре мерцало хоккейное поле студня. Алою розой цвела ветчина. Замысловатый узор винегрета опровергал геометрическую простоту сыров и масел. Напластования колбас внушали мысль об их зловещей предыстории. Доспехи селедок тускло отражали лучи немецких бра.
Дядя Хорен поднял бокал. Все затихли.
— Я рад, что мы вместе, — сказал он, — это прекрасно! Армянам давно уже пора сплотиться. Конечно, все народы равны. И белые, и желтые, и краснокожие... И эти... Как их? Ну? Помесь белого с негром?
— Мулы, мулы, — подсказал грамотей Ашот.
— Да, и мулы, — продолжал Хорен, — и мулы. И все-таки армяне — особый народ! Если мы сплотимся, все будут уважать нас, даже грузины. Так выпьем же за нашу родину! За наши горы!..
Дядя Хорен прожил трудную жизнь. До войны он где-то заведовал снабжением. Потом обнаружилась растрата — миллион.
Суд продолжался месяц.
— Вы приговорены, — торжественно огласил судья, — к исключительной мере наказания — расстрелу!
— Вай! — закричал дядя Хорен и упал на пол.
— Извините, — улыбнулся судья, — я пошутил. Десять суток условно...
Старея, дядя Хорен любил рассказывать, как он пострадал в тяжелые годы ежовщины...
За столом было шумно. Винные пятна уподобляли скатерть географической карте. Оползни тарелок грозили катастрофой. В дрожащих руинах студня белели окурки.
Дядя Ашот поднял бокал и воскликнул:
— Выпьем за нашего отца! Помните, какой это был мудрый человек?! Помните, как он бил нас вожжами?!.
Вдруг дядя Арменак хлопнул себя по животу. Затем он лягнул ногой полированный сервант. Начались танцы!
Дядя Хорен повернулся ко мне и сказал:
— Мало водки. Ты самый юный. Иди в гастроном.
— А далеко? — спрашиваю.
— Туда — два квартала и обратно — примерно столько же.
Я вышел на улицу, оставляя за спиной раскаты хорового пения и танцевальный гул. Ощущение было такое, словно двести человек разом примеряют галоши...
Через пятнадцать минут я вернулся. К дядиному жилищу съезжались пожарные машины. На балконах стояли любопытные.
Из окон четвертого этажа шел дым, растворяясь в голубом пространстве неба.
Распахнулась парадная дверь. Милиционеры вывели под руки дядю Арменака.
Заметив меня, дядя оживился.
— Армянам давно пора сплотиться! — воскликнул дядя.
И шагнул в мою сторону.
Но милиционеры крепко держали его. Они вели моего дядю к автомобилю с решетками на окнах. Дверца захлопнулась. Машина скрылась за поворотом...
Тетушка Сирануш рассказала мне, что произошло. Оказывается, дядя предложил развести костер и зажарить шашлык.
— Ты изгадишь паркет, — остановила его Сирануш.
— У меня есть в портфеле немного кровельного железа, — сказал дядя Хорен.
— Неси его сюда, — приказал мой дядя, оглядывая финский гарнитур...
Когда-то мы жили в горах. Они бродили табунами вдоль южных границ России. Мы приучили их к неволе, к ярму. Мы не разлюбили их. Но эта любовь осталась только в песнях.
Когда-то мы были чернее. Целыми днями валялись мы на берегу Севана. А завидев красивую девушку, писали щепкой на животе слова любви.
Когда-то мы скакали верхом. А сейчас плещемся в троллейбусных заводях. И спим на ходу.
Когда-то мы спускались в погреб. А сейчас бежим в гастроном.
Мы предпочли горам — крутые склоны новостроек.
Мы обижаем жен и разводим костры на паркете.
НО КОГДА-ТО МЫ ЖИЛИ В ГОРАХ!
Иная жизнь
Сентиментальная повесть
1. Начало
Мой друг Красноперов ехал во Францию, чтобы поработать над архивами Бунина. Уже в Стокгольме он почувствовал, что находится за границей.
До вылета оставалось три часа. Летчики пили джин в баре аэровокзала. Стюардесса, лежа в шезлонге, читала «Муму». Пассажиры играли в карты, штопали и тихо напевали.
Мой друг вздохнул и направился к стадиону Улеви.
День был теплый и солнечный. Пахло горячим автомобилем, баскетбольными кедами и жильем, где спят не раздеваясь.
Красноперов закурил. Огонек был едва заметен на солнце.
«Как странно, — думал он, — чужая жизнь, а я здесь только гость! Уеду — все исчезнет. Не будет здания ратуши. Не будет ярко выкрашенных газгольдеров. Не будет рекламы таблеток от кашля. Не будет шофера с усами, который ест землянику из пакета. Не будет цветного изображения Лоллобриджиды в кабине за его спиной... А может быть, что-то останется? Все останется, а меня как раз не будет? Останется мостовая, припадет к иным незнакомым ботинкам. Стекла забудут мое отражение. И в голубом красивом небе бесследно растает дымок сигареты „Памир“... Иная жизнь, чужие люди, тайна...»
2. ЧУЖИЕ ЛЮДИ
Впервые он познал чужую жизнь лет двадцать пять тому назад. Однажды в их квартиру пришли маляры. Они несли ведро, стремянку и кисть, большую, как подсолнух. Они были грязные и мрачные — эти неопохмелившиеся маляры. Они переговаривались между собой на иностранном языке.
Например, один сказал:
— Колотун меня бьет!
Другой ответил:
— Мотор на ходу вырубается...
Родители Красноперова засуетились. Папа тоже вдруг заговорил на иностранном языке.
— Сообразим, братва! — задорно крикнул непьющий папа.
И ринулся за водкой.
А мама осталась в комнате. Наблюдать, чтобы маляры не украли серебряные ложки.
Затем вернулся папа. Он чокнулся с малярами, воскликнув:
— Ах ты, гой еси...
Или что-то в этом роде.
Папа хотел угодить малярам и даже негромко выругался. Мама безуспешно предлагала им яблочный конфитюр. Юный Красноперов тоже протянул малярам руку дружбы и задал вопрос:
— Дядя, а кто был глупее, Маркс или Энгельс?
Однако маляры не захотели вникать и хмуро сказали:
— Не знаем...
Наконец маляры ушли, оставив в квартире след чужой и таинственной жизни. Папа и мама облегченно вздохнули. Серебряные ложки остались на месте. Исчезла только недопитая бутылка водки...
3. ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Красноперов шел по набережной Меллерстранд. Из ближайшего кафе доносились звуки виброфона. Вспыхивали и гасли огни реклам.
Через висячий мостик проходила юная женщина с цветами. У нее были печальные глаза и розовая кожа. Она взглянула на Красноперова и пошла дальше, еще стройнее, чем была. Она достигла середины моста и бросилась в реку. Мелькнула голубая блузка и пропала. Цветы несло течением под мост.
Мимо ехал полицейский на велосипеде. Он резко затормозил. Потом зашнуровал ботинок и умчался.
По-прежнему гудели автомашины. Не торопясь шли монахини в деревянных сандалиях. Шагали бойскауты в джинсах. Чиновники без пиджаков.
Горело солнце. Лучи его вспыхивали то на ветровом стекле мотороллера, то на пуговицах бойскаутов. То на велосипедных спицах.
Был обеденный час. Сыры на витринах размякли от зноя. Бумажные этикетки пожелтели и свернулись в трубочки.
Красноперов ускорил шаги. На душе у филолога было смутно. Он перешел в тень. Слева тянулась изящная ограда Миллес-парка. За оградой в траве бродили голуби. Еще дальше филолог увидел качели. Несколько белеющих статуй. И двух лебедей на поверхности чистого озера.
Вдруг кто-то окликнул его по-шведски. За оградой стоял мужчина лет тридцати. Он был в твидовом пиджаке и сорочке «Мулен». Оксфордские запонки горели в лучах полуденного солнца.
Мужчина что-то сказал. Красноперов не понял.
Незнакомец досадливо махнул рукой. Затем он докурил сигарету, развязал галстук и умело повесился на ветке клена. Его новые стетсоновские ботинки почти касались густой и зеленой травы. Тень на асфальте слегка покачивалась.
Красноперов хотел закричать, вызвать полицию. Он свернул в ближайший переулок. На балконе третьего этажа загорал спортивного вида юноша.
— Молодой человек! — позвал Красноперов.
Тотчас же, отложив недочитанную книгу, юноша прыгнул с балкона вниз головой. От страшного удара безумец стал плоским, как географическая карта. Машины тесным потоком катились вперед, огибая несчастного.
4. РОДНОЙ, ЗНАКОМЫЙ, НЕПРИЯТНЫЙ
В сутолоке теней достиг наш герой проспекта Кунгестартен. Он был напуган и подавлен. На его глазах происходило что-то страшное.
Вдруг его потянули за рукав. Рядом стоял человек в цилиндре, галифе и белых парусиновых тапках. Мучительно родным показалось Красноперову лицо его. Что-то было в нем от родимых, далеких, покинутых мест. Однообразие московских новостроек. Широкий размах волжской поймы. Надежная простота телег и колодцев.
— Красноперов, будь мужчиной! — произнес человек.
— Кто вы?
— Твоя партийная совесть.
— Объясните мне, что здесь происходит? На моих глазах три человека умышленно лишили себя жизни.
Незнакомец улыбнулся и голосом вокзального диктора произнес:
— Вопреки кажущемуся благополучию, на Западе растет число самоубийств. — И добавил: — ЦО «Правда» от шестого декабря. Разве ты, Красноперов, газет не читаешь?
— Я читаю... Значит, все это более или менее нормально?
— Абсолютно нормально. Скандинавия задыхается в тисках идейного кризиса. «Московский комсомолец» от двенадцатого июля.
— Мне, знаете ли, на аэродром пора.
— Прощай, Красноперов. Зря в баскетбол не играешь, фактура у тебя подходящая.
— А я играю, — живо возразил Красноперов, — за честь института.
— Так я и думал, — сказал незнакомец, — всех благ!
— Будьте здоровы.
— А ты будь на уровне предначертаний минувшего съезда. «Известия» от второго апреля. И помни, я — твоя совесть. Я всегда с тобой.
5. КАЖДОМУ ПО ЯБЛОКУ
Красноперов, человек умеренный и тихий, спорил редко. Он неизменно заходил в дверь последним. Независимые, дерзкие люди очень ему импонировали.
Десять лет назад его кумиром был Андрей Рябчук. Они познакомились в казарме стройбата. Красноперов был новобранцем, а Рябчук донашивал третью пару хлопчатобумажного обмундирования.
Произошло это зимой. Рябчук явился в заснеженный поселок с очередной гауптвахты. Он был худой и загорелый среди зимы, триумфатор по виду.
Рядом, опережая слухи, шла девушка. Она была такая легкая и воздушная на фоне пожарного стенда. Ее следы на заснеженном трапе казались чудом.
Новобранцы столпились возле гимнастических брусьев. Рябчук прикурил у дневального. Затем, сопровождаемый восхищенным безмолвием, достиг тридцатиместной палатки, которая чернела на отшибе.
Летом здесь размещалась батальонная футбольная команда. Осенью спортсмены разъехались, заколотив палатку досками.
Рябчук без натуги оторвал эти доски и проник. Нары были завалены матрасами, из которых торчало сено. В углу лежали сырые, грязные подушки. Рябчук потрогал матрасы и сказал:
— Это не пух...
Затем коснулся наволочек и добавил:
— Это не батист...
Потом он забил вход изнутри. Поломал грубый стол, на котором была вырезана однообразная матерщина. Растопил им печь. И зажил до утра.
Всю ночь из трубы шел дым. Всю ночь желтели окна казармы. Солдаты не могли уснуть. Знали, что в двух шагах под холодным брезентом торжествуют отвага и удаль. Безграничная нежность южанина и упорство гвардейца...
Наутро Рябчук оторвал доски и вышел, шатаясь, бледный и слабый. В трех метрах от палатки был расположен финиш ежегодного лыжного кросса. Желтела тумбочка с медикаментами. Рядом толпились офицеры. В руках подполковника Гречнева сиял хронометр.
Андрей Рябчук вернулся, пятясь. Его обнаружили через неделю.
— Прощайся с шалавой и едем на гауптвахту! — кричал майор Анохин.
Марина не плакала. Она только махала Андрею рукой. Грубость ее не задела.
Рябчук направлялся к военной машине, без шапки, с поцарапанным лицом. Вид у него был счастливый и хамский. Даже конвоиры завидовали ему.
Рябчук прошел мимо, едва не задев Красноперова. Роняя на будущего филолога отблеск чужой, замечательной и таинственной жизни.
С тех пор они не виделись. Рябчука увезли на гауптвахту. А Красноперов через несколько дней был откомандирован в Ленинград. Его назначили завклубом при штабе.
6. СОВСЕМ, СОВСЕМ ЧЕРНЫЙ
Возле самолета белели окурки. На площадке трапа царила стюардесса. ТУ-124 был ей к лицу.
Через минуту она шла вдоль кресел, проверяя, застегнуты ли ремни. Слушаться ее было приятно.
У стюардессы были манеры кинозвезды. Голубое форменное платье казалось случайной обузой.
Красноперов заглянул в иллюминатор. Лопасти винта образовали мерцающий круг. Трава пригнулась к земле. Через минуту самолет поднялся. Мой друг увидел странно неподвижное крыло его.
Соседом оказался негр в замшевых туфлях и малиновом клубном пиджаке.
— Вы откуда? — спросил Красноперов.
— Из Южной Родезии, — ответил чернокожий, доставая портсигар.
Сигарета, как тонкая белая леди, поникла в его огромных руках.
— О, Южная Родезия, — повторил Красноперов, — там неспокойно?
— Еще как, — ответил негр, — просто жуть! Однажды я ехал на мопеде к своей девчонке. А из джунглей как выскочит тигр! Да как бросится на меня!..
И снова достиг Красноперова отголосок чужой, непонятной, таинственной жизни. Он расслышал грохот накаленных солнцем барабанов. Увидел пробковые шлемы, блестящую от крокодилов воду Замбези. И полосатых тигров, грациозных, хищных, самоуверенных, как девушки на фестивале мод.
«Чужая жизнь, — подумал Красноперов, — тайна».
7. НИЩИЙ
Это было сразу после войны. В квартиру постучался нищий. Накануне праздновали мамин день рождения. Все решили, что вернулся Мухолович доедать заливное.
Мама отворила дверь, растерялась. С тревогой оставила нищего в прихожей, где лежали меховые шапки. Дрожащими руками налила стакан «Алабашлы».
Нищий ждал. Он был в рваном плаще. Следов увечья не было заметно.
Нищий молчал, заполнив собой все пространство отдельной квартиры. Гнетущая тишина опустилась на плечи. Тишина давила, обжигала лицо. От этой тишины ныл крестец.
Мама вынесла стакан на чайном блюдце. Нищий, так же глядя в пол, сказал:
— Я не пью, мамаша. Дайте хлеба...
Потом Красноперов часто видел нищих. Как-то раз в пригородную электричку зашел человек. Он развернул бесстыжие меха гармошки и запел:
Вас пятнадцать копеек не устроят,
Мне же это — доход трудовой...
Это был фальшивый нищий, почти артист. А вот того парня, без следов увечья, Красноперов запомнил. И тишину в коридоре. И обмерших зажиточных родителей...
В этот момент пилот обернулся и спросил:
— Налево? Направо?
Мгновение был слышен четкий пульс компьютеров.
— Направо! — закричали те, кто уже летал по этому маршруту.
8. КУДА ЕХАТЬ?
В Орли Красноперова поджидал собкор «Известий» Дебоширин. Его манерам соответствовал особый генеральский падеж, который Дебоширин использовал в разговоре.
— Как чувствуем себя? — поинтересовался он.
— Отлично, благодарю вас.
— А выглядим неважно.
— Все-таки дорога.
— Может быть, у вас просто интеллигентное лицо?
— Не исключено, — смущенно выговорил Красноперов.
Они пересекли залитую солнцем гладь аэродрома. На шоссе их поджидала машина.
— Куда ехать, мсье? — спросил шофер.
— В Париж, — ответил Дебоширин.
— А где это? — спросил шофер. — Налево? Направо?
— Ох уж это мне французское легкомыслие, — проворчал Дебоширин. И вслух указал: — Поезжайте на северо-запад.
— А где тут северо-запад? — удивился шофер. — Я в этих местах полгода не был.
— Идиот! — простонал Дебоширин.
— Тут все изменилось, — сказал шофер, — новый кегельбан открыли у дороги. Где теперь северо-запад, ума не приложу.
— А где он был раньше? — спросил Дебоширин.
— Там сейчас багажный конвейер, — ответил шофер.
— Вон Эйфелева башня, — закричал Красноперов, — я ее сразу узнал. Прекрасный ориентир!
— Какая еще Эйфелева башня, — возразил шофер, — да ничего подобного. Это станина для американской баллистической ракеты.
— Поезжайте, — сказал Дебоширин, — сориентируемся в дороге.
9. В ПАРИЖЕ
Они летели по узкому и ровному, как выстрел, шоссе мимо густых зарослей жимолости. Ветки с шуршанием задевали борта автомобиля. Белые, сияющие воды Уазы несли изысканный груз облаков. Иногда дорога сбрасывала гнет полосатой запутанной тени кустарников. И тогда солнце отчаянно бросалось под колеса новенького «рено».
У обочины косо стояла машина. Хозяин, нагнувшись, притирал клапана.
— Как ехать в Париж? — спросил Дебоширин.
Хозяин шевельнул губами и кончиком сигареты указал направление.
— Разворачивайся, — сказал шоферу Дебоширин.
Они развернулись и поехали дальше.
Вдоль шоссе стояли дома под красной черепицей. Белели окна, задернутые легкими марлевыми шторами.
— Шестнадцать лет живу в Париже, — сказал Дебоширин, — надоело! Легкомысленный народ! Все шуточки у них. Ни горя, ни печали. С утра до ночи веселятся. Однажды я не выдержал. Лягнул себя ногой в мошонку. Мука была адова. Две недели пролежал в больнице. Уколы, процедуры. Денег фуганул уйму. Зато душою отдохнул. Почувствовал себя как дома. Пока болел, жена удрала с шофером иранского консульства графом Волконским. С горя запил. Все дела забросил. Партийный выговор схватил. Зато пожил как человек. По-нашему! По-русски!..
Через несколько минут они достигли Парижа. Промчались вдоль решеток Люксембургского сада.
— Хватит, — говорил Дебоширин, — надоело! Балаган, а не держава. Вот, например, говорят — стриптиз, стриптиз! Да что особенного?! Видел я ихний стриптиз. То ли дело зори на Брянщине! Выйдешь, бывало, на дальний плес. Малиновки поют. Благодать. А что стриптиз?! Вырождается ихний стриптиз. В «Фанданго» подвизается мадемуазель Бубу. Раздетая девка, не больше. То ли дело мадемуазель Кики, оставившая сцену после замужества! Та была поистине обнаженной. И обе в подметки не годились мадемуазель Лили. Лили была совершенно голой!..
«Рено» затормозил у помпезных ворот отеля «Невеста моряка».
— Ну вот, — сказал Дебоширин, — приехали. Тут вам забронирован номер. Отдохните, примите ванну. К семи вас будет ожидать мсье Трюмо. Увидите его в пресс-баре. Трюмо — известный французский поэт, композитор, режиссер. Трюмо расскажет вам о бунинских архивах.
— Мерси, — сказал Красноперов, — вы очень любезны.
— Надеюсь, вам здесь понравится. Отличная кухня, просторные номера. Главное — обратите внимание на хозяйку.
— Непременно, — сказал Красноперов, — мерси.
— Ну, до вечера...
10. СНОВИДЕНИЕ
Лифт, тихонько звякая, остановился на площадке шестого этажа. Филолог отворил дверь. Принял душ. Заказал себе в номер омлет и бутылку кефира.
В дверь постучали.
— Как чувствует себя русский гость? — поинтересовалась хозяйка.
Хозяйка была стройная, высокая и легкая — тень кипариса. Она стояла на пороге. При этом мчалась ему навстречу. Одновременно пятилась назад. А глаза ее — два ялика, две шлюпки, две пироги — звали Красноперова в открытое море удачи.
Филолог якобы ринулся к ней. Сорвал одежду. Буйно кинул женщину в заросли папоротника. Могучими и нежными ладонями развел ее колени...
— Мерси, — сказал Красноперов, — я всем доволен.
— Не стесняйтесь, — произнесла хозяйка, — будьте как дома. Девиз нашего заведения — комфорт, уют и чуточку ласки.
Женщина ушла, и Красноперов застенчиво опустил бедноватые свои ресницы.
С улицы через распахнутые окна доносился шум толпы. Звенели крики мальчишек-газетчиков. Наводило грусть пение уличных артистов.
На паркете вздрагивал зеленоватый отблеск рекламы хвойного мыла.
Мой друг взволнованно шагал по комнате. Затем свернул ратиновое пальто. Сунул его под голову и заснул.
По бульвару Капуцинов шел Уж. Он был в свитере и застиранных джинсах. Нарядные девицы, глядя ему вслед, кричали:
— Рожденный ползать летать не может!
— И не хочет, — реагировал Уж.
Затем серьезно добавлял:
— «Песня о Соколе» — далеко не лучшее у Горького. Как минимум — в художественном отношении. Если разуметь под художественностью комплекс средств, усиливающих эмоциональное воздействие на читателя.
По этой единственной реплике можно было судить о высоком интеллекте Ужа. Однако девчонки игнорировали его замечание. И шли себе дальше, заворачивая на ходу все гайки.
Уж грустно продолжал:
— Какая разница — где твое место? В небе или среди холодных камней! Главное, чтобы жизнь твоя была украшена сиянием добрых побуждений. Благородные идеалы — единственное, что поднимает нас до заоблачных высот...
И он принимался насвистывать свою любимую мелодию в ритме ча-ча-ча:
Уж!
Небо осенью дышало,
ча-ча-ча!
Уж!
Реже солнышко блистало,
ча-ча-ча!..
Уж двигался по людной магистрали. Навстречу шли четверо полицейских. Между ними, прихрамывая, ковылял Сокол в наручниках. Полицейские вели его туда, где блестела красным лаком закрытая машина с решетками на окнах.
11. НЕЛЬЗЯ
Филолог проснулся, обрел сосредоточенность. Сунул ноги в остывшие шлепанцы. Подошел к окну.
День, замирая, тянулся к вечеру. Сумерки прятались в каменных нишах. Тени каштанов упали на мостовую.
Красноперов надел чистую сорочку и повязал галстук. Затем спустился в холл. Его внимание привлек газетный киоск. Среди пестрых журнальных обложек филолог заметил книги на русском языке.
Мелькнула знакомая фамилия — Живаго.
Он двинулся к прилавку. Кто-то сразу же взял его за руку.
Красноперов, соскучившись, обернулся — цилиндр, галифе, парусиновые тапки. Цинковые строгие глаза. Кожа цвета воды на столе президиума.
— Не покупай, — внятно шепнул человек, — категорически.
— Но почему? — спросил Красноперов.
— По известным причинам.
— А-а...
— Что угодно, только не это. Вот, например, порнографические журналы. Бери хоть целую дюжину. Эвон на обложке: птеродактиль живет с канарейкой. Покупай на здоровье. А этого «Доктора» — ни в коем случае.
— Но кто вы?
— Твоя совесть, Красноперов!
— Вы что, следите за мной?
— Без сна и покоя.
— Но почему, зачем?
— Работа, — с внезапной грустью произнес человек.
— И одеты вы как-то странно.
— Странно одет?
— Вы только не обижайтесь. Но галифе, цилиндр, тапки...
— Это еще что! Ты бы знал, как я питаюсь!
— А как вы питаетесь?
— Собака не будет есть того, чем я питаюсь. Платят сущие гроши. Денег почти нет.
— А у меня почти есть, — горделиво сказал Красноперов, — бросайте вы это занятие.
— Я и то думаю, — вздохнул человек, — может, политического убежища спросить? Только кому я нужен без диплома?!
— Я вам искренне сочувствую.
— Ладно, — сказал человек, — можешь идти. А книгу не покупай. Ничего особенного. От умного человека слышал. На допросе.
— Мне обидно за вас, — сказал Красноперов.
— Ерунда. Я заочно на сторожа учусь. Специальность освою и брошу это дело к чертовой матери!..
12. И ДЫМА НЕ ОСТАЛОСЬ
Человек в галифе, распахнув тяжелые двери, удалился.
Вечернее солнце припадало к окнам и бортам автомобилей. Вспыхивали и гасли разноцветные огни реклам. Часы на фронтоне королевской библиотеки пробили семь.
Человек в галифе остановился и сунул руку за пазуху. Там, в духоте, нащупал он стофранковую купюру, приколотую английской булавкой. Подержав купюру на ладони, он задумался. Потом решительно шагнул к сияющим витринам универсального магазина «Балансиага». Через десять минут он вышел оттуда, взволнованный и порозовевший. В руках у него была коробка, перевязанная голубою лентой. Оставалось еще двадцать франков и порыв. Мужчина перешел через дорогу, купил у рыбного лотка баночку сардин в томате. Сунув ее в карман галифе, мужчина зашагал домой. Он чувствовал бедром холодную тяжесть консервов. Ощущал сквозь картон прохладу нейлоновой рубашки.
Дома он швырнул цилиндр в угол. Разорвал зубами голубую ленту. Стащил через голову полинявшую бобочку. Затем, содрогаясь, облачился в нейлон.
Холодная ткань прикасалась на сгибах к бесталанной душе его.
Рубаха излучала приятный мерцающий свет. Ее великолепие казалось дерзостью на фоне убогих стен и закопченного потолка.
Встревоженно тикал будильник. На обоях шелестели сальные пятна.
Человек в нейлоновой рубахе подошел к столу. Вынул из кармана баночку сардин. Достал консервный нож. Затем решительным движением вспорол податливую жесть. После этого он вскрикнул, уронил руки, несколько минут сидел без движения. На груди его медленно расплывалось пятно томатного сока.
Он не заметил, как прошел час. Встал, принес из кухни эмалированный тазик. Налил туда бензина из канистры, принадлежащей соседу, водителю школьного автобуса. Затем осторожно снял рубаху и начал полоскать ее в тазу.
Сначала исчезло пятно. Вслед за этим начисто растворилась сорочка. И только пуговицы отвратительной белой горкой лежали на дне.
Полуодетый человек шел вдоль коридора. Вся жизнь, полная разочарований, мерзости и кошмара, толпилась, хохоча, у него за спиной.
Человек опрокинул бензин в унитаз. Пуговицы звякнули о кафель.
Он на мгновение задумался. Потом ослабил ремень и спустил галифе. Гладкой прохладой стульчак напоминал об утрате.
Человек достал папиросу, закурил и, чуть отстранившись вбок, уронил спичку.
Раздался взрыв. Пламя, как недорезанный гусь, вырвалось из унитаза. Полуодетый человек, стреноженный диагоналевыми галифе, рванулся и упал.
Через минуту все было кончено. Лишь в унитазе чернела горсточка пепла.
13. РАЗГОВОРЫ
В баре отеля Красноперова поджидал собкор Дебоширин. Рядом сидел мужчина в полотняном костюме. Завидев советского филолога, оба встали.
— Где вы пропадаете? — сказал Дебоширин. — Мы ждем. Разрешите представить вам мсье Трюмо. Он любезно согласился вас консультировать.
Бармен протянул Красноперову фужер с зеленоватым напитком и два ореха.
В баре становилось тесно. Над головами шумел вентилятор.
— Как вы устроились? — спросил Дебоширин. — Надеюсь, прилично?
— Вполне, — ответил Красноперов, — благодарю. Вы рекомендовали мне присмотреться к хозяйке. В чем дело?
— Ха, у нее же люэс! — вскричал Дебоширин.
— Не понимаю.
— Ну, люэс, бытовичок, сифон...
«Господи! — подумал филолог. — Как хорошо, что я оробел! Какое счастье, что я противен женщинам!»
14. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Красноперов всегда их боялся. То есть он понимал, что когда-нибудь женится. Женится на базе обоюдной спокойной приязни. Вырастит сына. Приобретет в кредит телевизор. Изменит привычки. Но все-таки он их боялся.
Он рассуждал:
— Как же так?! Твоя единственная жизнь, столь ясная, понятная, родная, — будет принадлежать другому человеку? А непонятная, загадочная и, мало этого, подозрительная жизнь другого человека вдруг отчасти станет твоей? И уже трудно этого человека обидеть, не обидев заодно — себя. И даже подарок нельзя ему сделать беспечно. То есть вручил и, как говорится, — с плеч долой. Э, нет! Купишь что-то, вручишь и себя же неестественным образом порадуешь... Загадка...
Однажды Красноперов ужинал в знакомой профессорской семье. Старик-профессор расшалился, лаял, кукарекал. Его жена гостям подкладывала торт. Дочка меняла пластинки.
Засиделись, взглянули на часы — половина третьего. Автобусы не ходят. Такси не поймаешь — суббота.
Квартира большая — постелили филологу между роялем и стереоустановкой. Наутро поднялся Красноперов, выпил чаю, хотел уходить. И вдруг замечает — как-то странно дочурка поглядывает... Папаша косится... Мать, наоборот, опускает глаза... Короче, все не просто... И дочка в байковом халате, этак по-семейному... Как будто ждут чего-то... Может быть, совместных действий...
В общем, удрал Красноперов. И больше в этом доме не появлялся.
15. РАЗГОВОРЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
— Во Франции очень распространены инфекционные болезни, — многозначительно подмигнул Дебоширин.
— В колчане Амура попадаются отравленные стрелы, — добавил Трюмо.
Затем спросил:
— А как с этим делом в России?
— Венерические болезни изжиты, — отчеканил Красноперов, — нравственность повышается ежегодно.
— Нашел чем хвастать, — проворчал Трюмо.
— Здравоохранение в нашей стране достигло...
— Пропаганда? — насторожился француз.
— Господа, — вмешался Дебоширин, — не будем касаться политики. Вернемся к литературе.
— Вы читали мои произведения? — спросил Трюмо.
— Читал ли я ваши произведения? — замешкался Красноперов.
— Напрасно, — вымолвил эссеист, — смею думать, они гениальны. В последние годы я занимаюсь фольклором... Фольклор, фольклор, как бы это перевести?
— Фольклор так и будет — фольклор, — сказал Дебоширин.
— В центре моей диссертации, — продолжил Трюмо, — лежит окулистический разбор сказки «Красная Шапочка».
— Чуть подробнее? — заинтересовался наш герой.
— Не выпить ли? — сказал Дебоширин.
— Я выдвинул, — продолжал мсье Трюмо, — оригинальную идею. Я сумел доказать, что у внучки не могло быть красной шапочки. Известно, что красный цвет отпугивает волков. Недаром охотники пользуются заграждениями, увешанными красными флажками. Волк не решился бы съесть обладательницу красной шапочки. Отсюда — вывод. Либо там фигурирует не волк, а бык. Но это противоречит фабуле Перро. Либо волк был дальтоником!
— Меня чрезвычайно заинтересовало ваше открытие, — произнес Красноперов.
— В дальнейшем я намерен подвергнуть окулистическому разбору «Красное и черное» Стендаля. А потом и «Зеленые цепочки» Матвеева.
— За ваш успех! — произнес Красноперов.
Дебоширин позвал официанта и заказал три бифштекса.
Бармен, выдвинув антенну транзисторного приемника, слушал джаз. Парни в замшевых куртках столпились у телевизора. На экране сборная Дижона проигрывала тайм. Наиболее темпераментные болельщики кричали и жестикулировали.
Официант принес металлические тарелки с бифштексами. Дебоширин ковырнул мясо вилкой и сказал:
— Из-за такой говядины вспыхнул мятеж на броненосце «Потемкин».
— Пропаганда? — насторожился эссеист.
— А мне нравится, — произнес Красноперов. — Вы давно из Союза?
— Пятнадцать лет на чужбине, — ответил Дебоширин.
— Тогда все ясно, — улыбнулся наш герой.
Сборная Дижона уверенно проиграла. Парни в замшевых куртках окружили электрический бильярд «Цинцин».
Разговор между Красноперовым и Трюмо принял строго научный характер.
— Кафка! — восклицал Трюмо.
— Федин, — с улыбкой парировал Красноперов.
— Феллини! — не унимался эссеист.
— Эльдар Рязанов, — звучало в ответ.
— Сальвадор Дали!
— Налбандян!
— Иегуди Менухин!
— Пожлаков!
— Бунин! — выкрикнули они хором.
— Ах да, — произнес Красноперов, — Бунин! Конечно же Бунин! Ведь меня, собственно, интересуют архивы Бунина.
16. РЕЧЬ О БУНИНЕ
— Бунин? — переспросил Трюмо. — Знавал я этого Бунина в Грассе. Все писал чего-то.
— Он самый.
— Бывало, пишет, пишет... И чего, думаю, пишет? Раз не удержался, заглянул через плечо, а там — «Жизнь Арсеньева».
— Если можно, чуть подробнее, — сказал Красноперов.
— Этот Бунин все на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет: «А на Орловщине сейчас, поди, июнь. Малиновки поют, цветы благоухают...»
Красноперов прослезился. Дебоширин всхлипнул.
— Однажды, — продолжал Трюмо, — Ивану Алексеевичу было сновидение. Как будто Успенский собор покрасили целиком зеленой гуашью. Проснулся Бунин, ногами затопал, едва успокоили.
Красноперов записал все это. Потом сказал:
— Меня, собственно, интересуют архивы Бунина. Переписка с Муромцевой, черновики «Темных аллей», фотоснимки.
— Что может быть проще?! — сказал Трюмо. — Архивы находятся в Грассе. Там письма, черновики, фотографии, личные вещи, обувь... Завтра садимся в машину и едем.
— Чудесно, — сказал Красноперов, — замечательно. В своей диссертации я использую термин «духовная репатриация Бунина». Я хочу доказать, что нотки архаизма в творчестве Бунина заведомо обусловили судьбу эмигранта. Но хотя физически Бунин скончался в Грассе, морально он принадлежит России.
— Пропаганда? — встрепенулся Трюмо. — Отказываюсь ехать!
— То есть?
— Не покажу дороги.
— Господа, — вмешался Дебоширин, — что я слышу? Опять политика? Давайте лучше выпьем и рванем к «Максиму». Там новое ревю.
— Я не поеду, — испуганно сказал Красноперов, — у меня дела.
— Какие?
— Баня, стирка.
— Вы не романтик, — сказал Дебоширин, — это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к «Максиму»!.. Это все равно что посетить Союз и не увидеть Мавзолея...
17. ПОЙДУ К «МАКСИМУ» Я...
Был ли Красноперов романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Красноперов разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили...
— Едем, — твердил Дебоширин, — реализуем гарантированное Конституцией право на отдых!
— Не могу, — отвечал Красноперов.
— Француз подумает, что мы не умеем культурно отдыхать. Только вкалываем целыми днями, голосуем и сдаем бутылки.
— Виноват, — сказал Красноперов, — не могу. Совесть не позволяет. У меня жесткий график. Вы должны понять. Приношу свои извинения, господа.
«Однако, — задумался филолог, — уеду я из Парижа навсегда. И едва ли когда-нибудь вернусь. Вдруг что-то самое главное проносится мимо: автомашины, женщины, иллюзии? Может быть, реальная жизнь именно там? В джазовом омуте? В сверкающей путанице неоновых огней? В элегантной сутолоке фраков и обнаженных плеч? Может быть, там настоящая жизнь? А все остальное — миф и химера?..
Ну хорошо, съем я еще две тысячи голубцов. Выпью две тысячи бутылок кефира. Изношу пятнадцать темно-серых костюмов. А счастья так и не увижу... Сон, телевизор, работа, цветные фотографии в „Огоньке»“... Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет! Ни в коем случае! Нельзя! И не о чем тут говорить! Все, не еду! А может быть, рискнуть?»
18. ЧРЕВО ПАРИЖА
Стройный паренек в мундире отворил дверцу фисташкового «рено». Красноперов и его спутники, подхваченные джазовым вихрем, шагнули на тротуар.
— Бонжур, месье, — приветливо сказал швейцар у входа.
— Здравствуй, товарищ, — ответил филолог.
И тут же подарил швейцару золотые часы с монограммой.
Француз улыбнулся и не без колебаний преподнес в ответ зеленый талончик парижского метрополитена.
Красноперов прослезился.
Окунувшись в холодную пучину зеркал, друзья направились к широкой мраморной лестнице. Ковровая дорожка вывела их под своды центрального зала.
В полумраке белели столы. Тени прятались в изгибах лепных карнизов. Плечи женщин, манжеты кавалеров, глаза негритянских джазистов сверкали в темноте, утвердив ее и опровергнув. Кларнетист Ред Барни напряженно сверлил тишину. У контрабаса вибрировал Оден Рафф. Над барабанами парил Джо Морелло. Сам Чик Ланкастер падал на клавиши рояля. Инструмент был чем-то похож на хозяина.
Лакеи скользили по залу, огибая танцующих.
Друзья заняли столик под вечнозеленым растением из хлорвинила. Сразу же, как тайный помысел, возник гарсон.
Друзья заказали филе Россини, сыр Шарье и потроха а-ля Канн.
— Сейчас бы молока парного и харьковских галушек, — неуверенно выговорил Дебоширин.
Оркестр исполнял «Сентябрь в Париже». Песенку о любви, разлуке и умытых дождем тротуарах. О том, как двое полюбили. Только не знают — кого...
Друзья подняли фужеры. Коктейль-сюрприз напоминал об идеалах. Сенсационной вестью озарял глубины. Окрашивал действительность в локальные и нежные тона.
— Кого только не встретишь у «Максима», — сказал Дебоширин, — любую знаменитость. Весь цвет Парижа. Как-то раз повстречал Владимира Максимова. Сидит, выпивает...
19. БОЛЬШИЕ ЛЮДИ
Красноперов избегал знаменитостей. Когда-то, еще будучи аспирантом филфака, он напечатал статью. Это была рецензия на книгу молодого талантливого писателя. Рецензия получилась восторженная. И вот раздается телефонный звонок.
— Да, — говорит Красноперов, — слушаю.
— Извините, вас автор беспокоит. Хочу поблагодарить от всей души. Тонко вы о моей последней книге написали. А я, признаться, и фамилии вашей раньше не слыхал. Рад познакомиться.
— И мне чрезвычайно приятно.
— Не согласитесь ли вместе поужинать? Запросто, без церемоний. Да бросьте, Красноперов, я ведь от чистого сердца. Конечно! Ну вот и прекрасно!
Потом они сидели в «Метрополе». Писатель разливал коньяк. Благодарил. Знакомил Красноперова с друзьями. Даже поцеловал украдкой. Но ближе к закрытию вдруг опьянел. Стал мрачнеть. Сунул очки в боковой карман. Взглянул на филолога побелевшими глазами и тихим шепотом молвил:
— Ты зачем это, сволочь, донос написал?
— Вы перепутали, — сказал Красноперов, — я наоборот...
— Убью! — замахиваясь, крикнул писатель.
Красноперов охнул. Ногти его царапнули скатерть. Огромная люстра косо рванулась вбок. Дюралевый стульчик выпорхнул, как гусь из-под телеги.
Через секунду появился милиционер. Филолог прижимал к губам салфетку. Писатель размахивал удостоверением члена союза. Посетители испуганно молчали.
Красноперов положил салфетку и вышел. Она разворачивалась, шурша и вздрагивая.
20. БОГИНЯ СЛЕВА
— Взгляните налево, — сказал Дебоширин.
Красноперов рассеянно огляделся.
Рядом, почти напротив, буквально в десяти шагах... (И как это сразу он мог не заметить!..) Над скатертью и над хрустальным блеском... Над шорохом танцующих, над их дыханием, над последним, высоким, мучительным звуком рояля... Даже выше мечты и надежды — увидал Красноперов артистку Лорен!
Поблекли феи на сводах зала. Потускнели алебастровые кущи. Все посетители неожиданно оказались статистами. Китайские фаянсовые вазы по углам держались скромнее мусорных баков. Изысканная роспись стен превратилась в аляповатый фон. Отхлынуло великолепие салона, уступив место единственной и главной красоте.
«Что есть жизнь? — подумал Красноперов. — Что есть жизнь без любви?! Что стоят все мои обиды? Все былые муки и нечаянные радости? Все горькие прозрения, улыбки женщин, мятые трамвайные билеты? Все ливни и снега, которые тащил я на плечах? Вся эта жизнь — ничто! Есть лишь тропинка, вьющаяся между запыленных кустов и хижин. Есть лишь тропинка, устремленная в гору. А там, в конце пути, не монумент, не знамя и не орден. Там — мраморные плечи, диковатые глаза, невыносимый рот Софи...»
— Кто я такой? — вскричал филолог. — Захламленный пустырь? Обломок граммофонного диска? Ржавый велосипедный насос с помойки? Бутылочка из-под микстуры? Окаменевший башмак, который зиму пролежал во рву? Березовый лист, прилипший к ягодице инвалида? Инвентарный жетон на спинке кресла в партере Мариинского театра? Бывший в употреблении пластырь?.. Я — безработный крысовед. А кто она? Богиня!
Красноперов поднялся, едва не опрокинув фужеры. Вышел из-за стола, оставляя позади тревожный шепот Дебоширина. И далее — огромными шагами пересек безмолвный зал.
Софи держала косточку в руке. Жан Маре что-то, наклонившись, говорил ей. Бельмондо задумался, опустив палец в суп. Кардинале стригла ногти. Анук Эме катала хлебный шарик. Ив Монтан кормил под столом ангорского кота.
Софи подняла глаза. И в этих двух заброшенных колодцах увидел наш филолог многое. Далекие огни матриархата! Стыдливый зов! Покорное могущество! Короче говоря, все то, что преображает самого последнего лентяя и неряху. Ожиревшего смолоду чиновника. Жалкого лакея и медбрата собственной нездоровой печени. Чемпиона кроссвордов. Коллекционера изношенных шлепанцев. Сидячего витязя, порожденного телевизионным рабством. Делает его — воином, охотником, мужчиной!
Все посмотрели на Красноперова.
— Агм... чха... бп... тсс, — простонал Красноперов, — ртха... сть... удств... лямб... нг...
— Красив, злодей, — шепнула Софи Лорен.
— Не робей, старик, — произнес Маре, — зови меня Жаном, усаживайся и глуши шампозу.
— Я хочу пойти с этим человеком на травку, — заявила Кардинале.
Красноперов присел с горящим лицом. Глаза Софи, два миномета, держали его на прицеле.
21. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Красноперов знал, что его не любят женщины. Он к этому привык. Когда-то, еще в школьные годы, он жил на даче с братом Левушкой. Родители сняли им комнату в запущенном поселке. Поселок лежал около безымянной горы, на вершине которой темнели руины старинного замка. Центр поселка был ознаменован новым трехэтажным зданием универмага. Живописные, бесформенные развалины и пена сирени над косыми заборами дружно оспаривали его убогое, модное величие.
Братья часто ходили в семью Мешкевицер, где три загорелые насмешливые дочки явно радовались их приходу. Дочки звали пить чай, купаться, играть в настольный теннис. До заката стучал по фанерному листу маленький, гулкий, неуловимый шарик.
Левушка нравился дочкам. Он становился в красивые позы. Много курил и разгуливал по берегу в синтетических трусиках. А Красноперова девицы почти не замечали. Потому что Лева был на три года старше.
Если начиналась гроза, дождь стучал по фанере, они бросали ракетки и мчались к веранде. Там они причесывали мокрые волосы. Играли в домино. И Красноперова опять не замечали дочки. Хотя играл он лучше всех. Ему везло. И он умел курить не хуже Левы. Более того — догадывался, что побеждает в жизни не самый ловкий, умный, храбрый. Скорее — наоборот. Кто выиграл, тот и ловок. Кто победил, тот и храбр...
Брат начал исчезать, возвращался поздно. А Красноперов тосковал и ездил по шоссе на велосипеде. А затем, примерно на год, возненавидел брата. Чего брат Лева даже не заметил...
22. СТИХИ И ПРОЗА
Красноперов встал, поднял чужой фужер и глухо заговорил.
КРАСНОПЕРОВ:
От всех невзгод мне остается имя,
От раны — вздох. И угли — от костра.
Софи Лорен! Позволь мне до утра
Бродить с дождем под окнами твоими.
А на заре, прелестная Софи...
ЛОРЕН (перебивая Красноперова):
Не искушай! Не мучай! Не зови!
Красноперов усаживается с нею рядом.
Софи прыгает ему на колени.
КАРДИНАЛЕ (в отчаянии):
Я хочу пойти на травку!
КРАСНОПЕРОВ (демонстративно поворачиваясь к ней спиной):
Прочитай сначала Кафку!
Кардинале непритворно рыдает.
Заметим, что искренние слезы не украшают актрису.
ЛОРЕН (с глубоким волнением):
Боюсь, я для тебя стара!
КАРДИНАЛЕ И АНУК ЭМЕ (хором, вполголоса):
Давно в утиль тебе пора!
КРАСНОПЕРОВ (невозмутимо):
Ты обольстительна, Софи!
КАРДИНАЛЕ И АНУК ЭМЕ (хором, не тая своих чувств):
Фи!
ЛОРЕН (с грустью):
Ах, сколько лет ты дал бы мне?
МОНТАН (раздраженно встает):
Кончайте, вы тут не одне!
КАРДИНАЛЕ (указывая на Софи Лорен):
Так сколько лет ей можно дать?
КРАСНОПЕРОВ (твердо):
Ну, тридцать шесть... От силы — двадцать пять.
Бельмондо и Маре, поскучнев, удаляются к стойке. Монтан бросает на Красноперова ревнивые взгляды.
Оркестр заиграл «Памяти Джанго».
— Пойдем отсюда, — шепнула Софи.
— Куда? — спросил филолог.
— Куда угодно. Лишь бы вместе.
Она взглянула на Красноперова. Повернулась, добивая уже не глядя. Сошла по лестнице вниз. И если не ступени, так устои рушились под ее каблучками.
Красноперов, тихо напевая, полузакрыв глаза, отправился следом.
23. НОВЕНЬКИЙ
Неожиданно кто-то взял его за локоть.
Красноперов, застонав, обернулся. Рядом стоял человек в пожарном шлеме, тельняшке и гимнастических брюках.
— Ты Красноперов? — спросил он.
— Да, — с беспокойством кивнул наш герой.
— Шатен, росту малого, без особых примет?
— Допустим, — с легкой обидой произнес Красноперов.
— А то я без очков не вижу.
— Вы, собственно, кто?
— А ты и не знаешь?
— Понятия не имею.
— Вот как?
— Представьте себе. К тому же я спешу.
— Я — твоя совесть, Красноперов.
— Позвольте, — сказал филолог, — это недоразумение. Вы что-то путаете. Насколько я знаю, меня курирует другой товарищ. Приятный обходительный товарищ в галифе.
Тут незнакомец снял пожарный шлем. Три секунды молча держал его в отведенной руке. Затем торжественно выговорил:
— Малафеева больше нет.
— Боже, а что с ним?
— Сгорел на работе.
Красноперов скорбно опустил голову. Незнакомец забубнил:
— Ушел верный друг, надежный товарищ, примерный семьянин, активный член месткома...
Затем он вдруг сказал:
— Ты за Малафеева не горюй. Ты за себя, Красноперов, горюй. Командировка твоя прерывается.
— То есть как?
— Элементарно. Не умеешь ты себя вести. Завтра утром жду тебя в аэропорту. А сейчас езжай в отель. Дома поговорим как следует. Чао!
Ошеломленный Красноперов медленно вышел на улицу. У входа стоял плоский «ягуар», филолог увидел, как парафиновая нога Софи исчезает в машине. Захлопнулась дверца. Обдав Красноперова бензиновой гарью, «ягуар» растворился во мраке.
24. ПОМНИТЕ, У ЕСЕНИНА?..
Аэропорт напоминал пустырь, что возле Щербаковских бань.
Залитую солнцем асфальтовую дорожку, как шкуру леопарда, пересекали тени елок. На горизонте алели черепичные крыши. Вдалеке гудел невидимый катер.
Красноперов уныло стоял возле трапа. Затем, в последний раз оглядевшись, шагнул на ступеньку.
Тотчас же из-за отдаленного пакгауза выбежали двое. Один — в распахнутом драповом пальто. Другой — изящный, маленький, в плаще. Они бежали рядом, задыхаясь, перегоняя друг друга.
Бегущие приблизились. Красноперов узнал Дебоширина и Трюмо.
— Черт возьми, — прокричал Дебоширин, — едва не опоздали!
— Я кепи уронил, — сказал Трюмо, — но это пустяки. Надеюсь, его поднимет хороший человек.
— Друзья мои! — начал Красноперов.
Волнение мешало ему говорить.
Прощание было недолгим. Трюмо подарил Красноперову ржавый гвоздь.
— Это необычный гвоздь, — сказал Трюмо, — это — личная вещь Бунина. Этим гвоздем Бунин нацарапал слово «жопа» под окнами Мережковского. Бунина рассердило, что Дмитрий Константинович прославляет Муссолини.
Дебоширин тоже сделал Красноперову подарок. Вручил ему последний номер газеты «Известия». Там была помещена заметка Дебоширина о росте в мире капитала цен на яхты.
У Красноперова сжалось горло. Он взбежал по трапу и махнул рукой. Затем, нагнувшись, исчез в дверях салона.
— Кланяйтесь русским березам, — выкрикнул Дебоширин, — помните, у Есенина?..
Но его последние слова растворились в грохоте мотора.
Крылатая тень, не оставив следа, пронеслась над землей.
25. ТРАНЗИТ
На следующий день Красноперов шел по Ленинграду. В мутной, как рассол, Фонтанке тесно плавали листья.
Красноперов шел по набережной с тяжелым чемоданом. Мимо проплывали газеты на фанерных стендах. Обесцвеченные дождями фасады. Унылые деревья в скверах. Зеленые скамейки. Головные уборы, ларьки, витрины. Ящики из-под картошки. Мечты, надежды, грустные воспоминания... Красноперов шел и думал:
«Это все! Прощай, Франция! Прощайте, дома и легенды. Звон гитары и умытые ветром площади. Веселые устрицы и тихий шепот Софи... Прощай, иная жизнь! Меня ждут неприятности и заботы».
26. ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ
Заботы в жизни Красноперова принимали нередко фантастический, даже безумный характер. Однажды наш герой приобрел себе кальсоны. Заурядные румынские кальсоны фирмы «Партизан». Казалось бы, ну что особенного? Голубые кальсоны с белыми пуговками. И сначала все было хорошо. Но затем, в ходе стирки, пуговицы утратили форму. Филолог маникюрными ножницами подровнял их края. Очередная стирка — новое разочарование. Пуговицы вновь стали неровными, как блины. Красноперов их снова постриг. Наконец пуговицы смылись окончательно. И тогда Красноперов был вынужден пришить себе новые, железные, от сохранившейся армейской гимнастерки. Что стоило ему немалых трудов.
27. ТРОТУАР И МОСТОВАЯ
Опустив голову, шел Красноперов, нес тяжелый чемодан. Вдруг дорогу ему преградила толпа. Теснились женщины в старой одежде. Шумно переговаривались мужчины в телогрейках. Дети ползали среди галош.
Красноперов, задевая людей чемоданом, не слыша ругательств, достиг прилавка.
— Что дают? — задыхаясь, спросил он.
— Читать умеете?
— Да, — растерянно ответил Красноперов, — на шести языках.
На листе картона было выведено зеленым фломастером:
«СВЕЖИЙ ЛЕЩЬ»
— А почему у вас «лещ» с мягким знаком? — не отставал Красноперов.
— Какой завезли, такой и продаем, — грубовато отвечала лоточница.
Руки ее были серебряными от чешуи.
Филолог свернул по направлению к дому. Переулок был украшен модернизированным стеклянным ларьком. Внутри алел сухорукий Миша, любимец публики и балагур. Два ефрейтора в гимнастерках, стянутых широкими ремнями, отошли под навес. В руках они держали кружки с пивом. Легкая пена опускалась на мостовую. Красноперову вдруг показалось, будто чокаются ефрейторы своими непутевыми головами.
Красноперов замедлил шаги у витрины фотоателье, разглядывая лица пасмурных мужчин и женщин. Потом, чуть выше, обнаружил транспарант:
«ОНИ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ»
Вдруг за спиной его раздался крик. Мужчина, нетрезвый, как ртуть, бежал через дорогу, пытаясь остановить такси. Он то замирал, качаясь на пятках, то, припадая к земле, мчался автомобилю наперерез. С велюровой шляпой он давно разминулся. Теперь она катилась в противоположном направлении. А именно — к Владимирской площади.
Машина гудела. Пьяный уцепился за бампер.
Автомобиль резко затормозил, прочертив две линии на сером асфальте. Оттуда вышел инкассатор с парабеллумом.
Пьяный шарахнулся в сторону. Филолог оказался на пути его. Они столкнулись. Красноперов деликатно отступил.
— Хочешь, понесу твой чемодан? — спросил незнакомец.
— Что вы? — запротестовал наш герой. — Я уже дома.
— Давай помогу, — настаивал человек.
— Это совершенно лишнее.
— А я все равно помогу.
— Ни в коем случае.
— Сказал — помогу, значит — помогу!
— Я не устал. И вообще, мой дом за поворотом.
— Нет, помогу! — сказал незнакомец.
— Категорически отказываюсь.
— Ты Леву Сивого знаешь?
— Нет, — удивился филолог, — кто это?
— Это я, — скромно потупился человек.
— Очень приятно. И тем не менее...
— Со мной шутки плохи, — незнакомец рванул чемодан, — молчи, гад, убью...
28. ОТРАЖЕНИЕ
Забулдыга нес чемодан, ударяя то и дело себя по колену. Красноперов шел рядом. Потом Красноперов нес чемодан. Незнакомец сопровождал его, задевая плечом водосточные трубы.
Мимо, громыхая, проехал трамвай. Видны были залитые светом деревянные кресла.
Наконец они приблизились к шестиэтажному дому с балконами. Красноперов остановился.
— С тебя полбанки, — ухмыльнулся незнакомец.
— Но я спешу, — возразил филолог, — мы так не договаривались. И денег у меня, честно говоря, немного. Впрочем, если угодно, тут рубль с мелочью.
— Тогда я сам куплю полбанки, — не унимался человек.
— Как это?
— Очень просто. Разве мне твои деньги нужны? Мне с тобой поговорить хочется!
И сразу же ощущение покоя возникло у Красноперова. Все показалось ему мучительно дорогим и близким. Забулдыга в дорогом, испачканном сметаной пальто. Трещины на асфальте. Эмалированная табличка над подъездом. И то, что ждет его: холодный полумрак, щербатые ступени. Тусклая лампочка в проволочной сетке. Обитая коленкором дверь. Коммунальные соседи — Гендлины, Моргулисы, Шерошенидзе. Заваленная книгами берлога. Все то, что было. И все то, что будет. Все это составляло единственную, нужную, знакомую жизнь...
— Вы мне чрезвычайно симпатичны, — улыбнулся Красноперов, — но я тороплюсь. Заходите как-нибудь. Вон мои окна.
Пьяный не обиделся. Он сказал:
— Тогда я сделаю вот что. Я тебя поцелую.
— И это лишнее, — возразил Красноперов.
Забулдыга постоял в раздумье. Затем взглянул на Красноперова и твердо произнес:
— Тогда уж я как минимум — спою.
И спел-таки негромко «Кукарачу».
29. МЫ ИДЕМ ПО УРУГВАЮ...
Вечером Красноперов брел по залитому светом Невскому. Люди толпились у дверей кинотеатров, заслоняли сияющие витрины гастрономов. Лица под неоновым огнем казались благороднее и чище.
Помедлив, Красноперов толкнул вертящиеся двери.
В холле ресторана было прохладно от зеркал. Девушка в малиновых брюках красила ресницы. Красноперов бегло сосчитал — их оказалось девять. Рядом томился высокий парень с бородой. Швейцар подозрительно его разглядывал.
Филолог двинулся наверх, беззвучно ступая по истертой ковровой дорожке. В руке он держал алюминиевый номерок.
Его подхватила волна джазовой грусти и аромата кавказских блюд. Мужчины в белых куртках, лавируя, пересекали зал.
Музыканты играли, сняв пиджаки и раздвинув колени. Перед каждым возвышалась тумба, украшенная сияющей лирой из жести. Флейтист и барабанщик переговаривались о чем-то. Певица вытирала салфеткой лаковые бальные туфли.
Музыка стихла. Все расселись, шумно передвигая стулья.
Красноперов оглядел помещение и вздрогнул. Алюминиевый номерок, звякнув, покатился к выходу.
Возле пальмы сидела артистка Лорен. Жан Маре протягивал ей сигареты. Бельмондо разглядывал деревянную матрешку. Ив Монтан сосредоточенно штопал замшевый пиджак. Анук Эме с Кардинале ели харчо из одной тарелки.
Ошеломленный филолог приблизился к столу.
— Экстраординаре, — закричала Софи Лорен, — какая встреча! А мы на фестиваль прилетели. Хочешь контрамарку в первый ряд?
— Кривляка, — фыркнула Эме.
— Заметь, — шепнула нашему герою Кардинале, — Сонька туфли разула. Мозоли у ней — это страшное дело!
— Интересно, где здесь могила Евтушенко? — спросил Бельмондо.
— Нет ли трешки до среды? — поинтересовался Монтан.
— Что сегодня по телевизору? — задал вопрос Жан Маре.
Красноперов поднял руки и отчаянно воскликнул:
— Где это я? Где?!
— Рифмуй, — пикантно ответил ему грубиян Бельмондо.
Дирижер взмахнул палочкой. Оркестр заиграл «Сентябрь в Париже». Анук Эме протянула свою фотографию с надписью:
«Милому товарищу Красноперову.
Если любишь — береги
Как зеницу ока,
А не любишь — то порви
И забрось далеко.
Твоя Анук».
Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред. Разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить. Но поздно, поздно что-то изменить...
Ослик должен быть худым
Сентиментальный детектив
События, изложенные в этой грустной повести, основаны на реальных фактах. Автор лишь изменил координаты мощного советского ракетодрома, а также — отчество директора химчистки, появляющегося в заключительных главах.
Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам ЦРУ, майору Гарри Зонту и лейтенанту Билли Ярду, предоставивших в его распоряжение секретные документы огромной государственной важности.
И наконец, автор приносит извинения за те симпатии, которые он питает к центральному герою, и более того — корит себя за это, но, увы, глупо было бы думать, что наши страсти рвутся в бой лишь по приказу добродетели!
Утро Джона Смита состояло из ледяного душа, вялой перебранки с массажистом, чашки кофе и крепчайшей сигареты «Голуаз».
Джон выглянул в окно. В бледном уличном свете растворялись огни реклам. Последние назойливые отблески мерцали на крышке радиолы.
Джон Смит лег на диван и разорвал бандероль с американским военным журналом.
Раздался звонок. Джон Смит, тихо выругавшись, поднял трубку.
— Да, сэр, — произнес он, — отлично, сэр, как вам будет угодно, сэр. О’кей!
Джон Смит оделся и после тщетных попыток вызвать лифт спустился вниз. На уровне второго этажа его догнала ярко освещенная кабина. Там целовались.
Джон Смит с раздражением отвернулся и тотчас подумал: «Я стар».
У подъезда его ожидал маленький служебный «бугатти». Шофер кивнул, не поворачивая головы. Джон сел в машину и профессионально откинулся на апельсинового цвета сиденье, чтобы его нельзя было видеть с улицы.
Через несколько минут автомобиль затормозил у кирпичного здания с широкими викторианскими окнами.
Джон Смит кинул в узкую щель свой жетон и, миновав турникет, поднялся на четвертый этаж.
Майор Кайли встретил его на пороге. Это был высокий офицер с мужественными чертами лица. Даже лысина не делала его смешным.
Секретарша принесла бутылку виски, лед и два бокала. Приветливо улыбнувшись Джону Смиту, она незаметно шевельнула плечами, поправляя белье.
— Я обеспокоен вашим состоянием, Джонни, — начал майор, — вы теряете форму. Недавно один из сотрудников видел вас в Музее классического искусства. Вы разглядывали картины старых мастеров. Если разведчик подолгу задерживается около старинных полотен, это не к добру. Вы помните случай с майором Барлоу? Он пошел на концерт органной музыки, а через неделю выбросился из небоскреба. На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет...
— Какой ужас, — произнес Джон Смит.
— Я рад, что сотрудник заметил вас в музее и предупредил меня.
— Позвольте узнать, сэр, что делал в музее ваш сотрудник?
— Так, пустяки, — ответил майор, — брал дактилоскопические оттиски у конголезского генерала Могабчи. Накануне генерал Могабча знакомился с экспозицией, и отпечатки его пальцев сохранились на бедрах мраморной Венеры.
— Я знаю эту копию, сэр, — произнес Джон Смит, — эклектическая вещь, бесформенная, грубая.
— Генерал придерживался иного мнения. Впрочем, мы отвлеклись.
— Слушаю вас, сэр.
Майор разлил виски. Кусочек льда звякнул о стенку бокала.
— Мне бы не хотелось потерять вас, Джонни. Я не намерен лишать себя ваших услуг. Мы вас ценим. В прошлом вы отличный работник и честный американец. Честный американец — это тот, кто продается один раз в жизни. Он назначает себе цену, получает деньги и затем становится неподкупным. В последние месяцы с вами что-то стряслось. У меня такое ощущение, как будто все железные детали в вас заменили полиэтиленовыми. Вы не взглянули на мою секретаршу, вы не допили виски, короче, вы не в форме.
— Видно, я старею, сэр.
— Чепуха! Возьмите себя в руки. Мы решили помочь вам, Джонни. Необходимо, чтобы вы вновь поверили в себя. Два года простоя отразились на вашем состоянии. Вам надо жить нормальной жизнью.
Джон Смит прикрыл глаза. Он тотчас увидел пологий берег Адриатического моря, стук мяча неподалеку, сборник Джойса, темные очки...
— Мы решили послать вас в Москву, Джон Смит. Вы чем-то недовольны?
— Я офицер и не обсуждаю приказы начальства, — сказал Джон Смит.
Майор Кайли с удовольствием хлопнул его по плечу, шагнул к стене и, откинув муаровую занавеску, указал на карту мира:
— Нас интересуют стратегические объекты русских в квадрате У-15. Так вот, вы оказываетесь в России, поступаете на работу, заводите друзей, а через год к вам является коллега, и вы начинаете совместные акции. Все ясно?
— Да, сэр.
— Полагаю, вы не утратили навыки оперативной работы. Мне стоило большого труда отстоять вашу кандидатуру перед генералом Ричардсоном. Вы должны оправдать мои надежды, Смит.
— Не сомневайтесь в этом, господин майор.
— Вас ожидает цепь злоключений. Мало ли что встретится на вашем пути. Вам придется рисковать. От вас потребуется физическая сила и выносливость. Например, вы сможете переплыть реку?
— Да, сэр.
— Главное — плыть не вдоль, а поперек.
Джон Смит кивнул, давая понять, что считает это замечание ценным.
— Вам нужно подготовиться, усовершенствоваться в языке. Как по-русски «гуд бай»?
— До свидания, пока, счастливо оставаться, будь здоров.
— В СССР надо работать осторожно. Не вздумайте предлагать русским деньги. Вы рискуете получить в морду. Русских надо просить. Просите, и вам дадут. Например, вы знакомитесь в ресторане с директором военного завода. Не дай бог совать ему взятку. Вы обнимаете директора за плечи и после третьей рюмки говорите тихо и задушевно: «Вова, не в службу, а в дружбу, набросай мне на салфетке план твоего учреждения».
— Я учту ваши советы, мистер Кайли.
— Вы должны будете принимать во внимание известную строгость русских нравов. Гомосексуализм, например, у них в полнейшем упадке. В России за это судят.
— А за геморрой у них не судят? — ворчливо поинтересовался Джон Смит.
Майор подошел к столу, выдвинул ящик, достал оттуда брикет сливочного мороженого и разломил его.
— Мороженое заменит вам пароль, — сказал он, — одна половинка будет у вас, другая — у человека, который явится год спустя. Вы соединитесь и начнете действовать вместе. Ну, кажется, все. Можете идти. В девятом отделе получите легенду и необходимое снаряжение. Дайте-ка я пожму вашу руку.
Джон Смит вышел на крыльцо особняка. Посреди зеленого газона вращался шланг с блестящим наконечником. Был полдень. Возле государственных учреждений скапливались автомобили.
Джон Смит шел вдоль ограды. Остановился, достал сигарету. Из кулака его узким белым лезвием выскользнуло пламя газовой зажигалки. Огонек на солнце был почти невидим.
Разведчик свернул за угол... «Бугатти» медленно ехал за ним, прижимаясь к тротуару. Затем он наклонился к шоферу, который выслушал его, не поворачивая головы.
— Вы бы ехали домой, Роджер, мне надо побыть одному.
Машина рванулась вперед, тотчас затерявшись в уличном потоке.
В этот день Смит пришел домой позже обычного. Галстук торчал у него из кармана. Он одолел три лестничных пролета, словно забрался по вантам в девятибалльный шторм. Дверь кокетничала с ним, водила за нос, наконец в замочной скважине со стуком утвердился ключ. Джон Смит, качаясь, пересек свои апартаменты, чмокнул боксерскую грушу и уснул на диване, не снимая континентальных стетсоновских полуботинок.
Темной мартовской ночью американский военный «Спитфайр» пересек западную границу Советского Союза.
Джон сидел рядом с пилотом. В кабине было тесно. Летчик, передвигая рычаги, задевал колени Джона Смита.
Сквозь иллюминатор виднелось усыпанное звездами небо. Внизу редко и беспорядочно мерцали огни.
— Мы приближаемся, сэр, — заметил летчик, взглянув на фосфоресцирующий пульт. — Желаю удачи, — добавил он после того, как разведчик откинул крышку люка.
— Благодарю, — сказал Джон Смит и шагнул в черную бездну.
«Спитфайр» промчался мимо.
Минута. Вторая. Третья. Земля, быстро увеличиваясь, летела навстречу. Стали видны очертания деревьев.
— Ах черт, едва не забыл! — воскликнул Джон Смит и рванул дюралевое кольцо.
В ту же секунду из ранца, который болтался у него за спиной, со свистом выскользнуло шелковое белое пламя парашюта, последовал сильный толчок, стропы натянулись, и над головой Джона Смита утвердился широкий, слегка вибрирующий купол.
Еще через минуту разведчик, согнув колени, опустился в податливый мартовский снег.
Парашют лежал рядом, медленно опадая.
Джон Смит огляделся. Темный лес окружал небольшую поляну. Из-за деревьев выглядывали звезды.
«Для начала неплохо», — подумал Джон Смит.
Он встал, скинул ранец, притянул за ремни белую ткань, скомкал ее и поджег.
В правом кармане лежали фальшивые документы, в левом — браунинг, ампула с ядом оттягивала воротничок сорочки.
«Омниа меа мекум порто, — невесело усмехнулся Джон Смит, — все мое ношу с собой!»
Он достал консервы и поел. Затем подбросил сучья в костер, расстелил брезентовый плащ и задремал.
Снились ему далекие годы. Залитый солнцем стадион политехнического колледжа. Футбольное поле. Зеленая трава. Полосы мокрой известки. За барьером толпы зрителей с программками в руках. Музыканты в белых куртках исполняют национальный гимн. Гуськом выходят футболисты. Вторым идет он, Джонни Смит, молодой, загорелый. На нем бутсы с шипами, полосатая фуфайка и гетры. В согнутой руке он держит шлем...
Джон Смит ощутил на себе чей-то пристальный взгляд.
Он выхватил пистолет из кармана.
Перед ним стоял тамбовский волк и дружески улыбался.
— Привет, — сказал тамбовский волк.
— Хеллоу! — произнес разведчик, смущенно пряча браунинг в карман.
— Не разбудил?
— Мне как раз пора вставать.
— Озябли?
— Есть маленько.
— Вы, собственно, что тут делаете?
— Да так... грибы собираю.
— А парашют сожгли?
— Естественно. Садись, погрейся.
— Благодарю. Дела.
— Как знаешь.
— Пойду.
— До свидания, дружище.
— Чао, — произнес тамбовский волк и растворился во мраке.
Рано утром Джон Смит вышел из лесу и по горбатой дороге зашагал к темнеющим на фоне снега домам рабочего поселка.
Маленькие ветхие лачуги были вынесены на окраину прибоем шиферных и черепичных крыш, а в самом центре попадались двухэтажные каменные строения с яркими вывесками и заманчивыми витринами.
Навстречу шли мужчины в ватниках и женщины в темных платках. Их лица были по-утреннему хмуры.
Джон Смит замедлил шаги у дверей сельмага.
Со стуком бился на ветру газетный лист. У обочины, наклонившись, стояла грузовая машина.
Разведчик зашел в магазин, купил велосипед «ХВЗ», сел на него и поехал в Москву.
Солнце без усилий катилось рядом. Его невесомые мартовские лучи падали на обода и спицы. По бокам от дороги лежала белая гладь, штопанная заячьими следами. Колеса вязли в жидком снегу. Лес издали казался глухим и мрачным.
Джон Смит крутил педали и насвистывал песенку, которую слышал от одного лейтенанта в оперативном центре:
Каждый вечер бьют кремлевские куранты
И сияет над бульварами закат,
Вся Москва давно уснула, но не дремлют диверсанты,
До утра у передатчиков сидят.
Если Бог не наградил тебя талантом,
Не печалься, в этом нет твоей вины,
Кто-то вырос коммерсантом, кто-то вырос диверсантом,
Ведь на свете все профессии нужны!
В эту секунду черная тень метнулась под колеса. Посреди дороги стоял тамбовский волк.
— Я передумал, — сказал он, — возьми меня с собой. Вместе будем хулиганить. Тошно, брат, в лесу. Ни друзей, ни близких. Опротивела мне вся эта некоммуникабельность.
— Проблема номер один, — кивнул Джон Смит.
— Знаешь, как шутят у нас в тамбовских лесах? «Волк волку — человек». Сразиться не с кем. Одни зайцы. Мечтаю о настоящем деле. Короче, возьми меня с собой — денщиком, ординарцем, комиссаром...
Разведчик поглядел на него с сомнением:
— Вести себя умеешь?
— Еще бы. И вообще, я могу сойти за крашеного пса.
Джон Смит задумался. Велосипед лежал у его ног. Переднее колесо вращалось, и спицы мерцали в лучах небогатого зимнего солнца.
— Ладно, — сказал наконец разведчик, — беру. Только учти, главное в нашем деле — дисциплина. Понял?
— Да, сэр, — просто ответил волк.
— И чтоб на людей не кидался.
— Это я-то? — обиделся серый. — Да мое основное качество — человеколюбие.
Разведчик сел на велосипед, и они помчались дальше.
Волк делал огромные скачки, напевая:
В разгар беспокойного века,
В борьбе всевозможных идей,
Люблю человека, люблю человека,
Ведь я гуманист по природе своей!
Люблю человека в томате,
А также люблю в сухарях,
И в супе люблю, и в столичном салате,
Люблю человека и славлю в веках!
Москва встретила наших героев сиянием церковных куполов, бесконечным людским потоком, комьями грязного снега из-под шин проносившихся мимо автомобилей.
Разведчик пообедал в буфете самообслуживания, а новому другу, которого оставил на улице, привязав к велосипедной раме, вынес два бутерброда с ветчиной, завернутые в салфетку.
Затем они направились к рынку. Вдоль стен темнели и поблескивали лужи, капало с крыш. Теплый мартовский ветер налетал из-за угла.
Друзья, не торгуясь, сняли у грустной вдовы комнату с панорамой на Химкинское водохранилище.
— А пес по ночам не будет лаять? — спросила хозяйка.
Серый от унижения чуть не выругался. Джон Смит вовремя наступил ему на лапу.
— Не будет, — заверил разведчик, — он воспитанный.
— Умные глаза у вашей собачки, — произнесла вдова, — как будто хочет что-то сказать, но не может.
Комната была светлой и просторной. Над столом висела пожелтевшая фотография мужчины в солдатской гимнастерке и в очках. Хозяйка унесла ее с собой.
Джон Смит сунул браунинг под подушку, расстелил в углу для волка старое пальто.
— Вот мы и устроились, — сказал он.
— А когда идем на дело? — поинтересовался тамбовский волк.
— Главная наша задача — освоиться в Москве. Дальнейшие указания поступят вскоре.
— Может, покусать кого из членов правительства?
— Категорически запрещаю! — Джон Смит хлопнул по столу ладонью. — Ты провалишь нас обоих. Никакой спешки. Терпение и мужество — вот основные добродетели разведчика.
— Тогда хоть слово какое нацарапаем на заборе?
— Я сказал — нет.
— Может, намусорим где? — не унимался волк.
— Ни в коем случае, — сказал разведчик, принимая официальный тон, — вы поняли меня, капрал?!
— Да.
— Вы хотели сказать: «Да, сэр».
— Да, сэр, — пробормотал тамбовский волк и негромко добавил: — Анархия — мать порядка!
Каждое утро Джон Смит гулял со своим другом на пустыре, огибая напластования бетонных секций, полусгнившие доски, ржавые фрагменты арматуры, шагая среди битых стекол, окаменевших и непарных башмаков, консервных банок, мерцавших из-подо льда, как рыбы, потом он отводил тамбовского волка домой, сбегал по лестнице вниз, хлопала дверь за его спиной, и оказывался на тронутых неуверенными мартовскими лучами улицах древней столицы.
Он заходил в булочные и пивные, часами сидел без нужды в приемной исполкома, томился в очереди за говяжьими сардельками, оглашал пронзительными криками своды зала в Лужниках, присматривался к незнакомой державе. Он покупал лотерейные билеты, ездил в метро, смотрел, как работают водолазы, переводил старушек через улицу, листал «Неделю», замирал перед картинами в Третьяковской галерее, разнимал мальчишек в городском саду, кормил воробьев и, распахнув пальто, глядел на солнце.
