автордың кітабын онлайн тегін оқу Пространственная история. Три текста об истории
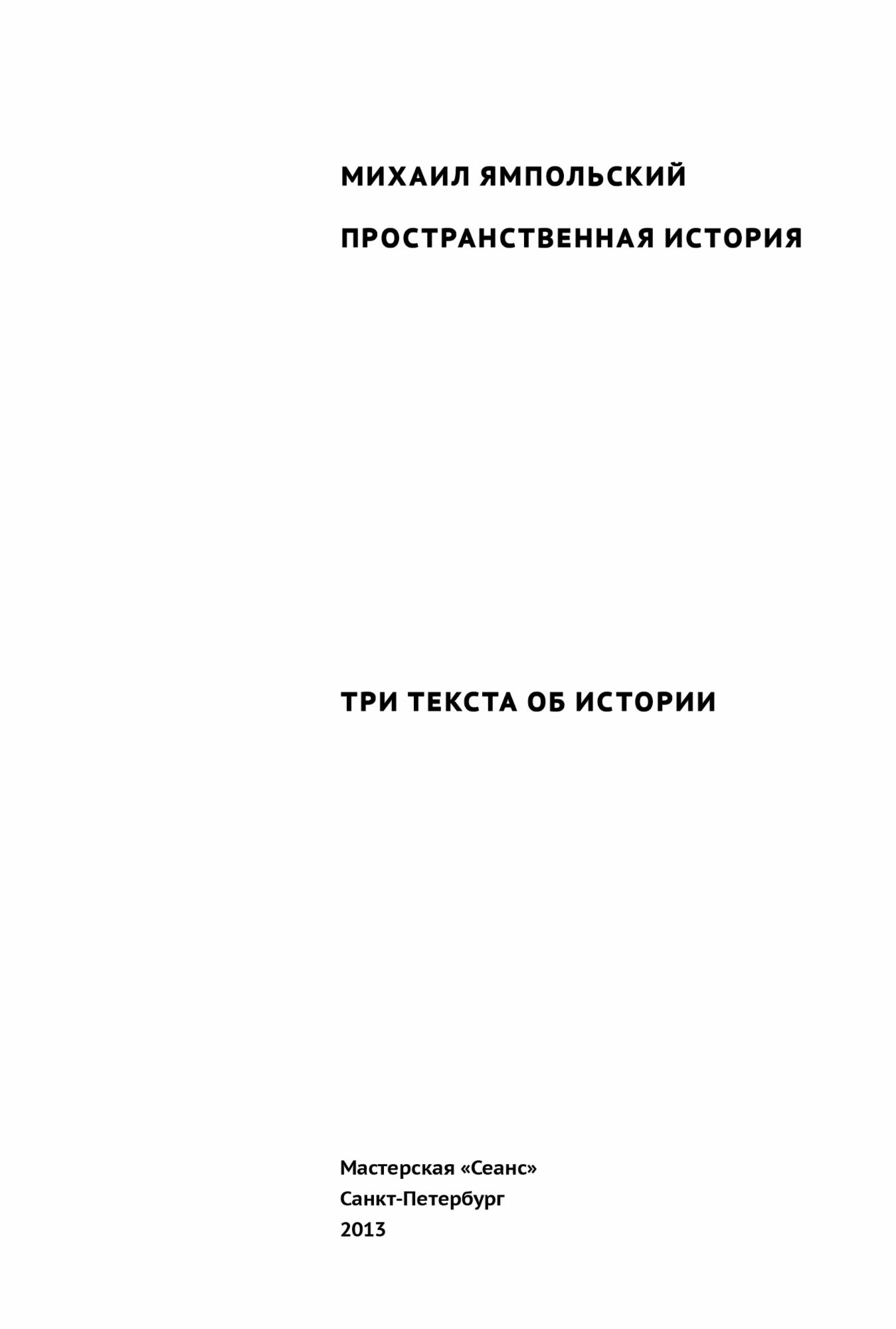
Предисловие
Эта книга состоит из трех текстов, двух объемных и одного относительно короткого. Первый — «История культуры как история духа и естественная история» был написан в 2003 году, два других — в 2013 году. И хотя между первым и вторым текстом прошло десять лет, читатель легко увидит множество существующих между ними перекличек и заметит сходство в их организации, вплоть до формы используемых мной подзаголовков. Из одного текста в другой переходят и герои, такие как Мандельштам, Тынянов или Виолле-ле-Дюк. К тому же два основных текста книги постоянно обращаются к мотивам в той или иной степени затронутым мной в других книгах и статьях. Текст 2003 года подхватывает темы моей книги «Ткач и визионер», а текст 2013 года «Космография и лабиринт» прямо продолжает мотивы моей старой книги «Демон и лабиринт».
Предлагаемые читателю тексты посвящены истории. Но история эта принимает в них несколько причудливый характер. Множество книг посвящено нарративизации истории, ее превращению в линейный хронологический рассказ, иными словами, историографии как литературному жанру. Гораздо меньше внимания уделялась превращению истории в изображения, картины (например, пейзаж), скульптуры (например, восковые портреты), артефакты, коллекции, руины, карты, мемориалы и прочее. Я называю такую историю «пространственной». Ее возникновение укоренено в антропологию, а именно в свойство человека опространствливать время. Бергсон, для которого конверсия времени в пространство была главной философской интуицией, писал: «…мы заимствуем у пространства все образы, посредством которых мы описываем чувство времени и даже последовательности…»*
Поскольку уход от хронологии и линейности был принципиальным для моего понимания истории, тексты книги сами отражают этот отказ от линейности. Отсюда частые сближения далеких мест и имен и бросающаяся в глаза эксцентричность переходов от одного смысловому блока к другому.
И наконец, последнее: эта книга мной не планировалась, и я бы не написал ее, если бы не энтузиазм моего друга и издателя Константина Шавловского. В каком-то смысле книга — это результат дружеского давления. В разговоре с ним я неосторожно упомянул, что у меня есть несколько текстов об истории, которые можно было бы сложить под одну обложку. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что на основе своего аспирантского курса о пространственной репрезентации истории, я прочитал в Костином книжном магазине «Порядок слов» лекцию на эту тему. Без моего внятного согласия еще не написанная книга оказалась в издательском плане, а мне не оставили выбора. Не буду рассказывать в красках, сколько раз я проклинал свою мягкотелость и Костино упрямство. Теперь, когда книга написана, и все мои мучения оказались позади, я с удовольствием выражаю свою благодарность своему неуемному другу, чей авантюризм, вера в мои писательские способности и упорство заставили меня написать то, что сегодня, вы, мой читатель, держите в руках.
* Бергсон Анри. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 743.
* Бергсон Анри. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 743.
I. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
КАК ИСТОРИЯ ДУХА
И ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
Сергею Козлову — продолжение наших разговоров
1. Ренессансные истоки
Модель истории культуры, которая доминирует сегодня, восходит к Ренессансу. История эта хорошо известна, но ради ясности изложения я вкратце напомню ее.
Вплоть до конца Средних веков не существовало четкого различия между ремеслом и искусством. То, что Средневековье называет искусством, относится прежде всего к «семи либеральным искусствам», составляющим основу университетского образования. Термин artista, придуманный в Средние века, относился либо к ремесленнику, либо к студенту, изучающему «либеральные искусства».
Борьба за эмансипацию искусства началась довольно рано, и ее центром стала Италия, по преимуществу Флоренция. Борьба эта увенчалась выделением цеха художников из корпорации лекарей и аптекарей, к которой ранее принадлежали живописцы и скульпторы. Возникла автономная художественная корпорация Святого Луки. Вазари выделил изобразительные искусства из ряда иных искусств и определил их как arti del disegno — «изящные искусства». Одновременно возникли так называемые академии, чья роль в интересующей меня истории особенно велика. Именно в рамках академий ренессансное искусство получило свою идеологическую программу, именно в них искусство было переосмыслено в интеллектуальных категориях науки, тут получила обоснование математическая теория линейной перспективы [1]. Но главное, именно в рамках академий, в частности флорентийской академии под руководством Марсилио Фичино, была разработана жизненно важная для судеб искусств философия ренессансного неоплатонизма. В 1563 году под влиянием все того же Вазари флорентийские художники окончательно порывают с цеховой (а следовательно, и ремесленной) организацией и объединяются в Академию — Accademia del Disegno. Здесь живопись изучают вместе с научными дисциплинами, такими, как геометрия и анатомия.
Именно отсюда идет почтенная традиция многочисленных европейских академий и живописного академизма. Неоплатонизм сыграл существенную роль в этой истории потому, что он обосновал фундаментальное переосмысление понятия мимесиса, которое со времен античности определяло сущность искусства. В доренессансной традиции искусства понимались как выразители techne, умения копировать. Во многих дошедших до нас документах о художниках говорится как о магах, способных копировать реальность до полной неотличимости от оригинала [2]. Неоплатонизм предлагает другую модель имитации — не природы, но идеи, некой высшей, идеальной платонической формы. В обиход искусства вводится понятие красоты (в платоническом смысле), идеала [3]. Искусство, таким образом, отрывается от чисто ремесленного подражания природным объектам и вводится в область философского осмысления бытия. Тем самым завершается процесс сублимации искусства и вознесения художника на пьедестал божественного гения. Ведь именно он наделяется способностью прозревать невидимые для простого смертного идеи.
Видный теоретик французского классицизма Роже де Пиль уже говорил о двух формах мимесиса: «простом подражании» и «идеальном подражании». Эрвин Панофский, исследовавший платонизацию искусства во времена Ренессанса, писал, что фундаментальный сдвиг от Средневековья к Ренессансу заключался в том, что «объект был извлечен из внутреннего мира воображения художника и твердо перенесен во „внешний“ мир» [4]. Поскольку идея, которой следовало подражать, теперь находилась вовне, в некой трансцендентной сфере, то понадобилась и теория искусства, которая стала теорией постижения идеи, теорией ее познания, а также теорией общих правил и законов, связанных с ее существованием. Средневековое искусство (ремесло) свободно обходилось без теории и постулирования норм.
Возникновение академий и теоретического дискурса имело совершенно принципиальное значение для возникновения современного понимания истории искусства. История эта отныне могла описываться как нечто принципиально связанное с историей идей, философии и познания. История, таким образом, могла стать связанной наррацией, способной производить такие внушительные идеологические синтезы, как «Эстетика» Гегеля, в которой искусство описывалось как манифестация саморазвития идеи. До Ренессанса истории искусства не существовало, отдельные же художественные артефакты не осмысливались в рамках какой бы то ни было исторической телеологии. Они существовали как бы каждый сам по себе, лишь как проявление индивидуального мастерства его создателя.
Сегодняшние искусство и литература, конечно, внутренне не связаны с платонической традицией, и все же, на мой взгляд, они интегрируются в историю в основном на основании связанного с ними теоретического дискурса — главной модели истории искусства. Даже работы Дюшана, радикально покончившего с эстетическим платонизмом, паразитируют на теоретическом дискурсе, без которого они просто утрачивают какой бы то ни было художественный смысл. Чистые же проявления мастерства — techne — не допускаются выше любительских коллекций или сферы прикладного искусства вроде ювелирного. Они выводятся за пределы истории искусства и литературы. Вот почему я считаю, что мы существуем сегодня внутри если и не платонической, то дискурсивно-идеологической истории культуры. Лишь то, что идеологически освоено культурой, вводится ей в историю. В такой ситуации материальный объект как таковой, если он оторван от теоретической дискурсивности, всегда выпадает из истории.
[4] Panofsky Erwin. Idea. A Concept in Art Theory. N. Y.; San Francisco: Harper & Row, 1968. P. 50.
[3] Оскар Кристеллер замечает, что в эпоху Ренессанса понятие красоты все еще не относится к искусству, но к личной красоте человека. Процесс платонизации искусства на основе понятия красоты завершается лишь в XVII веке (Kristeller Oskar. Renaissance Thought and the Arts. Princeton: Princeton University Press, 1990. P. 186).
[2] Об этом см.: Kris Ernst, Kurz Otto. Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist. New Haven: Yale University Press, 1979. P. 61–90.
[1] Энтони Блант указывает на то, что стремление стать одним из либеральных искусств, а не ремеслом связано с «превосходством интеллектуального над ручным и механическим», поскольку ручной труд рассматривался многовековой традицией как «низкий». Отсюда и характерная для некоторых ренессансных трактатов иерархия искусств, в которой живопись помещается выше, чем скульптура, требующая значительных физических усилий (Blunt Anthony. Artistic Theory in Italy 1450–1660. Oxford: Oxford University Press, 1962. P. 54–55).
2. Проблема готики
Новое понимание искусства сразу же сказалось на невозможности интегрировать в его историю такой длительный период, как Средневековье. Трехчленная схема истории искусства, согласно которой «золотой век» античности сменился варварским регрессом Средневековья, с которым покончило возрождение искусства в Италии, уже намечается у Боккаччо и Филиппо Вилани, но вполне концептуальный характер, как показал Юлиус фон Шлоссер, схема эта приобрела у знаменитого скульптора Лоренцо Гиберти [5]. По существу, речь шла о гигантском провале в истории культуры. Греция была родиной платонизма, здесь возникла идея красоты, выраженная в симметрии и гармонии пропорции. Греческое искусство поддается интеграции в историю точно так же, как и ренессансное — через платонизм и соотнесенность с идеей. Готика же выпадает из истории потому, что не знает никакой философской теории, она в принципе не соотносится с теоретическим дискурсом — от Средних веков до нас дошли лишь практические инструкции мастерам и никакой эстетики.
Вазари канонизировал схему, согласно которой Средние века — эпоха утраты интеллектуальных и культурных ориентиров, которая выражалась в забвении правил и норм (ведь платоническая история не может обойтись без понятия нормы). Он писал о ненавистной ему «греческой» (византийской) и «немецкой» (готической) «манерах»:
А так как уже не осталось ни следа, ни признака чего-либо хорошего, то люди следующих поколений, грубые и низменные, в особенности по отношению к живописи и скульптуре, начали, под влиянием природы и смягченные климатом, предаваться творчеству не по указанным выше правилам искусства, ибо они их не имели, а лишь в меру своих способностей [6].
Два момента не позволяют ввести готику в историю искусства — ее связь исключительно с индивидуальным мастерством (не опирающимся на общие правила разума) и ее связь с индивидуальным воображением мастера, тем, что Панофский определял как «внутренний мир воображения». Я бы определил качество готического искусства, которое делает его неприемлемым для историографии Вазари, как сингулярность. Поскольку каждый готический артефакт сингулярен, то есть соотнесен лишь с фантазией и мастерством художника, он не может быть вписан в идеологическую историю культуры.
Любопытно, что, когда Монтескье столетия спустя будет писать о готике, он, по существу, воспроизведет аргумент Вазари и объяснит с его помощью выпадение готики из истории:
Готическая манера не является манерой какого-либо народа в частности; это манера рождения или конца искусства <…>. Когда начинают делать фигуры, первая мысль — их рисовать, и рисовать их так, как умеешь… [7]
Готика существует вне хронологии, вне истории — она относится либо к началу, либо к концу, даже если традиционно мы приписываем ее серединным — Средним векам. Ее внеисторичность объясняется ее внекультурностью, несоотнесенностью с культурой как совокупностью норм и правил.
Между тем уже в эпоху Ренессанса начинаются попытки освоить средневековую сингулярность в категориях культуры. Принципиальным тут является отношение к готическому мотиву монстров, химер, гаргулий, столь характерному для оформления готических соборов. Монстр, по определению, является порождением фантазии художника и выражением нарушения всех правил гармонии и красоты. Монстр — это материальное воплощение сингулярности, нарушения нормы, патологии [8]. Ренессансное искусство ассимилирует монстров в традицию с помощью насильственного чтения их в кодах платонизма. Принципиальным тут является фрагмент из платоновского «Пира», из панегирика Алкивиада Сократу, где тот сравнивает его с Силеном (216d–217a):
Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полое изваяние Силена. А если его раскрыть, сколько рассудительности <…> найдете вы у него внутри! Да будет вам известно, что ему совершенно неважно, красив человек или нет <…>. Не знаю, доводилось ли кому-либо видеть таящиеся в нем изваяния, когда он раскрывался по-настоящему, а мне как-то раз довелось, и они показались мне такими божественными, золотыми, прекрасными и удивительными… [9]
Готические фигуры понимаются как урод Силен, аллегорически скрывающий под своей монструозной внешностью идею добра и красоты. Рабле начинает пролог к «Гаргантюа» со ссылки на монолог Алкивиада и сравнивает свой роман с Силеном (Рабле, как известно, не любил готики), хотя и описывает его облик в духе готических гротесков [10]. Внешне роман Рабле похож на готическое творение, но то, что представляется чистой сингулярностью монстра, в действительности является лишь аллегорией добра, красоты и т. д. Роман, по мнению автора, должен быть прочитан платонически [11]. Он отсылает к сфере идей.
Аллегоризация — основная процедура ассимиляции готики постренессансной культурой. Принципиальным моментом тут явилась возможность интерпретировать готические гротески как иероглифы по типу иератических знаков египетского письма. Не случайно, конечно, неоплатонизм, и в частности интерпретации Марсилио Фичино, был основой иероглифизации и аллегоризации средневековых монстров. Фичино считал, что создатель герметизма Гермес Трисмегист был египетским жрецом, от него тайное знание перешло к Пифагору, который, в свою очередь, передал его Платону [12]. Таким образом, Платон оказался чуть ли не праотцем готического гротеска.
Насильственная интерпретация гротесков как неоплатонических иероглифов сыграла существенную роль в становлении новоевропейской эмблематики. Работу по адаптации фантастической готики к платоническим аллегориям осуществляли многие теоретики, среди которых особое место занимают Пирро Лигорио, Пиеро Валериано и Джованни Паоло Ломаццо. Показательно, что Ломаццо в 1568 году публикует книгу Discoroso interno al Sileno, в которой сравнение Сократа с Силеном из платоновского «Пира» буквально возводится в методологию чтения гротесков [13].
В итоге складывается такая ситуация, когда монстры, традиционно считавшиеся чудесами и «отклонениями» естественной истории, превращаются в аллегории даже тогда, когда они вовсе и не относятся к художественному тексту. Происходит платоническая аллегоризация самой природы. Тезауро, например, в своей «Подзорной трубе Аристотеля» писал:
Я числю монстров среди изысков Природы. Дело в том, что монстры — это не что иное, как загадочные иероглифы, забавные образы (imagini facete), которые она создает либо для того, чтобы посмеяться над людьми, либо для того, чтобы их просветить. <…> Что хочет она сказать нам, когда заставляет человеческий голос лаять, порождая в сердце Азии некоторых людей с телом человека и головой собаки? Речь идет о странной эмблеме, с помощью которой она представляет нам словесную злокозненность Циников, критикуя их деяния с помощью подражания им [14].
Монстр трактуется Тезауро не как некая природная сингулярность, но как подражание идее. Я останавливаюсь на этих достаточно известных фактах из истории культуры потому, что они, на мой взгляд, показывают, каким образом ученые мужья и теоретики ассимилируют факты культуры, не вписывающиеся в их дискурс (монстры в платонический дискурс о красоте), насилуя их интерпретацию в рамках неоплатонической традиции. Гротески не могут быть введены в историю культуры без трансформации в неоплатоническую аллегорию. Это прежде всего связано с тем, что сингулярность, единичность монстра не позволяет ему вписаться во всеобщность теоретического дискурса, который целиком и полностью отвечает отныне за построение истории культуры.
Конечно, аллегоризация — это простая интерпретационная операция, которая утрачивает свое значение после появления так называемой научной истории искусств и литературы. Но перипетии Средних веков в культурологической историографии на этом не кончаются. Распад парадигмы неоплатонической аллегорики и идеализация Средних веков националистическим романтизмом вновь поставили проблему ассимиляции готики в историю культуры, но, конечно, совершенно в ином ключе.
Решительный шаг в этом направлении был сделан Вильгельмом Воррингером в начале XX века. Воррингер, конечно, бесконечно далек от ренессансного неоплатонизма, он находился под сильным влиянием Шопенгауэра, Ницше и Алоиса Ригля. В своем знаменитом «Духе готики» (1912) он определял характер средневекового искусства (которое он часто называл «северным») как абстрактный и энергетически витальный. При этом витальность орнаментальной абстракции и сверхэкспреcсивной линии в это время еще, по мнению Воррингера, не могла соединиться со знанием природы, возникающим в эпоху Ренессанса; отсюда — как бы несвязанность витальности знанием и объективными природными формами, которая и порождает фантастические гротески:
За доступной глазу видимостью вещей скрывается карикатура, за безжизненностью вещи — тревожащая, призрачная жизнь, так что все существующие вещи становятся гротеском. Его порыв к знанию, не получая естественного удовлетворения, истощает себя в диких фантазиях [15].
Духовная незрелость в готике соединяется с интеллектуальной изысканностью схоластики. Воррингер не читает гротески как аллегории идей, они для него — выражение искаженного взгляда на идеи, деформации под влиянием еще не связанной знанием витальности. Казалось бы, перспектива Воррингера совсем не платоническая, но все же ему не удается освободиться от ренессансного предрассудка, согласно которому в классическом стиле выражается гармонически адекватное знание идей в природных формах. Когда Воррингер говорит о нехватке знания у готического человека, он имеет в виду не знание внешних природных форм, но именно знание неких скрытых за ними сущностей.
Но особенно хорошо видно значение платонической доктрины для истории искусства на примере Макса Дворжака и его влиятельной попытки ассимилировать готику в историю, предпринятой в книге с характерным названием «История искусства как история духа». Центральный текст этой книги «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи» (1915–1917) критически упоминает Воррингера как представителя чисто спекулятивного, философского подхода и предлагает свою схему. Если Гиберти и его единомышленники видели в средневековых художниках исключительно мастеровых, не озадаченных никакими идеологическими проектами и имевших дело лишь с «простой имитацией» и «материалом», то есть ничего не знавших о мире идей, то Дворжак просто переворачивает эту картину с ног на голову. Он предлагает читать средневековое искусство через призму высокой схоластики, как ее непосредственное выражение. С такой точки зрения готический мастер искажает природные формы потому, что интересуется сверхприродными, божественными сущностями в ущерб чистой материальности природы. Дворжак писал:
Понятие forma substantialis как отражение скрытых, независимых от всего меняющегося и постижимых лишь внечувственным сознанием изначальной красоты, и синтеза тайных, открывающихся лишь «духовному взору» причин и действий играет (перенятое из неоплатонической философии и перенесенное в христианское мировоззрение) в средневековой литературе от Августина до Фомы и далее, постоянно углубляясь и развиваясь, похожую, но еще более значимую роль, чем классически-материальный идеал красоты в теориях искусства Нового времени [16].
Как видно из приведенной цитаты, Дворжак осуществляет окончательную неоплатонизацию Средних веков (упоминание неоплатонизма у него, конечно, не случайно). Понятие forma substantialis, которое использует Дворжак, это, по сути — та же платоновская идея, только в схоластической упаковке. Закономерно, что форма эта «независима от всего меняющегося и постижима лишь внечувственным сознанием». Средние века в таком контексте не только не выпадают из истории, но вписываются в нее как некая кульминация, нисколько не уступая в напряженности ренессансному неоплатонизму. Прямое влияние доктрины Дворжака легко обнаруживается в знаменитой книге Панофского «Готическая архитектура и схоластика».
Показательно, что долгое время почти не осуществлялось попыток вписать Средние века в историю культуры, не связывая их с доминирующим неоплатоническим ученым дискурсом. К числу попыток обойти столбовую дорогу неоплатонизма следует, конечно, отнести блистательное исследование Анри Фосийона, чье «Искусство Запада в Средние века» появляется уже в 1930-е годы. Из ранних же интерпретаций радикально иного типа следует упомянуть Виолле-ле-Дюка и Джона Рескина, чья «Природа готики» (1853) занимает совершенно особое положение в интересующем меня контексте. Я еще вернусь к анализу работ Виолле-ле-Дюка и Рескина как представляющих особый интерес с точки зрения конструирования истории культуры.
[14] La métaphore baroque d’Aristote à Tesauro. Extraits du Cannocchiale aristotelico, présentés, traduits et commentés par Yves Hersant. Paris: Seuil, 2001. Р. 79–81.
[13] Morel Philippe. Les grotesques. Paris: Flammarion, 1997. Р. 45.
[12] Историю неоплатонических интерпретаций иероглифики см. в книге: Iversen Erik. The Myth of Egypt and Its Hieroglyphs in European Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1961. Классическими работами по истории неоплатонической иероглифики являются статьи Гомбриха, собранные им в отдельной книге: Gombrich E. H. Symbolic Images. Oxford: Phaidon, 1972.
[11] Платоническое чтение Рабле дано в книге: Mallary Masters G. Rabelaisian Dialectic and the Platonic-Hermetic Tradition. Albany: SUNY Press, 1969.
[10] «Силенами прежде назывались ларчики вроде тех, какие бывают теперь у аптекарей; сверху на них нарисованы смешные и забавные фигурки, как, например, гарпии, сатиры, взнузданные гуси, рогатые зайцы, утки под вьючным седлом, крылатые козлы, олени в упряжке и разные другие картинки, вызывающие у людей смех, — этим именно свойством и обладал Силен <…>. Но откройте этот ларец — и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье; живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимоеѕ» (Рабле Франсуа. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с фр. Н. Любимова. М.: Худож. лит., 1973. С. 29–30).
[9] Платон. Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2. С. 149.
[8] В Средние века монстры ассоциировались с чудом, как и такие творения рук человеческих, как готический собор. При этом они считались отражением греховности человеческой природы. Св. Августин полагал, что уродства, являющиеся знаками «покаянного состояния смертных», будут уничтожены после Страшного Суда и человечество возродится в идеальной субстанциональной форме (St. Augustine. The City Of God. Harmondsworth: Penguin Books, 1984. P. 1060). Об уродствах в средневековом искусстве см.: Friedman John Block. The Monstrous Races in Medieval Art and Thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981). Жорж Дюби, утверждая, что готика ориентировалась в основном на идеальную модель человека после его воскрешения, модель, подчиненную принципам божественной красоты и геометрической гармонии, буквально приписывает Средним векам те же черты, которые Ренессанс приписывал античности (Duby Georges. Le temps des cathédrales. L’art et la société 980–1420. Paris: Gallimard, 1976. P. 181–183.
[7] Montesquieu Ch.-L. De la manière gothique // Montesquieu Ch.-L. Oeuvres complètes. Paris: Seuil, 1964. Р. 363.
[6] Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М.: Астрель — АСТ, 2001. Т. 1. С. 157.
[5] Шлоссер не исключает в данном случае прямого влияния Плиния Старшего, который писал о том, что искусство окончательно погибло к 121-й Олимпиаде, а затем возродилось во время 156-й Олимпиады (Schlosser Julius von. On the History of Art Historiography — The Gothic // German Essays on Art History / Ed. by Gert Schiff. N. Y.: Continuum, 1988. P. 208).
[16] Дворжак Макс. История искусства как история духа. СПб.: Академический проект, 2001. С. 76.
[15] Worringer Wilhelm. Form in Gothic. N. Y.: Schocken, 1957. P. 82.
3. Бахтин, Пумпянский и Ницше
Бахтин относится к числу наиболее значительных отечественных гуманитариев, чрезвычайно заинтересованных в построении общей истории культуры, и литературы в том числе. Почти всюду он включает в свои исследования длительные генеалогические отступления. Бахтина интересует не столько конкретная история тех или иных жанров, сколько общая схема развития определенных художественных форм. Бахтин в данном контексте интересен своей безусловной приверженностью неоплатонической схеме истории культуры.
История, которая интересует Бахтина, — это история возникновения диалогического идеологического романа Достоевского. В поздней версии своей книги о Достоевском, куда Бахтин встроил длинное генеалогическое отступление, он прямо возводит идеологический роман Достоевского к сократическому диалогу, то есть, по существу, к Платону или, во всяком случае, к теоретическому дискурсу платонизирующих идеологов:
Героями «сократического диалога» являются идеологи. Идеологом прежде всего является сам Сократ, идеологами являются и все его собеседники <…>. И само событие, которое совершается в «сократическом диалоге» (или, точнее, воспроизводится в нем), является чисто идеологическим событием искания и испытания истины [17].
И далее Бахтин поясняет:
Идея в сократическом диалоге органически сочетается с образом человека — ее носителя (Сократа и других существенных участников диалога). Диалогическое испытание идеи есть одновременно и испытание человека, ее представляющего. Мы можем, следовательно, говорить здесь о зачаточном образе идеи [18].
Известно, что, по мнению Бахтина, на смену сократическому диалогу приходит мениппова сатира, в которой усиливается роль карнавальных элементов в представлении идеи. Мениппеи разного рода прямо определяются Бахтиным как «испытания идеи». Смеховая культура, проанализированная в книге о Рабле, без проблем вписывается Бахтиным в традицию платонизма. Сам выбор Рабле — ренессансного неоплатоника по своим убеждениям — на роль представителя «средневековой смеховой культуры» абсолютно показателен для общей направленности бахтинской истории литературы.
Я не намерен здесь пересказывать хорошо известную генеалогию диалогического романа в описании Бахтина. Меня интересует лишь один момент в генезисе его исторической концепции. В ранней книге «Автор и герой в эстетической деятельности» (1924), когда Бахтин еще не сформулировал принцип диалогичности и мыслил последнюю скорее в категориях «эстетической формы», содержится совершенно иная схема эволюции литературы.
Здесь Бахтина интересует генезис литературной субъективности. Он еще находится под сильным влиянием неокантианства и феноменологии и старается построить свою эстетику на принципе формы, которая включает в себя две взаимосвязанные структуры. Первая связана с миром автора, Бахтин называет ее «архитектонической формой». Она отличается незавершенностью («заданностью» в его терминологии) и динамическим энергетизмом. Это — субъективный мир автора, который сохраняет многие черты кантовского «трансцендентального эго», иными словами, он организует мир, но не включен в него на правах чего-то объективно данного, видимого извне. Вторая форма (иногда Бахтин называет ее «формой композиции») связана с миром героя, она характеризуется «данностью», завершенностью, а не открытой «заданностью». В аристотелевских категориях архитектоническая форма — это dynamis, а композиционная форма — energeia.
Бахтин возводит свою эстетическую конструкцию к античной трагедии, в которой, по его мнению, впервые проявляется неоформленная динамика архитектонической, «лирической» субъективности. Взгляд такой, конечно, далеко не банален, потому что обнаруживает лирическую субъективность в кажущейся ее противоположности — массовости хора:
Авторитет автора есть авторитет хора. Лирическая одержимость в основе своей — хоровая одержимость. <…> Лирика — это видение и слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с другими и для других. Лирическая самообъективация — это одержимость духом музыки, пропитанность и просквоженность им. Дух музыки, возможный хор — вот твердая и авторитетная позиция внутреннего, вне себя, авторства своей внутренней жизни. Я нахожу себя в эмоционально-взволнованном чужом голосе, воплощаю себя в чужой воспевающий голос [19].
Далее Бахтин показывает, что именно выделение из хора индивидуального актера и есть исток появления внешней, законченной формы героя, который перестанет растворяться в экстатической недифференцированности хорового дионисийства: «герой начинает не совпадать с самим собою, начинает видеть свою наготу и стыдиться, рай разрушается. Образцы прозаической лирики, где организующей силой является стыд себя самого, можно найти у Достоевского» [20].
Нетрудно заметить, что вся эта схема возникновения эстетической формы и ситуации несовпадения с собой, «вненаходимости», как писал Бахтин, заимствована у Ницше из его «Рождения трагедии из духа музыки». То, что Бахтин выводил на этом этапе Достоевского из дионисийства, свидетельствует, конечно, о сильном влиянии Вячеслава Иванова, на которое неоднократно указывалось. В наиболее внятной форме такую генеалогию представил ближайший друг Бахтина Лев Пумпянский в своей книге «Достоевский и античность» (1922).
Для всей филологии Пумпянского принципиально положение о том, что «русская литература есть одна из литератур, происшедших от рецепции античности» [21]. В своем труде «История русского классицизма» он описывает историю такой трансляции античной традиции в Россию. Трансляция эта проходит множество этапов — через Францию и Германию, например. Он определяет главную особенность русской литературы как «формальную рецептивность». По его мнению, некоторая «формальная тема» получает свое завершение в культуре только в России: «возможно измерить громадный пройденный путь ее прототипа на Западе до позднего зрелого плода в России, заканчивающего целую традицию, которая — в иных случаях — только здесь и получает свой полный смысл» [22].
В книге о Достоевском Пумпянский заявляет о том, что в эпоху Петра «не просто Европой было захвачено Московское государство, а Европою Ренессанса» [23]. Но Ренессанс понимается Пумпянским совершенно не в духе гуманистического неоплатонизма, а абсолютно анахронистически — в духе Ницше:
Партия друзей дионисического божества основала его столицу на Неве, и Пенфей на Москве покорился гостям. Этот типично дионисийский восторг был началом русской трагической культуры, и в поэзии Достоевского можно видеть его заключительные судьбы. Восторг привел к чистосердечному исповеданию Ренессанса, т. е. к некритической эстетике и историке, наивно через головы Ренессанса подающей руку античности. Чистосердечно и восторженно дворянство стало аристократией. Как дионисически наивны екатерининские портреты! [24]
Пумпянский строит свою теорию подобно ренессансным гуманистам, как концептуальную историю некой идеи, переходящей из времени во время, из страны в страну и претерпевающей метаморфозы. Это типичная идеологическая, дискурсивная история, но строящаяся не на основе платонизма, а на основе ницшеанского дионисийства.
Метод Пумпянского любопытен. Так, он обнаруживает у Достоевского прямые, хотя и измененные фрагменты античной культуры, понятые по Ницше. У Ницше аполлоническое возникает из дионисийского в виде грез, сновидений. Пумпянский обнаруживает трансформированную форму этих аполлонических фрагментов в грезах и мечтаниях героев Достоевского: «Эстетическое сновидение поэта готово превратиться в сновидение героя <ѕ>, и только этим превращением вымысла-сновидения в вымысел о сновидце объясняется отсутствие трагической сцены и трагического стиха в русской культуре» [25].
Эта генеалогия романов Достоевского, начертанная Пумпянским в 1922 году [26], будет в той или иной мере актуальной для Бахтина даже тогда, когда он решительно порвет с ницшеанством и перейдет на платонические позиции. В своей поздней версии книги о Достоевском он связывает сновидения не с трагедией, как Ницше, а с платонической мениппеей, но в целом следует за Ницше—Пумпянским в своих рассуждениях: «Сновидения, мечты, безумие разрушают эпическую и трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой» [27]. Показательно, что Бахтин в этой книге приписывает «ключевое» значение «Сну смешного человека», который он тоже решительно возводит не к трагедии, но к мениппее. Не менее показательны и разборы снов Раскольникова.
Вопрос, который интересует меня здесь, однако, — вовсе не отношения Пумпянского и Бахтина, а причина, по которой Бахтин решительно отказывается от ницшевской генеалогии и переходит на позиции платонизма. Переход этот особенно значителен в свете решительной критики Ницше Сократа и всего сократического жанра.
Особенно знаменательно такое радикальное изменение ориентации в свете решительного непризнания связи между сократическим жанром и творчеством Достоевского в конце ранней версии книги о Достоевском (1929):
…диалог Достоевского отличается от платоновского диалога. В этом последнем, хотя он и не является сплошь монологизованным, педагогическим диалогом, все же множественность голосов погашается в идее. Идея мыслится Платоном не как событие, а как бытие. Но все иерархические взаимоотношения между познающими людьми, создаваемые различною степенью их причастности идее, в конце концов, погашаются в полноте самой идеи. Самое сопоставление диалогов Достоевского с диалогом Платона кажется нам вообще несущественным и непродуктивным, ибо диалог Достоевского вовсе не чисто познавательный, философский диалог [28].
Отход от ницшеанства, на мой взгляд, объясняется несколькими факторами. Во-первых, движение в сторону диалогизма предполагало открытие идеологического спектра слова. Диалог понимается Бахтиным как полифония голосов, каждый из которых выражает определенное мировоззрение. Ницше полностью снимал возможность идеологизации. Трагедия разворачивается между двумя полюсами: хаотическим, темным, бесформенным — дионисийским, и сновидческим — аполлоническим. При этом аполлоническая греза возникает как оформление и объективация дионисийского хаоса. Но греза эта не является платонической видимостью, отсылающей к некой идее как вечному трансцендентному смыслу. Она носит исключительно эстетический характер. Выделение трагического актера из хора, которое интересовало Бахтина, — это чистая манифестация видения, грезы как таковой, не имеющей никакой связи с философской истиной: «на долю дифирамбического хора выпадает задача поднять настроение зрителей до такой высоты дионисического строя души, чтобы они, как только на сцене появится герой, усмотрели в нем не уродливо замаскированного человека, но как бы рожденное из их собственной зачарованности и восторга видение» [29]. Зритель трагического театра «невольно переносил <…> весь этот магически трепетавший перед душой его образ божества на замаскированную фигуру и как бы разрешал ее реальность в некоторую призрачную недействительность» [30].
Речь идет о фундаментально антиплатоническом видении, которое никак не может быть введено в контекст сократически-мениппейного «испытания истины». Ницше целиком остается в сфере эстетического, а не идеологического. Радикально негативная оценка деятельности Сократа у Ницше как раз и заключается в том, что Сократ убивает эстетическое, связывая его с понятийным поиском истины. Сократ — представитель идеологической дискурсивности. Ницше говорит о трагическом как о генераторе «иллюзии в иллюзии». Аполлон же «выступает перед нами как обоготворение principii individuationis, в котором только и находит свое свершение вечно достигаемая задача Первоединого — его избавление через иллюзию» [31]. Индивидуация возникает непосредственно из грезы как многообразие законченных форм. Но, как замечает Ойген Финк, «это видение мира, мыслящее в терминах множественности и разделения на фрагменты, само не зная того, является пленником видимости» [32]. Это лишь видимость многообразия, чистая иллюзия, за которой спрятан единый «мир-в-себе».
Значение ницшевского постулирования трагедии как истока эстетического заключается также в том, что, не попадая в область идей, будучи исключенным из мира истории идей, момент дионисийско-аполлонической эпифании видимости в принципе аисторичен. Карл Хайнц Борер обратил внимание на мгновенность этой эпифании, ее экстатическое выпадение из длительности. Борер показал, что видимость у Ницше проблематизирует понятие исторического времени и, как пишет он, приводит к «ракурсному сокращению» временного горизонта. Он даже сравнивает момент явления видимости с «пуантилистским» временным горизонтом животного в работе «О пользе и вреде истории для жизни»: «Ницшевское изложение видимости не может быть транспонировано в исторические категории. Наоборот, квазиисторическое понятие момента становится приемлемым только с помощью эстетического понятия» [33].
Сократическое лежит в области истории и идеологии, дионисийско-аполлоническое — в области видимости и антиисторизма (в смысле истории идей). Сравнение временного горизонта видимости с временным горизонтом животного имеет существенное значение. Ведь видимость у Ницше, по существу, неотличима от природы (о природе и ее естественной истории речь пойдет дальше). Трагедийное у Ницше скорее относится к природному как к видимости, нежели к культурному как к концептуально-идеологической истории.
С этим, вероятно, отчасти связан решительный отход Бахтина от ницшевской схемы. Идеологический роман Достоевского, в его глазах, не мог интерпретироваться в рамках ницшевской генеалогии, которая выпадает из истории культуры. Отсюда и возникновение мениппеи — странного платонического гибрида, сохраняющего черты дионисийства, но в рамках идеологического платоновского дискурса.
Пумпянский также понимал, что его культурная генеалогия сталкивается с проблемой природного у Ницше. Его решение этой проблемы весьма любопытно. Сначала он формулирует основной принцип метаморфозы дионисийского в культуре: «Итак, судьба всякого Ренессанса такова: дионисийское вино переходит от неосторожного поэта к герою, и начинается борьба сновидца с героем своего же сна, ищущим выступить из контекста художества» [34]. Иными словами, видимость как природа переносится Пумпянским внутрь произведения культуры. Видимость теперь оказывается не эстетическим феноменом вообще, играющим роль в некой новой онтологии, но лишь миражем героя произведения. Отсюда такие странные метаморфозы ницшеанства, как, например, в следующей цитате:
Некоторое первоначальное единство природы охватывает душу Раскольникова через обратное эстетическое сновидение героя о природе самой. Отказавшись сакрально погибнуть на алтаре ее, убийца порвал с ней исторический союз и может видеть в ней либо предмет кровавого вожделения, либо в самые глубокие мгновения сна блаженную родину и женственный источник всего политически им осуществляемого [35].
Бахтин, когда он обращается к теме сновидений у Достоевского, использует ту же методологию, что и Пумпянский. Грезы автора становятся у него грезами героя, а потому благополучно погружаются внутрь платонической конструкции.
[24] Там же.
[23] Там же. С. 507.
[22] Там же. С. 31.
[21] Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 30.
[20] Там же. С. 150.
[19] Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 148.
[18] Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 188.
[17] Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худож. лит., 1972. С. 187.
[34] Пумпянский Л. В. Классическая традиция. С. 513.
[33] Bohrer Karl-Heinz. Suddenness. N. Y.: Columbia University Press, 1994. Р. 134.
[32] Fink Eugen. La philosophie de Nietzsche. Paris: Les Éditions de Minuit, 1965. Р. 29.
[31] Там же. С. 69.
[30] Там же. С. 88.
[29] Ницше Фридрих. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 87.
[28] Бахтин М. М. Собр. соч. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 173. В поздней версии книги Бахтин возвращается к той же теме, но, естественно, в ином ключе: «Идеализм Платона не чисто монологистичен. Чистым монологистом он становится лишь в неокантианской интерпретации» (Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 136).
[27] Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 197.
[26] Конечно, генеалогия эта создавалась под сильным влиянием Вячеслава Иванова и Мережковского, который уже в 1910 году видел в Достоевском прямое продолжение греческой трагедии, понятое в категориях Ницше: «Иногда в греческих трагедиях, перед самою катастрофою, раздается неожиданно-радостная песнь Хора во славу Диониса, бога вина и крови, веселия и ужаса. В этом гимне вся совершающаяся, почти совершившаяся трагедия, все самое роковое и таинственное, что есть в человеческой жизни, представляется беспечною игрою богов. Это веселие в ужасе, эта трагическая игра — подобна игре зажигающейся радуги в брызгах водопада над бездною. Едва ли в современной литературе есть другой художник, который так приближался бы к самым внутренним, глубоким настроениям греческой трагедии, как Достоевский: не сказывается ли и у него в изображении катастроф нечто, подобное этому ужасному веселию Хора» (Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский // Мережковский Д. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 111). Мережковский же однозначно обозначает диалогизм как основной принцип поэтики Достоевского.
[25] Пумпянский Л. В. Классическая традиция. С. 508.
[35] Пумпянский Л. В. Классическая традиция. С. 515.
ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
О видении идеи у Бахтина
Платонизм Бахтина требует специального исследования, которое не может быть осуществлено в рамках этой работы. Вопрос этот, однако, настолько серьезный, что требует хотя бы кратких уточнений. Я остановлюсь только на одном аспекте бахтинского диалогизма, его утверждении, что идея в романе у Достоевского становится видимой. Это, вероятно, наиболее сложный для понимания постулат Бахтина в его книге о Достоевском. Видимость идеи выражена у Бахтина в концепции «образа идеи»: «Достоевский умел именно изображать чужую идею, сохраняя всю ее полнозначность как идеи…»; «Идея в его творчестве становится предметом художественного изображения…»; «Образ идеи неотделим от образа человека — носителя этой идеи» [36]; «Образ героя неразрывно связан с образом идеи и неотделим от него. Мы видим героя в идее и через идею, а идею видим в нем и через него» [37].
В свете феноменологической ориентации раннего Бахтина трудно не принять во внимание гуссерлевскую идеацию как возможный исток представления о видимой идее. «Постигающее в опыте или индивидуальное созерцание может быть преобразовано в глядение сущности (идеацию)» [38], — писал Гуссерль, превративший идеи (эйдосы) в особый класс объектов созерцания. Тем самым он лишил идеи платоновской трансцендентности и сделал их, по существу, такими же объектами созерцания, как и эмпирически данные объекты. Такого рода трансформация платонизма у Гуссерля стала темой многочисленных ложных толкований и побудила Гуссерля специально остановиться на вопросе о платонизме:
Особым камнем преткновения вновь и вновь служило то, что мы — будучи «платонствующими реалистами» — выставляем в качестве предметов идеи, или сущности, и приписываем им, как и прочим предметам, действительное (истинное) бытие, равно как, коррелятивно тому, интуитивную постижимость — без малейшей разницы с реальностями. <…> Если предмет и реальность, действительность и реальная действительность значат одно и то же, то понимание идей как предметов и действительностей есть, конечно, нелепое «Платоново гипостазирование». Но если и то и другое, как это было в «Логических исследованиях», строго разделяется, если предмет получает свою дефиницию как нечто, стало быть, например, как субъект истинного (категорического, аффирмативного) высказывания, то какой камень преткновения тут еще остается? [39]
Когда Гуссерль пишет о предмете, получающем свою дефиницию как «нечто», он отсылает к дискуссиям о предмете, имевшим место в школе Брентано, из которой он вышел. Больцано утверждал, что существуют репрезентации без предмета (gegenstandslose Vorstellung), например «ничто», «круглый квадрат» и т. д. Майнонг в своей теории предмета отрицал это положение Больцано и считал, что любая репрезентация имеет предмет, даже если он совершенно не укоренен ни в какой представимой реальности. Майнонг дал знаменитое определение предмета как «нечто», «что-то» (etwas). Идеи у Гуссерля являются как раз предметами в смысле майнонговского «нечто».
Встает вопрос о том, до какой степени Бахтин может считаться представителем «платоновского реализма» в духе гуссерлевской феноменологии, оказавшей на него столь значительное воздействие? Является ли идея у Бахтина предметом феноменологического созерцания как «нечто»? Мне представляется, что нет. У Бахтина речь идет не о предметности идеи, а о видимом образе идеи. Тогда, может быть, мы имеем дело с платоновским созерцанием идей, как оно описано, например, в «Федоне»? Не идет ли тут речь о платоновском созерцании идей, которое Платон называл theoria и которое в новоевропейской философии превратилось в «спекуляцию» — от латинского speculum — зеркало [40]? Достаточно сослаться на превосходное исследование проблематики идеи и эйдоса у Платона, выполненное Моник Диксо, чтобы удостовериться в том, насколько далек Бахтин в своем видении образа идеи от платоновской теории [41].
Мне представляется, что платонизм Бахтина опосредован в данном случае неокантианской философией символических форм Кассирера. В своей поздней книге «Миф государства» Кассирер тоже обращается к греческому дионисийству и так же, как Бахтин, отходит от него на платонические позиции. Чувство экстатической недифференцированности, характерной для дионисийского экстаза, объявляется Кассирером здесь противоречащим самой сущности греческого духа, который отличается абсолютным логизмом. Поэтому, объясняет Кассирер, «даже самые „иррациональные“ элементы дионисийского культа не могли быть приняты без теоретического объяснения и оправдания. Оправдание было дано орфическими теологами» [42]. Место непосредственного дионисийского переживания занимает логизированный, искусственный философский миф о Дионисе Загрее [43]. Аполлонические видения Ницше превращаются под пером Кассирера в логические, идеологические конструкты искусственного мифа. «Функция мифа заключалась в том, чтобы придать новый характер этим оргиастическим культам. В орфической теологии экстаз больше уже не понимается как простое безумие; он становится „иероманией“, священным безумием, в котором душа, оставляя тело, взлетает ввысь, чтобы соединиться с богом» [44]. И далее Кассирер дает принципиальное пояснение о роли символа: «Миф не может быть описан как чистая эмоция, он является выражением эмоции. Выражение эмоции не есть само чувство, это — эмоция, превращенная в образ. Этот факт предполагает радикальный сдвиг. То, что ранее было смутно и неопределенно переживаемо, приобретает ясную форму…» [45]
Эта трансформация вносит смысл в хаотическую бессмысленность дионисийского экстаза, следовательно, придает ей форму и позволяет созерцать ее:
Даже эмоции не просто ощущаются. Они «созерцаются» (intuited); они превращаются в образы. Образы эти грубы, гротескны, фантастичны. Но именно поэтому они понимаемы нецивилизованным человеком, ведь они могут дать ему интерпретацию жизни природы и его внутренней жизни [46].
В данном случае созерцание совсем не похоже на гуссерлевский «платонический реализм», на его идеацию. Речь идет о буквальной платонизации (Ницше бы сказал «сократизации») дионисийского, его приручении в виде «образов идей», о которых настойчиво говорит Бахтин. Не случайно недавно было замечено сходство между кассиреровской концепцией карнавала и карнавалом у Бахтина [47]. В обоих случаях речь идет об «испытании» идеи в «грубых», «гротескных» формах «фантазии».
Кассирер в 1920-е годы был близок к кругу исследователей, группировавшихся вокруг Аби Варбурга (которому он посвятил книгу), и сыграл, на мой взгляд, важную роль в платонизации иконологии, в отходе этой школы от идей ее основателя. Речь о Варбурге пойдет ниже.
Мне представляется, что эволюция Бахтина по направлению к платонизму шла через усвоение идеологии символического, которая абсолютно чужда ему в ранних, «феноменологических» текстах. Символ и есть то, что Бахтин называет «образом идеи», — ее репрезентация в видимых формах. Конечно, платонизм Кассирера, как и платонизм Бахтина, — не платоновский в том смысле, что он не отсылает к некоему миру вечных идей и истины. Кассирер, как и Бахтин, мыслит в неокантианском ключе. Все эти «идеи» и их «образы» — лишь формы нашего освоения реальности, ее понимания, формы идеологии. Хабермас назвал Кассирера кантианцем с гумбольдтовским компонентом [48]. Речь в таком случае идет не столько о достижении в области абсолютной истины, сколько о самораскрытии мира в языке или мифе. Но именно такую кантианско-гумбольдтовскую форму часто принимает то направление мысли, которое в эпоху Ренессанса объявляло себя неоплатонизмом.
[44] Cassirer Ernst. The Myth of the State. P. 42–43.
[43] Беньямин называл такие рациональные, сконструированные мифы на греческие темы испытанием вечного в греческом искусстве, его способности быть вечно актуальным (Benjamin Walter. Oedipus, or Rational Myth // Benjamin Walter. Selected Writings. Cambridge, Mass.: The Belknap Press, 1999. V. 2. P. 578.)
[42] Cassirer Ernst. The Myth of the State. New Haven: Yale University Press, 1946. Р. 41.
[41] Dixsaut Monique. Platon et la question de la pensée. Paris: Vrin, 2000. Р. 71–91.
[40] См. Taminaux Jacques. Poetics, Speculation, and Judgement. Albany: SUNY Press, 1993.
[39] Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. С. 57.
[38] Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 28.
[37] Там же. С. 145–146.
[36] Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 141–142.
[48] Habermas Jürgen. The Luberating Power of Symbols. Ernst Cassirer’s Humanistic Legacy and the Warburg Library // Habermas J. The Liberating Power of Symbols. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001. P. 12–15.
[47] Poole Brian. Bakhtin and Cassirer: The Philosophical Origins of Bakhtin’s Carnival Messianism // The South Atlantic Quartrely. Summer/Fall 1998. V. 97. P. 537–578.
[46] Cassirer Ernst. The Myth of the State. P. 47.
[45] Ibid. P. 43.
4. Буркхардт, Варбург и Шлоссер
Хорошо известно, что дионисийская концепция Ницше сформировалась под сильным влиянием его старшего университетского коллеги Якоба Буркхардта. Как пишет Пьер Будо, «чтение истории Буркхардта позволяет Ницше выпустить на свободу Диониса» [49].
Буркхардт решительно выступил против так называемой «философской историографии» своего времени, прежде всего ассоциировавшейся с именем Гегеля. Изгнание Гегеля из историографии у Ницше отражается в осуждении Сократа. Буркхардт утверждал, что само понятие «философии истории» является своего рода оксюмороном потому, что история по самой своей сути является нефилософской. «Опасность, заключенная в хронологически аранжированных философиях истории, состоит в том, что они в лучшем случае вырождаются в истории цивилизаций» [50], — писал Буркхардт. Цивилизация же не является историческим образованием, но философским конструктом [51]. Поэтому любая концептуальная философствующая историография описывает не историю, но историю собственных понятий. В этом смысле платонизирующая история не является историей, но лишь историей понятия — платонизма.
Проблема историзма формулировалась Буркхардтом с парадоксальной остротой. История, по его мнению, складывается из накопления нового. «Отношение каждого столетия к своему наследию само по себе является знанием, то есть novum, которое следующее поколение в свою очередь добавит к своему наследию, как нечто принадлежащее истории, то есть как что-то, что уже было преодолено» [52]. С такой точки зрения те народы, которые существуют целиком в рамках традиции, цепляются за неизменные установки и ритуалы и паразитируют на них, принадлежат к внеисторическим культурам, которые Буркхардт не колеблясь называл «варварскими».
В такой перспективе «академическая» идея восстановления античности в эпоху Ренессанса — это чисто философская внеисторическая доктрина, не позволяющая увидеть истинной сути вещей. В знаменитой «Культуре Ренессанса в Италии», принесшей Буркхардту мировую славу, он с абсолютной ясностью формулирует свое понимание исторической преемственности. Он показывает, что фонд античной культуры неизменно использовался европейскими народами на протяжении всех Средних веков. Таким образом, Возрождение не изобретает связей с античностью. Разница заключается, однако, в том, что в это время инновации и актуальность приобрели форму античных заимствований. Историческое значение античности в Ренессансе заключается именно в том, что античность перестает быть фактом традиции, но переходит из традиции в самую злободневную актуальность.
Так Буркхардт обнаруживает первые признаки возрождения античности в средневековой латинской поэзии вагантов, в частности в цикле Carmina Burana:
Здесь, — пишет он, — обнаруживается подлинное возрождение античного взгляда на жизнь, которое тем более поразительно в той средневековой форме стиха, в которую оно облачено. Существует множество произведений того и последующих столетий, в которых тщательная имитация античности проявляется одновременно и в гекзаметре, и в пентаметре, и в классическом, мифологическом характере сюжета, в которых нет ничего подобного тому же духу античности [53].
Такая позиция требовала погружения исторического в современность и прочтения современного как актуализации минувшего. История складывается не как хронологическая цепочка, но как напряжение двух удаленных эпох. При этом сам характер такого напряжения и определяет существо данного момента, который определяется именно констелляцией прошлого и настоящего в некой кристаллической структуре. Такое понимание истории сегодня чаще связывается с мессианским эсхатологизмом Вальтера Беньямина, но впервые оно отчетливо сформулировано Буркхардтом.
Любопытно, что в своем изданном посмертно цикле лекций «История греческой культуры» он выводит весь характер греческой культуры из недостаточно развитых в ней представлений о загробном мире, которые как бы блокировали у греков видение будущего и насильственно обращали их к моменту настоящего. Сама эллинистическая культура, которую Буркхардт описывал как маниакально сосредоточенную на теме смерти, получает особую витальность и чувственность благодаря акцентированному чувству настоящего, которого не имели восточные цивилизации с их чрезвычайно разработанными представлениями о загробном мире.
Отсюда и важный у Буркхардта акцент не на традиции и ее трансляции, но на искажениях традиции в рамках исторической актуальности. Преемственность в такой перспективе сменяется темой пережитка прошлого, актуализируемого настоящим. Понятно, что неоплатоническая и идеологическая установки не могли найти у Буркхардта ни малейшего сочувствия. Культура является не континуальной историей идей и их трансляций, но историей актуализаций и неузнаваемых деформаций.
Этот комплекс идей был в полной мере воспринят таким новатором в истории искусства, как Аби Варбург [54]. Варбург неоднократно упоминает Букхардта, которому он, несомненно, был многим обязан. Из всего многообразия тем и идей я выберу у Варбурга один мотив. В предисловии к статье, на которой я намерен остановиться, эта работа определяется как непосредственный перенос и развитие идей Буркхардта на изобразительное искусство. Статья эта — «Искусство портрета и флорентийская буржуазия» (1902), как и ряд других, направлена против неоплатонизирующего чтения Ренессанса. Тем более ироничным является тот факт, что из штудий Варбурга выросла вся современная «неоплатоническая» тенденция в искусствоведении, известная под именем «иконологии» (Панофский, Гомбрих и т. д.). Этому факту добавляет пикантности то, что наиболее «неоплатонический» из всех иконологов — Гомбрих — написал биографию Варбурга, до сих пор являющуюся одним из основных источников сведений о нем.
В интересующей меня статье Варбург сосредоточился на фреске любимого им Доменико Гирландайо «Утверждение францисканского устава», находящейся в церкви Святой Троицы во Флоренции. Сцена изображает церемонию утверждения устава монашеского ордена папой. Здесь на первом плане с правой стороны изображены Лоренцо Медичи Великолепный и Франческо Сассетти. По направлению к ним по лестнице, ведущей с нижнего этажа, поднимается процессия, состоящая из трех взрослых и трех детей. Варбург идентифицирует каждого из участников. Гирландайо изобразил здесь трех детей Лоренцо — Джулиано, Пиро и Джованни, — а также их ментора и друга Лоренцо Анжело Полициано и двух членов ближайшего окружения Медичи — Луиджи Пульчи и Маттео Франко I*.
Варбурга интересует и трансформация места доноров внутри фрески: от маргинальных фигур к центральным персонажам. Но особенно его интересует возникновение у Гирландайо такой портретной живописи, которая позволяет с абсолютной точностью идентифицировать участников группы, реконструировать психологию их отношений и точно локализовать исторический момент, зафиксированный на полотне. Речь идет о связывании полотна Гирландайо с абсолютно конкретным историческим моментом. Сам Варбург говорит об историзации, выходящей далеко за рамки всех конвенций религиозной живописи.
В полотне Гирландайо важно то, что оно ни в коей мере не может быть проинтерпретировано в рамках неоплатонической догмы. Здесь нет ничего, что бы отсылало к вечному и неизменному миру платоновских идей, в том числе — ни малейшего признака платонической идеи красоты, столь важной для Фичино и позднейших историков Ренессанса. Варбург пишет о том, каким образом Гирландайо помещает своих светских персонажей на стену церкви:
Художник и его патрон <…> вводят свои подобия в капеллу alla buona с присущим случаю добрым юмором, почти так, как странное семейство drolleries без всяких на то прав оккупирует поля средневекового часослова… [55]
Варбург намеренно сравнивает портреты Гирландайо со средневековыми гротесками на полях манускриптов. В обоих случаях речь идет о полном разрыве с неоплатоническим проектом. Показательно, что искусствовед смачно описывает уродство Лоренцо Великолепного, явно преувеличивая патологические черты в его внешности: «Современные авторы одинаково описывают гротескные недостатки его внешности: близорукие глаза; приплюснутый нос с выбухающим и ниспадающим концом, который, несмотря на то как сильно он выпирал, даже не обладал чувством обоняния; невероятно большой рот; впалые щеки; бледную кожу» [56] и т. д. Варбург описывает «криминальность» внешности Лоренцо, его «демоничность», «искаженность его черт» и т. д. Иными словами, он рисует его портрет в тех же тонах, что Алкивиад Сократа, но аллегории Силена в конце описания нет. Лоренцо уродлив, и это факт, который не идет дальше простой физической фактичности. Фактичность эта становится моментом истории не потому, что она может быть соотнесена с каким бы то ни было идеологическим дискурсом, а потому, что она пронизана необыкновенной витальностью и актуальностью данного момента. Портреты были заказаны и оплачены Франческо Сассетти, «честным и вдумчивым буржуа, жившим в переходный период, — пишет Варбург, — новизну которого он принимал без героизма и не отказываясь от старого. Портреты на стенах капеллы отражают его несокрушимую волю к жизни, которой подчиняются руки художника, являя глазам чудо эфемерного человеческого лица, уловленного и обездвиженного ради него самого» [57].
Удивительный историзм портрета возникает в ренессансной культуре не благодаря неоплатонизму и связи с античностью, а вопреки им, из средневекового ремесла, которое культивировало искусство «простого подражания». «Гирландайо <…> использует духовное содержание как предлог, чтобы отразить красоту и блеск земной жизни — так, как если бы он все еще был подмастерьем своего отца-ювелира, чья задача была предъявить лучший товар жадному взору покупателей во время праздника Святого Иоанна» [58]. Именно ремесленные корни позволяют Гирландайо осуществить фундаментальную новацию — создать произведение искусства «как дар непредвиденного, счастливый момент, который неподвластен сознательному созерцанию индивида или истории» [59]. Но это означает, что в данном случае ренессансная инновация осуществляется не через установление связи с античностью, но, наоборот, через актуализацию средневекового гротеска и на основе чисто ремесленного мастерства. При этом новый исторический контекст резко меняет значение последних. Ренессанс у Варбурга развивается благодаря двойственности своей историчности — напряженному схватыванию в моменте современности античности и Средневековья одновременно. Варбург неоднократно подчеркивает, что эволюция итальянской культуры Возрождения основывается на парадоксальном соединении высокого гуманизма и средневекового ремесленничества [60].
Пытаясь объяснить проникновение портретов доноров на стены капеллы, Варбург обращается к малоизвестной традиции изображений ex voto, когда жертвователи дарили церкви восковые фигуры, сделанные с них самих и натуралистически воспроизводившие их обличье в полный рост. Варбург объявляет портреты Гирландайо непосредственными наследниками этой средневековой традиции магического использования изображений. Центром восковых ex voto была церковь Святейшей Аннунциаты во Флоренции [61]. Варбург рассказывает о том, что Лоренцо Медичи после того, как ему чудом удалось спастись от покушения на его жизнь, заказал три своих восковых подобия, которые и передал церквям. Реалистический портрет эпохи Возрождения прямо объявляется им актуализированным пережитком средневекового варварства.
По существу, Варбург решительно отходит от дискурсивно-идеологических моделей истории как истории идей. То, что он описывает, начинает скорее напоминать модель эволюции в естественной истории дарвиновского типа, придававшей особую роль пережиткам и их актуализации [62]. В любом случае модель истории, предложенная Варбургом, решительно противостояла линейной платонической модели. Именно это сближало его искания с идеями Ницше. В частности, его особенно интересовала «форма пафоса», изображение экстатического движения, которое он обнаружил в фигурах античных менад и так называемых «нимф» у Боттичелли и того же Гирландайо. Джорджо Агамбен справедливо заметил:
Показывая, что художники пятнадцатого столетия опирались на Pathosformel каждый раз, когда они хотели передать интенсивное внешнее движение, Варбург одновременно открыл дионисийскую полярность классического искусства. Следуя за Ницше, Варбург был первым, кто утвердил полярность в области истории искусства, в которой в то время все еще господствовала модель Иоанна Иоахима Винкельмана [63].
Статья Варбурга «Искусство портрета и флорентийская буржуазия» имела неожиданное продолжение. В 1911 году историю восковых фигур опубликовал будущий преемник Макса Дворжака в Венском университете Юлиус фон Шлоссер. Работа эта была прямым продолжением труда Варбурга и радикальным развитием его идей. Варбург посвятил восковым фигурам Святейшей Аннунциаты пару страниц. Он, по существу, не выходил за рамки локального обсуждения практики флорентийских ex voto; труд же Шлоссера явился фундаментальной и концептуальной историей этого маргинального жанра.
В самом начале Шлоссер ставит трудный вопрос о том, почему в некоторых культурах искусство индивидуального портрета достигло замечательных вершин, а в некоторых нет. Наиболее разительный контраст тут, конечно, являют Греция и Рим. Рим дал нам множество необыкновенно точных, натуралистически выполненных портретов, а Греция — нет. Шлоссер объясняет это тем, что в Риме существовала практика изготовления посмертных масок, из которых делались восковые подобия умерших, обычно хранившиеся в семьях, в то время как Греция не знала такой практики. Вот где откликаются наблюдения Буркхардта о неразвитости культа мертвых в Греции [64]. Эти восковые изображения затем использовались для изготовления бронзовых и мраморных портретов.
Распад эллинистической культуры знаменует собой исчезновение этой традиции и, соответственно, искусства портрета, который возникает вновь в эпоху поздней готики, когда без всякой непосредственной связи с античностью вновь возникает практика снятия масок (в том числе и с живых людей) для изготовления ex voto, посвящавшихся церкви в ознаменование счастливого избавления от болезни или, как в случае с Лоренцо Медичи, счастливого спасения от убийц во время заговора Пацци в 1478 году. Портреты эти делались с необычайной натуралистической тщательностью, и, как отмечает Шлоссер, их изготовление было ремесленным аспектом профессии средневекового, а позже и ренессансного художника. Речь шла о создании подобий без всякой ориентации на идею, идеал красоты и т. д. В основу этой работы клались принципы чисто механической имитации, выходившие, с точки зрения платонической модели, за пределы искусства [65].
Согласно Шлоссеру, именно Ренессанс привел к тому, что искусство портрета — в противоположность идеализированной исторической живописи — было отнесено к низшим живописным жанрам. Он показал, до какой степени установка на имитацию, особенно в форме снятия маски с лица, противоречила всей концепции художественного гения, видению которого открывается мир идей и скрытых гармоний [66]. Он же показал и философскую подоплеку изгнания натуралистического портрета с художественного Олимпа: «Высокая оценка disegno, объективной, легалистской и концептуальной „наличной формы“ (Daseinsform) в противоположность чувственному обману феномена в „действующей форме“ (Wirkungsform) — выражаясь языком Хильдебранда — это типичное наследие классической эстетики со времен платонизма» [67]. Речь, по существу, идет о противопоставлении формы как morphe, непосредственно отражающей некий вечный образ, идею — eidos, и формы как актуальности (energeia) потенции, силы, способности — dynamis. Эта вторая концепция формы была достаточно полно разработана в «Метафизике» Аристотеля, но она уже просвечивает и в платоновском «Софисте» [68].
Именно в таких категориях и должна пониматься «действующая форма» Шлоссера. Форма в таком случае не существует как некая идеальная и вечная форма, которую способен созерцать творец, она возникает непосредственно под «воздействием» некоей силы, некоей «потенции», она возникает как становление, как актуализация в energeia. По существу, она возникает как активная деформация. Но именно так и можно понимать чисто «ремесленный» процесс «простой имитации», когда форма возникает непосредственно под воздействием иной формы, как ее пластическая копия. В данном случае чистая видимость как будто просто отсылает к иной видимости. Но в действительности дело сложнее: эта «действующая форма» — Wirkungsform — не просто форма в действии, она одновременно оказывается и магической формой, при этом магия в ней неотделима от ее действенности. Шлоссер многократно подчеркивает, что эта форма, имея дело с телесными двойниками, вся существует в области магии, манипуляций с потусторонним миром, и ее упадок связан отчасти с упадком магического компонента культуры.
Но главное различие между «наличной» и «действующей» формой касается их вписанности в историю. Наличная форма, по существу, не исторична. Она как бы существует вечно, подобно геометрическим фигурам или числовым пропорциям [69]. Ее инкарнация мало что дает в смысле историзации. Другое дело «действующая форма». Она возникает во времени и непосредственно связана с моментом своего возникновения, так как несет на себе индивидуальный неповторимый отпечаток того миметического усилия, которое ее создает. Поэтому именно действующая форма сохраняет в себе след исторического момента своего создания. Она, собственно, и есть след некоего локализованного во времени усилия. Это хорошо видно в описании Варбургом фрески Гирландайо, в частности в доскональной реконструкции исторических деталей, связанных с изображенной на фреске группой людей. То же самое справедливо и по отношению к вазариевскому описанию фигуры Лоренцо Медичи, воспроизводящей конкретный момент его появления у окна своего дома.
Парадоксальность ситуации, однако, заключается в том, что именно платонические абсолютные, внеисторические формы включаются в дискурсивную историю, в то время как исторические по своей сущности формы из нее изгоняются. Показательно в этом ключе провозглашение так называемой исторической живописи наивысшим жанром изобразительного искусства, в то время как он как раз и воплощает в себе принцип идеализирующего антиисторизма. Одновременно, как показывал Шлоссер, шло падение престижа портретной живописи, если последняя не воспринимала установку на аллегорию или идеализирующий псевдоисторизм (как, например, в парадных портретах). Там, где мужской портрет втискивался в героический аллегоризм, женский подводился под идеал антикизирующей красоты. Падение престижа портрета привело к вытеснению его наиболее натуралистических образцов в балаганы, паноптикумы, музеи восковых персон, кунсткамеры — то есть в собрания монстров сингулярности, принципиально не соотносимых с идеей [70].
Кульминации этот мир натуралистических маргиналий достигает в причудливом описании экспериментов, которыми занимается Генрих Лее в романе Келлера «Зеленый Генрих». Генрих попадает в анатомический музей при больнице. Хранящиеся в банках уроды производят на него такое сильное впечатление, что он принимает решение создать свой собственный музей уродств, естественно обращаясь при этом к воску:
Я стал лепить курьезных большеголовых человечков, точь-в-точь таких, как в музее, только поменьше, и стремился всячески разнообразить их и без того фантастический облик. Я старался раздобыть как можно больше склянок всевозможной формы и величины и подгонял под них мои фигурки. В высоких и узких флаконах из-под одеколона, у которых я отбивал горлышко, болтались на ниточке долговязые и тощие субъекты, в плоских и широких банках из-под мази ютились раздувшиеся, как пузырь, карлики [71].
В этом эпизоде из романа Келлера воск как материал, принципиально чуждый всякой идее, вступает в естественный союз с телесным уродством, нарушающим «правила формы» человеческого рода. Сингулярное тут встречается с патологическим. Более того, воск — идеальный материал для достижения сходства, неотличимости — встречается тут с воплощением несходства, как понималось уродство, например, в эпоху Ренессанса [72]. Несходство, различие в случае уродств отсчитывалось от нормы, но и по отношению к родителю, к форме собственного истока.
Ницше однозначно помещал восковые фигуры в контекст борьбы с идеализмом, но делал это с понятными оговорками:
Я боюсь, что мы, со своей стороны, при нашем теперешнем уважении к естественности и действительности достигли как раз обратного всякому идеализму полюса, а именно области кабинета восковых фигур. И в этих последних есть своеобразное искусство, так же как и в известных, пользующихся всеобщей любовью романах современности; только пусть нам не досаждают претенциозным утверждением, что этим искусством преодолен гете-шиллеровский «псевдоидеализм» [73].
Ницше, конечно, прав в том смысле, что натурализм не может преодолеть идеализма, поскольку они располагаются в разных плоскостях. Один — в области эстетики, а второй, как заметил Шлоссер, — в области стилистики. Шлоссер закончил свое исследование декларацией в духе Буркхардта, призывая полностью покончить с эстетическим суждением как фундаментом истории:
Для историка, как и для художника, эстетическое суждение о ценности не имеет веса; мы никогда ничего не могли извлечь из него, если оно чему-то и служит, то лишь свидетельством об определенной «художественной воле» (Kunstwollen). Именно в непосредственной связи с этим утверждением мы и старались объяснить то эстетическое осуждение, которому подвергла классическая эстетика со времен Cinquecento восковую скульптуру с самого момента ее зарождения. Но историческое значение шире и узко «стилистического» значения в том смысле, который мы приписываем этим терминам. Произведение, находящееся в самом низу эстетической лестницы, — а кто может отрицать, что наши музеи и галереи набиты ими? — в силу ряда обстоятельств может быть важным документом в общей истории стилей; эта последняя, как всякая история, изначально отталкивается от индивида, но должна принимать в расчет влияние масс и социальные факторы [74].
[54] О влиянии Буркхардта на Варбурга см.: Didi-Huberman Georges. L’image survivante. Paris: Les Éditions de Minuit, 2002. P. 71–81.
[53] Burckhardt Jacob. The Civilization of the Renaissance in Italy. N. Y.; Toronto: New American Library, 1960. P. 147–148.
[52] Burckhardt Jacob. Reflections on History. P. 38.
[51] Генрих Вельфлин, возглавивший кафедру истории искусств в Базеле после отставки Буркхардта и по рекомендации последнего, писал о своем предшественнике: «он множество раз выражал свое мнение, согласно которому история искусства не идентична истории цивилизации, но следует своим собственным законамѕ» (Wölfflin Heinrich. Réflexions sur l’histoire de l’art. Paris: Flammarion, 1997. P. 198).
[50] Burckhardt Jacob. Reflections on History. Indianapolis: Liberty Fund, 1979. P. 33.
[49] Boudot Pierre. Nietzsche. La momie et le musicien. Lyon: Jacques-Marie Laffont, 1981. P. 154.
[64] Друг Ницше Эрвин Роде написал до сих пор не превзойденное исследование культа мертвых в Греции, в котором так суммировал странность греческой ситуации: «Когда же тело уничтожено огнем, душа отправляется в Гадес; ей не позволено вернуться оттуда на землю, и ни малейшее дыхание отсюда не достигает ее. Она даже не может вернуться в мыслях. В действительности она даже вовсе и не мыслит и ничего не знает об ином мире. Живые тоже забывают о ней и окончательно отрезают себя от нее. Что же в таком случае может побудить их в течение всей их оставшейся жизни поддерживать сношение с ними с помощью культа?» (Rohde Erwin. Psyche. The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks. N. Y.: Harper & Row, 1966. Р. 19).
[63] Agamben Giorgio. Potentialities. Stanford: Stanford University Press, 1999. Р. 97.
[62] Подробно эта тема рассмотрена в книге: Didi-Huberman Georges. L’image survivante.
[61] Варбург возвращается к этой теме в статье того же года «Фламандское искусство и ранний Ренессанс во Флоренции». Влияние северных школ на итальянское искусство особенно интересовало Варбурга потому, что с ним в Италию проникал натурализм, не имеющий никакого отношения к неоплатонической конструкции истории.
[60] Он так характеризовал типичного флорентийца: «Гражданин Флоренции эпохи Медичи соединял в себе совершенно противоположные черты — средневекового христианина, романтического рыцаря, классического неоплатоника и земного, практичного, языческого этрусского купца» (Ibid. P. 190).
[59] Ibid. P. 187.
[58] Warburg Aby. The Renewal of Pagan Antiquity. P. 188.
[57] Ibid. Варбург посвятил Сассетти отдельную статью, где подробно характеризует его как человека, укорененного в Средних веках.
[56] Ibid. P. 191.
[55] Warburg Aby. The Renewal of Pagan Antiquity. Los Angeles: Getty Research Institute, 1999. P. 189.
[74] Schlosser Julius von. Histoire du portrait en cire. P. 171.
[73] Ницше Фридрих. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 81.
[72] См. Huet Marie-Hélène. Monstrous Imagination. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. Р. 23.
[71] Келлер Готфрид. Зеленый Генрих. М.: Худож. лит., 1958. С. 66–67.
[70] Вальтер Беньямин обнаруживает, например, восковые подобия на выставке старых игрушек в Берлине в 1928 году: «Более захватывающи старые редкости, среди которых восковая кукла восемнадцатого столетия, необыкновенно похожая на современную характерную куклу. Возможно, доля истины заключается в предположении, высказанном в беседе со мной директором музея и организатором этой выставки г-ном Штенгелем, что лицо этой куклы должно рассматриваться как восковой портрет младенца» (Benjamin Walter. Selected Writings. V. 2. P. 101).
[69] Конечно, после работ Гуссерля, Мерло-Понти и Деррида о начале геометрии мы сегодня вынуждены полагать, что и геометрические фигуры имеют свою историю, которая, впрочем, самой идеальностью этих фигур полностью вытеснена из исторического горизонта человечества.
[68] В частности, в притче о Гигантомахии, в которой вступают в противоборство «гиганты» и «друзья идей». Гиганты целиком существуют в мире материи: «Одни [гиганты] все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за одно и то же…» (246а, b) (Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. С. 364). Но, по мнению Чужеземца, они должны признать, что существующее может принадлежать в равной степени и телесному и нетелесному, если оно определяется как «способность» или, точнее, «способность либо воздействовать на что-то другое, либо испытывать хоть малейшее воздействие» (247е) (там же. С. 367).
[67] Schlosser Julius von. Histoire du portrait en cire. Paris: Macula, 1997. P. 154–155.
[66] Жорж Диди-Юберман справедливо указывает на невозможность оценивать восковой портрет в категориях «красоты» и «искусства» и говорит о том, что этот портрет находится за рамками проблематики искусства и лежит в плоскости «изображения». (Didi-Huberman Georges. Viscosités et survivances. L’histoire de l’art à l’épreuve du matériau. Critique, n 611, Avril 1998. P. 152).
[65] Вазари, например, так описывает одну из статуй ex voto Лоренцо Медичи, которую я только что упоминал (она была сделана учеником Андреа Вероккио — Орсини): «…они [восковые ex voto] были настолько натуральны и настолько хорошо сделаны, что казались людьми не восковыми, а совсем живыми, как можно судить по любому из трех названных портретов [Лоренцо Медичи], один из которых находится в церкви монахинь Кьярито на Виа Сан Галло. И фигура эта одета точь-в-точь так, как одет был Лоренцо, когда, раненный в горло и перевязанный, он подходил к окну своего дома, чтобы показаться народу, сбежавшемуся посмотреть, жив ли он, на что народ надеялся, или же умер, чтобы за него отомстить» (Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2. С. 443).
ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Пуссен, Делакруа и Леви-Стросс
Вопрос о взаимоотношениях платонизирующей эстетики и «простого подражания» во всей сложности встает в связи с творчеством Пуссена. Пуссен, как известно, — один из наиболее прославленных представителей высокого классицизма. Идеализация в его творчестве достигает своих вершин. Вместе с тем картины его отмечены одним качеством, которое останавливало внимание уже некоторых современников и в полной мере было сформулировано Делакруа:
Я убежден, что Лесюер не использовал метода Пуссена добиваться для своих картин эффекта, используя небольшие макеты, освещенные дневным светом мастерской. Эта кажущаяся рефлексивность придает картинам Пуссена чрезвычайную сухость. Кажется, что все фигуры не связаны между собой и как бы вырезаны; отсюда эти провалы и отсутствие единства, переходов, [светового] эффекта, которые можно обнаружить у Лесюера и всех колористов. Рафаэль не может достичь единства в связи с иной практикой, а именно с рисованием каждой фигуры обнаженной, прежде чем ее задрапировать [75].
Через пару лет после этой записи в дневнике художник возвращается к той же теме:
Пуссен никогда его [совершенства] не искал и не желал; его фигуры поставлены ря
