Юрий Иляхин
Сказки про Выхухоль
Основано на реальных событиях
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Публикуется в авторской редакции с сохранением орфографии и пунктуации подлинника
Иллюстратор Юрий Иляхин
© Юрий Иляхин, 2018
© Юрий Иляхин, рисунки, 2018
Это сказки про Выхухоль, которая, может быть, и не выхухоль вовсе, и не птица, и не зверь… Она поселилась в скворечнике величиной с дом, который построил в лесной деревне Борис Дубов, немного не рассчитав размер. К их компании постепенно присоединяются Мотылек Сяо-цань с весьма туманной биографией, неунывающая Барашка, Гремучая змейка, эстетствующий Ворон по имени Канарей и другие. Приключения происходят в деревне, в лесу и на реке, по которой друзья отправляются в свой Великий поход.
16+
ISBN 978-5-4493-8170-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
- Сказки про Выхухоль
- Вместо предисловия: Выхухоль и ее друзья
- Выхухоль и скворечник
- Выхухоль и Борис Дубов
- Выхухоль и внешний вид Выхухоли
- Выхухоль и прогулки с Борисом Дубовым
- Выхухоль и иностранные языки
- Выхухоль и пение
- Выхухоль и Печник
- Выхухоль и Гремучая змейка
- Выхухоль и Рыбка
- Выхухоль и раздумье
- Выхухоль и наука
- Выхухоль и Гремучая змейка-2
- Выхухоль и самолеты
- Выхухоль и нападение зимних зайцев
- Выхухоль и плавание
- Выхухоль и Соседская старушка
- Выхухоль и осиное гнездо
- Выхухоль и правила проезда по кругу
- Выхухоль и скворцы
- Выхухоль и сон
- Выхухоль и дачные воры
- Выхухоль, ковер и появление Мотылька
- Выхухоль и душистые грибы сян-гу
- Выхухоль, Мотылек и книги о природе
- Выхухоль и тайная тайна Мотылька
- Выхухоль и охрана природы. Часть первая
- Выхухоль и охрана природы. Часть вторая
- Выхухоль и инопланетяне
- Выхухоль и Барашка. Часть первая. Появление Барашки
- Выхухоль и Барашка. Часть вторая. Барашка остается
- Выхухоль и серьезный разговор
- Выхухоль и фотосессия
- Выхухоль, порнушка и Дом-2
- Выхухоль и Канарей. Часть первая. Появление Канарея
- Выхухоль и Канарей. Часть вторая. Идентификация Канарея
- Выхухоль и Канарей. Часть третья. Работа Канарея
- Выхухоль и зеркало для Барашки
- Выхухоль и битва у калитки
- Выхухоль и хорошие и плохие дети
- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Бориса
- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Мотылька
- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Канарея. Начало
- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Канарея. Продолжение
- Выхухоль и рассказы у костра. Рассказ Канарея. Окончание
- Выхухоль и Женщина Гу
- Выхухоль и идеал мужчины
- Выхухоль и Великий поход. Принятие решения
- Выхухоль и Великий поход. Подготовка
- Выхухоль и Великий поход. Завершение подготовки
- Выхухоль и Великий поход. По суше
- Выхухоль и Великий поход. По воде
- Выхухоль и Великий поход. По воде. Карпий Иваныч
- Выхухоль и Великий поход. По воде. Нападение
- Выхухоль и Великий поход. Встреча на слиянии
- Выхухоль и Великий поход. Пикник
- Выхухоль и Великий поход. После пикника
- Выхухоль и Великий поход. Возвращение
- Выхухоль и вечер после похода
- Выхухоль и вечер после похода. Появление Щенка
- Выхухоль и туесок
- Выхухоль и дружба между полами
- Выхухоль и Серега-разведчик
- Выхухоль и противопожарная оборона
- Выхухоль и Закон Красной шапочки
- Выхухоль и Мальчик
- Выхухоль и разговор на пляже
- Благодарность
Вместо предисловия:
Выхухоль и ее друзья
Это сказки про Выхухоль, которая, может быть, и не выхухоль вовсе, и не птица, и не зверь, и большая к тому же — повыше даже своего приятеля, Бориса Дубова.
Она поселилась в скворечнике величиной с дом, который построил в лесной деревне Борис Дубов, немного не рассчитав размер.
В компанию Выхухоли и Бориса постепенно вливаются и становятся друзьями: Мотылек Сяо-цань, с весьма туманной биографией, неунывающая Барашка, с биографией совсем коротенькой, но нисколько от этого не страдающая, Гремучая змейка со своей неудачной любовью, черный Ворон по имени Канарей — винный дегустатор и эстет, а также другие персонажи, вроде Рыбки или Щенка по кличке, конечно же — Пограничный пес Алый.
Героев становится все больше, истории про них разрастаются. Приключения происходят в деревне, в лесу и на реке, по которой друзья как-то отправились в свой Великий поход.
Рисунки — автора.
О, и Выхухоль просто моя героиня. По определению. Прямо хоть футболки про нее выпускай!!! Ой, сейчас посмотрела картинки на гугле. Это же не птица!!! Сейчас еще википедию читаю! Это шок! :))))))))))) Надо срочно перечитать все сказки. Так даже ржачнее получится. Это же вообще потрясающе!!!! :)))
(Из письма
первой читательницы,
моей дочки Лиды)
Выхухоль и скворечник
Борис Дубов построил в саду скворечник.
Скворечник был огромный, почти как дом.
Он стоял на земле.
Такой получился.
В скворечнике поселилась Выхухоль.
Она утром выходила из скворечника, оглядывала красным глазом окрестные виды, говорила: «Засрали всё, гады!» — и опять уходила спать. Она очень много спала, в этом скворечнике, потому что на улице было жарко. Лето же.
Выхухоль и Борис Дубов
Борис Дубов долго не знал, какого пола его Выхухоль, мальчик или девочка.
Ну, собственно, не его, а просто Выхухоль, которая поселилась в скворечнике.
Спросить он стеснялся, и только иногда косился глазом вниз, в направлении Выхухоли.
Выхухоль смотрела на него красным глазом и говорила: «Ну, Борис, не надо!»
И Борису становилось стыдно. Тем более под шерстью или перьями, что там было у Выхухоли, все равно было не видно. А вот стыдно становилось.
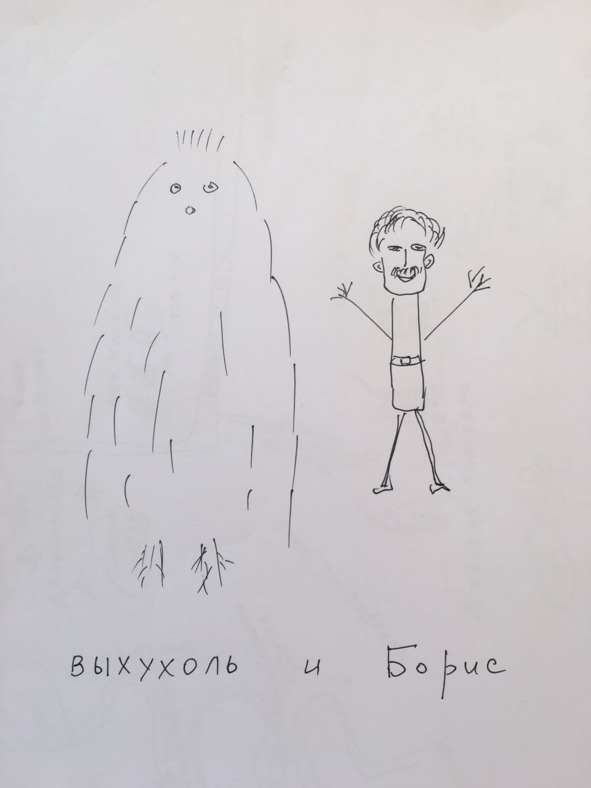
Выхухоль и внешний вид Выхухоли
Борису было непонятно, чем покрыта Выхухоль.
То ли шерстью, то ли перьями.
Вообще было не понятно, к чему это всё.
То ли это птица вроде курицы, то ли это животное вроде выдры или песца, к примеру, а может, навроде кота породы мэйнкун.
Хотя не похожа ни на тех, ни на других, ни на третьих.
С другой стороны — рост.
Выше Бориса. И крупнее.
И была ли вообще Выхухоль выхухолью — большой вопрос.
С виду не разберешь, а пощупать шкуру было невозможно, из этических соображений.
— Ходячая шуба! — сказал Печник про Выхухоль, но что с него взять, с Печника?
Хотя вообще-то внешний вид Выхухоли производил приятное впечатление, даже на детей, если бы не некоторая загрязненность временами и не красный глаз, особенно с просыпу.
Выхухоль и прогулки
с Борисом Дубовым
Иногда Борис Дубов ходил с Выхухолью гулять.
Они шли бок о бок по пыльной дачной дороге в сторону города.
Оттуда иногда приносило ветром заводские дожди.
Тогда Выхухоль покрывалась синеватым, а то и зеленоватым кислотным налетом.
В сочетании с красным глазом это выглядело красочно, хотя и пугало особо нервных и чувствительных.
К тому же Выхухоль начинала кашлять, с отчетливым выхухолевым акцентом.
Но прогулкам это не мешало.
Только иногда кто-то шуршал в кустах ивняка вдоль дороги.
То ли соседские дети следили за прогулкой Бориса и Выхухоли.
То ли это змеи расползались с нагретых пригорков: уж очень они боялись Выхухоли. Хотя она их не трогала.
Выхухоль и иностранные языки
Выхухоль пыталась учить иностранные языки.
Пела она хорошо, со способностями, а вот языки никак не давались.
Она сидела в своем скворечнике, упершись красным глазом в учебник, и мучалась.
— Борис, — спрашивала она внезапно, — а можно сказать «маньди» или «саньди» вместо «маньдей» и «саньдей»?
Борис не отвечал.
Всем было ее жалко.
Борис Дубов иногда говорил: «Брось мучаться, давай лучше траву покосим!»
Но Выхухоль знала, что очень важно заниматься языком хотя бы полчаса в день, зато каждый день.
Все равно толку не было.
Грубо ругаться матом по-английски, как другие, она не хотела, а другие слова ей как-то не подчинялись.
Выхухоль и пение
Зато пение Выхухоли давалось.
Ей нравились «Подмосковные вечера».
Элтон Джон нравился, Лепс нравился.
Ей не нравились негритянские всякие песни-речитативы, кроме одной, из фильма, где актриса Пфайфер, американская, играет морскую пехотинку, которая теперь преподает в школе для трудных детей в бедном районе Америки.
Так вот там была песня, рэп, очень ритмичная, с припевом красивым, и она пришлась Выхухоли по душе.
Со временем она узнала вдруг, что это вообще-то бандитский рэп, но поделать уже ничего нельзя было, раз нравится. «Любовь зла», — сказал про это Борис Дубов. Со знанием дела сказал.
Когда Выхухоль, прищурив красный глаз, начинала напевать эту песню, мелодию, конечно, не слова, всё вокруг затихало.
Сворачивали свой треск кузнечики в полях, кроты пробкой застревали в своих ходах, плотва переставала выпрыгивать, резвясь, из воды, а застывала, шевеля хвостом, в той же воде, невесомые водомерки замирали на месте, прижимаясь на всякий случай к кувшинным листьям.
Даже бесстрашная и вечно невозмутимая сова в ближнем лесу нервно ежилась в своем дневном дупле, ерзала, стараясь покрепче сомкнуть свои круглые желтые глаза. Ей казалось, что надвигается страшная гроза.
Но, конечно, всё кончалось хорошо, как только Выхухоль прекращала петь.
Особенно ей удавалось верхнее «ля» второй октавы.
Выхухоль и Печник
Вот с кем Выхухоль не ладила, так это с Печником.
Со всеми — «Вась, Вась», ну, в меру, конечно, а с этим — ну ни в какую.
Не совпадали они в отношении к жизни, ни по коренным вопросам бытия, ни по житейским подробностям.
А еще — Печник всё подбирался и подбирался к скворечнику, в котором жила Выхухоль.
Печник хотел во что бы то ни стало сложить там печь, иначе он мог без практики потерять квалификацию.
Другие его давно уже к себе не пускали на предмет печкостроения, а здесь, думал он, может и прокатит. На новенькую.
Он полагал, что Выхухоль его не заметит, потому что у нее глаз красный и можно тихо подобраться.
Но Выхухоль его замечала своим красным глазом и шугала, махала на него то ли своим крылом, то ли лапой.
И так жарко, солнцепек, куда еще печь-то?
От испуга Печник падал навзничь и покрывался потом.
Так и лежал не шевелясь в траве возле скворечника, притворялся, чтобы не тронули.
Замирал, как будто Выхухоль — это какой-нибудь злой медведь-шатун, который падаль понюхает, понюхает, да и не тронет. Про запас оставит.
Даже было неприятно смотреть на такую вот картину с лежащим неподвижно телом — хоть мелом по контуру обводи, — а ведь внешне это был благообразный седой старичок с бородкой, в полотняной рубахе с пояском и просторных штанах а-ля Лев Толстой и, конечно, в широкополой соломенной шляпе.
Покачав головой, Выхухоль уходила грустная в свой скворечник, закрывалась и не показывалась, пока Печник не уходил, отряхнув свою шляпу от пыли.
Как будто она кому нужна была.
Выхухоль и Гремучая змейка
— Ты глазки-то на меня не таращь! — сказала Выхухоль.
Гремучая змейка смотрела на нее снизу и пыталась поднять хвост, чтобы погреметь.
Но хвост отсырел в русском лесу, погремушка скукожилась и греметь не хотела, хоть плачь.
Выхухоль смотрела на Гремучую змейку не без сочувствия.
А вот Гремучая змейка наоборот: подняла голову, открыла пасть и попыталась плюнуть своим ядом в Выхухоль.
Яда было мало, да и был ли это яд? Может, слюна? Или желчь? Откуда ему, этому яду, собственно, взяться на тощем и незнакомом питании?
— Зря ты так, — сказала Выхухоль. — Клюв у тебя не вырос на меня плеваться.
Она подошла к Гремучей змейке поближе, наклонилась, разглядела погремушку.
— О, гремучая? А что это у тебя цвет зеленый вместо коричневого? Да еще с красными полосками?
— Сама не знаю! Уйди от меня! Не загораживай мне солнце! — сказала Змейка, нервно водя хвостом по земле.
— Ты не на солнце, ты на себя посмотри получше, — ответила Выхухоль. — Одни ребра остались. А зеленой, наверное, от нервов стала. Все болезни от нервов. — Она вздохнула.
Гремучая змейка длинным сдутым шариком опустилась на травку в тени дикого шиповника.
— Как тебя к нам занесло-то? — спросила Выхухоль.
— Я выпала из самолета. Пошла в туалет и выпала.
— Обычное дело у нас. А по-русски ты ничего разговариваешь, навострилась. Родители не лингвисты случаем? — спросила Выхухоль. — Есть хочешь?
Она достала из своей любимой синей сумочки бутылку с молоком, побулькала, отпила глоток.
— Хочешь?
Гремучая змейка сглотнула. Сглатывать было нечего, все пересохло окончательно от бескормицы.
«Как дальше жить?» — подумала она.
— Ты не переживай, — сказала Выхухоль. — У нас тут грибов много, ягод. Земляники хоть отбавляй, черники.
— Я грибы и ягоды не ем, — сказала Змейка.
— Ничего, привыкнешь. Мы здесь все на подножном корму. Остальные привыкли, и ты привыкнешь. Вытянешься, в тело войдешь. Здесь у нас все быстро растут. Химзавод военный, что уж они там химичат, не знаю… Насадкинская аномалия, слыхала?
Она налила молока в свернутый лист лопуха и протянула Гремучей змейке.
Змейка отпила глоток и зажмурилась. Потом снова открыла глаза. Глаза у нее оказались синие-синие.
— А грибы я все равно есть не буду, — сказала она.
— Ну-ну, — ответила Выхухоль, — все так сначала говорят. А потом лопают всё подряд за обе щеки, за шкирку не оттащишь.
— А я вот не буду, — сказала Змейка.
Выхухоль и Рыбка
Выхухоль сидела на берегу речки и болтала в воде ногами.
Или лапами?
Из воды высунулась Рыбка и стала смотреть на Выхухоль.
— Ну, что вылупилась, Выхухоли не видела? — спросила Выхухоль.
— А вы Выхухоль? — спросила Рыбка. — Какая-то вы… Э-э-э…
Ротик у нее был удивленно открыт и образовывал идеальную букву «О».
— А то кто же еще? Ты что, не местная? — спросила Выхухоль. — Что-то я тебя раньше не видела, пеструха.
— Я не пеструха, я из Японии, я карпия, — сказала Рыбка.
Она так и стояла почти вертикально на плавном течении, работая хвостом, а рот у нее был зафиксирован точнехонько на уровне воды. Как воронка. Но вода туда почему-то не заливалась.
«Как только не захлебнется?» — подумала Выхухоль.
— Ну, и откуда ты взялась здесь? — спросила она.
— Я выпала из самолета, — ответила Рыбка.
— А, — сказала Выхухоль. — Ну, да. Конечно. Откуда еще.
Она поболтала ногами, рыбку качнуло.
— Аквариумист менял воду, и вот… — объяснила Рыбка.
— В туалете менял? Что ж у них там у всех руки косые в этих ваших самолетах.
Рыбка пошире открыла узкие глаза.
— Не про тебя речь… Да ладно, мне-то что, — сказала Выхухоль. Помолчала. — Не холодно тебе у нас? В Японии поди теплее, возле этой вашей Фудзиямы с горячими источниками.
— Привыкаю потихоньку, — ответила Рыбка. — Только поговорить не с кем. Другие рыбы от меня шарахаются.
— Ну да, больно уж ты пестренькая. Была бы просто красная, а то еще и с пятнами, а нос вообще черный, — сказала Выхухоль. — Много отцов, что ли?
— Нет, порода такая, — сказала Рыбка. Она опустилась в воду с головой, поплавала туда-сюда и опять приплыла.
— Да ты не грусти, — сказала Выхухоль. — Тут у нас интернационал. Гремучая змейка, Мальчик, еще кое-кто, теперь ты вот. Притрешься.
— А можно я к вам буду приплывать, так просто, поговорить, пообщаться? — спросила Рыбка. — Язык буду совершенствовать.
— Да приплывай, совершенствуй, речка общая, не жалко.
Солнце встало совсем высоко и жгло макушку.
Выхоль поднялась, отряхнула зад от травинок, отодрала репейные колючки, которые в зоне доступа оказались, и пошла по тропинке домой.
Потом повернулась и спросила:
— Слушай, а как по-японски «до свидания»?
— Саёнара! Ой, нет, это значит «прощай!» — Рыбка заволновалась и завертелась в воде. — Лучше… лучше говори «цзя мата» — «еще увидимся»!
— А, ну это почти по-китайски — «цзай-цзянь»! У китайцев и взяли, наверное. Ох, уж эти мне японцы. Может, тебе поесть что принести? Риса там какого-нибудь? У нас как раз в сельпо завезли, краснодарский, мягковат, только кашу из него варить, но для сельской местности сойдет. В воде размочишь, что тебе еще надо?
— Спасибо, мне водорослей хватает. В них йода много. И витаминов. Ой, а японского зонтика у вас нет случайно?
Выхухоль и раздумье
Выхухоль любила думать.
Она, собственно, этим и занимала почти все свое время.
Нет, конечно, она ходила за грибами, косила траву, сажала цветы, ела сливы с дерева, качалась в гамаке, воспитывала окружающих в духе добра и терпимости, но главное, она думала.
Если бы ее спросили, о чем она думает, Выхухоль вряд ли бы ответила.
Однако по ночам у нее в скворечнике часто горел свет.
«Думает», — думал Борис, выходя ночью под звездное небо.
Иногда он надевал на лоб фонарик для ночной рыбалки и высвечивал пятном света изумрудно-серебряную лужайку у дома и седые стволы елей.
— Борис! — говорила укоризненно Выхухоль, выходя из скворечника.
Борис поспешно выключал фонарик, восстанавливая природное равновесие, а Выхухоль уходила к себе.
Им было не скучно наедине с собой и своими мыслями — Выхухоли в своем скворечнике, а Борису на росистой траве под звездным небом. Огромным, дырявым.
Борис босиком ходил по щекочущей ступни росе, а потом, нахолодавшись, с удовольствием нырял в теплую постель!
Жалко только, что Выхухоль боялась росы. «Не полезно для шерсти», — говорила она.
Выхухоль и наука
— Борис, наука нам нужна? — спросила Выхухоль.
— Странный вопрос, — ответил Борис.
Дело в том, что Борис Дубов сам был ученым, и еще каким, он занимался ихтиологией, медициной и краеведением, когда-то работал фельдшером на скорой помощи, а потом стал биологом, увлекался историей дворянских усадеб, у него были усы, густая шевелюра, умные глаза и обаятельная усмешка, он многое знал про рыб и людей, про движение жизни в организме, про уловки и ужимки митохондрий, и вообще, стоило его копнуть, как открывались большие научные глубины. При этом смеяться не очень любил. Зато если уж смеялся, то очень заразительно.
— Что ты знаешь о бифуркации, например? — спросила Выхухоль. — Или об уровне многочленов по плоскости?
Борис покривился.
— Я в высшей математике не петрю, — сказал он. — Это слишком специально.
— А вот кто в ней петрит, это хороший человек? — спросила Выхухоль. — И сама ответила: — Думаю, очень хороший. Ведь когда он об этом думает, он не мучает животных, не кричит по ночам под окнами пьяным голосом, не обворовывает дачи, не бросает мусор в лесу, не гоняет жену.
— А если гоняет?
— Тогда это не ученый, — ответила Выхухоль. — Разве это научно — гонять жену, да еще в пьяном виде, да еще наверняка небритым, в рваной рубашке, без ботинок.
— Куда-то ты не туда заехала, — сказал Борис.
— Туда, туда, — сказала Выхухоль. — Люблю науку.
Выхухоль и Гремучая змейка-2
Выхухоль и Борис Дубов часто прогуливались по лесу. В лесу у них была любимая солнечная полянка. Не та, которая подальше, слегка под наклоном, почти у оврага, а другая, в ближнем лесу, небольшая, но тоже круглая, веселая, в орешнике, елках и березах.
Они часто туда ходили — до тех пор, пока на полянке не построил дом местный лесник.
Он отгрохал огромную домину и огородил полянку забором, прямо по самым земляничным местам.
Выхухоль и Борис теперь обходили полянку стороной, стараясь не смотреть на зеленый забор.
И сейчас они направлялись в дальний лес.
Из-за кустов бузины раздалась песня:
— Я в ответ улыбаюсь смущенно,
Опускаю ресницы смущенно,
И молчу я, как будто смущенно,
Ну а сердце от счастья поет…
Слабый голос дрожал и пришептывал.
— Песенка Синеглазки, — сказал Борис. — Слова Энтина, музыка Гладкова.
— Кто это там шепелявит? — удивилась Выхухоль.
Они заглянули за кусты.
На траве за ними лежала Гремучая змейка, она обвилась вокруг высокого мощного мухомора, и, приподнявшись, любовалась своим отражением в лужице воды, скопившейся в углублении красной, с белыми точками, облупившейся по краям шляпки.
— Ах, глаза у Синеглазки… — Она увидела Выхухоль и Бориса и замолкла.
— Пой, красавица, пой, — разрешила Выхухоль.
Гремучая змейка смущенно улыбнулась, этак натянуто, стараясь не трогать правую сторону, но рот все равно приоткрылся и обнаружил отсутствие зуба.
— Эй, да ты без зуба, мать, — сказала Выхухоль. — Кто это тебя так?
— Неважно, — ответила Гремучая змейка, ослабила хватку и отползла от мухомора.
Мухомор облегченно вздохнул.
— Как ты, вообще? — Выхухоль присела на пенек.
— Да все в порядке. В полном, — ответила Гремучая змейка.
— Слышала, ты приятеля себе завела, — сказала Выхухоль. — Это не он тебе зуб-то выбил?
Борис Дубов толкнул Выхухоль в бок.
— Ничего, ничего, не развалится, — сказала Выхухоль, — как на ферму за молоком шастать, так она бойкая…
— Моя личная жизнь — это моя личная жизнь, — сказала Гремучая змейка, прикрывая хвостом корону из бересты, которую собиралась было примерить, — и вообще, какое право вы имеете…
— Эх, шепелявая, — сказала Выхухоль. — Ты бы лучше о других думала, а не о себе. Небось не одна в лесу живешь.
— То есть?
— А то и есть! Вот тут лесник завелся, дом себе построил, все ягодные места затоптал, опушку грибную загубил, не пройти никому, — сказала Выхухоль. — А про соседку он не знает. Про тебя то есть. Заглянула бы к нему, на чай с молоком.
Борис опять толкнул Выхухоль.
— Да хватит толкаться. — сказала Выхухоль, — ничего ему не сделается. Новый опыт, новые впечатления. Будет о чем внукам рассказать.
— А что, и загляну. На чай если, с молоком, — сказала Гремучая змейка. — А куда ползти?
— А вот прямо на закат и ползи, — сказала Выхухоль. — На огонек. Да не стучи в дверь, а сразу вползай, в щель какую-нибудь. Сюрприз! И погреми там погромче своей погремушкой, порадуй народ.
— А то! — сказала Гремучая змейка.
Она шустро поползла в сторону заката, через кусты малинника, мимо дубов, к елкам, в сторону дома лесника.
Она слабо, но довольно точно пела:
— Ах, глаза у Снеглазки,
Вы у неба взяли краски,
И небесной красотой
Синий взор сияет мой.
— Хорошая песня, — сказал Борис Дубов. — За душу берет.
— Знаю я этого Энтина, пересекались, — сказала Выхухоль и призадумалась.
Выхухоль и самолеты
Как-то так выходило, что всю информацию о мире Выхухоль получала из падающих сверху журналов.
Над деревней, высоко в небе, пролегали синие воздушные трассы во все стороны.
Японские летели из Японии, китайские летели из Китая, а немецкие из Германии.
Откуда летели другие самолеты, в деревне могли только догадываться.
Наверное, из Америки. Мир-то большой, чего гадать.
Из самолетов всё время что-то выпадало.
В основном это были газеты и журналы.
Наверное, пассажиры выбрасывапи их из окошек, прочитав.
По утрам Выхухоль подбирала возле своего скворечника кипы почти свежих газет и журналов.
Она знала новости всего мира.
Мир был глянцевый и красивый.
Но в нем много воевали.
Поэтому Выхухоль часто грустила.
Иногда из самолетов падали вниз отечественные товары, в основном самовары.
Наверное, пассажиры из них пробовали пить чай, не получалось, и они их выкидывали. Летом почему-то чаще.
Не так уж много и выкидывали, но на заднем дворе, за скворечником, их скопилось уже немало.
Вся деревня их приносила Борису, вроде как для ремонта, но потом все про них забывали.
Соседская старушка подворовывала у Выхухоли эти помятые, с гнутыми краниками самовары, и отправляла с оказией на тульский завод, где у нее работали племянники.
За деньги, конечно, пусть и небольшие.
А вот газеты и журналы никому не были нужны, и Выхухоль вырезала из них картинки и наклеивала у себя в скворечнике.
Особенно много картинок было про природу.
Она же красивая.
Выхухоль и нападение зимних зайцев
Выхухоль была единственной, кого боялись зайцы.
Зайцы жили в соседнем лесу. Летом их не было ни видно, ни слышно, а зимой просто беда!
Как только выдавалась особо морозная ночь и снег становился плотным, образовывая твердый наст, они выходили из леса и подступали к деревне.
Здоровенные, в цвет снега, с пламенными глазами и огромными белоснежными, с синевой, зубищами.
Шли в полный рост строем, как в психической атаке белогвардейцы в старом-престаром фильме «Чапаев».
Фильм этот зайцы тоже уже слабо помнили, но вот так вот от леса в сторону деревни и шагали в полный рост, высоко задирая лапы. Задние, конечно.
Шли молча, как и полагается в психической атаке.
Луна светит, но не греет, а наоборот, холодит, деревня как бы притихла и спит, а зайцы через поле идут неровным строем сурово и неуклонно, только снег под лапами хрустит — «хрусть, хрусть».
Вроде ничего особенного, по нынешним временам, однако по спине мурашки так и бегают туда-сюда, туда-сюда, и волосы шевелятся. У всего народа.
Раньше мужики деревенские с дачниками вместе, кто посмелее, бывало, залягут в полночь на околице в снежных окопчиках с ружьями, хотят встретить огнем, но когда зайцы все ближе и ближе, когда по ушам только «хрусть, хрусть», когда белые тени растут и растут до неба, огненные глаза горят так, что аж луны не видно, когда уши острыми саблями вскинулись, а резцы огромные стальным блеском сверкают — ой-ё-ёй!.. Тут даже самые храбрые не выдерживают, бросают куда попало свои ружья и травматы и по домам бегут прятаться. Ложатся в постели и дрожат до утра вместе с женами. Дети-то, конечно, спят уже, несмышленыши.
Но дети, кстати, вот такими вот утрами в школу не ходили, пользуясь чрезычайной ситуацией, как многие вообще у нас пользуются чрезвычайными ситуациями.
Этих зимних зайцев с их ночными немыми атаками даже волки боялись и переселились от греха подальше за дальний овраг, в самый бурелом.
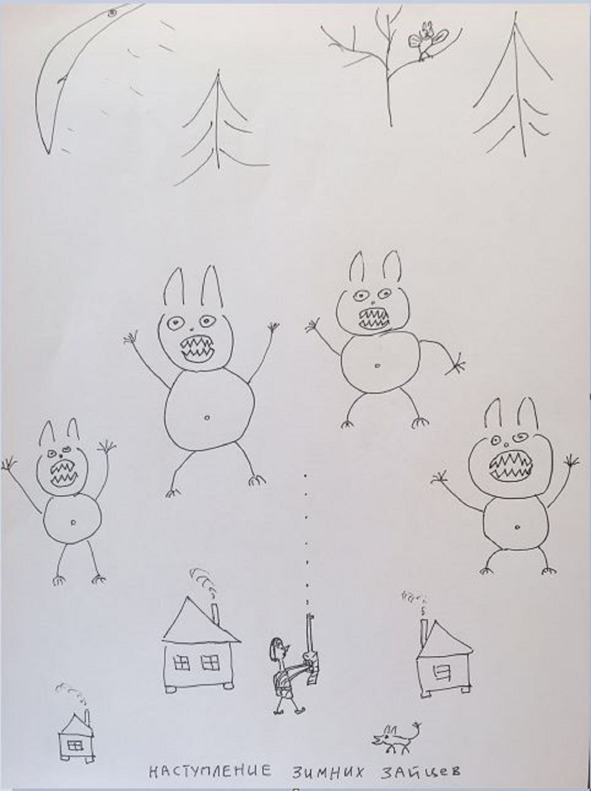
Ну, их можно понять, страшно же, жить-то все хотят.
А зайцам только того и надо. Они молча подходили к садам и грызли плодовые деревья и даже кустарники, предпочитая черную смородину. Так грызли, что и бобрам не снилось. Всё обгрызут, поломают, затопчут, нагадят где попало — и назад в лес, в лежки, спать.
Словом, зимние белые зайцы держали деревню в страхе.
Но только до той поры, пока в скворечнике не поселилась Выхухоль.
Она зимой там тоже жила. Борис Дубов отопление сделал, воду горячую провел, главное, посуду мыть можно. Вот только теплого туалета пока не было, Дубов всё обещал, обещал и всё откладывал, мол, то труб нет, то еще чего-то там необходимого.
Ну вот, в первую же ее, Выхухоли, дачную зиму зайцы, как водится, в крещенские холода, в самый лютый мороз ночью двинулись через поле к деревне. Идут бодрые, голодные и свирепые, глаза как фонари, зубы клацают, лапищи по снежной крепи — «хрусть, хрусть, хрусть, хрусть».
Жуть.
А Выхухоль как раз на крыльцо вышла, покурить. Она любила курить, глядя на звезды в небе.
А зайцы все ближе.
Надо сказать, что зайцы вообще-то ничего не боялись.
Один раз мужики даже трактор поставили на их пути, с работающим двигателем. Раскрасили под танк, башню с пушкой из фанеры сделали, валунами обложили для прочности.
Так все равно никакого толка. Загадили только технику зайцы со всех сторон, башню отгрызли с пушкой, и снова к себе в лес.
Бесстрашные были, как самураи.
Но тут — вот когда Выхухоль на крыльцо вдруг вышла — тут они и заробели. И встали все как один.
На них из темноты смотрел огромный красный глаз.
Второй глаз Выхухль прищурила от сигаретного дыма.
Боевая шеренга смешалась, зайцы сбились огромной толпой на околице, топчутся на месте, смотрят на этот глаз, как завороженные, и не с места.
А большой красный глаз смотрит на них.
Как бы светит в упор и бьет далеко — до самой до опушки, туда-сюда шарит, как лазерная указка. Иногда в небо лучом уходит.
И так зайцам стало страшно, что лапы подкосились, они опустились на все четыре конечности, прижали уши и бросились назад в лес, давя друг друга, не разбирая дороги.
Да и какая там дорога в полях и лесах? К тому же зимой.
С той поры они в эту деревню ни ногой.
А Выхухоль что — покурила себе спокойненько, полюбовалась окрестностями и домой в скворечник.
Думаете, деревенские или там дачники хоть спасибо ей сказали?
Фигушки.
А ей и не надо.
Выхухоль, собственно, до поры до времени и не знала, что спасла деревню от зайцев.
Она же на небо вышла посмотреть, на луну, на лес.
Что ей какие-то зайцы?
К тому же она была немного близорука, на ночь линзы уже вынула и положила в чехольчик в ванной, на раковину возле умывальника.
Она же очень хозяйственная, Выхухоль.
Выхухоль и плавание
Выхухоль иногда ходила плавать на пруды под березами.
Пруды прятались вдалеке от дачных домов, в березовой рощице, примыкающей к большому лесу, на дне в них били ледяные ключи, намывая глубину, однажды там даже утонул трактор, по слухам, вместе с трактористом, и народ туда ходить побаивался.
Выхухоль это не пугало.
Она брала с собой Бориса Дубова, перекидывала через плечо полотенце, и они плечом к плечу шли песчаной дорогой через луг с высокой травой, обходя выпрыгивающих прямо под ноги кузнечиков.
Вообще-то Выхухоль плавание не любила, вернее, сначала, когда-то, любила, а потом дико устала от него.
— В детстве переплавала, — сказала она как-то Борису Дубову, — заставляли. Да еще попала в старшую группу, нагрузки там знаешь какие? Я плавание просто ненавидела, меня от него тошнило, живот ныл, до диареи фактически, стыдно сказать, доходило, шла на занятие и еле сдерживалась на ходу. Лишь бы до спортцентра дотерпеть. Даже способ придумала с поносом бороться. Как-то шла, еле терпела и вдруг поскользнулась и шлепнулась на попу. И в туалет сразу расхотелось. И с того дня как по дороге совсем невтерпеж, уже умышленно шлепалась на задницу.
— Помогало? — спросил Борис.
— Да, помогало. Но сколько так могло продолжаться? Плакала, конечно.
— Ну, и…? — спросил Дубов.
— Не нукай, — ответила Выхухоль. Но продолжать не стала…
Подойдя к пруду, она надевала очки для плавания и плюхалась с обрыва в воду, уходила в коричневую глубину, в сплетения лилий и кувшинок.
— Смотри, какой у меня гребок, — кричала она, отплевываясь и задирая над водой голову в круглых очках с голубой оправой, — эластичный, длинный, до конца доведенный, классный. Это я кролем плыву.
Борис Дубов грустно смотрел вниз с обрыва и жевал травинку, он бы тоже окунулся, но все время забывал дома плавки, а без них плавать было совсем уж голо.
— Смотри, а теперь брассом! — хвасталась Выхухоль. — Там пузырьки такие веселые, под водой!
Она нарядно смотрелась в голубых очках для плавания.
Борис Дубов настороженно озирался вокруг: как-то на пруды забрел веселый от летнего дня механизатор из соседнего сельскохозяйственного совхоза-техникума, увидел над водой голову Выхухоли в голубых фирменных очках и после этого уехал с малой родины навсегда, по слухам, стал искать страну Аватаров, добрых и веселых, и, главное, безволосых.
— Ты знаешь, Борис, ведь для счастья не так уж много и надо, — сказала Выхухоль, выходя из воды и отряхиваясь. — Сначала надо что-то полюбить, потом возненавидеть, но все равно любить в глубине души, а потом вернуться, понять, что боялся зря, и снова полюбить, как раньше… Главное, не бояться. Да не сиди ты сиднем, дай водички попить!
Выхухоль и Соседская старушка
По соседству со скворечником, в котором жила Выхухоль, через забор фактически, стоял домик Старушки.
Старушка была не то чтобы очень вредная, но житья никому не давала.
Старушка не знала, что Выхухоль — это Выхухоль.
Она поначалу думала, что Борис Дубов из жадности построил второй дом и сдает его теперь за большие деньги дачнице с противным голосом.
Старушка была подслеповатая, она, конечно, видела Выхухоль, когда та выходила качаться в гамаке, возилась с розами или шла на пруд с Борисом Дубовым, но различала только силуэт, а кто там, что там, ей было все равно, вот только голос новой дачницы вызывал раздражение.
— «Борис, Борис, принеси мне молока», — передразнивала Старушка. — Как будто сама не может задницу свою оторвать, если пить хочет, да и воду надо пить, а не молоко, молока на всех не напасешься, коров-то теперь не держит никто, разленились. Одни козы, и те шалые какие-то, так и лезут в огород, прости меня, господи.
Еще она перебрасывала на участок Бориса Дубова бурьян, который занял ее грядки, сорняков было так много, что не уследить, и росли они на удивление быстро.
Выхухоль, конечно, не обращала никакого внимания на Старушку, она и не таких еще старушек повидала на своем веку, а будь здоров каких старушек, одну даже вообще просто шпионскую старушку, совсем уже пропащую, хотя и с прекрасным английским языком.
А вот Бориса Дубова ей было жалко.
Воспитание и врожденная эмпатия не позволяли ему жестоко обращаться с растениями, живые же все, он подходил к сорнякам, смотрел на их буйные заросли, и, покачав головой, уходил домой пить чай и напрасно ждать заката. Почему напрасно?
Потому что лебеда и прочие сорняки вырастали огромные, лопухастые, до неба, они заслоняли солнце, а Борис Дубов любил смотреть утром на восход, а вечером на закат.
А тут как назло — ни заката не видно, ни восхода, один зенит, не команда футбольная, а когда солнце высоко, через бурьян перепрыгивая, идет по самой верхушке неба.
Что делать?
Другая бы или другой стали бы нервы напрасно жечь, раздумывая, как поступить с этой Соседской старушкой.
Она к тому же еще и мак стала выращивать, якобы для маковых булочек, а на деле все равно сплошной сорняк, одно название что мак.
Хотя поселковый участковый все равно насторожился, иногда к ней наведывался, присматривался, принюхивался и как бы невзначай просил почитать литературу про выращивание полезных растений, «ну, конопли там, к примеру, или еще чего». В медицинских как бы целях, говорил. Мол, зубы у него болят.
Но Старушка читать не любила, книг дома не держала.
А если бы и держала, то все равно не дала бы.
Не любила она отдавать.
Наоборот.
Она любила зайти к соседям, попросить что-то и не отдать.
Так что если что-то и можно было у Старушки получить, так только свое. И то без гарантии, с порчей нервов.
Вот поговорить она любила. Но если говорила о ком-то, то лучше и не передавать никому, что она там говорила.
Другой бы или другая при мысли о Старушке стали бы мечтать о гранатомете.
Но Выхухоль не такая.
Выхухоль просто однажды ночью перелезла через соседский забор, да какой там забор, гнилой штакетник, дыра на дыре, видимость одна, и вырвала все Старушкины сорняки на фиг, а на пустое место постелила искусственный газон, которые ей привез по дружбе озеленитель стадиона «Лужники».
С ним ее познакомил Борис Дубов, который в свое время добровольно ушел из своего умного биологического института и три года добровольно строил новую арену стадиона к Олимпиаде-80, пройдя в комплексной строительной бригаде славный трудовой путь от «подсобно-транспортного рабочего 2-го разряда» до «плотника 4-го разряда» (почти самый высокий плотницкий ранг!), тачку возил, бетон заливал, опалубку сколачивал, леса ставил — не задаром, конечно, а за квартиру, обещанную Моссоветом, которую и получил, слава богу, за труды свои тяжкие, не в обход других причем, потому что так и так стоял в районной очереди на улучшение жилья. Всем известно, что в Лужниках всю траву то и дело меняют в целях освоения выделенных средств, но не все знают, что новый свеженький газон главный озеленитель не кладет на арену, а отдает знакомым, старый же слегка подстригает, подновляет акриловой краской сочного малахитового цвета, и готово дело.
— Всё равно наши футболисты-оболтусы играют так себе, обойдутся, — говорил озеленитель после рюмочки-другой, — им бы на пустыре мяч гонять, и бесплатно, а не за такие деньжищи, дармоеды и лоботрясы, тьфу на них, глаза бы не глядели! (Дубов при этом всегда добавлял: «По соотношению цена-качество наш футбол, конечно, достоин занесения в книгу, только вот в какую, непонятно». А озеленитель на это всегда замечал: «Уголовного кодекса наш футбол достоин». И они чокались, проявляя взаимопонимание и согласие.)
Выхухоль постелила этот веселый, плотный и упругий, не топтанный еще зелененький газон, распространив на весь двор Старушки, почти до сортира у задней стены забора. Газон показался ей на ощупь чуть жестковатым, и она опрыскала его водой из шланга.
Утром Старушка вышла во двор и встала столбом.
Потом, треща косточками, опустилась на колени, погладила ровную изумрудную травку по голове и заплакала: такой красоты она в своей жизни еще не видела.
Как подменили после этого Соседскую старушку. Ну, почти подменили. Она распахнула свою калитку настежь и теперь утром, днем и вечером выходит на улицу и ждет прохожих, зазывает красотой любоваться. И старается говорить всем добрые слова.
С непривычки тяжело ей, заикается, потеет, но старается. Потому что понимает, что если ляпнет злое слово, никто к ней не придет разделить радость.
А тогда зачем газон?
Даже в дождь выходит к своей калитке, караулит.
А от дождя ее спасает кофейного цвета дождевик, который она сперла давным-давно у Бориса Дубова.
Ну, не сперла, конечно, а так, одолжила однажды в магазин сходить, да забыла вернуть.
Не со зла же.
Выхухоль и осиное гнездо
В скворечнике, где жила Выхухоль, завелось осиное гнездо.
Как оно там завелось, никому не ведомо, не было, не было, и вдруг на тебе — висит!
Вернее, прилепилось к потолку, к балке, на стыке со стеной. Сначала Выхухоль не обращала на него внимания, подумаешь, серый мешочек, надутый пустой кулек из жеваной промокашки.
Но осы так не думали.
Они думали, что кое-то теперь лишний в скворечнике.
Они стали подлетать к Выхухоли и смотреть ей прямо в лицо.
А Выхухоли что, ей и не такие смотрели в лицо.
Но одно дело смотреть, а другое дело, когда тебе чуть ли не в рот залетают.
Или в ухо.
Чего они там нашли, в ухе у Выхухоли, непонятно, но, видно, наравилось, тепло там, уютно по-домашнему, чуть замешкается Выхухоль, и вжи-их, опять кто-то в ухо влетает. Или вылетает.
Причем невозможно посчитать, сколько их там, и все ли уже вылетели или кто-то еще остался. И можно уже в ухе поковыряться, почистить, или пока нельзя.
Ночью еще ничего, а вот днем спать стало невозможно, ухо не приклонишь к подушке, живые же твари, хоть и маленькие.
И съесть ничего спокойно нельзя чего хочется, ни сладкого, ни соленого, ни острого, ни перченого, осы так и вьются вокруг, того и гляди, случится беда.
Выхухоль позвала Бориса.
— Борис, с осами надо что-то делать!
Борис посмотрел вверх под потолок, пригладил усы.
— Не знаю, осы не рыбы, вот если бы у тебя рыбки завелись, я бы их переселил.
— Если бы рыбки, я бы тебя не звала. И потом, откуда у меня рыбки могут взяться, где ты здесь воду видишь?
— Не буду я с осами связываться, — сказал Борис. — Меня в детстве укусили в одно место, стыдно сказать. Ты лучше мне раны не тревожь.
И ушел.
Вечерело, на улице зажглись фонари, осы собрались в своем гнезде и не шумели.
Тут в скворечник пришла девочка Лида.
Она была в плаще-дождевике, в руке держала ведерко и пластмассовую лопатку.
На голове у нее был накомарник.
Лида встала на стол, поднесла ведерко к гнезду и ковырнула его лопаткой.
Гнездо мягко упало в ведро.
Лида накрыла его крышкой.
— Пусть ночь у меня постоят, они спят, — сказала она. — А утром я отнесу их в осиновый лес, там много пустых дупел, им там будет хорошо.
— Что, так просто? — спросила Выхухоль.
— Да, так просто.
— Ну, так и я смогла бы. С ведерком каждый сможет. Тоже мне, барыня. А тем более в сетке этой на голове.
— А хочешь, я сейчас по ведру стукну? — спросила Лида.
P.S. Лидина мама Катя, такая же отважная, как дочка, прочитала и сказала:
— А зачем ты про накомарник написал? Не было никакого накомарника.
— Так страшнее, — сказал я.
Выхухоль и правила проезда по кругу
Шел дождь.
— Борис! — крикнула Выхухоль.
Она высунулась из скворечника.
Выхухоль махнула газетой.
— Ты слышал? Теперь новые правила проезда по кругу! Ничего себе!
Борис молча смотрел на Выхухоль, у него разболелся зуб, анальгин кончился, надо в аптеку ехать, а полоскать зуб водкой нельзя, утреннее время все-таки, детское.
Да и не полоскал он никогда рот водкой от зубной боли. Хотя иногда и хотелось.
— Теперь те, кто едет и только подъезжает к этому кругу, должны ждать, представляешь? — Выхухоль сверкнула красным глазом.
— Ну?
— Да что ну, баранки гну! Теперь те, кто на этом круге ездит, могут с него первыми съезжать! Просто убиться можно!
— Слушай, — сказал Борис. — У тебя машины нет, верно?
— Откуда? Да и зачем? Нам твоей хватает.
— И водить ты не умеешь? Так на хрена тебе эти правила? Откуда ты их взяла? Газете сколько лет? — Борис рассердился. Зуб ныл все сильнее. — Ты здесь у нас круг где-нибудь видишь для этой твоей езды?!
— То-то и оно, — сказал Выхухоль.
— Что то-то и оно?
— Я в принципе рада за вас! За людей.
— С чего это?
— Потому что жизнь налаживается. Хотя бы и по кругу. — Выхухоль еще больше высунулась из скворечника и лизнула дождь. — И дождик вроде перестает. За грибами пойдем?
— Я в аптеку, — сказал Борис.
— Вот, правильно! И мне мяту возьми в пакетиках, что-то сон совсем разладился.
Выхухоль и скворцы
Борис Дубов повесил на деревья скворечники, и в мае в них появились птенцы.
Выхухоль обрадовалась, она любила птиц, потому что они жили своей жизнью, а Выхухоль своей.
Главное, ей не было до них никакого дела.
Вот только кошки и вороны тревожили.
Они всё хотели подобраться поближе к скворечникам и, наверное, сожрать этих тощих маленьких птенцов.
Поэтому Выхухоль стала плохо спать, всё время выходила в сад и тревожно смотрела: а) на небо над деревьями, б) на землю под деревьями.
Птенцы, видя Выхухоль, начинали пищать, она вызывала у них добрые детские чувства.
— Да чего вы орете, заморыши несчастные, — говорила Выхухоль. — У вас своя мать есть, и отец есть. С ног уже сбились вас кормить. В смысле с крыльев.
— Сейчас-то еще ничего… — сказал Борис.
Он тоже тревожился, но виду старался не подавать, мужчина все-таки, усы, удочки, рыбалка, ножик заветный охотничий, ботинки высокие на шнуровке, то-сё.
— Что значит еще ничего? — насторожилась Выхухоль.
— Пока они в скворечнике живут, их кошки не тронут, и вороны тоже не достанут, дырочка мала.
— А потом?
— А потом они начнут выбираться наружу, но летать сначала не умеют, падают на землю.
— И что?
— Ну, а тут кошки эти. И вороны.
— Блин, — сказала Выхухоль. — Так я и знала.
Она ушла в свой скворечник, потом снова вышла в сад, огляделась.
— Ничего не происходит пока? — спросила она.
— Всё нормально, — сказал Борис.
— Может, переедем отсюда? — спросила Выхухоль.
— От себя не убежишь, — ответил Борис. Он смотрел на птенцов и принимал решение.
— Будем дежурить, — опередила его Выхухоль. — По пятницам и средам я буду дежурить, а по четвергам ты.
— А в другие дни?
— В другие тоже ты.
— А почему?
— Борис, — сказала Выхухоль, — давай только торговаться не будем! Ты же мужчина.
Выхухоль и сон
— Опять я плохо спала, — сказала Выхухоль. — Кофе приготовил? — Она зевнула. — Все время просыпалась.
— Да неужели? — спросил Борис.
— Ужасно! Только засну, тут сразу шум какой-то. Ворочаюсь, ворочаюсь… Очень плохо сплю!
— Это ты-то плохо спишь?
— А кто? Не ты же?
— Да вот именно что я! — Борис подтянул повыше спортивные треники-антик, практически артефакт, наглядное свидетельство давних торговых экспериментов с продажей китайских пуховиков и тренировочных костюмов с гордыми иностранными названиями.
— Не знаю, не знаю, — Выхухоль снова зевнула. — Вид, у тебя, Борис! Ты бы хоть побрился, а то мятый какой-то, и майка грязная.
— Ты на себя посмотри!
— А что посмотри? Охо-хо… Сил что-то совсем нет. А все потому, что сон разладился. Мяту, что ли, перед сном пить?
— Да ты так спишь, что храп по всей деревне.
— Я храплю? Борис, побойся бога. Никогда в жизни. Женщины вообще-то не храпят. Кофе где?
— Вот твой кофе. А только спишь ты будь здоров как.
— Да что ты пристал с утра со своим сном? Уже и слова сказать нельзя. Какой-то ты странный сегодня, Борис. Храплю я, выдумал тоже! И кофе остыло.
— Не остыло, а остыл.
— Борис, когда я не выспалась, ты меня лучше не трогай!
— И ты меня не трогай!
— Ну и вот!
— Ну и вот!
Выхухоль и дачные воры
Выхухоль вышла ночью в сад и столкнулась с дачными ворами.
Они вылезли из сарая, где лежали лопаты, грабли и прочий инвентарь.
Один держал на плече подвесной лодочный мотор, который Борис Дубов привез на память с Волги в ту пору, когда работал ихтиологом и изучал рыбу и рыбьи повадки в разных местах прекрасной и большой до невозможности страны.
Мотор, конечно, не работал, зато он был самой крупной, красивой и тяжелой вещью, которую можно было унести из сарая. На нем была иностранная надпись!
Выхухоль посмотрела на воров красным глазом и взъерошилась.
— Ты, тетка, лучше не встревай, — сказал тот, что с мотором.
Второй молча покачивался, он держал в руках детский велосипед и придерживал рукой звонок, чтобы не звонил. Раздумчиво замахнулся велосипедом, но Выхухоль взяла его на болевой прием и изящно шмякнула через плечо на землю.
— Уйди, тетка, с дороги, — сказал первый и выставил перед собой мотор. — Зашибу!
— Да что ж вы все техникой чужой прикрываетесь? — удивилась Выхухоль, аккуратно вынула из поленницы березовое полено и сунула в пасть.
Щелкнули зубы.
Выхухоль бросила полполена на землю, вторая половина торчала в зубах, как сигарета.
— А еще я кровь люблю пить, — сказала Выхухоль. — Ночью к вам приду. Вот ты! Мотор положи! Ага. Вот ты вроде помоложе. Сколько тебе годков?
— Двадцать. Ты лучше не подходи!
— Вот-вот, самый смак, — сказала Выхухоль и цыкнула. — Самый армейский возраст. Кровь еще горячая, с высокой текучестью. Хотя по виду тебе все сорок… А мне крови попить, как вам пивка хлебнуть. Как в шею вцеплюсь, артерию нащупаю и как начну сосать… Эй, вы куда? Куда по грядкам-то, заразы, огурцы же потопчете?!
Из дома выбежал тяжелой рысью Борис с травматическим пистолетом.
— Что происходит? — спросил он. — Ты чего там про кровь кричала?
— Ничего не происходит. Вон, возьми велосипед и мотор, занеси все назад. А вообще, на хрена тебе этот мотор?
— Пригодится. Ты что, в самом деле кровь пьешь?
— Пью, пью! И до тебя скоро доберусь. Сарай закрой. Богач тоже выискался. Ни сна мне, ни покоя.
Выхухоль вернулась в скворечник, любовно поправила висящий на стене красный треугольный вымпел с буквами РВВДКУ и серебряным самодельным значком с силуэтом летящего в боевом выпаде — прямом ударе ногой в прыжке — парня в берете и выгравированной по дуге надписью: «Дорогой В. — за науку побеждать», выключила лампу и легла спать. Завтра было рано вставать — гнать Бориса в совхоз за свежими яйцами и куриными ножками.
Выхухоль, ковер
и появление Мотылька
Борис встал утром и понял, что чего-то не хватает.
Он ходил целый день задумчивый, копался в огороде, в сарае. Но так и не понял, чего же ему не хватает.
И только на другой день до него дошло: на месте нет ковра. Он был расстелен у кровати Бориса, красивый, китайский, шелковый. Когда-то он вывалился из пролетавшего над деревней самолета, видно, совсем уже, через край, перегруженного товарами, и упал в большую лужу возле поселкового магазина, пошел по деревенским домам, а потом через третьи, а то и четвертые руки оказался у Бориса, в обмен на копку большого, соток на пять, огорода.
Борис к нему привык и уже не замечал. Светло-песочного цвета ковер с тонким, коричневатым цветочным узором слегка поблек, но все равно оставался теплым и мягким на ощупь. А теперь его нет!
Борис постучался к Выхухоли:
— Привет! Не спишь?
Спустя время Выхухоль высунулась из своего скворечника. Потерла заспанные глаза:
— Привет! Когда это я днем спала?
— Ты ковер не видела?
— Ковер? А, ковер… Я его убрала.
— Зачем?
Выхухоль замялась:
— Ну, знаешь… Рубль-то падает.
— Ну и что?
— Вот и думаю, жалко же ковер. Надо поберечь.
— Для чего?
— Ну, а что там дальше будет, кто знает? Доллар-то растет.
— Ковер не купленный, при чем здесь доллар?
— Он всегда при чем. А вдруг ковер продавать придется?
— Кому продавать?
— Дался тебе этот ковер! И вообще. Я еще кофе не пила, давай потом поговорим, — Выхухоль скрылась в скворечнике.
Вечером Борис заглянул к Выхухоли и увидел, что она беседует с кем-то маленьким, сидящим на его ковре. На его ковре! Пригляделся — с мотыльком! Крылышки, усики, круглые глазки…
Выхухоль взглянула на Бориса, потом подвинула мотыльку поближе блюдце с кучкой сахара, залитого водой, и сказала:
— Ну пей же, пей! Набирайся сил. Отощал-то как, бедненький! В цыпках весь…
— Да не хочу я, напился уже, сейчас живот лопнет!
— Здравствуйте! Не помешал? — спросил вежливый Борис.
— Заходи, — сказала Выхухоль. — Только на ковер не наступай.
— Почему? Сто лет наступал, а теперь нельзя?
— А теперь нельзя. И познакомься — это Мотылек, Шелкопряд Петя.
— Не хочу я Петей, — возразил Мотылек. — Говорил же!
— Ну ладно, будешь просто… Ну просто…
— Вообще-то я Сяо-цань, — сказал Шелкопряд.
— Ну, Сяо так Сяо!.. Сяо-масяо! — засмеялась Выхухоль.
— Не Сяо-масяо, а Сяо-цань. Не будем утрировать, — сказал Мотылек, приподняв усики.
— А что это означает? — спросил Борис.
— Да кто его знает… — сказал, помедлив, Мотылек. — Что-то такое вертится в голове. Верблюжьи силуэты гор, желтые воды реки, буйволы на речном перекате… Смутные детские воспоминания. Нечеткие. Следствие сенсорно-моторной амнезии в ответ на стрессовые и травматические факторы.
— Ишь, нахватался где-то! — удивился Борис. — Амнезия, факторы…
— С кем поведешься… — сказал Сяо-цань, со значением глядя на Бориса.
Помолчали. Борис отпил чая из носика чайника.
— Борис, сколько раз говорила, не пей из носика.
— Не буду. Но все-таки: откуда этот… деятель взялся? — спросил Борис.
— Из ковра, откуда же еще, — ответила Выхухоль. — Я его на солнце проветрить хотела, пыль выбить, сто лет же не чищеннный, растянула на веревке, а тут нате вам — вывалился китайский гость. Добро пожаловать!
— Спасибо! — сказал Мотылек.
— А как он в ковре-то оказался?
— Ну, видишь ли, на шелковой фабрике в Ханчжоу… — начала Выхухоль.
— Вообще-то я и сам могу сказать, — перебил Шелкопряд. — На фабрике был ремонт. Ковры вынесли во двор. Тут я с шелковицы и свалился в ковер. Ну, я маленький был тогда, неоперившийся еще, вот в ворсе и застрял, заснул.
— А потом? — спросил Борис. Рассказ казался ему подозрительным. Каким-то слишком гладким, заученным.
— А потом сразу в самолет, в грузовой отсек. И заморозился, видишь, до сих пор коленки плохо сгибаются, — Мотылек развел облезлые крылышки, подвигал худыми ножками, почесал грязноватую коленку.
— И что, так в ковре и пролежал? Это сколько лет? — продолжал допрос Борис. Он охранял покой Выхухоли и опасался незваных гостей, пусть и с больными коленками. «Может, это он так, для вида прикидывается, а на самом деле коленки здоровее здорового?» — думал Борис.
— Так глубокая же заморозка. Почти овощ. Но сознание частично сохранялось. Лежал в вашем доме, уважаемый преждерожденный господин Борис, кое-что слышал, кое-что видел… Кто на мне топтался, кто на мне кое с кем барахтался, — Мотылек подмигнул Борису круглым глазом.
— Это что такое ты видел? — забеспокоился Борис. — Кто барахтался? Никто не барахтался вообще-то.
— А Клава из Насадкино? А Настя, продавщица? А туристка заблудившаяся? Как ее… Варвара, искусствовед?..
— Чего ты несешь такое!? — возмутился Борис, покосившись на Выхухоль, заваривавшую новую порцию чая. — Какие туристки?
— Да ладно, дело житейское, чего там, замнем для ясности, — усмехнулся Шелкопряд и взмахнул примятыми крыльями, охлаждаясь. — «Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки…» «На пароходе музыка играла…»
— В самом деле, Борис… не приставай! — Выхухоль налила в чашку зеленый чай и поставила поближе к Мотыльку. — Ты лучше подумай, как его назад в Китай вернуть. На родину.
— Вообще-то мне и здесь неплохо, — сказал Сяо-цань. — У вас же этих… экспатов уважают. Карьера, возможности. Мы здесь растем быстро.
— Ну, это верно, — сказала Выхухоль. — Рыбка у нас японская уже есть, Змейка Гремучая неизвестно откуда, щербатая наша красавица… Мальчик… Одним меньше, одним больше… Тем более такой симпатичный. Ух! Малюська такая ма-а-люсенькая!
— А вот сюсюкать не надо, — сказал Шелкопряд.
— Да ты не волнуйся, вырастешь быстро, вес наберешь, у нас местность такая, все как на дрожжах растут.
— А я и не волнуюсь, у меня нервы стальные, не то что у некоторых, — Мотылек посмотрел на Бориса.
— Да ну вас, — сказал Борис. — Делайте что хотите! Хотя… Давайте я Васелине позвоню. Она стюардесса, в Китай летает. Попрошу ее, в баночку тебя положим, в сумку засунем — и вперед. То есть назад, в Китай.
— Не хочу я в баночку! Я тебе что — анализ, что ли? И вообще, это… Не надо суетиться! — Мотылек нервно отпил из чашки, подергивая крылышками. — Это… Не гони коней, ладно! Кстати, мед у вас есть?
— Меда ему… — сказал Борис. — Может, тебе еще коньяка армянского принести?
— Борис! — строго сказала Выхухоль.
— А что, армянский есть? — спросил Шелкопряд. — Только мне крепкого ничего пока нельзя. Вот сил наберусь…
— Это я так. Мед ему подавай… Ладно, сейчас принесу. — Борис вышел из скворечника и пошел к себе в сарай, там в тазике лежали соты со свежим медом, подарок Пасечника. Пасечник любил свежую рыбу, и Борис его регулярно снабжал из очередного улова.
«Ишь ты, наблюдатель нашелся… И чего такого он мог у меня слышать? — думал Борис. — Все-таки надо его от греха подальше домой вернуть. В лоно родины, так сказать. Китай уже Гонконг вернул, с Макао вместе, пусть и мотыля своего забирает. У нас своих мотылей хоть отбавляй!»
Из скворечника донеслась китайская песня «Жасмин». Голос у Шелкопряда был тоненький, пронзительный.
«Коньяк надо бы подальше убрать», — подумал Борис.
Выхухоль и душистые грибы сян-гу
Выхухоль, Борис и Шелкопряд Сяо-цань, он же Мотылек, пошли в лес прогуляться.
Сяо-цань сидел на плече у Бориса, свесив ножки, и озирался по сторонам. Ему все было интересно.
— Надо бы нам бизнес замутить, — сказал он.
— Какой бизнес? — спросила Выхухоль.
— Ну, я тут прикинул, какой здесь может быть бизнес. Кругом же лес. Как там в песне: «Много в ней лесов, полей и рек…»
— И что?
— Надо грибами заняться. Продавать. Но грибы нужны ценные.
— У нас тут белые есть, — сказал Борис. — Я места знаю, от опушки отойдешь метров на сто, в прогалах, в августе или в сентябре, если повезет, можно много набрать…
— Не, — сказал Мотылек. — Не! На белых много не заработаешь.
— А на каких заработаешь?
— Лучше всего, конечно, на подземных грибах. Их со свиньями еще ищут. На аукционе за доллары продают, за евро.
— Трюфели, — сказал Борис.
— Вот-вот, они самые. А еще лучше — душистые грибы сян-гу. Это вообще будет писк! Рестораны в очередь встанут.
— Первый раз слышу, — сказал Борис.
— Еще бы. Сян-гу — это сапроторфный микромицет.
— А по-русски?
— По-русски? Значит — на гнилых деревьях растут. И страшно целебные. Всё лечат. Фактически. Все болезни, от макушки до пяток. — Мотылек нагнулся и почесал пятку. — Японцы от них тащатся.
— А как мы их продавать будем? Мы же не японцы. У нас эти твои сян-гу никто не знает.
— Будем рекламировать. Оздоровительные грибы высшей категории. Укрепление живительной энергии «ци», освобождение от вредоносных частиц «ша». У вас же на это клюют? На всякую хрень?
— Клюют. У нас на всё клюют, — грустно сказал Борис, вспоминая свой опыт по приобретению чудодейственного целебного браслета из китайского «метеорита». Браслет был дорогой, а вот помог он или нет, Борис до сих пор не понял и старался про него не вспоминать лишний раз.
— А реклама будет простая и доходчивая, — продолжал увлеченно Мотылек. — В русском стиле, конечно. Ролик будем крутить примерно такой: я как бы заболею, лежу, весь такой бледный, весь укутанный, вы мне лекарства суете под нос, малиновое варьенье, мед…
— С коньяком? — спросил Борис.
— Это потом обсудим… С коньяком можно, с водкой, с маотаем. Ну так вот. Я в рекламе лежу, значит, а вы мне питье теплое подносите, горло закутали, и то мне, и сё, а я весь такой слабенький, «кха-кха-кха». А не берет! Болезнь не отступает. Тут крупным планом коробка с грибами. Борис их варит.
— Почему я варю? — спросил Борис.
— У тебя вид внушительный, усы. Хорошо бы еще очки добавить, в толстой оправе. Будешь в белом халате, со стетоскопом. Все поверят. И вот мне дают этот грибной отвар, я пью — и на глазах щеки розовеют, кашель проходит, я вскакиваю на коня…
— А почему на коня? — спросила Выхухоль.
— Красиво чтобы было. Все ждут принца на белом коне. Но это не принципиально, можно и на мотоцикле, понавороченнее. Подкатываю, снимаю шлем, а камеры ко мне телевизионные: чем лечились? Я говорю — вот душистым грибом сян-гу. Ну и крупным планом наши микромицеты. Добавим что-нибудь из фэншуя, легенду сочиним, мол, императоры лечились. Клиенты валом повалят.
— Н-да. А что, может быть, — Борис снова вспомнил про свой браслет.
Тем временем они углубились в лес. Солнечные лучи наискосок просвечивали сосны, елки и ореховые кусты. По заросшей мелкой березой и орешником просеке они вышли на Солнечную поляну — любимое место Выхухоли. Поляна была круглая, с бузиной и малиновыми кустами по краям, и хотя скрывалась в чаще леса, всегда солнечная, светлая. Солнце обходило ее по кругу с утра и до вечера. Поляна лежала с легким наклоном — дальше вниз шагали через буераки темные ели, спускаясь в глубокий овраг, извилистый, потаенный, непродуваемый, где в разгар летнего дня становилось душно от цветов. Где-то за оврагом жил Мальчик…
— Это все, конечно, интересно, деньги лишними не бывают. Крышу надо чинить, колодец почистить, а лучше скважину сделать, плащ Мотыльку купить, валеночки на зиму… — сказала Выхухоль. — Смотри, сколько малины!.. Вот только один вопрос: у нас есть этот твой душистый гриб? Он у нас водится?
— Ну, так это… — Шелкопряд заерзал на плече Бориса, сдвинул красную бейсболку, которую ему нацепила от солнца Выхухоль, пригладил вихрастую макушку. — Так поискать надо. Или разводить будем, они под соснами растут. Нет проблем!
— Съешь-ка лучше малинки, бизнесмен. — Выхухоль сорвала с низкого кустика на припеке две самые спелые, светло-розовые, просвечивающиеся на солнце ягодки и сунула ему в рот.
— Вкусно?
— Очень! А может, нам малину продавать? Сначала свежую, потом заводик поставим, глубокая переработка, варенья всякие, джемы, муссы, настойки, с торговыми сетями завяжемся…
— Настойки — это правильно. Это верно… Идея вполне здравая. Вот только с малиной этой конкуренция большая, — сказал Борис.
Прошлым летом на железнодорожной станции, куда он в сложный финансовый период носил продавать малину, конкуренты подбили ему глаз и порвали любимую спортивную куртку с надписью «РОССИЯ» на груди. Россия разошлась ровно наполам, между двумя буквами «С».
Борис, правда, тоже ушел не с пустыми руками: уже дома обнаружил в кармане с корнем вырванный в схватке круглый значок с заснеженной вершиной, перекрещенной альпенштоком, с голубым небом и медными буквами «Альпинист СССР». Знающие люди сказали Борису, что ему повезло, что значок редкий и ценный, и теперь он берег его в фарфоровой дедовской шкатулке вместе с другими драгоценностями: агатовыми запонками, серебряной галстучной заколкой, нефритовой цикадой и ножиком немецкой фирмы «Золинген». Его он нашел в лесу, кстати, собирая грибы. Нож был старый и ржавый, но когда его Борис отмочил в керосине, оказался острым — хоть куда.
— Казино, может, тогда откроем? — спросил Шелкопряд.
— Запретили у нас казино.
— Да что ж у вас все запрещают! Ну, тогда давай лес продавать, кругляк необработанный, самовывоз! Смотри, сосны какие. Под срубы. Индивидуальное строительство, молодая семья, материнский капитал…
— Я тебе дам наш лес продавать! — сказала Выхухоль. — И так весь лес в Сибири китайцам вашим продали!
— А кто мешает не продавать? — удивился Мотылек. — Кавалер без согласия барышни танец с ней не станцует.
— Тоже мне, кавалер нашелся. Ладно, давай к дому поворачивать, солнце уже садится. И вообще, Борис, не морочил бы ты Мотыльку голову всяким бизнесом! Ему еще окрепнуть надо.
— Это кто кому морочит, — огрызнулся Борис.
— Ах ты, худышка моя, — сказала Выхухоль и погладила Сяо-цаня по бейсболке. — Бизнесмен… Вот, лучше еще малинки съешь. Кушай, кушай! Ишь, как извозюкался, малюська моя, ух-ти…
— Ну вот, опять начинается! — сказал Мотылек. Но малину съел с удовольствием
Выхухоль, Мотылек
и книги о природе
Жарким полднем Мотылек Сяо-цань лежал на веранде в кресле-качалке и читал «Жизнь насекомых», толстенный том с цветными иллюстрациями.
— Интересно пишут? — спросил Борис. Так спросил, для разговора. Он сидел на широкой и толстой деревянной скамье, лицом к саду, разложив на круглом столе лески, крючки, поплавки, грузила, и готовил удочки к вечерней рыбалке. Это было его любимое занятие, святое дело, наравне с рыбалкой, и неизвестно еще, что было дороже. Выхухоль дремала рядышком на другой скамье, у поперечной стенки веранды, прикрытая пестрым лоскутным пледом, подаренным на день рожденья соседкой Татьяной.
— Много надуманного, — сказал Шелкопряд, брезгливо прелистывая страницы. — Сплошная физиология, копание в мелочах. Ух, жарко! Единочаятель мой Боренька, принеси еще лимонада!
— Какой я тебе Боренька? Я тебе Борис Леонидыч.
— Под Пастернака косишь?
— Но я правда Борис Леонидыч, — обиделся Борис. — С детства еще!
— Смотри, пишут здесь всякую хрень… Что шелкопряды находятся на низкой ступени эволюционного развития, что они малоподвижные, необщительные, неразборчивые в связях, духовно неразвитые! Тьфу! — Мотылек сплюнул через перила веранды, сдвинул со лба на нос солнцезащитные очки и уставился на небо над лесом. — Я бы на месте авторов написал в предисловии: «Герои книги вымышлены, и любое сходство с живыми или умершими реальными лицами — результат случайного совпадения».
— Ну, тебе виднее, — сказал Борис раздумчиво и отстраненно, как бывает, когда не слушаешь собеседника. Он рассматривал леску на удочке, растягивал, пробуя на разрыв, и решал, надо ли ее менять на новую.
— Вот видишь на небе солнце? — продолжал Мотылек. — Видишь, Боренька?.. Э-э, Борис Леонидыч.
— Конечно, вижу! Кто его не видит?
— А пятна на нем видишь?
— Откуда? Я же не телескоп. — Борис принялся привязывать крючки к поводкам, любуясь попутно новыми поплавками, купленными за бешеные деньги в магазине «Рыболов» на Таганке. Поплавки были настоящим произведением искусства: тонкие, длинные, изящно расчерченные красными, черными и белыми полосками.
— Вот! — Шелкопряд задрал вверх указательный усик. — А в этой книге (он хлопнул по «Жизни насекомых») только одни черные пятна, а солнца-то и не видно.
— В смысле? — спросил Борис.
— Без всякого смысла. Правда в том, брат…
— В силе?
— Ну, в силе — понятное дело, но — не-е-ет!.. — Мотылек потянулся и почесал под мышкой. — Тут дело в другом. Правда — она в любви. А где в этой книги любовь?
— Ну, там, наверное, есть, как вы там… потомством, детенышами… обзаводитесь, личинками то есть…
— Ты про половые контакты? Это примитив. Простейшее продолжение рода. Я о любви всеобщей, всеохватной, планетарной, ноосферной, как писал Вернадский.
— А он писал?
— Писал, писал. Но тоже не охватывал.
— А ты, значит, охватил? — Борис закончил менять снасть и пошел пробовать правильность огружения: опускал леску с поплавком и грузилом в большую ржавую бочку с дождевой водой, стоящую у крыльца веранды. Надо было, чтобы поплавок под тяжестью грузила торчал над поверхностью не слишком высоко. Это значило, что рыба почти не почувствует веса грузила и приманки и легко попадется на крючок. Но грузило оказалось слишком тяжелым, поплавок скрылся в воде с головой и не думал показываться. Борис чертыхнулся и вернулся к столу, перевязывать, облегчать грузило.
— Охватил, охватил… Помнишь, у Элтона Джона, «Похороны для друга», «Фьюнерал фор э френд», три с половиной минуты там медляк, гитарный запил такой неплохой, а потом фано вступает с ударными, остинатно долбит так, что башку сносит, та-та-та-та, та-та-та-та! — Мотылек побарабанил крылышком по креслу. — Хотя дальше там, середина и концовка — так себе, где он петь начинает, ничего особенного, можно не слушать… Но вот эта минутка, где фано вступает… Да, есть вещи посильнее Фауста Гете. — Он взглянул на Бориса.
— А ты что, английский знаешь? — прошепелявил Борис, он привязал новое грузило и как раз откусывал лишний кусок лески, косясь на Выхухоль. Та все время его ругала за такие откусы…
— Я? Откуда? С чего ты взял? — Мотылек снял очки и пристально посмотрел на Бориса. — Так, китайский немного. Врожденный. На детском уровне.
— Ну, фьюнерал этот, Элтона твоего Джона. Да еще так произнес, прямо как король английский… — Борис откусил еще кусок лески.
— Come on[1], Борис! Все любители музыки Элтона знают…
— Борис, ты опять зубами откусываешь? — спросила сквозь дрему Выхухоль. — У тебя что, зубы казенные? Ножницы для чего? — Она открыла глаза. — И опять леску расплевал по всей веранде! А мне потом отчищать…
— Когда это ты отчищала? У себя лучше командуй! И вообще, ты же спишь! — сказал Борис.
— Я днем не сплю. Когда это я днем спала? — Выхухоль потянулась и зевнула. Выпила воды. — О литературе беседуете? — Она приподнялась и достала из шкафа, стоящего рядом у стены, толстый том:
— Вот — такая же фигня, «Жизнь выхухолей». Ни слова правды. Где они таких выхухолей видели?
— Да, лажунчики полнейшие. Фантазеры, — сказал Мотылек. — Скрывают сущность за видимостью. Думают, что факт сильнее всего. А что такое факт? Это так, видимость… Эти, якобы ученые, видят мир с изнанки. А надо видеть суть. Каббала же об этом прямо говорит, взять хотя бы фильм «Матрица». А где в этих якобы ученых трудах о насекомых это самое зерно любви?.. — Мотылек горестно развел крылышками. — В груди которое? Борис Леонидыч, давай-ка лучше мы с тобой Лепса поставим, «Самый лучший день». Вот в этой песне, скажу я тебе, и есть сущность, в ней правда и про нас, шелкопрядов, и про вас, людей, да и вообще, планетарно…
— Ты думаешь? Нет, давай лучше «Я свободен».
— Кипелова?
— Ну да! А еще лучше версию со Шнуром, из «Бумера». Я всегда в машине слушаю.
Выхухоль и тайная тайна Мотылька
Мотылек заболел. Он лежал на постели в своей комнате на втором этаже, укрытый толстым одеялом. Выхухоль пыталась кормить его с ложечки малиновым вареньем.
По близкой крыше барабанил дождь. В окнах свистел северный ветер. Мухи на окне обессилели и еле ползали по деревянному подоконнику.
— Ешь, маленький! — Выхухоль огорчалась: Мотылек ел неохотно, мотал головой, отпихивал ложку. Даже когда Выхухоль принесла любимое лакомство Мотылька: лепестки чайной розы с капельками вареной коричневой сгущенки.
— Надо температуру померить, — Выхухоль положила ладонь на лоб Мотылька. — Ой, беда-то какая, ой, беда. Горячий!.. Борис! — крикнула Выхухоль вниз, — принеси градусник!
Пришел Борис с градусником. Попробовал сунуть под мышку, но крылышки были такие слабые, что даже не держали градусник. Борис потыкал, потыкал градусником, как-то весь сгорбился, глаза у него стали мокрые, и Выхухоль прогнала его на кухню, греть воду, чтобы всегда была под рукой.
— Ну что же ты так, Сяо-цань мой дорогой, — говорила Выхухоль, вытирая полотенчиком пот с выпуклого лба Шелкопряда. — Ты это, давай, давай, держись, не сдавайся, выздоравливай…
Дождь все не прекращался. Стемнело. Мотылек разметался на кровати, вялые крылышки совсем сникли, усики свились в колечки.
— Держись, держись, пожалуйста, — сказала Выхухоль.
Борис принес заваренный чай с малиной и зверобоем. Туда же покрошили таблетку аспирина. Выхухоль сунула носик чайника в рот Сяо-цаня. Тот отпил два глотка и закашлялся, тяжело двигая остреньким кадыком.
— Пей, пей, дружище… Не сдавайся! Мы еще с тобой полетаем! — сказал Борис, отпыхивась после подъема по крутой лестнице. Выхухоль принюхалась.
— Борис! — сказала она сурово.
— Что? — спросил Борис. — Я немного совсем. Экстренная же ситуация!
— Алкоголем горю не поможешь, — сказала Выхухоль. — И проблемы не решишь. Ты мне нужен трезвым. Вдруг в город везти?
Ночью жар усилился. Выхухоль сидела у кровати и думала, надо ли везти Мотылька к врачам в город. Болезнь на переломе. Удастся миновать кризис, тогда есть надежда.
— Кто здесь? — открыв глаза, прошептал Мотылек. — А, это ты…
— Я, я, лежи спокойно.
— До утра не дотяну, да? — сказал Мотылек. — Не плачь.. Дай мне руку. Вот так. Я открою тебе тайну… Надо, чтобы хоть кто-то… Такую тайну, что… — Он задышал еще прерывистее, кашель сотрясал тонкое, почти невесомое тело. — Я в самом деле не Шелкопряд… Я… Ко Антрим Мотыль Шотландский, Граф Мармар… Кавалер Ордена Белого орла… Ты слушаешь?
«Бредит, — подумала Выхухоль. — Бедняга. Кино насмотрелся. Совсем плохи дела, все-таки надо везти в город».
Но вслух сказала:
— Слушаю, слушаю. — И, чтобы поддержать больного, спросила: — А как же шелковая фабрика, ковер…
— Легенда, — прошептал Мотылек. — Прикрытие. На самом деле меня забросили с парашютом, в район…
За окном длинно сверкнуло, спустя время донесся тяжелый раскат грома…
— … спрятал. В лесу… — Голос обрывался, слова были едва слышны. — У Ильинского ручья… Тайник… Паспорта, валюта. Чеки… на предъявителя, оружие. У моста, под столбом… Особая миссия…
— Под каким столбом? Да ты лежи, лежи, не волнуйся…
— С табличкой, с рекламой… Это… «Копаю колодцы… налаживаю канализацию, биотуалеты»… И еще одной… «Электрика. Проводка. По… разумной цене»… — Дыхание Мотылька стало совсем прерывистым, он еле дышал. — Пятьдесят шагов на запад… в сторону ручья, у обломанной ели, под валуном… Ты не бойся, я работал… работал на мир… Чтобы никогда… Старая площадь, шестой подъезд… Сергей Ильич, вам нужны инновации.. были нужны, уже купили.. обойдемся без.. рыжих.. Амалия, солнце мое… My dear… My God… Don’t leave me, Father, don’t leave me[2]…
Молния ударила совсем рядом, гром сотряс стены. Мотылек потерял сознание.
Снизу пришел Борис.
— Везем? — спросил он. — Ты сама-то хоть держись, мать… Поела бы. Совсем лица на тебе нет.
— Какое тебе еще лицо?.. И куда везти? В таком состоянии? И с твоим сцеплением? Не довезем. Лампу включи! Да и развезло небось все, не выберемся теперь по нашим колдобинам, дорогам, прости господи, — сказала Выхухоль.
— И чего делать?
— Молиться, — сказала Выхухоль и перекрестилась. Посмотрела на Бориса.
— Я не верующий, — сказал Борис. — Ты же знаешь. Агностик.
— А сейчас поверь, — сказала Выхухоль.
Борис посмотрел на Мотылька, на окно, куда бил дождь. Снова сверкнуло, снова ударило, и еще раз, и еще… Борис перекрестился…
Утром комнату залил солнечный свет.
— Эй, — слабо, хриплым голосом позвал Мотылек. — Эй!
Выхухоль подняла голову. Она провела ночь в кресле, вид у нее был всклокоченный, под глазами мешки. Глаз из красного стал прямо-таки багровым. Густо пахло шерстью.
— Слава тебе, господи, — закричала Выхухоль. — Очнулся!
— Пи-ить! Пить!
— Сейчас, сейчас! Бори-ис! Борис! Неси скорее чай! И поесть что-нибудь! Тепленькое!
Выхухоль суетливо взбила подушку, подложила под голову Мотыльку, поправила одеяло.
— Надо тебе пижамку сменить, смотри, влажная совсем… И простыня тоже… Ой, радость-то какая, малюсенька ты моя! График ты наш Мармаренький!..
Мотылька словно ударило током. Он приподнял голову и уставился на Выхухоль прояснившимся, холодным взглядом:
— Что? Какой граф? Откуда ты…
— Ну, ты же вчера рассказывал всякое. Что ты под прикрытием, что ты Мотыль… Ха-ха! Шотландский вроде бы, или как там… — Выхухоль раздвинула занавески, распахнула окно. В комнату ворвался свежий лесной ветерок. — Ну, заговаривался, нес невесть что, бред всякий.
— А, бред… Да, бред! — сказал Мотылек, откидываясь на подушку. — Конечно, бредил. А что еще говорил? Имена называл какие-нибудь? Пароли?
— Да какие там пароли-мароли, явки-пиявки! Нес такое… Я уж и не упомню, радость-то какая, очнулся!.. Про ручей там что-то, про старую площадь… Теперь поправишься! — Выхухоль потрогала лоб Мотылька. — Температуры нет. Борис, ну наконец! Тебя за смертью посылать только. Давай сюда! Вот, попей, голову подними, попей, с медочком, со зверобойчиком. Ух ты, малюська ты наша шпионская…
Мотылька передернуло, он захлебнулся чаем, зубы стукнули по чашке.
— Ты знаешь… Давай забудем, ладно? — попросил он, прокашлявшись. — А то ведь смеяться будут… Что-то у меня голова кружится…
— Еще бы, после такого! Я уж думала… Борис, скатай-ка матрац, тащи всю постель на двор, просуши на солнышке!.. Мотылек, мы тебя пока на кресло положим. Вот так! Пей, пей, болезный ты мой, скоро мы тебя на ножки поставим, крылышки почистим, поправим, полетаем еще будь здоров как…
— «Обнимая землю крепкими руками, летчик набирает высоту…» — запел Борис.
— Борис! — сказала Выхухоль. — Опять? Еще и одиннадцати нет. И тельняшку сменил бы, причесался…
— Так я на радостях! — сказал Борис. — Тебе поесть принести? Ты, мать, уже второй день без еды. Может, супчик сварить? Грибной. Картошку молодую поджарить, с лучком? Или куриные крылышки лучше?
Выхухоль и охрана природы.
Часть первая
Нам нельзя ждать милости
от Дао после того, что мы с ним сделали.
Ма Ка-лун,
современный философ
Вечерело. Мотылек сидел на крыльце в наушниках и раскачивался из стороны в стороны, время от времени взмахивая крыльями. Выхухоль подошла сзади, сняла с него наушники, надела себе.
— «Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво!» — раздавалось в наушниках.
— Рома Зверь? Уважаю! — громко похвалила Выхухоль. — Он — живой. — Сняла наушники и тоном тише сказала: — А ты бы тоже оживился, задницу бы оторвал, сидишь тут, крылья обсиживаешь. Борис вон сливы собирает…
— Я еще от болезни не отошел. А Борис вино хочет сделать. Самогонщик! — Мотылек ухмыльнулся. — Бак уже приготовил.
— С Борисом я сама разберусь. Не отошел он… Здоровый, как… лось. Бегаешь по бабочкам как угорелый, будто я не знаю… А ты бы природу защищал лучше! От всяких… — Выхухоль сказала грубое слово, хотя вообще избегала мата, по возможности.
— Ты чего такая злая?
— Как чего? А ты не видишь? — Выхухоль повернулась спиной. И спина и лапы были заляпаны чем-то белым с примесью зеленого и местами оранжевого, с добавкой солидной порции жирной, лоснящейся на солнце грязи. — Иду сейчас по тропинке вдоль опушки, Змейку нашу навещала, она малость простудилась. Да и нервы никуда не годятся, ее кавалер бросил. Все болезни из-за нервов. Этот ее Ужик, ухажер с фермы, матросил, матросил и бросил. Загулял опять. Хотя она зуб вставила, в Москву таскалась, делать ей нечего, на это… на лазерное омоложение…
— Фракционный фототермолиз, — уточнил Шелкопряд и потер едва заметный след пирке на предплечье.
— В общем, кожу сдирала. Хотела старый узор на коже свести, а новый сделать…
— Зачем? У нее же раз в год так и так линька? Мне обещала, кстати, кожу на кошелек.
— Ну, раз в год — это сколько ждать. Новизны хочет. Вот и дохотелась. Сейчас лежит за кустами, охает, физия вся красная, на глаза боится показаться, говорит, через неделю отойдет… Может, из-за этого он ее и бросил?
— А деньги откуда? Это же дорого! — удивился Мотылек.
— Ну, яд-то сдает. На охране у дачников еще подрабатывает. Да бог с ней, сама разберется. Значит, иду я от нее, иду по самой опушке и вдруг бух — соскальзываю в яму, ну, ты знаешь, после пригорка с сосной сразу вниз, там вокруг еще грибы всегда белые попадаются, и прямо в эту впадину на спине и съезжаю. Думала, от дождя скользко.. А там… куча говна всякого, прости меня господи, полиэтилен этот заржавленный, железки, обломки, химия какая-то белая из баков.
— На свалку не повезли, вот у нас и сбросили. Не первый раз.
— На голову бы им сбросить. Где там Борис? В общем, вот что я вам скажу, дорогие товарищи…
— В смысле единочаятели…
— Ну да, дорогие мои товарищи, пора это безобразие прекращать! Будем родину защищать, то есть, тьфу, природу эту. Раз сама не может.
— А как защищать? С насилием? — оживился Мотылек. — Я готов!
— Если надо будет, с насилием. Засаду сделаем. Покажем врагам кулак добра.
— Ладонь будды покажем! — Мотылек подскочил на месте. — Здорово! Чур я первый пойду!
— Не суетись, суета суетная. Мы с Борисом сами управимся. Дело такое… тревожное, ты лучше на стреме постоишь.
— На стреме это бандиты стоят, а я буду вас прикрывать. Вот только… — Шелкопряд озабоченно потер затылок. — Только хорошо бы не сегодня, ладно? Я вечером схожу кое-куда, по срочному делу.
— Куда это? Опять к этой, Бабочке? К Шоколаднице? На пруд? То-то я смотрю, она сегодня раз двадцать к нашей калитке подкатывала, глазки свои строила смазливые…
— Не смазливые, а красивые. — Шелкопряд посмотрел на часы. — Так, в общем, к ужину можете меня не ждать, а завтра давай и устроим эту твою засаду, ладно?
— Ладно. Ты загляни еще к Печнику, у него два мотка веревки есть, толстой, прочной, попроси на время, хорошо?
Из сада пришел Борис с двумя ведрами слив. Сливы были некрупные, зато слаще сахара. Старый сад приносил последние свои урожаи. Яблоки были обычные, хотя и самых разных сортов, а вот сливы удивительные на вкус. На одних плоды созревали черные и мелкие, на других розовые с проседью, но тоже сочные, с сахарной мякотью.
— Вот, смотрите, красота какая, — сказал Борис, — сейчас снова пойду, еще наберу, только кваса попью. А пива нет?
— Не наработал еще на пиво, — сказала Выхухоль. — Завтра в засаду пойдем, готовься.
— Опять? — уныло спросил Борис.
— Что опять? Ты когда еще со мной в засаду ходил?
— Так я с тобой все время как в засаде, — дерзко сказал Борис. — Помнишь зимой, против зайцев?
— Ты тогда из дома даже не высунулся! Спал как убитый.
— Если бы надо было, высунулся бы. Они просто до меня не дошли. Я бы им дал жару, — Борис грозно подкрутил ус, сделал глоток. — Квас опять теплый! Трудно в холодильник поставить?
— Ну да, сами не дошли, — сказала Выхухоль. — Шли, шли, и не дошли, как немцы под Москвой. Ладно, давай готовь снаряжение, на рыбалку сегодня не ходи. Приготовь лопаты, топор. Грабли не забудь.
— А зачем нам в засаде грабли?
— Ты вопросов поменьше задавай, шевелись лучше!
За разговором они не заметили, что Шелкопряд исчез. К ужину тоже не явился. «Ох, уж эта Шоколадница, — подумала Выхухоль. — Вертихвостка, всех задурила, и нашего задурит.»
Мотылек пришел в темноте. Сапожки были по обрез в глине, даже крылья — и те загвазданы. Не заходя внутрь, скинул в прихожей рюкзак, штормовку, юркнул в комнату с печью, чем-то там брякал, звенел и только потом вышел в комнату.
Выхухоль с Борисом пили чай и перебирали сливы. Борис отбирал негодные, с подгнившими бочками, для компостной ямы, а хорошие клал в ивовую корзину.
— Пожрать оставили? — спросил Шелкопряд, потирая ладошки и подсаживаясь к столу. Он сунул в рот кусок колбасы с черным хлебом, схватил пучок зеленого лука и огурец, макнул в соль, с аппетитом захрустел.
— Что за выражения? И не чавкай, сколько раз говорить!
— В Китае если чавкаешь, значит — вкусно, — ответил Мотылек.
— Так это только когда суп ешь или лапшу, знаем, сами с усами, — возразила Выхухоль. — Да не хватай ты холодное, не перебивай аппетит, желудок испортишь! Руки опять не мыл? — Она сходила на кухню и принесла горячую еще сковородку жареной картошки, прихватив железную ручку тряпкой. На жареную картошку в последнее время крепко подсел Мотылек, а Борис так вообще обожал ее с раннего детства («с босоного детства», как он любил говорить).
— Помыл. Ух, роскошь какая! А пахнет как! Борис Леонидыч, не оживить ли нам дружеский вечер горькой настоечкой? — спросил Сяо-цань, потирая лапки.
— А не мал еще? — спросила Выхухоль.
— У нас год за пять идет, — ответил Мотылек.
Борис сходил за настойкой, и, ставя бутылку на стол, заметил на правом крыле Шелкопряда масляное пятно. Взял тряпку, еще теплую от сковородки, принялся деликатно оттирать.
— Солью бы присыпать, — сказал он. — Или залить чем. Не оттирается.
— Да ладно тебе, забей, — отмахнулся Мотылек. — Потом постираем. Ну что, по маленькой?
Они с Борисом выпили. Борис принюхался. Рассмотрел на свет рюмку, понюхал еще, вдохнул поглубже.
— Что-то оружейным маслом отдает, — сказал он. Посмотрел на крылышко Мотылька. Тот хрумкал прожаренными, золотистыми картофельными ломтиками, не обращая ни на что внимания.
— Откуда у нас оружейное? Кстати, подсолнечного надо прикупить. И знаешь что, давай-ка не увлекайся, — Выхухоль взяла бутылку и унесла на кухню в шкафчик. Вернулась с чайником.
— Что я, оружейное масло не отличу? — обиделся Борис. — Я его в армии в оружейке нанюхался, когда ДШК свой в порядок приводил. Да ты сама понюхай!
Борис служил на советско-китайской границе на Дальнем Востоке, на Амуре. Тогда, давно, как раз произошли бои между китайцами и советскими пограничниками на острове Даманский, на реке Уссури, не так уж далеко от участка границы, где служил Борис. Он лежал мартовскими синими ночами в дозоре, в снежном окопе, в меховом полушубке поверх ватника, гимнастерки и греющей душу тельняшки с начесом — подарком друга с Северного флота, в ватных штанах и валенках, меховой шапке с завязанными ушами, в обнимку со своим верным крупнокалиберным пулеметом системы Дегтярева-Шпагина, и изо всех своих юношеских сил стерег рубеж. Трещал, раскалывая ветки и стволы деревьев, запоздалый дальневосточный мороз, впереди в темноте раскинулся пугающий бесчисленным народом Китай, Борису было очень страшно, до дрожи, но он любил Родину с большой буквы. Еще он был крепким и отчаянным, хотя и умным, и однажды на спор с дедом (так назывались старослужащие, которые нередко обижали молодых солдат, а Борис и был тогда молодым, пока не стал со временем дедом) съел на раз банку горчицы, ему чуть не сожгло все кишки, и Борис долго лежал в окружном госпитале в Благовещенске, где ему понравилась симпатичная медсестра, которую звали то ли Раиса, то ли Лариса. Армейскую историю про одномоментное поедание горчицы Борис любил иногда рассказывать. В ней были и геройство и тонкий юмор. В меру тонкий, конечно, потому как в армии не до тонкостей, там все тонкое непременно рвется…
— Что я нюхать должна? Откуда у нас оружейное масло? — прервала его воспоминания Выхухль.
Борис кивнул на крылышко Мотылька. Тот уже поел и, откинувшись на спинку стула, прочищал острые зубки шелковистой нитью.
— Сяо-цань, это что — правда оружейное масло?
— Где? А-а… Да какое там оружейное? — сказал беспечно Шелкопряд. — Просто масло. Или грязь. Где-то капнуло.
— Где капнуло? Ты же с этой, с Шоколадницей крутил?
— Ну, а с кем еще?. Гуляли… э-э-э… цветочки нюхали. Сидели с ней на травке у пруда. А, вспомнил! Помнишь березу двойную? Там, у самого пруда, ну, под которой Борис своих карасей ловит?
— Борис, есть там двойная береза?
— Я к флоре на рыбалке не приглядываюсь, мне на поплавок надо смотреть. Но вроде есть. Справа. Забрасывать мешает ветками своими.
— Вот! — сказал Шелкопряд. — Мы сели, обнялись, а сыро уже, я крылышко свое Шоколаднице и подстелил. А там, наверное, кто-то масло с машины сливал. Под березу.
— Вот сволочи, и там все засрали! — возмутилась Выхухоль. — Ну ничего, мы им завтра покажем. Всем спать. Отбой! Постой-ка, Мотылек, ты веревку взял у Печника?
— Не дал он веревку, самому, говорит, нужна.
— Жадина, — сказала Выхухоль. — Ладно, обойдемся.
— Жмот. Я даже про него стихотворение сочинил, — сказал Мотылек. — Вроде басни Крылова, а поется на мотив песенки, вот только не помню какой:
Вороне как-то бог послал кусочек сыра,
И вот уже она обедать собралась,
Но тут бежит Лиса с бутылочкой кефира,
Вороне говорит: — Пожрем? Скорее слазь!
— Ну вот еще чего, — ответила ей птица,
— А ну давай катись отсюда поскорей,
Не то сейчас с тобой несчастье приключится,
Я рыжих не люблю, особенно зверей!
И тут без лишних слов Лиса берет двустволку
И шлет заряд свинца Вороне прямо в лоб.
Морали в басне нет, в морали нету толку,
Но пулю получить имеет право жлоб!
— Ну как вам? — спросил Мотылек в наступившей тишине.
— Душевно, — сказал Борис. — С чувством. Видно, что наболело. Видно, что через себя пропущено.
— Не все, что через себя пропущено, показывать стоит. Но вообще-то на марш похоже, — сказала Выхухоль. — В строю можно петь. Ладно, поэты-песенники, спать давайте, завтра день тяжелый. — Она пошла к себе в скворечник.
Мотылек зацокал наверх, а Борис устроился внизу, у себя в большой комнате. Подложил руку под голову. Ладонь по-прежнему пахла кислым. «Все-таки оружейное, как пить дать! Запах ни с чем не спутаешь, кисловатый такой, приятный… Еще вот солярка замечательно пахнет, не то что бензин. Может, потому, что напоминает керосинку, летнее детство, как мама картошку на ней жарила на юге, на Азовском море? — засыпая, думал Борис. — Жаркий такой запах, сытный, домашний… Эх, жалко, рыбалку пропустил…»
Выхухоль и охрана природы.
Часть вторая
Утром встали рано.
Мотылек сделал свои пятьдесят отжиманий и, как всегда с утра, метал ножи-звездочки в деревянный круг, привязанный к двум елям-близняшкам, растущим из одного корня рядом с домом. Еще чуть — и нижние ветки сунутся под крышу веранды. Ели были гордостью Бориса. Одну обломала молния, всю верхушку снесла и даже слом опалила, но ель, погоревав, все силы пустила на боковые ветви, те растопыривались густые, разлапистые, длинные. А ее сестра поднялась высоко и торчала над поселком как новогодняя красавица, видная издалека со всех сторон. На нее ориентировались все птицы в округе. Для шумных сорок ели-сестрички вообще стали домом родным. Выхухоль их не прогоняла, хотя соседи этих стрекотух почему-то не любили.
— Да хватит уже ножи портить, — сказала Выхухоль. — Лучше бы огурцы полил, если силы девать некуда.
Мотылек поднялся на веранду, отработал пару силовых упражнений, потрогал бицепс.
— Еще бы трицепс малость подкачать, и нормалек, — сказал он. — Чего ждем?
— Борис сейчас приедет. Позавтракай пока.
Борис пригнал грузовик Рыжего Коли и таскал в него из дома какие-то ящики. Расставлял горкой, соединял проводами, все хозяйство накрыл брезентом.
— Датчики поставил? — спросила Выхухоль.
— Рано еще, — сказал Борис. — Они к ночи подъезжают.
— Все равно, езжай сейчас, мопед возьми. И Змейку предупреди, она у дуба на повороте будет ждать.
— Так она вроде это, болеет?
— Нечего ей под кустами валяться, от любви, видишь, сохнет, а что рожа красная, так для дела даже лучше. Пусть развеется.
День тянулся долго, томительно, солнце все не садилось.
Вернулся Борис. Сели за стол. Кусок не лез в рот, даже яичница с кусочками колбасы и помидорами.
— Пойду соберусь, — сказал Шелкопряд.
— И я пойду, — сказал Борис, — чего тянуть.
Выхухоль никуда не пошла, сидела на кухне, допивала кофе и смотрела на закат. Солнце упало за лес.
— Эй, войско! Пора! На выход! — крикнула Выхухоль.
Из своей комнаты спустился по лестнице Мотылек, пошатываясь под тяжестью снаряжения. Было от чего. Высокие берцы, бронежилет, разгрузка, нож у пояса, в наплечной кобуре пистолет, за спиной японский меч, там же гранатомет. Щеки и выпуклый лоб («лоб мыслителя», говаривал Борис) расписаны зелеными, черными и желтыми полосами, переходящими на темно-зеленую бандану. Глаза горели.
— Мать моя! — удивилась Выхухоль. — Откуда такое богатство? Нож-то ладно, а все остальное откуда?
— Да так, — сказал Мотылек. — Свет не без добрых людей.
— И всю мою зеленку извел, поганец! И йод! Чем я теперь Бориса буду мазать? У него опять мозоль на пятке.
Вышел Борис. Он надел резиновые сапоги, старые джинсы и тельняшку. Сверху зеленый плащ-накидка — заслуженные остатки и наследие воинской славы. За поясом в кожаном чехле — любимый острый клинок шведской стали, с рукояткой из тяжелой и гладкой, каменно-твердой карельской березы, подарок друга, который купил нож в рыбачьем поселке китайских эвенков, на китайской же стороне Амура. Ножи были страстью Бориса и лучшим ему подарком. Для заточки он купил через интернет китайский станок, копию американского, и порою проводил блаженные часы за доведением лезвий до немыслимой остроты, пользуясь при этом электронным угломером в айфоне.
Борис оглядел Мотылька с ног до головы и ткнул с уважением в кобуру:
— Беретта?
— Ага, Беретта-92, мой любимый, — гордо ответил Мотылек.
— Все равно нож лучше! — Борис наполовину вытащил лезвие из кожаного чехла с тисненым рисунком — выгнувшимся в воде осетром, сверкнула сталь, блики заплясали по стенам, отражаясь от зеркала.
— Так-так, — сказала Выхухоль. — На фига так вырядились? Ну, Борис еще ладно, сержант, хоть и в оставке, ну а ты, Сяо-цань — на войну собрался, что ли?
— Это чтобы не кормить чужую армию! — Мотылек подошел поближе к зеркалу в одежном шкафу, повертелся. Его качнуло, гранатомет занесло, и он глухо ударился о зеркало.
— Тьфу ты! Хорошо не разбилось! Ты давай-ка, братец мой, поосторожнее… — сказала Выхухоль. — Так, Сяо-цань, гранатомет отдай Борису. Тебе остального хватит. Грузимся!
Все залезли в грузовик Рыжего Коли. Коля знал, зачем Борису понадобился грузовик, и давал без жадности. Коля был местный, плотник, механик, рыболов и грибник, тоже любил природу и защищал, как мог, хотя все время был занят, то на стройке дач, то еще где.
Его как-то побили те самые водилы, что сбрасывали помойку в лесу. Коля их остановил и даже отоварил одного как следует в глаз, с подскока, от души, но врагов было больше. Побили, крепко помяли ребра, у Колиного грузовичка проткнули шины, разбили стекла. Пригрозили дробовиком. И дом спалить обещали, если не угомонится, мол, номер его машины знают…
На изгибе поля, у старого дуба, подхватили Змейку, вид у нее был суровый. Когда подъехали к месту, на небе зажглись звезды. Здесь с шоссе в лес вдоль опушки уходила песчаная дорога. На нее и сныривали мусорные машины. Местные и так и сяк боролись с ними, бракованные блоки ставили поперек проселка, даже ров выкопали вдоль шоссейки, чтобы не съехать с нее к лесу, но мусоровозы приладились: первый сбрасывал груз в канаву, заполнял, остальные проезжали. В этом месте Борис и поставил маячок. В лесу было тихо. Редко-редко по шоссе проезжали машины.
— Покурить можно? — спросил Борис.
— В рукав кури! — сказала Выхухоль. — Готовность номер раз.
Запищал сигнализатор. Раз, два, три, четыре, пять…
— Они. Выдвигаемся! — приказала Выхухоль.
С дороги съехали и готовились сбросить груз пять машин. Одна уже опустила кузов, мусор пополз вниз. Остальные шоферы собрались в кучку, перекурить. Вдруг в лицо им ударил ослепляющий свет, над лесом раздался ужасающей мощности «Полет валькирий».
— Тотален лягайтен! Хенде хох, ви, паразитхен![3] — На фоне стены света выросла гигантская тень. Мощная шерстистая длань схватила самого высокого водилу за горло и подняла вверх. Тут же к нему вытянулась еще одна тень, извивающаяся, длинная, похожая на силуэт кобры с открытой пастью. Шофер задергался и завизжал, вниз закапало.
— Hands up! Face down! Fucking sons of a bitch! On your knees![4] — Высокий крик хлестнул по ушам, перекрывая даже «Полет валькирий».
Вредители природы послушно упали на колени, хотя английского никто из них не знал.
Самый шустрый и глуховатый вдруг подпрыгнул и бросился в сторону дороги, но крылатая тень метнулась навстречу, свистнул меч, и разрезанный ремень вместе с брюками сполз на землю, послышался увесистый пинок.
Неведомая сила потащила его к остальным. Водитель упирался ногами, отмахивался и орал благим матом.
Еще один успел вскочить в кабину, но вслед чмокнул гранатомет.
Взрыв вздыбил грузовик, подбросил вверх три тонны мусора и пробившего лобовое стекло водилу.
Он упал мягко, но как-то грязно, в самую жидкую и вонючую жижу.
— Никс шиссен, камарад! — завопил шофер постарше. — Никс шиссен![5]
— Слушайт, паразитхен! Бак скидайтен! — Большая тень ткнула в бочку на одном грузовике. Двое полезли, дрожа от страха, в кузов, скинули бочку. Она была в полроста человека. На боку белели цифры и латинские буквы. — Крышка открывайтен![6]
Открыли, сорвали, цепляя монтировками, обдирая с мясом ногти.
Большая тень угрожающе нависла над грузовиком.
— Лезайтен бак! Тотален лезайтен![7]
— Пожалуйста, не надо, там химия! Это яд! — взмолился старшой. — У меня дети! Камарад… ду бист, их бин[8]…
— Нихт камарад! Дети нихт, найн, ферботен! Купайтен! Ныряйтен![9]
В бок старшему ткнулся шведский клинок. Неглубоко, но чувствительно, медленно пошел по ребрам вверх, распарывая куртку и рубаху, царапая и холодя кожу.
Шофер прыгнул в бочку. Всех окатила теплая удушающая вонь. Второй, третий… Вскоре вся пятерка стояла на опушке, дрожа, отплевываясь, с головы до пяток в белом и вонючем.
Прожектор слепил им глаза, от рева динамиков волосы вставали на голове. Поминутно над головами свистел меч.
Большая тень шагнула ближе.
— Шоффёрен папир сюдайтен! Паспортен папир! Аусвайс![10]
Погубители природы полезли за документами.
Тень забрала их.
— Как же мы без документов? — сказал кто-то робко.
— Аннулирен! Ви! Транслирен нах, дас ист натур охранен зонн. Шлякен-блякен-трух транспортен айн, цвай — тотален капуттен![11]
В диком ужасе водилы бросились по грузовикам. Только один, без машины, был оставлен на месте.
Ему велели весь сброшенный мусор собственными руками собрать в кучу, чтобы завтра же его коллеги и забрали вместе со всей дрянью, под залог паспортов. И чтобы уже наваленное раньше тоже увезли.
Еще сказали, что паспорта и водительские удостоверения оставят через три дня под камнем у дорожного столбика на 18-м километре, при условии, если на опушке не останется мусора…
Выхухоль, Борис и Мотылек возвращались на грузовике домой умиротворенные и, конечно, усталые.
Гремучая змейка с ними не поехала: обратно долго ползти, да и на людях с красной физиономией рано еще показываться. Выхухоль оставила ей в подарок банку грушевого джема.
На пригорке остановились перекурить. В придорожных кустах чирикали птички. Вставало солнце.
— А ты, мать, чего это вдруг по-немецки? — осторожно спросил Борис.
— Так доходчивей! Историческая память, — ответила Выхухоль. — А вообще-то — абгемахт!
— Это что значит?
— Точно уже не помню, но слово хорошее, твердое. Типа — дело сделано! Борис, дыми в сторону, пожалуйста!
— А ты чего по-английски? — Борис повернулся к Мотыльку.
— Да как-то… автоматически, — ответил тот. — Кино, наверное, насмотрелся. — Он взглянул на Выхухоль. Выхухоль промолчала. — Ну что, поехали? Есть охота.
У ворот дома их ждал Рыжий Коля.
— Ну, как? — спросил он, пока Борис выгружал из грузовичка колонки и прожектор. — Машинку мою не сломали? Боря, у тебя усы спалились… Ну и несет от вас! Все нормально?
— Коля, у тебя баня натоплена? — спросила Выхухоль.
— Откуда? — сказал Коля. — С моим боком? Ребра-то не казенные. И не суббота еще. Извини, конечно. В субботу пожалуйста, и то если Леонидыч дров подколет чуток…
— Блин, — сказала Выхухоль. — В таком виде в дом не пойду.
— Да раскудыть твою тудыть! — Коля разглядел сидящего в кузове Мотылька в полном боевом облачении. Крылья были в копоти, щеку пересекал кровавый шрам, залепленный подорожником.
— У вас там войнушка или чего? — спросил Коля.
— Войнушка, войнушка! — ответил Борис. Ему было неловко перед Мотыльком. Шрам случился от его ножа, ну, подвернулся Сяо-цань неудачно, в пылу схватки.
— Извини, брат, — сказал он Шелкопряду.
— Ничего, брат, бывает, — сказал Мотылек. — Но в следующий раз маши своим кинжалом поаккуратнее.
— Эй вы, вояки, — сказала Выхухоль. — Хватит вам разбираться. Давайте на пруд. Мыло, полотенца возьмите! Коля, забирай свою таратайку, да тормоза подтяни как следует, мы пару раз чуть в канаву не слетели.
— А где спасибо? — сказал Коля. Пить он давно уже бросил, но благодарность ценил.
— Николай Васильич, тебе цены нет! — с выражением сказала Выхухоль. — И природу ты любишь, молодец! И семья у тебя замечательная. — Она толкнула локтем Бориса.
— А рыбу как ловит! Таких карасей таскает. Рядом мужики стоят — и ничего. А Коля одного за другим, одного за другим. Такие лапти! И это еще без лодки, с берега. Мне учиться и учиться! — с ложным энтузиазмом произнес Борис.
— Вот! Тут, главное, места надо знать. И время, — сказал Коля с удовольствием, он любил поговорить с хорошими и знающими людьми. — Ну, я еще зайду как-нибудь. — Завел машину и поехал домой. Ехать было недалеко, через десять домов с той стороны деревни, за поворотом, у колодца.
Мотылек вернулся с мылом и полотенцами.
— Пошли? — спросил он.
— Пошли, — сказала Выхухоль. — Только давай с той стороны выйдем, через поле. Борис, прожектор завтра на стройку верни, не забудь.
— Мать, а зачем мы грабли еще брали, вилы? — спросил Борис.
— Так не себе, а этим… мусор чтоб собрали! А потом передумала, пусть руками копают!
— Ух ты! Ну ты даешь! Прямо Наполеон! — восхитился Борис. Подумал немного. — Да и мы не оплошали! — Еще подумал. — А рыбу, кстати, я не хуже Коли ловлю, хоть он и местный.
— «Люблю я летом с удочкой на речке посидеть, бутылку водки с удочкой в запас с собой иметь, бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь…» — запел Шелкопряд.
— И откуда он только берет, старину такую? — вздохнула Выхухоль и покосилась на Бориса.
Они шли полевой дорогой к пруду, сбивая росу с высокой травы, навстречу солнцу. Солнце вставало все выше, и небо раскрывалось во все стороны, бескрайнее, светло-голубое, сияющее.
Выхухоль и инопланетяне
Как-то Выхухоль с Борисом собирали грибы.
Моросил дождь. Грибы куда-то попрятались, и в корзинках болтались только тонкие подберезовики и бледные опята.
Потянуло дымком.
Они увидели в глубине леса, за елками, горящий костер.
Подошли поближе.
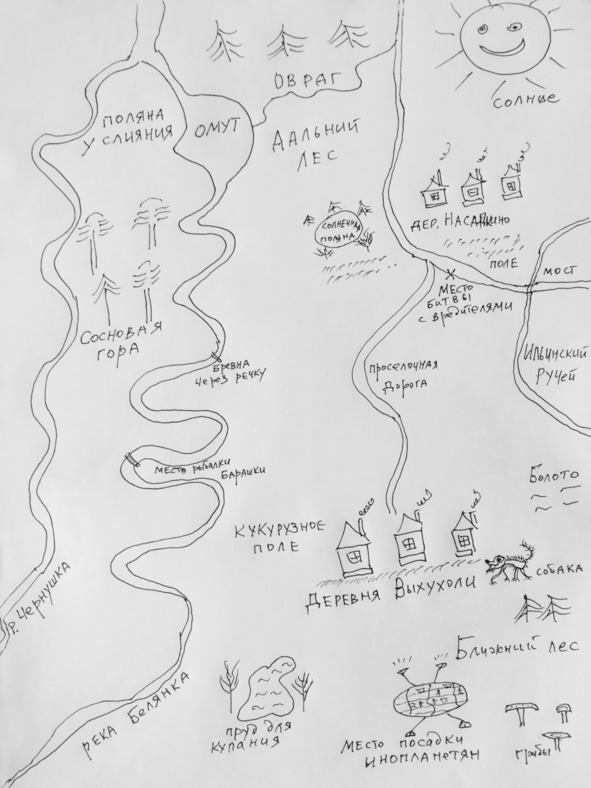
У костра сидели два инопланетянина. На коленях у них была расстелена карта. Они были босые. У костра сушились маленькие прозрачные кедики с серебристыми мысками, чуть загнутыми вверх.
— Тетка, как нам до Волоколамского шоссе добраться? — спросил не оборачиваясь инопланетянин потолще.
— Какая я тебе тетка! Кыштымский Алешенька тебе дядька! — ответила Выхухоль.
— Да нам по барабану, кто ты! Говори давай, а то в плен возьмем! — пригрозил второй, пониже и потощее.
Борис на всякий случай наклонился и подобрал еловый кол.
— А ты, Борис, вообще не рыпайся! — сказал тощий.
— Откуда… — начал Борис.
— Оттуда. Борис Леонидович Дубов. Номер загранпаспорта 53 1173899. Паспорт недействителен, срок действия истек в ноябре прошлого года. «Масон усадебного толка, Ихтиолог и диагност, Товарищ старицкому волку, Как Маркс умен, как Ленин прост», — сказал тощий. — Все знаем, и как ты ездил…
— Так как нам до Волоколамки дотяпать? — перебил его толстый. — У нас компас барахлит. Какая-то из ваших под него сапоги свои с железными набойками вздумала положить, нашла место, дура такая!
— Сам дурак! — сказала Выхухоль.
— Мо-жет быть, мо-жет быть, — протянул толстый. Он задумался. Потом очнулся. — Ну?! Время, шпигель, шпигель, ай-лю-лю. Некогда нам! — Он кивнул в сторону березовой опушки. Там возвышался инопланетный корабль.
Через прозрачные стенки было видно, как в нем на разных этажах сидели за компьютерами, гуляли, ели, пили и совокуплялись с землянками зеленые человечки.
— Не стыдно вам, — спросила Выхухоль. — Развратничать?
— Так мы не ради удовольствия. Мы с научными целями, — ответил толстый. — Скрещиваемся где можем. Вдруг чего-то такое… особенное получится. Вот типа тебя!
— Ты ее не трогай, — сказал Борис и замахнулся еловым колом.
— Ой, боюсь, боюсь, — пискнул тощий, и кол в руках Бориса превратился в бутылку холодного пива.
— А вот вам приятно было бы, если бы мы к вам прилетали и ваших женщин трахали? — возмутился Борис.
— Наших? А мы не возражаем! — сказал толстый и переглянулся с тощим. Оба заржали. — Ладно, защитник женщин… Так куда нам? Ты хоть рукой махни.
Борис махнул в сторону соседней деревни.
— А, все ясно. Двигаем на юг, — сказал толстый, смахнул капли дождя с карты, сложил ее и сунул в планшет. Оба обулись.
— Сырые еще… «Давайте-ка ребята, закурим перед стартом…» — запел толстый.
— Пока, веселая семейка! — сказал тощий. Инопланетяне двинулись к тарелке.
Толстый обернулся:
— Вы топайте лучше к просеке, там возле старой березы белых полно. Ведьмино кольцо. А здесь и до опушки одни валуи. Хотя если их вымочить как следует, да с чесночочком и укропчиком, да под стопочку…
— Сами разберемся, без всяких тут зеленых! — крикнула Выхухоль.
Борис открыл запотевшую бутылку и сделал глоток.
— А ничего пиво, — сказал он. — Горькое, как я люблю.
— Свежее? — спросила Выхухоль.
Борис посмотрел на этикетку.
— Завтрашнее, — сказал он. — О, и год тоже следующий.
— Не заморачивайся, — сказала Выхухоль. — Дай глотну.
— Ну что, пошли к просеке? — предложил Борис. — А то даже полкорзины еще не набрали.
Выхухоль и Барашка.
Часть первая. Появление Барашки
У калитки что-то звякало. Ну, у той, что открывалась к полю. Поле за деревней было огромное, занимало все пространство до леса и тянулось слева направо, от коровников до опушки, где линия электропередачи в лесу. На поле иногда сеяли кукурузу. Для коров. И тогда кукуруза заслоняла поле и даже лес.
Соседка Татьяна-лоскутница там чуть глаз себе не выбила кукурузным жестким листом, у нее убежала собака по своим собачьим делам, Татьяна пошла искать, заблудилась в этой высоченной, стеной стоящей кукурузе, ау, ау, мечется, паникует — и тут ей бац — лист заехал в глаз! Глаз, конечно, опух, заплыл, три недели потом лечила, с подозрением на повреждение роговицы, в райцентр ездила, лекарство закапывала, слава богу, обошлось, а ведь Татьяна занималась лоскутным шитьем, там глаза ох как нужны…
Иногда поле засевали пшеницей или рожью. А потом про поле забывали, и там росла трава. И над травой снова вставал лес. Где он кончался, никто не знал. В лесу жили лоси, кабаны, лисы и другие звери, не считая белок. Кое-где у болотистых низин ползали змеи, гадюки и ужи. Летом гадюки любили выбраться на тропинку в ржаном или пшеничном поле, свернуться толстым серо-черным колечком и греться на солнышке. Да, и зайцы в лесу водились, конечно, те самые, зимние, зверские, не к ночи будет сказано.
Ну вот. Значит, Выхухоль отправилась искать Бориса. Он куда-то запропал. А где ему пропадать? У выхода к полю на участке стоял деревянный сарай с тяпками-ляпками, ведрами и широкой и скрипучей дощатой кроватью. Иногда Борис уходил туда полежать, отдохнуть от всех, подремать. Может, он там?
Выхухоль туда и пошла. Услышала звяканье. Доносилось оно от берез, которые стояли навытяжку, кремлевскими часовыми, по обеим сторонам калитки в металлической сетке. Забор этот, дорогущий ой-ё-ёй, до кризиса ухитрились купить и успели даже поставить, на долгую радость.
Выхухоль подошла к забору.
У калитки стояла Барашка.
Тогда Выхухоль не знала, что это Барашка.
Ну, овца и овца.
— Чего тебе? — спросила Выхухоль.
Овца ткнулась мородой в калитку. Снова звякнул замок на ограде. Он был символический. Болтался на дужке без дела, для вида. На самом деле калитку держала проволока в белой обмотке. Провод.
— Ну, и чего тебе, спрашиваю? — спросила Выхухоль, облокачиваясь на калитку. Калитка под тяжестью жалобно застонала, запели петли, забор наклонился.
— Бе-е-е, — проблеяла овца, она же (через несколько минут) Барашка.
— Бе-е, ме-е, — передразнила Выхухоль. — Ты по-человечески не можешь?
Овца прожевала траву с ромашкой и сказала:
— Могу. Но так жалостней!
— Ты меня на жалость не бери, — сказала Выхухоль. — Знаешь, сколько вас тут таких шляется?
— Не знаю. Возьмите меня к себе!
— Вот еще! Зоопарк здесь, что ли? Иди вон к Наташке, у нее козы!
— Не хочу я туда. Там этот… Козел…
— Что козел?
— Ну, пристает.
— Но ты же овца!
— Да ему все равно.
— Ну, не знаю. — Выхухоль задумалась. — Иди в стадо. В этот, как его, в совхоз-техникум. Он богатый.
К калитке подошел Борис. Оказывается, он опять собирал сливы. Вытер потный лоб кепкой, закурил, встал рядом с Выхухолью.
— Не хочу в техникум! — сказала будущая Барашка. Она глядела уже не на Выхухоль, а на Бориса.
«Глаза красивые», — подумал Борис.
— Борис, ты куда пропал? — спросила Выхухоль. — Я тебя обыскалась. Картошки подкопал на обед?
— Так сливы надо добрать… А кто это? — спросил Борис.
— Я Барашка, — сказала овца.
— Потерялась? — спросил Борис.
— Да, да, потерялась! Ой, как потерялась! Возьмите меня к себе!
— Ничего она не потерялась! — сказала Выхухоль. — Шляются тут всякие бездельники.
— Тощая какая, — сказал Борис. Он достал из кармана своей полувоенной куртки ломаное печенье и протянул Барашке:
— Ешь!
— Еще чего, — сказала Выхухоль. — Ничего не тощая, вон бока какие наела. Вали давай отсюда, красавица!
Она взяла Бориса за руку, отвела в сторону.
— Борис, у нас еще газ не проведен, скважина не пробурена, а тут с овцами еще возиться. На хрена нам нахлебники? Пусть к Наташке идет!
— Да куда ей на ночь глядя? — сказал Борис. — Жалко же!
— Жалко у пчелки! Эй, ты овца неприкаянная!
— Барашка я!
— Вали отсюда! — Выхухоль захлопнула калитку, закрутила проволокой, подхватила под руку Бориса и через сад пошла в дом.
Борис оглянулся. Деревья и кусты ежевики скрыли калитку и поле. Да и темно уже как-то сделалось.
Выхухоль и Барашка.
Часть вторая. Барашка остается
Ранним утром Борис вышел в сад. Он любил эти первые утренние минуты. С деревьев капало, трава тоже в серебристой росе, и все вокруг розовое от солнца.
Борис пошел к грядкам за садом, пощипать клубнички. Грядки тянулись возле калитки, выходящей в поле.
Что-то лежало серой кучей за калиткой. Борис подошел поближе.
Кучка поднялась, и на Бориса уставились огромные карие глаза.
— А, — сказал Борис. — Привет!
— Здравствуй, — сказала Барашка.
— Не ушла?
— А куда мне?
— Ну да. Есть хочешь?
— Ага!
Борис сбегал на огород, надергал моркови и протянул Барашке.
— Борис! — раздался сзади голос.
Борис вздрогнул. Барашка застыла с хвостиками моркови во рту.
— Ты чего ей суешь? Кругом травы полно! А ты чего здесь топчешься! Сказала же вчера — вали отсюда!
— Из рук вкуснее, — сказала Барашка. Она была готова заплакать. Кудряшки у морды тряслись.
— Да на фига ты нам сдалась? — спросила Выхухоль. — Какая нам от тебя польза?
— Я могу навоз давать, для удобрений, — сказала Барашка и приподняла куцый хвостик.
— Стоп, стоп! — сказала Выхухоль. — Этим нас не удивишь. В деревне многие для этого только и живут. Не надо нам твоего навоза!
— Ну почему? — сказал Борис. — Удобрения в принципе нужны. Я имею в виду качественные, органические.
— Удобрения ему нужны, — сказала Выхухоль. — С фермы привезем. Обойдемся.
— На ферме деньги платить, — возразил Борис.
— Еще я грозу могу предвидеть! — сказала Барашка.
— А чего ее предвидеть? — спросила Выхухоль. — Плащ надела, сапоги, вот и вся тебе гроза. Иди, иди, в общем, в этот, в совхоз, к юным зоотехникам, в стадо. В коллектив.
— Не люблю я коллектив, — сказала Барашка. — Там тесно. Я индивидуалистка. В хорошем смысле. Возьмите, я места много не займу. Вот у сарая и буду стоять. Я полезная, а у вас хорошо.
От дома подошел Мотылек. Как всегда с утра, он был бодр, свеж и оптимистичен.
— О, живое руно, — сказал он, размахивая крылышками в плане утренней зарядки. — Это кто у нас здесь такая симпотная?
— Вот! И этот туда же! — сказала Выхухоль.
— Это Барашка, — объяснил Борис. — Ей жить негде, к нам просится.
— Ты еще сливами ее угости, — съязвила Выхухоль. Борис повернулся и пошел к сливам.
— Куда?! — крикнула Выхухоль.
— А еще я прослушала курс Лондонской школы экономики, — сказала Барашка. — Вам могу рассказывать. Вместо сказок.
— Подумаешь, удивила, — сказал Мотылек, потягиваясь навстречу солнцу, — там только ленивый не учился, сейчас в кого ни плюнь, так все в Лондоне учились…
— Погоди, — сказала Выхухоль, — а в Лондон-то ты как попала?
— Ой, нас для оживления пейзажа в кампусе пасли на лужайке, мое место было как раз у окна лекционного зала, под дубом… Там и прослушала курс. Изменения британского фондового индекса эф-ти-эс-и в зависимости от цены нефти Брент, волатильность фунта на фоне падающих рынков развивающихся стран, наступил марток, надевай двое порток… Ой, это не оттуда… Там еще профессор был такой хорошенький, в очках, кудрявенький… Так на меня смотрел!..
— Нам эта лондонская экономика ни к чему, — сказала Выхухоль. — У нас тут своя экономика. Две картошки, три моркошки, и без всякой волатильности вашей. Живем не тужим.
— Это точно! От палки-копалки никак не уйдем! Ух! — Мотылек делал упражнение на растяжку: упершись одной ногой в сливу на уровне пояса, наклонялся до земли, слегка покряхтывая.
— Ой, а я тебя видела в Лондоне, когда нас возили на фотосессию по реке, — сказала Барашка, глядя на Мотылька. — Ты выходил из прелестного такого здания, кремового цвета, на набережной, в таком пальто верблюжьем черном и в шляпе!
— Меня то и дело принимают за кого-то другого, — быстро ответил Шелкопряд, — у меня стандартная и неброская, ничем не примечательная внешность. Кстати, — сказал он, меняя тему, — мне кое-кто давно обещал одеяло из овечьей шерсти.
— Никто тебе не обещал, — сказала Выхухоль. — Шерсти этой вообще-то завались на каждом углу.
— А моя шерсть особая, — сказала Барашка. — Если чулочки сделать или вот одеяло, сноса не будет. И ревматизм лечит. Недаром в Англию на выставку отправляли.
— Вот, поешь, — Борис вернулся со сливами и горсть сунул Барашке. — А чего ж там не осталась?
— Соскучилась. Ностальгия замучила, березки стали сниться, — сказала Барашка. — Родина притянула.
— Да уж, Родина у нас как притянет, так и не отцепишься… Кстати, между прочим, сейчас ведь год Козы, или Барашки, — Борис посмотрел на Выхухоль.
— А завтра будет год… Чебурашки! Капибару еще заведи, — ответила Выхухоль. — Так и будем всех в дом тащить? А у нас проводка ни к черту, туалет холодный…
Борис вышел в калитку и погладил Барашку. Она ткнулась ему мордой в бок и замерла.
Борис выжидательно глядел на Выхухоль. Та молчала.
— Тьфу на вас! Делайте что хотите, — сказала она наконец. — Хотя… погоди. Пейзаж, говоришь, оживляла. Ну-ка замри!
Выхухоль отошла через сад к дому.
— Эй, ты, кудрявая, боком повернись и так встань! — крикнула она.
Барашка повернулась и замерла.
— А что, вроде бы как раз белого пятна здесь не хватало, — сказала Выхухоль сама себе. — Сад, огород, березы, желтое поле, зеленый лес, синее небо. И как отсвет облаков — светлое пятно внизу… Да, да. Манэ… Монэ?
Выхухоль вернулась к калитке.
— Оставайся, — разрешила она. — Так и быть. Траву можешь щипать свободно. По всему участку. Поровней щипли, чтобы не косить. Много не болтай. К огороду ни ногой. Когда гости будут приходить, выходи на видное место! Вот здесь, у берез. Все понятно?
— Ура, ура! Все понятно! — Барашка с готовностью закивала и подпрыгнула от радости.
— Остальным — разойтись и оправиться… Тьфу ты!.. В смысле — все пока свободны. После завтрака определю фронт работ каждому. — Выхухоль развернулась через левое плечо и тяжелым шагом направилась к дому.
— Прошлое не отпускает ее… — глядя ей вслед, задумчиво, с затаенной гордостью сказал Борис.
Так Барашка осталась в доме. Ну, не в доме, конечно. Она облюбовала место у сарая. Там, где старая, побелевшая от старости деревянная скамья стоит. А возле нее — лейки, большие и маленькие. Грабли еще, тоже большие и маленькие, даже детские, всякие лопаты, штыковые и совковые, с ручками и без ручек, тяпки, ведра железные и пластмассовые, даже ванночка жестяная, в которой отстаивалась и степливалась перед поливом вода. У сарая, в затишке и в тени, и тепло, и не жарко. Если дождь, под навесом можно спрятаться. Там же и поспать можно.
А в хорошую погоду она паслась под березками у калитки. Да и в дождик тоже там прогуливалась, если моросил не сильный, а приятный такой, освежающий.
Выхухоль и серьезный разговор
Мотылек лежал в гамаке, натянутом в тени между двух елей, и читал «Трех мушкетеров». Время от времени его крылья трепетали, он поводил плечиками и дрыгал ножками.
— Сяо-цань, — сказала Выхухоль, — иди сюда! — Она обрезала кусты роз у изгороди. Выхухоль отдыхала душой, когда ухаживала за цветами, сажала их, поливала, удобряла, чтобы росли красивые и здоровые. Для садовых работ она надевала свой любимый синий комбинезон с карманами для инструментов.
— Вот это книга! — крикнул Мотылек. — Это класс! Знаете что — теперь зовите меня Мон Дье.
— Мон дье — Депардье, — сказала Барашка, подслушивающая из-за сарая.
— Дье — это бабочка по-китайски, то есть фактически я, — сказал Мотылек.
— Сяо-цань, иди сюда, — повторила Выхухоль и положила садовые ножницы на садовую скамью. Села сама. — Мне надо с тобой серьезно поговорить.
Мотылек нехотя слез с гамака и подошел к розам, понюхал.
— Такие ароматные! Да, удались в этом году! — воскликнул он, преданно глядя на Выхухоль. — Так и прут, так и прут!
— Подожди про розы, садись, надо серьезно поговорить, — Выхухоль хлопнула ладонью по скамье.
Мотылек присел. Зажмурился от солнца.
— Ну вот как же я не-на-ви-и — и-жу такие заходы! О-о-о! — простонал он. — Просто до жути! «Мне надо серьезно с тобой поговорить». Ну зачем так-то? Ну надо, так говори сразу. Уже от этого — «мне надо с тобой серьезно поговорить» — сразу все внутри скукоживается. И говорить после этого никакой охоты. Надо сказать — так давай сразу и говори, бери быка за рога, без этого вот «надо с тобой поговорить…»
— Разболтался мне тут, — сказала Выхухоль. — Ишь ты!
— Да, сразу бы и начала — ты, вот, мол, вчера поздно пришел, ну, или еще где прокололся, мол, такой-сякой, и все понятно, и дело с концом… А то Муму за хвост…
— Муму здесь при чем? Тургенева не трогай. Им пусть Елена Премудрая занимается, добрая душа. А насчет того, что поздно пришел… Ты и правда стал шляться невесть где, приходишь, духами несет, а то и винцом попахивает, — сказала Выхухоль. — Какие-то люди к тебе странные ходят.
— Друзья, — беспечно ответил Мотылек, болтая ножками. — Что, мне уже и друзей нельзя пригласить?
— Друзья в час ночи в сарай ящики и свертки не таскают, — сказала Выхухоль. — Причем непонятно какие…
— В два часа, — уточнила из-за сарая Барашка.
Мотылек скривился. Прикрыл глаза.
— Но это еще ладно. А вот это что? — Выхухоль достала из кармана комбинезона блеклую книжечку, раскрыла, раздирая слипшиеся страницы. — Вчера замачивала для стирки твои старые джинсы, в сундуке нашла, в последний момент из воды выдернула… Откуда вот это — загранпаспорт, Сан-Томе и Принсипи? На имя… э-э, стерлось… Хосе Туртуарро… Корридо. Это что за имя вообще?
— Это не мой паспорт, — быстро сказал Мотылек.
— А фотография — твоя! Вот, смотри: загорелый, пиджак в клетку, шейный платок!
— Грубая подделка, — сказал Мотылек. — Очень грубая. А возможно, и провокация… Знаешь, сколько в мире провокаций? Хлебом не корми… Дай посмотрю. А-а, нет, правда мой. А я и забыл. Куда, думаю, делся? Это… Это друзья как-то подарили. Давно. И вообще — это не загранпаспорт, а дипломатический. Визы не нужны. Могу с номерами ездить дипломатическими, с красными. Удобно.
— А еще вот эти монеты в кармане? Это что за деньги?
— Шекели, — сказал подошедший Борис. — Дай-ка мне парочку! Витя, сын Рыжего Коли, собирает, я ему из Болгарии левы привозил. И стотинки.
— Ну, и откуда эти шекели? — спросила Выхухоль.
— Да это Нинка, наверное, продавщица, зараза такая, сует всякую дрянь на сдачу, пользуется, что я не считаю! — возмутился Мотылек. Недовольно покачал головой. Разговор начал ему явно надоедать. — Вчера вечером колу в поселке покупал, чипсы.
— А не ешь всякую дрянь, и подсовывать ничего не будут, — сказала Выхухоль. — У тебя же желудок нежный! И вообще — у тебя на все ответ есть! А случись что, — ты подумал обо мне, о Борисе?
— И обо мне, — добавила из-за сарая Барашка.
— Так я о вас и думаю. Кручусь как могу.
— Ты думаешь? А откуда у Бориса швейцарские часы? Золотые. Ты подарил? Я смотрела, такие стоят как минимум десять тысяч долларов. За них же убить могут!
— Убить за все могут… Эти часы мне самому подарили, а зачем? Я не люблю такие, навороченные, тяжелые. Но раз подарили, не отдавать же назад! А мне классика нравится — тонкий корпус, минимум всего на циферблате, механика, кожаный ремешок… Вот мои — Breguet 3095, смотри. Невесомые!
— Ты бы лучше Борису коронки новые сделал, раз такие друзья у тебя богатые, — сказала Выхухоль.
— А чего, сделаем. Вот часы эти переплавим и золотые коронки из них и сделаем, — ухмыльнулся Мотылек.
— Зачем золотые? — удивилась Выхухоль. — Керамические лучше.
Борис на всякий случай убрал руку с часами за спину и принял позу случайного зеваки, не имеющего никакого отношения к происходящему: оперся о яблоню и внимательно разглядывал облака на низком небе. Облака неслись по нему с сумасшедшей скоростью. «Так вот и жизнь несется», — философски думал Борис. Но руку из-за спины не доставал, на всякий случай.
— В общем, дорогой мой, давай как-то упорядочивай свою жизнь! — продолжала Выхухоль. — И…
— И контакты, — дополнила Барашка из-за сарая.
— Да, вот именно, контакты! — поддержала Выхухоль.
— Послушай, дорогая наша Вы! — сказал Мотылек. — А давай мы тебя станем звать — Вы.
— Я и так для некоторых на вы, — ответила Выхухоль.
— Не на вы звать, а просто Вы, сокращенно. Ты будешь Вы, я буду Мон Дье, а Борис будет, ну, скажем, Лао Бо?
— Ты тему давай не меняй, подумай, о чем я тебе говорю, — Выхухоль снова взялась за ножницы. — Сделай выводы. Слушай, может, тебе в институт поступить? С хорошими людьми водись. Есть же приличные люди. Например, Михаил, журналист, высокий такой… Кстати, почему ты его фамильярно Мишкой зовешь, а его даже по телевизору показывают… Или вот Володя Солнцев, из банка, с бородой, японист, тоже хороший человек, сразу видно.
— Да, Вовка — класс! — подтвердил Мотылек. — На гитаре играет.
— А другие? — не останавливалась Выхухоль. — Другие-то твои знакомые хоть оторви да брось. Мексиканец этот, коротышка, с вечной сигарой своей слюнявой, с девками в «Порше», и якобы он по-русски не говорит — ты от него давай подальше держись. За версту же видно — проходимец и жулик!
— Уже забыл! «Порше» арендованный, кстати. Девки не девки вообще, а модели. По делу приезжали. Показ мод. А Вовка, да — золотой человек! Завтра обещал приехать, по банковским делам перетереть. Долги третьих стран будем на себя переписывать, с дисконтом. Паспорт этот ты очень даже кстати нашла. Так что на коронки деньжат надыбаем. И на кое-что еще! Борис, эй, Лао Бо, ты где? На рыбалку пойдем? — спросил Мотылек.
— Только червей осталось накопать, тесто я уже сделал, — Борис выступил из тени.
— Ноу проблем! — Мотылек выхватил из-за спины любимый меч, который к дню его рождения привез японовед Владимир Солнцев (он же Вовка Сан).
— Два взмаха — и все черви наши! — Он махнул мечом и рассек грядку. Из пласта пропоротой земли выглянул жилистый, видавший виды червяк и тут же нырнул обратно в свой ход.
— Картошку не задень, — сказала Выхухоль. — И так хилая без дождей, без слез не глянешь.
— Давай лучше лопатой, — предложил Борис.
— Лопатой неинтересно, лопатой каждый дурак может! — сказал Мотылек. — Ладно, пойду-ка лучше кое-кому кудряшки поотсекаю, чтобы не комментировали. Тримминг сделаю.
Он направился к сараю и запел:
— «Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух, шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух!..»
— Ой, не надо тримминг! — донеслось тоненько из-за сарая, — я больше не буду! Правда-правда не буду! Я и не видела ничего!
Выхухоль и фотосессия
Как-то после полудня Выхухоль всех потеряла. Никого в доме.
Из сада раздавались голоса. Туда Выхухоль и пошла.
На маленькой полянке в саду стояли Барашка, Шелкопряд и Борис, все смотрели в одну сторону, на ежевику.
— Так, а теперь по отдельности! — раздался певучий голос из-за кустов ежевики. Оттуда вышла с фотоаппаратом соседская девочка Лида. Ну, теперь она выросла и стала взрослой девушкой, очень стройной и красивой. Она бегала каждую неделю два раза по 10 километров, у нее в кроссовке был специальный счетчик, в чипе, а где-то наверху спутник следил, сколько Лида пробежала, сколько подъемов, сколько спусков, очень умная такая техника. Помогала совершенствоваться.
Лида стала фотографом, она фотографировала хороших людей. И вот добралась до соседей. А те и рады.
— А вы и рады! — сказала Выхухоль. — Вас бесплатно фотографируют, цените! Лида вам подарок делает. А мы потом фото в гостиной повесим. А что за вид у вас? Лидочка, подожди, пусть приоденутся как люди, а то не пойми что.
— В самом деле, — сказал Борис. — Я быстро.
Все разошлись. Барашка пошла к своим березам, посмотрелась в ванночку с водой для полива, почистила копытца о корни, повалялась в траве и вернулась с ромашкой в зубах.
— Как я, смотрюсь? — спросила она Лиду. — Вроде ничего. Красивая! Мне бы еще мелирование сделать, только не успею уже…
— Не нужно никакого мелирования! И так выглядишь замечательно! — сказала Лида. — Дай я тебе бантик завяжу. — Лида сняла с себя пестрый шарфик с буквами МММ, подарок своей подружки, дизайнера Марины, и повязала бантиком на шею Барашки. А ромашку воткнула за ухо. — С тебя и начнем. Вставай вот здесь.
Барашка приняла изящную позу: приподняла правую ножку, вскинула голову и пошире открыла глаза.
— А диафрагму какую выставляешь? Сильно зажимаешь или для безопасности среднюю ставишь? — спросил вернувшийся из дома Шелкопряд, пряча что-то в кустах. Он переоделся и щеголял теперь в белоснежном кимоно. И, конечно, босиком.
— Когда людей немного, стараюсь поменьше ставить, — Лида с удивлением посмотрела на Мотылька.
— В глянец пойдет? Ну, там «Максим», «Мэнз хэлз»?
— Еще как пойдет, — ответила Лида, быстро щелкая затвором. — Барашка, не отвлекайся, смотри в объектив, пожалуйста!
— Ты только, знаешь, Лида, мне потом негативы отдай и фотки мои, где я один, ладно? — попросил Сяо-цань. — А где на общем фото, лицо затемни, ну как бы тень упала от дерева.
— Ладно, без проблем! — согласилась Лида. Она привыкла к причудам заказчиков.
Расположившись на садовой скамье, Выхухоль с интересом наблюдала за съемкой.
Вернулся Борис. Он побрился. Принял душ, вымыл голову, уложил черные, с проседью, вьющиеся пряди, которыми слегка гордился. Надел кофейного цвета кожаные ботинки, новый темно-коричневый костюм-тройку, белую рубашку и бордовый галстук и стал похож на представителя министерства культуры на вручении музыкальной премии международного конкурса хоров «Москва — столица мира».
— Ты прямо вылитый представитель министерства культуры на вручении музыкальной премии международного конкурса хоров «Москва — столица мира», — сказала Выхухоль с легкой завистью.
— А я и был представителем министерства культуры на вручении музыкальной премии международного конкурса хоров «Москва — столица мира», — ответил Борис. — Правда, в министерстве об этом не знают. Но весь мир это видел. Я торжественно награждал китайский хор «Шоу ди шоу» с замечательным русским дирижером Катей. Ну, ее все знают.
— Они здорово поют, — сказал Мотылек. — «Пьеда да йо-йо, пьеда да йо-йо, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля!!!» В ютьюбе их песня есть, «Туман над Янцзы». Гребенщиков как увидел, от зависти гитару сломал об коленку. Мне, говорит, так никогда не спеть. Это он про свою же песню. И в монастырь ушел, в буддийский, на озере Сиху. Ну, ему попоститься невредно.
— Надо и мне приодеться, что ли, — сказала Выхухоль. — Деточка, а меня пощелкаешь?
— Конечно, давайте, — сказала Лида.
— А форма одежды? — спросила Выхухоль.
— Да любая, только не слишком темная, вам не пойдет, — сказала Лида.
— Поняла! — Выхухоль быстрым шагом отправилась в свой скворечник.
Лида тем временем снимала Бориса. Он сел на лавку и мужественно смотрел в камеру, раскуривая трубку — подарок соседа, Сереги-разведчика, которому коллекция трубок досталась от отца. Борис к трубке не привык, ему хотелось прокашляться, но он сдерживался, чтобы не испортить съемку.
— Ой, Борис, вы — ну точно капитан с парохода на Темзе, — сказала Барашка с восхищением. — Такой геройский капитан! Такой романтичный! Прямо очень геройский! И усы такие же! И волосы тоже волнистые такие!.. Он меня еще на своем корабле «Маргаритой» угощал… — Барашка вздохнула.
— Борис Леонидыч, чуть рукав поднимите, пусть часы будут видны, — сказала Лида.
— Оч-чень профессионально работает! Оч-чень! Она Анджелину Джоли снимала, — шепнул Шелкопряд Барашке. Та с готовностью закивала головой. Из-за уха выпала ромашка, Сяо-цань поднял и вернул на место.
— Спасибо! Вы такой джентльмен, прямо Джеймс Бонд, — сказала Барашка.
— Да ладно, куда нам, мы люди маленькие, неприметные, — ответил Мотылек и разулыбался.
— А можно я с ножом снимусь? — спросил Борис.
— В костюме — и с ножом? — засомневалась Лида. — Как-то это…
— А в министерстве культуры все так снимаются, — заверил Мотылек. — Корпоративная культура. Там у них вечерами по коридорам вообще лучше не ходить…
Борис сунул руку под полу пиджака, вытащил из ножен на поясе свой любимый клинок, повернулся в пол-оборота и улыбнулся доброй улыбкой. С таким ленинским лукавым прищуром, с лучиками-морщинками в уголках глаз. Нож сиял на солнце, синие глаза блестели. В саду сразу стало холоднее.
— Снято, — сказала Лида.
— А можно я тоже с мечом? — спросил Шелкопряд.
— В принципе, с мечом будет неплохо, — сказала Лида. — В движении если, в динамике.
— Будет динамика! — пообещал Шелкопряд. Достал из куста ежевики меч, изогнулся и встал в позу, которую обычно принимают все фотографирующиеся с мечом.
— А динамика? — спросила Лида. — Слишком статично. Надо бы динамичнее…
Мотылек высоко подпрыгнул, меч описал сверкающую дугу, срезая ветки сливы.
— Отлично, — сказала Лида. — Еще!
— Ты сливы-то побереги! — крикнул Борис. — Режь сухие! Нижние я обрезал, а до верхних не дотянусь. Спину чего-то прихватило.
Снова прыжок вверх, свист меча.
— Ой, бе-е… бе-е-е-лин! — Барашка едва успевала уворачиваться от падающих сучьев.
Фотоаппарат стрекотал длинными очередями, Лида снимала с разных углов.
Мотылек ловко отсекал своим драгоценным японским мечом сухие ветки. Зрители замерли, задрав головы. С елки недовольно застрекотали сороки. Их лишали строительного материала: они привыкли таскать из сада веточки для своего гнезда на ели.
Мотылек как будто и не уставал.
— Здорово у тебя получается! — похвалила Лида и опустила фотоаппарат, проверила аккумулятор.
— На всякую фигню мы всегда офигенно способные! — крикнул Мотылек и прыгнул чуть ли не до макушки дерева.
— А я ласточку могу сделать, — предложил Борис.
— Ой! — воскликнула Барашка. — Смотрите, смотрите!
Все повернулись к дому.
В тени деревьев к ним шествовала Выхухоль. Она была облачена в китайский красный шелковый халат с птицами-фениксами, красные шелковые тапочки с золотым узором, на голове красовалась красная шелковая шляпа с широкими полями.
— Ух ты! — сказал Шелкопряд, утирая пот рукавом кимоно. — Чио-чио-сан! Драгоценная наложница Ян-гуйфэй! Первая красавица Си Ши! Императрица У Цзэ-тянь в лучшие годы!
Обмахиваясь красным шелковым веером с цветками сливы мэй, Выхухоль села на скамью.
— Лучше в кресло, — сказал Борис. Быстро сбегал и принес из дома кресло.
Его поставили под березами. Солнце садилось, освещение было мягким.
— Лидочка, куда смотреть? — спросила Выхухоль. — Может, Барашку сзади поставить, для контрастности? Мешки не заметны под глазами?
— Все хорошо, мешков никаких не видно! Держитесь естественно, думайте о приятном, смотрите на ель, голову чуть вверх. Веер чуть вниз. Вот так, да! — сказала Лида. Аппарат защелкал.
Борис и Мотылек нырнули в сарай и вернулись через несколько минут, раскрасневшиеся и оживленные чуть больше обычного.
— Лидочка, детка моя, только прошу — без красных глаз! А то как ни снимут меня, всё красный глаз какой-то получается! — сказала Выхухоль.
— Будут карие и чуть зеленоватые, — сказала Лида.
— Вот-вот! — Выхухоль положила нога на ногу, подняла к глазам веер, взмахнула. — Красота-то кругом какая!
— Да ты и есть красота! — льстиво сказал Борис.
— Ха! Ох, Борис, Борис. Вот знаю же, что врешь, а приятно! — засмеялась Выхухоль.
— Очень, очень красивая! — подтвердила Барашка. — И кудряшки такие курчавенькие, прямо как у меня!
— «Красавиц видел я немало, и в журнале и в кино, — запел Мотылек голосом Муслима Магомаева, — но ни одна из них не стала лучше милой все равно…»
— «И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты, ты милее всех на свете, Королева красоты!» — подхватил Борис.
— Да ну вас, — махнула веером довольная Выхухоль. — Слушайте, давайте Лидочке что-нибудь подарим.
— О, я знаю что! — сказал Мотылек. — Мне друзья прислали пакет китайской дерезы, го-цзи. Ну, в России почему-то зовут годжи. Свежая, крупная. Лида любит.
— А я ее поцелую, — сказала Барашка.
— А я… — Борис задумался. — Я ей крыло машины поправлю, она помяла немного. И съезжу заправлю. И помою еще.
Выхухоль, порнушка и Дом-2
Выхухоль вышла в сад. Она искала Бориса, а то уже почти полдня прошло, а полезного по хозяйству еще ничего не было сделано. Направилась вглубь, к сливам, и до слуха донеслись странные звуки.
Выхухоль прислушалась. Стоны и глухие голоса раздавались из сарая.
— Душат там кого, что ли? — встревожилась Выхухоль и рванула к сараю. Распахнула дверь.
Перед телевизором сидели Борис и Мотылек. На экране мелькали тела, эти тела издавали вот эти странные звуки.
— Так! Ага, — сказала Выхухоль. — Вот вы чем тут занимаетесь! Порнушку смотрите!
Борис торопливо выключил телевизор.
— И не стыдно? — спросила Выхухоль. — Докатились! Ну ладно ты, Борис, взрослый человек. Но еще и Мотылька втягиваешь.
— Никто его не втягивает, — сказал Борис. — Просто он поинтересовался, как там у людей.
— Да мы и не смотрели, — сказал Мотылек. — Случайно канал переключили, мы Формулу один ждем.
— Вижу я, какую вы Формулу ждете, — возмутилась Выхухоль. — И вообще я не понимаю — ну что такого интересного на это вот смотреть? Это все равно… все равно что смотреть, как едят.
— А я люблю смотреть, как едят, — сказал Мотылек. — Вон в Японии миллионы подписываются на разных там едоков, которые перед экраном сидят и жрут, и жрут, и жрут. Крабов там разных, суши. Водоросли, рыбу сырую. Пирожные. С утра до ночи. Ты любишь суши? Роллы? С горчичкой? Хочешь, съезжу привезу?
— Погоди ты со своим суши, — сказала Выхухоль. — Разговор не переводи.
— А в принципе, чего такого? — сказал Борис. — Тонкая эротика, это вообще произведение искусства. Взять, к примеру, китайские фильмы из серии «Спальные забавы императоров»… И вообще, кто бы выступал? Ты сама вот… — Он запнулся.
— Что я, что? — возмутилась Выхухоль.
— Дом-2 смотришь!
— Я?
— Ну не я же! Я сам видел. А этот твой Дом хуже любой порнушки.
— Я — Дом-2?
— Да. В воскресенье. Я зашел, ты выключила.
— Ну… Ну… Я одним глазком только заглянула, случайно.
— Да ты часа два смотрела, я снасти готовил, через стенку все слышал.
— Ну и что такого, подумаешь, Дом-2? — заметил Мотылек. — Вон Елена Премудрая, которая рядом с Печником живет, «Братанов» смотрит, а доктор наук между прочим.
— Кандидат. Кандидат филологии, — сказал Борис. — Прекрасный педагог. Толстым занимается, Пушкиным. Пушкин, кстати, тоже смотрел бы. Ну может, не «Братанов», а вот «Ментовские войны» точно смотрел бы. Или снимал бы, он же все время без денег…
— Сплетничать некрасиво, — сказала Выхухоль и замолчала. За стеной звенькнула синичка. Ветерок ударил, качнул ветки сливы, они заскребли по стенке.
— Не понимаю, как этот Дом можно смотреть? — не отставал Борис. — Нет, смотреть можно, конечно, но — как исследователь, как энтомолог, допустим, смотрит на насекомых, изучает их повадки, образ жизни…
— Насекомых не трогай, — твердо сказал Мотылек. — У нас, кстати, знаешь, как все сложно устроено? В том числе в сексуально-эротическом плане. Не как у людей. У вас все как-то грубо, механически, прямолинейно, без души.
— А то у вас не механически, — усмехнулся Борис и погладил усы.
— У нас тонко. Не торопясь. Эх, Борис! Вот, знаешь, берешь и этак усиком нежненько, легонько, едва касаясь, проводишь ей по внутренней поверхности крылышка, там, где оно соединяется…
— Эй, эй! — воскликнула Выхухоль. — Вы что? Совсем стыд потеряли. И душно у вас тут. Идите-ка на свежий воздух, проветритесь. Вон дров нарубите.
— Так нарублены, — возразил Мотылек.
— Еще нарубите, а то вижу, заняться вам нечем.
— Я вообще-то на рыбалку собирался, — сказал Борис.
— А я в магазин, — сказал Мотылек.
— И чтоб больше мне никаких этих… просмотров,
— Да там и смотреть нечего, — сказал Мотылек. — Я же говорю, одна голая механика. Скукота.
Борис промолчал.
Выхухоль и Канарей.
Часть первая. Появление Канарея
— А это что за чудо в перьях? — спросила Выхухоль.
На перилах веранды, под красным круглым китайским фонарем, покачивающимся от порывов ветра, сидела черная птица и молча смотрела на Выхухоль.
— Я к тебе обращаюсь, эй! — сказала Выхухоль.
Птица не ответила и перевела взгляд на Бориса, который как всегда копался со своими снастями на круглом столе, покрытом синей в белую клетку клеенкой. К клеенке прилипли березовые листики и еловые иголки: утром на столе перебирали принесенные из леса грибы.
— Так и будем в молчанку играть? — спросила Выхухоль, сняла с ноги китайский тапок и бросила в птицу.
Птица увернулась, переминаясь, встопорщила перья, по-прежнему не сводя взгляда с Бориса.
— А чего ты на Борю смотришь? Боря, что она на тебя смотрит?
Борис сделал вид, что не слышит. Птица слетела с перил и подсела на стол к Борису, постучала клювом по клеенке.
— А, эта, — сказал нехотя Борис и отодвинул подальше пакет со снастями. — Это Канарей.
— Что? Кто? Какой канарей?
— Ну, Канарей и Канарей.
— Боря, а ты видел канареек вообще?
— Ну, так… Мне про них стихи прислали. Друг из Москвы. У него знакомый, оказывается, канареек разводит, пятьдесят штук уже наразводил.
— Какие такие стихи?
— Сейчас, погоди, — Борис оставил снасти, достал из кармана куртки сложенный вчетверо замызганный листок и откашлялся. — Слушай:
Нас канарейки возвращают в детство,
Где нежный птичий трёп,
Лопаты снежный скрёб,
И тесно-коммунальное соседство.
Сюда же присобачим рынок Птичий,
Народа простоту,
Природы красоту,
Во всем ее расхристанном величьи.
Таинственность Немецкого кладбища,
Лефортово, коньки,
И девочкам звонки…
Зовет, зовет к себе родное пепелище.
Привольно пойте, пташки канарейки,
Развеет всякий сор
Ваш звонкий разговор,
Душевности живые батарейки.
— Ой, сейчас прямо вот заплачу, — сказала Выхухоль. — Ну, канарейки-батарейки, рифма банальная, ну и что еще? Кладбище здесь при чем? Пепелище какое-то. А главное — этот вот черныш здесь при чем? — Она покосилась на птицу. Птица внимательно слушала разговор, наклонив голову.
— Это и есть Канарей, — сказал Борис.
— Опять канарей! Самец канарейки называется кенарь, да будет тебе известно.
— Ну, не знаю, в моих стихах он Канарей, — ответил упорный Борис.
— В каких стихах?
— Ну, я же ответ своему другу написал. Тоже в стихах. Как Пушкин — Вяземскому. Или наоборот? Вот, — Борис заторопился, достал из того же кармана еще более замызганный листок. — Сыровато, правда, пока:
Борис стеклил балкон.
Увидел: Канарей,
Присевши на перильца,
С сигаркою в зубах,
Все в зеркальце глядится
И глядится.
— Налей, — сказал Борис,
— Ну, раз ты Канарей — налей!
— Еще чего! — вдруг молвил Канарей.
— И здесь налей и там налей,
Вам лишь бы веселиться.
А я вообще-то пиццу заказал.
Ты понял, нет? Я пиццу жду!
Жду пиццу!
— Да, Боря, — сказала, помолчав, Выхухоль. — Сильно. Это когда ты балкон стеклил? В Москве еще, что ли? У нас бы лучше окно поменял. И как-то вот эта опять алкогольная тема выпячивается…
— Это поэтическое преувеличение, — сказал Борис. — А может, даже метафора. Нашей жизни.
— А что, хорошие стихи, Леонидыч! Молоток! — сказал Мотылек и похлопал крылышками. Он уже несколько минут стоял в дверном проеме, опершись о притолоку. — Браво-брависсимо! И знаешь, такие чувства поднимаются… Сразу пиццу хочется, аж слюнки потекли, тоненькую такую, прожаренную, хрусткую, с грибочками, сыром и ветчиной. — Он цыкнул зубом, втянул воздух. — Соседи опять шашлыки жарят! Слушай, давайте я в поселок за пиццей сгоняю, в самом деле!
— Разбежался, — сказала Выхухоль. — Еще куриные ножки не доедены, и гречки целая кастрюля пропадает. Грибы вон стоят жареные, их кто есть будет?
— Да надоели грибы, все грибы да грибы! В самом деле, может, закажем пиццу, по телефону? — предложил Мотылек. Подумал. — Нет, это ждать надо. Давай я мигом в Насадкино слетаю, на байке туда-сюда две минуты, возьму замороженную.
— Да ну, замороженную, желудок портить, — сказала Выхухоль. — Если брать, то свежую, с пылу, с жару! И чтобы с сыром обязательно.
— И пива возьми, — сказал Борис, — чешского. Только чешского чешского, а не нашего чешского.
— Понял, — сказал Мотылек, выбежал во двор, и скоро из-за угла раздался рев мотоцикла — недавно Сяо-цань купил «Харлей». По случаю и почти даром, как он сказал Выхухоли, не раскрывая подробностей. Красный «Харлей» был расписан золотыми иероглифами и драконами. Драконы были тоненькие, с мордами веселыми и немного хулиганистыми.
В наступившей тишине раздался стук: птица снова принялась долбить клювом по столу, впрочем, весьма деликатно, наклоняя голову и вопросительно глядя на Бориса.
— Брось стучать, — сказала Выхухоль, — свою клеенку дорогую заведи сначала, а потом стучи. Расстучался тут.
Птица переступила по столу, обходя грузила, поплавки и катушки с леской, подошла вплотную к Борису и снизу вверх уставилась ему в лицо.
— Ну да, — нехотя сказал Борис, подняв наконец голову от снастей. — Вот это и есть Канарей. Познакомься.
— Здравствуйте, — сказал Канарей.
— Ой, молчальник проснулся, — сказала Выхухоль. — И чего молчал, как утопленник?
— Я не был представлен, — ответил с достоинством Канарей.
— Ну, и откуда ты взялся такой… красивый?
Канарей взглянул на Бориса.
— Да тут, понимаешь, как все дело было… — начал Борис, не глядя на Выхухоль и продолжая привязывать крючок, узел никак не получался, то слишком коротким оказывался кончик, то обрывался. — Ох, черт, леска старая, хоть и японская, трухлявая уже, надо поменять, вчера такой карась сошел, оборвал… Ну, значит, дело было так…
— «Ну, ну», что нукаешь… Не тяни давай кота за хвост, — сказала Выхухоль. — Мне еще цветы поливать.
— Ну, я когда свои стихи написал, стал их читать. А ты спала.
— Я днем не сплю, — сказала Выхухоль.
— Это неважно. Я вышел в сад, читаю. Пробую на язык. Тихо вокруг. Деревья шелестят. А стихи мои, сам не ожидал…
— Это про пиццу?
— Про Канарея, — обиделся Борис. — И вот читаю и думаю, наверное, этому Канарею тоже одиноко, как и мне… Раз прилетел…
— Это тебе-то одиноко? — возмутилась Выхухоль. — А кто вчера набрался с Шелкопрядом и Гремучей змейкой? И потом ножи еще опять в бедную ель кидали, ты свой потерял, пристал к Шелкопряду, что это он потерял, а потом уже в темноте нацепили на кепки фонарики и пошли искать этот нож, ежевику поломали, хвост Змейке оттоптали, Барашку разбудили, напугали, сегодня целый день не показывается…
— Да не было этого, — вяло возразил Борис.
— Не было? А кто на спор потом плеваться стал, кто дальше плюнет, как дети малые? И Змейку еще втянули плеваться, утром уползла к себе чуть живая, хрипит, глаза не открываются, аспирином ее отпаивала…
— Извините, конечно, что прерываю, но речь, очевидно, все-таки идет обо мне, — вмешался Канарей.
— Ну да, — сказал Борис. — Ну, значит, я читаю про одиночество личности, лирическое, понятное дело, и герой лирический. И говорю, как бы обращаюсь к звездному небу: «Где ты там, одинокий Канарей?» Ну, вроде свое второе «я» ищу, потерянное эго… И тут мне голос с дерева: «Я здесь!» И на плечо ко мне крыльями — шш-шш-шасть. Я чуть не упал, конечно.
— Что-то не похож он на канарейку, — сказала с сомнением Выхухоль.
— Я не канарейка!
— Ну, на кенаря не похож! Он желтый должен быть, маленький, а ты синий какой-то. Черный даже, клювище вон какой отрастил.
— Я не кенарь. Я Канарей!
— Ну и чего ты у нас потерял, Канарей?
— Скорее, не потерял, скорее — могу обрести!
— Что ты хочешь обрести?
— Друга! Настоящего друга, — Канарей приподнялся на кончиках когтей и положил крыло на плечо Бориса. Борис вздрогнул и выронил почти привязанный крючок. — Это судьба, наверное, да, Борис? Ты ведь не зря про меня написал?
— Судьба, судьба! — Мотылек рысцой взбежал на веранду с тяжелой сумкой на плече. Из нее торчали коробки с пиццей, внутри звякали бутылки. — Юань-фэнь, как в Китае говорят. Судьба то есть. А вообще ты молоток, Канарей. Я пиццу имею в виду. Желания надо озвучивать! Кому с грибочками? Кому поострее? Давайте живенько за стол, пока горячая!
Выхухоль и Канарей.
Часть вторая. Идентификация Канарея
— Ну, рассказывай! Кто ты, что ты, откуда взялся? — сказала Выхухоль, обращаясь к Канарею. — Боря, морса мне еще налей, пожалуйста!
Все сидели за столом на кухне и с удовольствием ели пиццу.
Канарей не торопясь прожевал кусок пиццы с ветчиной, вытер клюв салфеткой, и, прокашлявшись, начал:
— Детство свое я помню смутно. Дружная большая семья… Тепло родного дома, гнезда, так сказать… Родители, братья, сестры, приживалки. Помню взгляд мамы над колыбелью, аромат пирога с вязигой, свежей булочки с корицей и кофе… Дворецкий, горничные в платьях с кружевными воротничками, насыщенный цветочными ароматами воздух в английском саду с аллеей высоких вязов… Силь ву пле, дорогой, подвинь мне менажницу… Гувернеры, репетиторы, езда на пони, катанье на лодках, музыкальные занятия, языки…
— Do you speak English? — быстро спросил Мотылек, пронзая Канарея взглядом.
— Конечно, говорю, и не только на английском языке, — Канарей выпрямил спину. — Однако не считаю возможным в присутствии третьих лиц использовать язык, который, не исключаю такой вероятности, может быть им незнаком.
— Ну, нам это все равно, у нас без церемоний, не в Китае, авось. Ты это, покороче давай, излагай, — сказал Мотылек и посмотрел на часы.
— Не перебивай, — сказала Выхухоль, с сочувствием глядя на Канарея.
— А потом вдруг истошная сирена, пожар и наводнение, паника, все бегут, какие-то люди в белых халатах, мрак завешенной клетки, едкий запах химикатов, горящие горелки… Помню крик: «Профессор, профессор, держите колбу!» Вспышка, взрыв. Подвалы, вонь, бомжи. Прилавок Измайловского рынка в снегу, торгую белорусским женским бельем. Холод. Трехрублевки грудой на столе. Распродажа вьетнамских кофточек на хлебозаводе на Проспекте Мира, китайских пуховок на ликеро-водочном заводе «Кристалл»… «Путана, путана, путана, ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана, огни отелей так заманчиво манят»… Соседка Клава в банном халате, спирт «Роял», ливерная колбаса, самопальные тренировочные костюмы «Адидас»… Облава… Снова люди в белых халатах и респираторах, опыты, боль под лопаткой, пересохший клюв, нечем дышать… — Канарей тяжело вздохнул.
Выхухоль заботливо подлила ему морса.
— Потом нас отправили куда-то по воздуху. Огромный ангар, контейнеры, ящики. Месяцы, кажется — годы в холоде, в темноте. Вспышки света… Мат и дикий ор грузчиков: «Опять груз перепутали! Ученые в… моченые… Теперь хрен разберешь! Кидай навалом!» Помню огромный синий квадрат на потолке, с белыми буквами «ПОЧТА РОССИИ», буквы «Ч» и «Т» отвалились, рядом такой же синий двухглавый орел… Фотографии на стенде «Передовики скоростной доставки»…
— А, вас Почтой России доставляли? Тогда понятно! — сказал Мотылек и опять посмотрел на часы.
— Прошло не знаю сколько времени в этом ангаре. Нас не кормили, сами все добывали, и еду, и питье. Там было всего полно, недоставленного… Отопления нет. Когти обморозил, брови всегда заиндевелые, а кончики перьев смотрите, до сих пор секутся… Наконец нас погрузили в самолет, взлетели, было опять жутко холодно, не хватало кислорода, вдруг открылось пространство и мы выпали вниз..
— Ну-у, Почта России, понятно, — протянул Мотылек.
— Камнем несусь вниз, теряю сознание. Прихожу в себя в диком непроглядном лесу, всюду мрак, лечу и бреду наугад, бьюсь о деревья, вижу светлую тень, плывущую через чащу, и от нее сияние…
— Мальчик, — сказал Мотылек и взглянул на Выхухль. Та пожала плечами.
— … Снова теряю сознание, оказываюсь вдруг на огромном поле, иду по нему из последних сил, весь мокрый, когти цепляются за кочки, трава заплетает ноги, вижу огонек вдали, забор, сад. Открываю наощупь калитку. Какое-то круглое белое облако надвигается на меня…
— Барашка, — пояснил Мотылек.
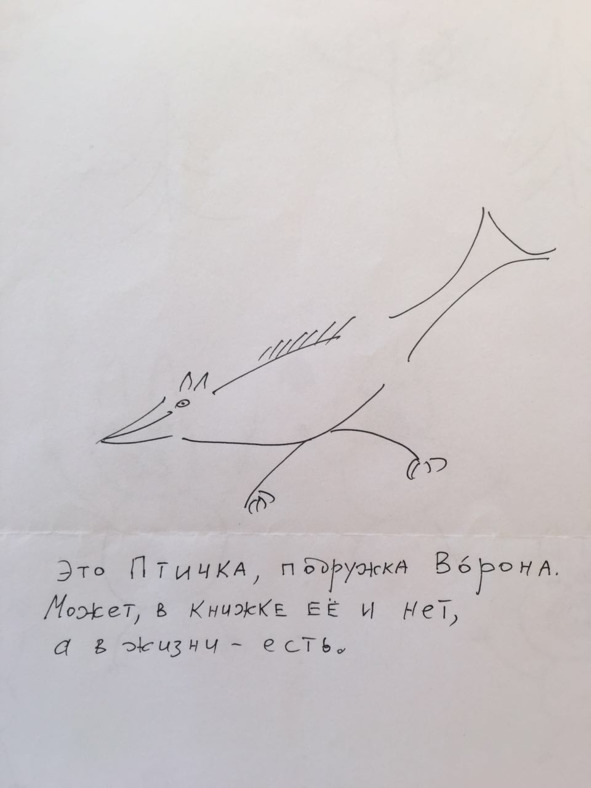
— Я с трудом взлетаю на ветку, замираю. И вдруг откуда-то из подзвездного пространства доносится чудесный, теплый, душевный голос, который обращен ко мне, зовет меня, притягивает. Канарей! Канарей! И я сразу понял — это я! Это меня зовут — Канарей. Здесь мое место!
— Добро пожаловать! — сказал Мотылек и похлопал Канарея по плечу.
Борис задумчиво молчал.
— Да-а, — сочувственно сказала Выхухоль. — Чего только на свете не бывает. Да ты ешь, ешь, Канарей.
В дверь постучали. В кухню вошел Рыжий Коля. Пригладил непокорную шевелюру, одернул ватник.
— Можно к вам? На огонек?
— Заходи, Николай. Как нога? Как ребра? Чайку? — предложила Выхухоль. — Пуэра, как обычно?
— О, спасибо! Только зрелого, не свежего, ладно? А то на ночь-то глядя, — сказал Коля и посмотрел на Канарея. — О, вижу, вороны у вас здесь завелись.
— Я не завелся, — сказал Канарей.
— Какие вороны? — спросила Выхухоль.
— Не вороны — ворон. Это разные виды птиц, — ответил Коля. — Ворон птица особая. — Наклонился к Канарею. — Первый раз так близко вижу. — Он протянул руку.
— Только без рук, прошу вас, — Канарей дернул крылом и отодвинулся.
— Извини, — сказал Коля. — Можно кипяточка еще долить? А то как-то крепко очень, аж вяжет. — Он отпил еще чая. — Боря, на запруде такой карась стал брать, грамммов по восемьсот.
— На что?
— На болтанку. Немного анисового масла капни, прикорми малость, у камышей встань, с нашей стороны.
— А ты поедешь завтра?
— Нет, мне Татьяне еще крышу доделывать…
— Коля, возьми пиццу, угощайся, — сказала Выхухоль.
— Да я сыт. Покурить бы. Мои кончились.
— Идемте на воздух! — предложил Мотылек.
Все, кроме Выхухоли, отправились на веранду.
Канарей остановился у двери, на которую Мотылек наклеил вырезанный из плотной красной с золотом бумаги огромный узорчатый иероглиф.
— А что это? — спросил Канарей.
— Это иероглиф «фу», что означает счастье, — сказал Борис.
— Хм! Весьма эротично… — сказал Канарей, не отрывая взгляд от иероглифа.
Мотылек удивленно вздернул брови.
— Вот видишь, он перевернут, потому что по-китайски «перевернуть» будет «дао», а «прийти» тоже будет «дао». Перевернули иероглиф — значит счастье приходит в дом, — Борис постарался сменить тему и заодно продемонстрировать глубокое знание китайской культуры.
— Все равно, э-э… эроти-ичненько, — протянул Канарей.
Борис поторопился толкнуть дверь, и все вышли на веранду.
Коля взял чашку с чаем, закурил предложенную Борисом сигарету.
Уютно горел красный китайский фонарь под карнизом, глухо шумел ветер в саду, донося аромат сирени.
— А сигары есть? — спросил Канарей.
— Может, тебе еще виски принести? — спросил Мотылек.
— Не отказался бы, — сказал Канарей, устраиваясь в кресле. Мечтательно задрал голову и посмотрел на звезды, потянулся. — «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом…» — затянул он.
Борис с Мотыльком переглянулись. Коля оставил чай, затушил сигарету и поспешил домой, застегивая на ходу ватник.
Выхухоль и Канарей.
Часть третья. Работа Канарея
— Что-то Канарея давно не видно, — заметила Выхухоль. Она наблюдала с веранды, как Борис косит траву под деревьями. Косилка то и дело застревала, цепляясь длинным шнуром за пеньки и пучки жесткой, вечно сухой несгибаемой травы.
— Что? — крикнул Борис.
— Канарей пропал! — крикнула Выхухоль.
Борис выключил косилку, подошел к веранде, сел на ступеньки.
— Может, по делам каким? Он вроде хотел на работу устроиться. Говорит, не хочу быть нахлебником… Гордый.
— И этот, шалопай наш, Мон Дье, утром встаю, его нет, вечером ложусь, его нет, — задумчиво сказала Выхухоль.
— Зато я здесь! — сказала Барашка. Она подошла к веранде, потерлась боком о столб навеса.
— Ну ты-то да. А ты что здесь делаешь? Почему пост оставила?
— Козел опять приставал. Боюсь, — сказала Барашка. — Как Наталья стадо гонит свое, он как выпялится, как пасть свою откроет, моргает мне, слюни текут, просто жуть какая-то!
— Ну, на козла мы управу найдем, не волнуйся, — успокоила ее Выхухоль. — Тебе Канарей ничего не говорил? Куда он, зачем?
— Ой, не говорил. Утром причесался, водой поплескался и улетел.
Прошел день.
К вечеру явился Канарей. Его привезла машина. Привезла, высадила, гуднула пару раз и уехала.
Канарей прошел под окнами.
— Явился, — сказала Выхухоль, — не запылился. — Она пошла на веранду встречать. — Здравствуйте, ваше высочество! Где изволили пребывать?
— Ой! — вскрикнула Барашка. Она так и стояла целый день у веранды. — Какой элегантный!
На Канарее были галстук-бабочка и кремовая рубашка, плечи обтягивал кургузый желтый, в коричневую клетку пиджачок, едва доходящий до талии. Над клювом золотились очки в тонкой оправе.
— Позвольте представиться, — поклонился Канарей. — Обозреватель интернет-ресурса «Винные чары» дегустатор Канарей Ворон. Ваши поэтические строки, дорогой Борис, которыми вы одарили нас, оказались пророческими, как там у вас: «Ну, раз ты Канарей — налей!» Изящная, изящнейшая аллитерация и неожиданная острая рифма… Как там у Бальмонта? «Улыбки, шепоты и ласки, шуршанье, шелест, шорох, травы»…
— Уй ты! — обрадовалась Барашка. — Это про меня! Шорох! Шебуршанье! В травах… Уй-уй… И Канарей наш красавчик, какой ты теперь м-о-одный! Дегустатор! Это прям, это прям… Нет слов. Бе-е!
— Дегустатор? Винный? — удивился Борис. — В один день?
— Да, еще и критик. А еще — член сигарного клуба, — Канарей достал из кожаного портмоне визитную карточку с золотым обрезом.
— И за какие такие заслуги? — спросила Выхухоль.
— Внешность. Благородство. Знание. Вкус. — Канарей склонил голову. — К вашим услугам.
Борис потянулся за сигаретами на столе. Канарей достал из наплечной сумки сигарную коробку, выковырял сигару, обрезал кончик гильотиной.
— Рекомендую, кубинские. Призовые! — сказал он. Щелкнул серебристой пьезо-зажигалкой с двуми соплами, вырвавшийся синий свистящий язычок пламени зазолотил огнем срез сигары.
Борис с опаской взял, зажал пальцами покрепче, затянулся и закашлялся.
— Дерет… Кх! Крепкая! — сказал он.
— Не надо торопиться, — заботливо посоветовал Канарей. — Рот дымом полощите, и достаточно… Я удачно попал на интервью. Эти «Винные чары» как раз команду набирали на соревнование по курению сигар, в «Балчуге». Нужен был еще один член команды. Я подошел по всем параметрам. И сразу в бой!.. С бала, так сказать, на корабль…
— Это что за соревнование такое? — спросила Выхухоль. — Кто быстрее выкурит? Как паровоз?
— Наоборот, — сказал Канарей. — Кто дольше будет курить, у кого пепел дольше продержится и не упадет.
— И что, ты победил?
— Да, конечно. Полтора часа. Клубный рекорд. Пепел самый длинный, двенадцать сантиметров! — Он обвел всех горделивым взглядом.
— Где же ты так научился? — спросила Выхухоль.
— Мы, когда в ангарах Почты России сидели, коротали, так сказать, месяцы и годы, только так время и убивали. Там же в контейнерах на раздолбанных паллетах чего только не было: и еда, и вино, и сигары, и виски, всего навалом, все пропадает… Читали еще много, там масса книг…
— Ой, не знаю, не знаю, профессия какая-то… Для здоровья вредная, — сказала Выхухоль. — И как же вы там вино оцениваете?
— В обычном порядке. Год урожая, с какого склона, оттенки разные. Послевкусие. Критерии вполне стандартные. Для знатоков, конечно…
— Погоди-ка, — сказал Борис. Он сбегал к себе в комнату и вернулся с бутылкой вина, пряча ее за спиной. — Только ты на нее не смотри, Канарей, глаза закрой! — Откупорил, проткнув карандашом пробку в горлышко. Плеснул вина в чайную чашку. — Вот оцени, это мне Лида подарила, а ей подружка Лиза из Женевы прислала. Французское! — Он подмигнул Выхухоли.
— А что Лиза там делает? — спросила Выхухоль.
— Задание родины, — ответил Борис.
— А, ясно! Mission impossible? Миссия невыполнима? В Женеве без нас никак, — Мотылек появился, как всегда, неожиданно. Вид у него был усталый, запыленный. — О, мистер Канарей! Какой импозантный вид, бабочка! Очки!.. Ports, наверное?
— Женева… Женевское озеро, набережная, аккуратные и воспитанные люди, — не слушая Мотылька, задумчиво сказал Канарей. — Надо наведаться. Борис, пусть Лидочка даст мне мейл Лизочки, хорошо?
Он взял вино, посмотрел на цвет, сунул клюв в стакан, понюхал, отпил глоточек. Посмаковал. Выплюнул кусочки пробки.
— Борис, ну, надо же чтобы немного хотя бы подышало! И когда мы приличные винные бокалы наконец заведем? Ладно… Итак. Вино не самое изысканное, но совсем, совсем неплохое. Уверенный середняк. Э-э… Позапрошлый год. Южная Рона. Мюскат де бом де вениз. Искреннее, полнотелое вино, с нотками подкопченной вишни, выросшей на южном склоне известкового холма, рядом с сосной — чувствуется легкий привкус зеленых сосновых шишек, стареющего, подверженного гниению, но еще не истлевшего, влажного мха у корней сосны, возле черного горелого дупла, и, на контрасте — скорее всего, там где-то рядом лесорубы жгли сухостой — ощущаю волну терпкого трудового пота, с игривой кислинкой, наверное, ели много твердого сыра, и — легкий как бы дымок, как бы опиумная гарь березовых веток, смешанная с ароматами сухих трав Прованса, и, наконец, затаенный землянистый оттенок с ярко выраженным маслянистым грибным душком: лоза, вероятно, вобрала густой, тягучий, терпкий сок растущих под ней трюфелей…
— Красиво излагает, собака! — восхитился Шелкопряд. Он скинул ветровку, перехватил у Бориса бутылку, отхлебнул из горлышка. — Так, что у нас тут? — Повернул этикеткой к свету. — О! Вино первой категории «Весеннее чудо». Дмитровский винный завод… Вот гады, могут же сделать, когда захотят, верно, Канарей?..
— Скорее всего, сегодня я забил свои рецепторы, — не смущаясь ответил Канарей. — Восемь сортов вина, потом виски, сигары. Устал.
— А деньги-то хоть платят? — спросила Выхухоль.
— Да, конечно! Конечно! Уже перевели на карту аванс. И вино бесплатно, от производителей. Я там выгрузил у ворот два ящика, надо сходить принести. И еще коробка с коньяком.
— А там еще у вас вакансии есть? — спросил Борис.
Выхухоль и зеркало для Барашки
— Борис Леонидыч, — сказала Барашка, — а, Борис Леонидыч! Вы не заняты?
Борис лежал в сарае на жесткой и скрипучей дощатой кровати и думал о вечном. Над деревней и полем царила тишина. В углу по паутине деловито ползал паучок. Солнце пробивалось в щели и золотило пыль.
— Нет, нет, — сказал Борис. — Заходи.
Барашка просунула мордочку в сарай.
— Ой, как у вас тут уютно, — сказала она, как будто в первый раз все увидела. — Борис Леонидыч, можно вас попросить?
— Можно, — благодушно ответил Борис, наблюдая за пауком, который затаился на краю своей сети.
— Повесьте мне зеркало, пожалуйста!
— Зеркало? Какое зеркало? Зачем?
— Ну, пожалуйста! — Барашка от волнения завертела головой. — Ну, пожалуйста!
— А где я его возьму? — спросил Борис. — И зачем, главное?
— Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!
Борис поднялся с кровати, вышел из сарая, щурясь от солнца, присел на скамью. Барашка смотрела на него во все глаза.
— В принципе, на чердаке, в самом углу, стоит старое зеркало, из шкафа. Там оно все равно ни к чему, — размышлял Борис.
— Ой, ой! А большое?
— Да, приличное. Почти в рост, в раме. А тебе когда надо?
— Сейчас, сейчас надо! Ой, сердце разорвется сейчас! Ой, я не могу! — Барашка закружилась на месте.
Борис пошел в дом, поднялся на чердак. Отодвинул хлам в углу: старые резные панели, пыльные картины на подрамниках, этюды, наброски, в основном обнаженной натуры, банки с кистями, тряпки в засохших красках, наконец докопался до зеркала. Достал, поставил к стене, протер тряпкой.
Взял наискосок за углы, крякнул и понес вниз по лестнице. Вышел из дома.
— И куда несем? — раздался голос Выхухоли. Она вернулась от соседки Татьяны-лоскутницы, с которой любила пить кофе и обсуждать деревенские новости.
— Барашке. Попросила. — Борис поставил зеркало на землю.
— Девочка! — вздохнула Выхухоль. — Ладно, давай уж, неси.
Борис отнес зеркало к калитке, прислонил к березе.
— Куда ставить-то? — спросил он. — Здесь?
— Да, да! — Барашка вертелась у ног, заглядывала в зеркало. — Здесь.
— Погоди! — Борис сходил в сарай, принес обтесанные колышки, приготовленные для походной палатки, вогнал в землю, к ним сверху прибил подставку от старого рукомойника, валявшуюся в сарае, поставил зеркало.
— Ой! Ой! Спасибо!.. Ой, какая я красивая! Все обзавидуются! — радостно волновалась Барашка, глядя на свое отражение. — А Зойка так вообще лопнет.
— Какая Зойка? — рассеянно спросил Борис, закрепляя зеркало.
— Коза рыжая! Такая противная! Идет мимо и — ме-меее! Ме-еее! Наглая такая! Ненавидит меня!
— С чего бы это ей тебя ненавидеть? — Борис отступил на два шага, полюбовался своей работой.
— Да завидует, и всё! — Барашка подошла к зеркалу, прищурилась, повернулась одним боком, другим, повертелась на месте.
— А чему завидует?
— Как чему! — удивилась Барашка. — Ну, тому, тому, что я… я… — Барашка подыскивала подходящее слово, — …благополучная. Да, вот, благополучная! У меня все есть. У меня есть дом, друзья, достаток. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
— Тогда конечно, — согласился Борис. — Ну, я пошел?
— Борис Леонидыч, Борис Леонидыч!
— Что еще? Извини, у меня прикормка для рыбалки уже давно стоит, боюсь, перепреет.
— Борис Леонидыч, а прибейте мне еще шведскую стенку к сараю.
— Шведскую стенку? К сараю? Да зачем тебе шведская стенка?
— Хочется очень. Очень-очень. Вот сейчас увидела зеркало и подумала, хорошо бы еще шведскую стенку! Стеночку такую с планочками! С кругленькими такими, гладенькими.
— Слушай, — сказал Борис. — Ну, зеркало ладно, понятное дело. И Выхухоль одобрила. А вот как мы ей шведскую стенку объясним? — Он повернулся к дому.
— Что-нибудь придумаем! Очень надо! — Барашка шла за Борисом. — Очень-очень! Ну Борис Леонидыч, вы же такой хороший, такой добрый!
— Ты вот что. Ты сначала подумай, для чего тебе стенка, а потом поговорим. — Борис ушел в дом.
Солнце опустилось к лесу, когда к веранде подбежала Барашка и закричала:
— Придумала, придумала!
— Что ты придумала? — спросил Борис. Он натягивал резиновые сапоги, собираясь на рыбалку. Обещали дождь, с запада надвигались серые тучи. Парило.
— Для растяжки! Для растяжки спины! У меня же этот… Остео… хондроз. Наверное. Да наверняка —
остеохондроз! Буду тянуться! Для позвонков! Для позвоночков.
— Ладно, — сказал Борис. — Подумаем. Посоветуемся, так сказать, с товарищами.
— Я, я твой товарищ! — воскликнула Барашка. — Со мной советуйся.
— А где я ее возьму, стенку твою? — спросил Борис.
— Я шерсть дам, продашь и купишь, окей?
«Вот морока», — подумал Борис. А вслух сказал:
— Ладно, я тебе сам сделаю. Там делов-то.
— Только понадежнее, — попросила Барашка. — И чтобы планочки такие круглые-круглые, ладно? Гладенькие такие, отполированные!
— Ладно, будут тебе отполированные, — пообещал Борис, подхватил удочки и поспешил за калитку, в поле, а там направо — и к прудам. «Успеть бы к вечернему клеву, — думал он. — И до дождя».
— И еще для сушки организма стеночка моя нужна! — крикнула ему вслед Барашка. — На стенке буду его сушить!
Выхухоль и битва у калитки
Прибежала взволнованная Барашка.
— Там… Опять… Этот, — выпалила она, запыхавшись.
— Кто? — спросил Борис.
Все вместе сидели на веранде, за круглым столом, пили чай и хрустели сушками с маком.
— Ну, этот, козел Пашка, и с ним его приятели, противные такие, встали, пялятся… Я так боюсь! — сказала Барашка.
— Ну, пойдем посмотрим, — сказал Борис и не торопясь отправился через сад. В поле у калитки торчал наглый козел Паша. Он жевал жевательную резинку, которую отбирал у деревенских детей.
Чуть в сторонке за ним, на полевой дороге, стояли еще три козла и тоже что-то пережевывали.
— Чего надо? — спросил Борис.
Козел молчал и смотрел вглубь сада, высматривая Барашку.
— Паша, я тебе уже говорил, не приставай к Барашке. Ты не понял?
— Да все он понял! — сказал подоспевший Мотылек. — Дай-ка я ему врежу.
Козел наклонил голову и вскопытил землю. Жевачка тянулась изо рта белесым сталактитом. Козел отошел на несколько шагов назад, разбежался и с размаха врезался рогами в калитку.
— Ну, ты и козел, Паша! — сказал Борис. — Иди лучше к своей Зойке.
Козел снова разбежался и ударил. Изгородь звенела.
— Сейчас я ему рога-то пообломаю! — сказал Мотылек. — Ладонью Будды. Помнишь, я тебе показывал? — спросил он Бориса. — В фильме «Гунфу»…
Не успел Борис ответить, как Мотылек приоткрыл калитку и выскочил наружу.
— Куда ты? — только и успел крикнуть Борис.
Мотылек встал во весь рост, вытянул руку и раскрыл ладонь навстречу козлу.
— Ладонь Будды! — крикнул он звонко и счастливо. — Смотри, Леонидыч, сейчас я его в землю впечатаю!
Козел со всего маху врезался в него. Мотылька бросило вверх, взметнулись крылья, болтанулись ручки и ножки в домашних тапках, тапки слетели и нырнули в полевую траву, а тело, описав дугу, шлепнулось под березами.
— Гай-сы! — глухо промычал Мотылек, уткнувшись носом в коричневые березовые корни. — Ван-ба-дань[12]!
— Ничего не сломал? Где болит? — Борис помог ему подняться, уложил на лавку, снял кепку и подложил под голову.
— Ох, ох, мама моя родная… Это я просто сегодня не медитировал, а так бы я его… — Мотылек скривился и попытался вытянуть ножки с зачерненными землей пятками.
Борис прощупал худые ребра, позвоночник, поясницу Мотылька, приподнял крылышки, надавил здесь, там.
— Ой, ой, Леонидыч, блин, ты чего делаешь? Больно-о! Больно же! Как иголкой! — застонал Мотылек.
— Скорее всего, нерв защемило, поясничный, — сказал Борис. — Надо отлежаться. Ногу приподними!
— Ой, не могу, стреляет, током бьет!
— Тогда так и лежи, не вставай.
— Да, как же, не вставай… Мне завтра в Москву с утра, у меня встреча назначена… — Шелкопряд страдальчески скривился, натянул кепку на голову и закрыл глаза.
Козлы в поле зловредно смеялись, тряся бородами. Паша присоединился к приятелям, все встали кучкой и переговаривались, наслаждались победой.
Борис отошел от Мотылька, встал напротив зеркала у березы, в которое любила смотреться Барашка.
— Здесь нужен научный подход, — задумчиво сказал он.
— Здесь нужно ударить с тыла, — отозвался из сада Канарей.
Он переоделся в защитного цвета шорты и полувоенную рубашку с кармашками. У ног стоял пакет с петардами, оставшимися после нового года.
— Я зайду сзади, будьте готовы к атаке, — Канарей пошел к боковой изгороди, от взглядов с поля его скрывали сарай и кусты ежевики.
— Научный подход нужен, — бормотал Борис, снимая с подставки зеркало и поднося его к калитке. — Подобное уничтожается подобным.
— Ты что задумал? — спросила Выхухоль. Она уже некоторое время сидела на краю грядки в тени слив и с интересом наблюдала за происходящим. Барашка пряталась за ее спиной.
— Козел увидит себя в зеркале, подумает, что это соперник, и вступит в бой, — объяснил Борис.
— А зеркало не жалко? — спросила Выхухоль.
Борис не успел ответить, потому что изгородь потряс страшный удар. Это козел Паша пытался атаковать соперника в зеркале. Рога пробили толстую проволоку, один рог застрял, и Паша мотал головой, пытаясь высвободиться. Изгородь ходила ходуном.
Наконец он отцепился, тупо посмотрел на зеркало и пошел к своим.
— Боря, так мы скоро без забора останемся. Поставь зеркало в сторонку, — сказала Выхухоль. — Надо же, дурак какой этот Паша. В самом деле козел… Ты вот что, Борис, встань возле калитки и приготовь ногу.
— Какую ногу? — спросил Борис.
— Свою, свою ногу.
Козлы между тем насторожились. Сделав полукруг по полю, к ним со стороны леса с видом простого деревенского паренька приближался Канарей. Глядя как бы в сторону и насвистывая «Мурку», он шел блатной походочкой, как он ее себе представлял: руки в карманах, чуть сгорбившись и поводя плечами в такт шагам, — а в высокой траве за ним невидимо волочился привязанный к ноге, чуть повыше когтей, пакет с петардами. Из пакета торчал дымящийся шнур.
— Здорово, пацаны! Закурить не найдется? — спросил Канарей, приближаясь к гоп-компании.
— Блин, что же он очки-то не снял! — тревожно воскликнул Борис.
Козлы встали в ряд, рогами к Канарею. Канарей ускорил шаг.
— Так как насчет закурить? — повторил он.
И тут рвануло. Облако дыма скрыло картину нежданной встречи.
— Время не рассчитал, о-о-о, — Мотылек со стоном приподнялся на скамье. — Канарей, Канарей… Эх, каким он парнем был!.. Прощай, Канарей! Мы тебя не забудем. Ты был верным другом. Сколько вина нам натащил… Спасибо тебе за все! О, Амитофо[13]!
Борис напряженно вглядывался в стену дыма и копоти.
Барашка зарыдала навзрыд, уткнувшись в спину Выхухоли.
— Типун тебе на язык! — сердито сказала Выхухоль. — Канарей живучий, его так просто не убьешь. Раз Почта России его не убила.
— Это верно. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, — сказал Мотылек и заохал: — Только не меня… Сил никаких нет. Ой, спина, спина… Мне еще ключицу, наверное, перебило.
— Терпи пока, не шевелись, погоди малость, мы с тобой потом разберемся, — Выхухоль смотрела за калитку.
Дым постепенно рассеивался и обнажал поле боя. На траву, кружась в воздухе, опускались черные перья и обожженные травинки. Пахло порохом и гарью. Оглушенные, закопченные и обозленные козлы снова сгрудились.
А козел Паша, не сводя глаз с Барашки, готовился к новой атаке. Отошел подальше для разбега и напрягся.
— Боря, — сказала Выхухоль, подходя к калитке, — готовь ногу.
Паша стремглав понесся к забору, опустив рога. Когда до изгороди оставалось меньше метра, Выхухоль ударом ноги распахнула калитку.
— Боря, нога!
Борис выставил вперед тяжелую, проверенную, надежную, закаленную походами, видавшую всякие виды ногу знатока родного края, краеведа, ихтиолога, грибника и рыболова, и козел, ворвавшись без сопротивления внутрь, споткнулся на ней, рухнул как подкошенный на колени и заскользил быстрым катером по скользкой траве вперед, прямо на стену сарая. Тот был построен в добрые старые времена прочно, на совесть, из толстых неошкуренных сосновых бревен.
Удар потряс сарай. Шведскую стенку сорвало, она отлетела на грядки.
Осыпалась сосновая кора, со стен слетели подвешенные лейки, тяпки и грабли.
На елке истерически закричали сороки.
Козел Паша без чувств сполз на землю. Рога обломились, в лоб навеки впечаталась желтая и веселая сосновая шелуха.
Мотылек с трудом слез с лавки, подошел к павшему, пнул в бок, скривился и застонал от боли. Козел приоткрыл мутные глаза.
— Ну, говорил я тебе, что рога обломаю? — Шелкопряд хотел еще раз пнуть поверженного врага, но Выхухоль отодвинула его в сторону.
— Побежденных не трогаем. Всё, всё! Брейк. Успокоились! — Выхухоль поставила козла на ноги. Грудь и передние ноги были зеленые от травы. Козел припахивал. Его шатало. Из разбитого вспухшего носа сочилась кровь. Выхухоль сорвала пучок травы, вытерла. — Иди отсюда. И запомни, еще раз задержишься у калитки, без хвоста уйдешь. А может, и без чего-то еще. Понял?
Козел кивнул, и его снова шатнуло к земле. Со второго раза пролез в калитку и направился к приятелям. Те стояли, понурив косматые головы, и делали вид, что щиплют траву, и вообще они здесь, в натуре, не при делах. Подождали Пашу и медленно пошли прочь по пыльной дороге, изредка оглядываясь.
— И еще, — крикнула Выхухоль вслед печальной процессии. — Хватит у детей жевачку отбирать! У вас вон коры осиновой полон лес, ее и жуйте.
— А где наш Канарей? — плачущим голосом спросила Барашка.
— Да-а… Отпел свое наш Канарей. Э-хе-хе… Амитофо! — Мотылек сел на лавке, снял кепку и уже собирался было перекреститься на закат, но его прервал слабый голос за калиткой:
— Эй! Д-друзья мои! П-помогите. Я сам не д-дойду.
Из вороха черной сгоревшей травы поднимался Канарей, хвост и крылья подпалены, левый бок и грудь частично облысели, а густые, всегда тщательно причесанные, широкие смолистые брови, чуть приподнятые в стороны (соболиные, как говаривал Борис), предмет особой заботы Канарея, начисто отсутствовали. Клюв отливал желтым пороховым налетом и не полностью закрывался. Рубашка висела клочьями, от шорт остался один поясок с брелоком для ключей.
— Оч-ки жалко, — сказал запинаясь Канарей, когда его под крылья вели домой. — Т-только к-купил. Н-новый т-тренд…
— Другие купим, еще трендистей, не переживай, — пообещал Мотылек. Он хромал, ступал осторожно, опираясь на палку, но от помощи отказался.
— Хотелось бы п-пенсне. Т-титановое, — попросил Канарей. — Я в-видел на С-садовой, у Лепса.
— Будет тебе титановое.
— Вы такие друзья, такие друзья, спасибо, спасибо! Такие защитники мои! — Барашка путалась под ногами и все пыталась подставить бок и подпереть Канарея. — Я вам такой шерсти дам, самой лучшей, постельки себе сделаете, сносу не будет!
— Хе-хе-хе… Мне бы теперь на поясницу поясок в самый раз, — сказал Мотылек.
— Лучше из собачьей шерсти, — сказала Выхухоль. — У меня где-то есть, со служебных собак в свое время состригли, свяжем тебе пояс. Вот Борис у нас мастер вязать.
— А что я-то? — спросил Борис. — Я только сети вяжу. — Он прихрамывал, стараясь не нагружать ушибленную ногу.
Быстро стемнело, спустился вечер, потянул холодный ветерок.
— Борис Леонидыч, надо бы отметить победу, — предложил Шелкопряд, когда все собрались на веранде. Канарею наложили марлевые повязки, смазали раны и ожоги китайской целебной, хотя и очень пахучей, белесой мазью, напоили брусничным морсом и устроили тут же, на широкой лавке, укрыв лоскутным покрывалом.
— Еще чего, размечтались, — сказала Выхухоль. — Вам лишь бы повод найти. Вон чай лучше пейте.
— Ну, за победу-то можно? — вопросительно посмотрел на нее Борис.
— Ой, можно, можно! — Подошедшая из сада Барашка встала передними копытцами на крыльцо. Хвостик дрожал от радости. — И я немного выпью, шампанского.
— Откуда у нас шампанское? — спросила Выхухоль.
— Поищем, — сказал Мотылек и заковылял к себе наверх, приволакивая ножку и с трудом заводя ее на ступени крутой лестницы.
Вернулся с бутылкой «Вдовы Клико» и стопкой бумажных стаканчиков. Хлопнула пробка. Налили всем.
— Теплое. Так и знал, — Канарей поморщился и повертел в когтях стаканчик. — Ну, и когда мы, друзья мои дорогие, купим наконец фужеры для шампанского? Давайте все-таки как полагается, обзаведемся, и для вина, кстати, тоже разные бокалы нужны, я скажу, какие…
— Выздоравливает! — обрадовалась Выхухоль и подбила ему повыше подушку под головой.
— Ну что, за победу? — предложил Мотылек. Глухо зачокали стаканчики.
— За нашу победу! — крикнула Барашка и засмеялась так, что чуть не упала с крыльца. Но устояла и выпила все до донышка.
Выхухоль и хорошие и плохие дети
Борис копал подпол, а Выхухоль наблюдала.
— Зачем нам этот подпол? — ворчал Борис. — Холодильник же есть!
— Копай, копай! Не хватает нам твоего холодильника, — ответила Выхухоль. — А куда банки с огурцами-помидорами ставить? Грибочки твои любимые соленые? Сам же первый зимой спросишь.
— Грунт тяжелый, — Борис выкинул наверх еще одну лопату тяжелой, холодной и липкой глины, — может, хватит уже? И так уже глубоко! — У Бориса пропадала вечерняя рыбалка.
— Давай, Борис, немного совсем осталось! — У Выхухоли рыбалка сегодня не пропадала. Она у нее вообще никогда не пропадала. Ни утренняя, ни вечерняя.
К ним заглянула соседка Татьяна.
— Все трудитесь, Борис Леонидыч! Замучились небось? Не жалеют вас здесь!
Борис с трудом разогнулся, высунулся из ямы и как мог изобразил улыбку, показывающую, что он бодр и весел.
Улыбка вышла неискренняя, можно даже сказать, почти что злобная.
— Жалеем, жалеем! В нерабочее время, — сказала Выхухоль. — Кстати, что за шум на той стороне деревни ночью был, не слыхала?
— Так в сад залезли ребята васнецовские, Иваныч вышел, так эти вместо того, чтобы сбежать, глаз ему подбили.
— Митька опять небось?
— А кто ж еще? Пороть его некому… Я чего зашла, нитки вискозные может есть? Мне срочно заказ сдавать, а закончились.
Выхухоль принесла нитки, Татьяна ушла.
Борис спросил:
— Удивительное дело: вот откуда берутся поганцы? И наоборот — откуда хорошие берутся?
— О, вопрос так вопрос! — сказала Выхухоль. — Знаешь, один умный человек так сказал: чтобы вырос хороший, добрый человек, надо, чтобы в семье был хотя бы один хороший взрослый, папа или мама, бабушка или дедушка.
— А если нет такого? А человек хороший все равно вырос?
— Значит, просто не заметили этого хорошего взрослого, а он все равно был рядом. Может, не родственник, а сосед. Или соседка. Ты копай давай, копай, не отвлекайся.
— Да копаю я, копаю, — Борис снова взялся за лопату. Рыбалка все равно уже пропала, а огурчики и грибочки на зимнем столе грели душу.
Выхухоль и рассказы у костра.
Рассказ Бориса
Барашка очень любила рассказы у костра.
Костер не очень любила, от него искры летели, а вот рассказы у костра просто обожала.
Костер разводили на открытом месте между огородом и сараем. Там Борис устроил кострище. Он первым и приходил, разводил костер, смотрел, как разгорается.
Барашка сначала побаивалась огня, жалась в сторонке, а потом осмелела и стала приходить к костру. Для нее Борис ставил защиту — загородку из свежих веток, все равно ведь кусты надо было прореживать. Искры вязли в зеленых листьях, а если и перемахивали через загородку, то на лету успевали погаснуть. А если не успевали, Барашка уворачивалась. А если не уворачивалась, на другой день просила Канарея выщипать подпаленные шерстинки. Ему клювом было сподручно. Сподклювно то есть.
— Борис Леонидыч, расскажи еще раз про горчицу, — попросила Барашка.
— Так рассказывал уже сто раз, — отнекивался для вида Борис.
— Ой, а мне все равно интересно, как в первый раз! Ну пожалуйста! Такой геройский рассказ, я его обожаю ди-ико! Сто раз могу слушать!
— Ну ладно, слушай… Дело было так. Судьба и Октябрьский райвоенкомат забросили меня в Дальневосточный край, в приамурскую тайгу, — с расстановкой, как обычно, начинал Борис, прикуривая от тлеющей ветки. — Стояла холодная зима 1969 года. Мы жили в палатке. Слово «жили» не очень подходит к тому процессу борьбы с холодом и голодом, в котором мы постоянно пребывали. Врезалось в память: на больших зеленых ящиках, из которых мы доставали наше жилье, стояла маркировка «Изделие Ю-87».
— Ой! — Барашка всегда восклицала в этом месте.
— Да, а запомнил, собственно, потому, что совпадало с названием знаменитого немецкого пикирующего бомбардировщика, — Борис говорил как по писаному. История ему самому нравилась, она была обкатана на слушателях, любовно отшлифована, он знал ее наизусть и только иногда украшал новыми деталями. — Палатка была из двойного брезента, метров тридцати в длину и, конечно, не предназначалась для жилья, а должна была служить убежищем для мастерских, наверное, но у нас тут находилось всё. Койки в два яруса, на которых мы спали, столы для еды, оружейка и пункт связи.
— Что там про связь? Короткие волны? — спросил, появляясь из темноты, Мотылек. Он всегда появлялся в этом месте рассказа и всегда спрашивал про связь. Как-то его этот вопрос волновал.
— Садись, садись, не перебивай! — как всегда, попросила Барашка.
Борис же неизменно в этом месте делал паузу и доставал из внутреннего нагрудного кармана куртки серебряную фляжку с выгравированным охотником, целящимся из ружья в летящую утку, отпивал полглоточка. И как всегда, протягивал фляжку с «Тверской горькой» Мотыльку. Они знали, что Выхухоль вряд ли появится у костра, предпочитая теплый дом, и могли тихо расслабиться на воле. В меру, конечно.
— Хм. Да. Так вот. Отапливалось все это дело двумя железными печками. Полом служила родимая земля Амурской области со своей знаменитой вечной мерзлотой, которую мы и защищали. Да. Чтобы кто-нибудь не растопил…
— Ха-ха-ха, какой ты юморной, Борис! — смеялась Барашка. Она всегда хохотала в этом месте. Про запас, потому что дальше шел, как она любила говорить подружкам, самый драматизм.
— Но через какое-то время от такой жизни все мы, кажется, начали сходить с ума, — Борис посмотрел на звезды, отмахнулся от назойливо и бессердечно наседавшего комара и грустно усмехнулся. — Тут и начались какие-то дурацкие пари алиментарного, это по-научному, а проще — пищевого характера.
— Какой Борис умный, просто жуть, ученый-такой-ученый! — восхитилась Барашка. — Правда же, правда?
Мотылек, отпивая из фляжки, согласно кивал головой.
— Помню, здоровый красномордый парень из Рязани по фамилии Кудряшов поспорил, что съест полкило сливочного масла. Да. Сломался он где-то на подходе к четыремстам и ужасно потом страдал и мучался. Было что-то еще с хлебом и водой, но результаты помню смутно. Я вдруг почувствовал, что меня все это раздражает, и неожиданно для самого себя сказал: «А спорим, я съем кружку горчицы?» «Не запивая?» «Не запивая!» «За сколько?» «За 10 минут.» «Нет, не съешь!»
— Ой-ой-ой-ой! — запищала Барашка. Она всегда в этом месте пищала и трясла кудряшками. Даже Мотылек придвинулся поближе к Борису, подставляя плечо.
— «Тащите!», говорю! — Голос Бориса в этом месте становился твердым, почти стальным. — У нас был ящик горчичного порошка, мы смывали им жир с алюминиевых мисок, из которых «принимали пищу». Так это называется в армии, — Борис усмехнулся. — И вот тут я малость струхнул…
— Ты такой честный, Борис, такой откровенный! — восхитилась Барашка. — Я девочкам рассказываю, они прямо все в восторге, так и падают все…
— Но я сообразил, — продолжил с удовольствием Борис, пригладив усы и оглядев слушателей, — что свежеприготовленная горчица не обладает той степенью жгучести, которой все боятся. Кроме того, я предложил заварить ее теплой водой, припоминая, что при этом гибнет часть терпентинов или сапонинов, которые и обеспечивают эту самую жгучесть. Народ вокруг меня просто этого не знал, и мое предложение о горячей воде вызвало восхищенный ропот. Я раньше оговоренного срока, на глазах изумленной публики сожрал содержимое солдатской 400-миллиметровой… э-э, миллилитровой кружки. И тут же рванул на воздух, чтобы избавиться от желудочного содержимого.
— Ой, так стра-ашно! — Барашка прикрыла глаза и привалилась к загородке. — Жуть просто! Сейчас про снег будет!
— Помню, как дымился снег, принимая бурое содержимое моего желудка. Я все же опасался, что меня замучает гастрит, но как-то бог миловал, хотя поначалу и болело. Даже в госпиталь загремел. А череда нелепых пари на этом пресеклась. Да и не до того скоро стало. Назревал Даманский, пограничный конфликт с китайцами.
— Ой, — сказала Барашка со слезами в голосе. — Все время в этом месте плачу. Ты такой герой, Борис, такой герой!
— А дальше, Леонидыч, — попросил Мотылек, вороша угли в костре. — Как ты там в госпитале с медсестрой.
— Ну, чего там, дело давнее, — ответил Борис, кивая головой на загородку. Мотылек понимающе подмигнул.
Они выпили еще по глоточку.
— А мне можно присоединиться? — раздалось с дерева.
— А, Канарей, добро пожаловать.
Канарей спорхнул к костру, развел крылья, греясь. От него пахло сигарами, виски и едва уловимо — духами с жасминовым ароматом.
— Будешь? — Мотылек протянул ему фляжку.
— Благодарю, — ответил Канарей. — Вынужден отказаться, на сегодня мне уже достаточно. Наработался.
— Мне бы такую работу, — сказал Мотылек.
Выхухоль и рассказы у костра.
Рассказ Мотылька
— Ну, а теперь я, — сказал Мотылек. — Честно скажу, я рос в семье полководца, нас было семеро братьев. Мать оставалась дома, во дворце, а мы шли воевать.
— Ой, я уже боюсь, — сказала Барашка.
— В битве мы отступили в крепость. И тут как в опере, в пекинской, ну, знаете, знаменитой — «Всевластный князь прощается с наложницей», когда враги окружили воинский лагерь со всех сторон, готовят штурм, наутро все — конец, смерти не избежать, в шатре полководца спит князь, а его наложница заснуть не может, и она поет. — Мотылек выпрямился, распахнул крылышки, и, глядя в небо на луну, затянул арию тоненьким голосом, протяжно, с паузами, по-китайски.
— Ой, а что это значит? — спросила Барашка, когда Мотылек закончил петь.
— Эта ария одна из самых известных в китайской опере. А перевод такой:
Князь спит в шатре,
Доспехов не снимая,
Ступаю вон,
Тоской удручена.
Подняв глаза,
На месте замираю:
Какая в небе
Яркая луна!
Мотылек помолчал.
— Да. Вот и мы, как этот всевластный князь, первый среди равных, баван по-китайски, с остатком войска, вот и мы так же оказались зажаты врагами, как в ловушке. Место дикое. Волчьи скалы. Ущелье, две скалы как волчьи головы по бокам. Враги засыпали нас стрелами. Одна стрела, отравленная, попала отцу в грудь. Он кровью плюет, но вида не показывает. Бац, и в обморок. Тащим его в укрытие. Я рассек рану и отсосал яд. Но враги уже лезли со всех сторон. Я крикнул: «Надо пробиваться!» Мы вскочили на коней. Братья отважно сражались, бились мечами. Один брат, меткий стрелок, разил всех из лука.
— Ой, из лука, так романтично! — сказала Барашка. — Просто Робин Гуд какой-то…
— Мы прорвались из крепости под градом каменных ядер, трое братьев погибли. Остались четверо и отец. Отца я привязал сзади к себе, мы скакали во весь опор. Но враг настигал.
— Ой, можно я не буду слушать, можно я уйду к березкам, мне страшно, — попросила Барашка, но никуда не ушла, наоборот, потоптавшись на месте, навострила уши.
— Тогда двое братьев спешились, они сказали: отца надо вернуть на родину.
— А отец-то жив еще? — осторожно спросил Борис и подложил поленце в огонь.
— Нет, уже умер. Холодный. В седле сидит. Привязанный. Но мы же обещали вернуть его домой! Там же мать ждет. И вот двое остались, подожгли траву и схватились с врагами. А потом оттеснили их к пропасти и вместе с ними туда — ух! Как в детстве, когда прыгали с обрыва в реку. Взявшись за руки. Летят, за руки держатся, смотрят друг на друга, с улыбкой…
Голос Мотылька дрогнул. Он закинул голову и долго глядел в небо. Барашка всхлипнула.
Канарей взял фляжку и отпил. Вид у него при этом был подозрительно не грустный.
— И остались мы с братом, вот который стрелок из лука. Я — с отцом, ко мне привязанным. Несемся по полю с высокой желтой остроконечной травой. И вдруг стрела через все поле — вжжи-и-их! Только пыльца травяная летит облаком! Коня под братом убило этой стрелой. Он вскочил, смотрит, стрела полосатая, отравленная. Такой же и отца убили. И он мне говорит, скачи дальше. А сам остается в этом поле и начинает с тем убийцей стрелами обмениваться. Носятся в поле в этом, в желтой траве выше головы. Стрелы со свистом — вжи-их! Вжи-их!
— Ой, не могу просто! — простонала Барашка.
— И тут брат подскакивает к убийце, у того стрелы кончились, замер, и брат ему в упор стрелу прямо в лоб. Бац! Насквозь! Готов. Отпрыгался, гад.
— Собаке собачья смерть! — сказала Барашка.
— Но там еще не все собаки кончились. Главный враг, который за нами гнался, в белом плаще, тут просто ниоткуда выскочил на коне и копьем брату в грудь, бац!
— Сурово! — сказал Канарей, улыбаясь краем клюва.
— Еще бы! — не замечая ничего вокруг, продолжил Мотылек. Глаза у него горели. — А я скачу дальше, отец за спиной. Тут настигает этот в плаще, он же обещал всех нас убить, потому что когда-то наш отец его семью убил… Эх…
— И что, и что дальше, ну давай уже скорее заканчивай! — взмолилась Барашка. — Я меня прямо ноги дрожат. — Она присела на траву, впрочем, аккуратно, на полиэтилен с грядок.
— Он нас настигает. Я отца отвязываю и прислоняю к холму. И мы бьемся с этим в плаще. На мечах. Сначала он меня, потом я его. Потом я его броском через плечо бац — и шею ему сворачиваю.
— Ой, молодец, молодец! — Барашка успокоенно вздохнула. — И домой, да?
— Иду к отцу. А сам не вижу, что этот в плаще, он же сзади, недобитый, опять встает и на меня…
— Ой-ой-ой!
— И я тут хватаю копье и не глядя тычу в его сторону. Конец в землю упираю. Ну, он, конечно, на острие с ходу нанизывается. Висит на копье, глаза выпучил, кровь изо рта. А я поворачиваюсь и говорю ему, глаза в глаза: Я — Шестой брат! Съел? Ну, он раньше все время меня спрашивал, когда бились, какой я по счету из всех братьев. Вот, говорю, я — Шестой! Доволен теперь?
— И домой? Ну давай домой скорее! — попросила Барашка.
— И да, домой. Нас встречают. Мать там и все остальные. Я говорю, мать, вот, как просила, вернули отца. Мать плачет, конечно. Дворец-то пустой. Раньше нас семеро и отец с матерью. А теперь мы с ней одни. — Мотылек опустил голову.
— Да-а-а, — протянул Борис. — Сильно. Матери-то каково…
— «Верные сыновья-полководцы семейства Ян», — шепнул ему на ухо Канарей. — Гонконгская студия. Блокбастер. Снят красиво, кстати.
— Т-щ-щ, тихо, тихо! — сказал Борис. — Может, ему выговориться надо. Пусть.
Мотылек отошел от костра к сараю, вернулся с дровами, бросил в огонь.
Помолчали. Потрескивали дрова, в лесу ухнула сова.
— А можно теперь я расскажу? — спросил Канарей.
Выхухоль и рассказы у костра.
Рассказ Канарея. Начало
— История Бориса про горчицу просто потрясает! — начал Канарей.
— Да! — подтвердила Барашка. — До сих пор дрожу!
— Я осознал его величие сразу же, в момент нашей первой встречи ночью в саду! И его история подтверждает…
Борис поморщился, толкнул Канарея локтем и показал глазами на Шелкопряда. Тот сидел, задумчиво глядя в костер, вытянув к пламени ножки в сырых кроссовках.
— О да! И, конечно, рассказ Мотылька великолепен, — объявил Канарей. — В нем есть… есть нерв! И… — Канарей замялся, и, заполняя паузу, снял титановое пенсне, подышал на него, протер, — нерв, чуткий и тонкий, и… и правда жизни!
Борис снова толкнул Канарея.
— И чувство! Да! Чувство долга перед семьей, перед страной, в конце концов! Браво, Сяо-цань.
Мотылек поднял голову.
— Но вернемся к Борису, — тут же сказал Канарей, подошел и приобнял Бориса за плечи. Борис отстранился.
— Смотрите — какая скромность! — вещал Канарей. — Какая внешняя простота. На ум приходят Джавахарлал Неру, Лев Толстой. Сама скромность, аскеза праведника…
— Лев Толстой, кстати, любил по утрам булочки с маслом и кофе, — сказала Барашка. — А кофе — с сахаром и молоком!
— Да, любил, конечно любил, — подхватил Канарей. — Но это не мешало ему оставаться, вернее, быть великим человеком! Так же и Борис! Да, он любит горькую настойку, любит малосольную селедочку с молодой картошечкой и репчатым луком. Обожает точить ножи. Любит рыбалку. Вроде бы как все! Но! — Канарей вспорхнул на колоду, на которой Борис колол дрова для костра, и выпрямился еще больше. Пламя отраженной радугой колыхалось на его иссиня-черных перьях, придавая Канарею нездешний, вполне тропический вид. — Казалось бы, о чем его история? Случай из армейской жизни? Байка? Бывальщина? Анекдот? Нет, все гораздо глубже!
— В смысле? — удивился Борис.
— Гораздо, гораздо глубже. Заглянем в подсознание. Нет, начнем с другого. С метели!..
Выхухоль и рассказы у костра.
Рассказ Канарея. Продолжение
— С какой метели? — спросил Борис.
— Ну, у вас там, в армии, там же наверняка случались метели? В приамурской этой тайге, зимой. Ветер, наверное — у-у-у-у-у? У-у-у-у-у! Не видно ни зги, так?
— Ну, бывало, конечно, заносило снегом по самое не могу, палатку утром не открыть, дверь раскапывали…
— Вот, вот! — Канарей воздел к небу коготь, на котором сверкнул круглый золотой перстень с темно-вишневым агатом.
— Об этом и речь. Оторванность от мира, обрыв всех контактов и логических жизненных линий. Почему Пушкин в свои гениальные повести непременно вставляет метель? «Капитанская дочка»! «Ветер завыл, сделалась метель»… Сбились с дороги, тулупчик с барского плеча, Пугачев, бунт, бессмысленный и беспощадный, смерть кругом, любовь и ярость?
— Ой, да, любовь, там такая любовь, я просто балдею, — сказала Барашка. — Она такая хорошенькая, Марья Петровна! Наверное, завивалась, тогда, наверное, бигуди были еще бумажные…
— Марья Ивановна, — поправил Канарей. И продолжил: — А сама повесть «Метель»? Снежный буран, тьма, сдвиг временных и пространственных связей, и как результат… что? — спросил Канарей.
— Что? — Мотылек зевнул. — Да ты не тяни кота за хвост, ближе к телу давай.
— Одиночество! — воскликнул Канарей.
— Ну вот, опять он за свое, — буркнул Борис.
— И вот это одиночество среди людей, в палатке, в жуткие снежные бури, в глухой бесконечной тайге — это самое трудное. Некуда деться! Не-ку-да! — простонал Канарей, закатив глаза. — И оно длится, длится, даже когда Борис идет в дозор, лежит с автоматом в снегу…
— С пулеметом, — уточнил Борис. — С ДШК. Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный.
— Верно! Верно! Но рядом нет ни… ни Дегтярева, ни Шпагина, хотя вот, они, возможно, и могли стать друзьями, верной опорой, собеседниками, которые умеют слушать. А вместо этого холодное и равнодушное железо пулемета, мороз, снег, портянки, сапоги…
— Валенки, — уточнил Борис.
— … Валенки, надоевшие до смерти сослуживцы, душная палатка, одни и те же лица, нелепые игры… И как итог, как отчаянный крик, выкрик души — вот эта горчица! Квинтэссенция одиночества в колебании божественной пневмы. И — долгожданный катарсис: освобождение желудка от содержимого как символ освобождения сознания и подсознания от страха… Страха одиночества, и, возможно, страха конечности бытия, страха существования как такового… Снег впитал страхи и боль, растаял, исчез. А Борис… Борис проснулся наутро другим человеком!
Борис удивленно повернулся к Канарею, хотел что-то сказать, но не сказал.
— Ну, загнул! — поморщился Мотылек. — История-то где?
— Отсюда и история, — ответил Канарей. Он прошелся вдоль костра туда-сюда, глядя поверх огня. — Пройдя жизненные испытания, главным из которых явилось вот это одиночество… так сказать, классическое — в толпе, хотя и не на празднике, который лишь усиливает и подчеркивает одиночество… вдруг и одномоментно освободившись, Борис разом, в стиле чань-буддизма, достиг духовного просветления, возможно, сам того и не сознавая. Но в итоге он не оторвался от народа, нет, наоборот… Он пошел в него. Как Будда. Словно сама судьба сказала: Борис, стань вождем, лидером! С твоим талантом жить для людей и с такой счастливо обретенной духовной мощью! — Канарей от возбуждения подпрыгнул на месте, завис на миг, его крутануло порывом ветра. С трудом восстановил равновесие, поправил сползшее по клюву пенсне, отдышался и отпил из фляжки.
— Да ладно тебе! — сказал Борис, отбрал у Канарея фляжку, выпил и крякнул. — Э! Нашел тоже мне вождя… На рыбалке если только…
Выхухоль и рассказы у костра.
Рассказ Канарея. Окончание
— История-то где? — снова спросил Мотылек.
— Да, да, история, только давайте не страшную, — попросила Барашка.
— Хорошо! Возможно, вы помните, что какое-то время назад мы с Борисом отлучались по делам? Помните? Так вот, мы ездили в Тулу. И Бориса там чуть не избрали народным вождем…
— Иди ты! — удивился Мотылек.
— Я не могу об этом говорить прозой. Всё слишком возвышенно. Сами собой сложились стихи. И вот это и есть история. Которую пишет Борис.
Борис закашлялся, лицо покраснело. Канарей постучал ему по спине и сказал:
— Я прочту? С вашего позволения, господа?
— Валяй, — разрешил Мотылек, расстелил поудобнее телогрейку из сарая и лег навзничь у костра. Искорки летели вверх и смешивались со звездами. Небо начиналось прямо над головой и уходило в бесконечность, звезды сияли близкие, яркие.
— Прямо планетарий… — сказал Мотылек. — Ну ты давай, давай, мы слушаем.
Канарей громко, с выражением принялся декламировать, продолжая мерным шагом разгуливать взад и вперед:
«Имею я имение под Тулой», —
Так начал свой рассказ Борис.
Мы с ним сидели за глинтвейном
В ресторане. Он долу опустил глаза,
Что значит — вниз.
«Ну что сказать, именье как именье,
Усадьба, лес, поля и красота,
Душ двести деревенька для кормленья,
Но что с них взять — сплошная беднота.
Хоть не был строг, оброком не гнушался,
Но и не давил, особо что давить?
Итак, в дорогу из Москвы собрался
Я нынче в ноябре, итоги подводить.
Ну, дебит-кредит, озими проверить,
Сходить на речку спиннинг побросать.
Взглянуть на лес, ты можешь мне поверить,
Вот где душе твоей покой и благодать.
Мы ехали дорогою неспешно,
Шофёрка пела песни, я вязал,
Нужны мне к лету сети, хоть, конечно,
Я с браконьерством вроде бы почти что завязал.
И только водочку достал и шпроты,
Как чу! — горит на дальнем берегу,
Там эм-чэ-эс, менты и вертолеты…
Что? Как? «Бунтуют братцы», —
Шофёрке местный на обочине сказал.
Подъехали. Стоит толпа, звереет.
Молчу. Лишь крепче шпроты сжал.
(Голодный ведь как волк).
«Ну, что вам не хватает, святотатцы?» —
Спросил, вернее, строго так сказал.
«Хотим тебя, Бориска, в губернаты!» —
Вперед шагнул мой старенький Федот.
Его когда-то я не дал забрить в солдаты,
Хотя жалел потом: уж слишком обормот.
«Ну, в самом деле, Леонидыч, двигай,
Бери в свою опеку Тульский край.
Ты лоб не хмурь, ты носом-то не шмыгай!
Народ доверил — ты народу доверяй…»
— Борис, что за имение? — прервал чтение Мотылек. — Что за шофёрка? Симпатичная?
— Погодите, я же еще не закончил! — возмутился Канарей.
— Да какое там имение, восемь соток, от института дали, давно еще, хрен доберешься на двух электричках, тетка дачу там построила, — ответил Борис. — Какой там водитель… Шофёрку еще выдумал. На поезде мы. А поехали, потому что теткин дом соседи по пьяни сожгли, посмотреть надо было, что хоть осталось. Да и вообще, это всё не ко мне. Канарей пусть отвечает.
— Это художественное произведение, — сказал Канарей. — Да, есть некоторые преувеличения. Ввел новые образы. Но это же искусство. Жизнь — виноградный сок, искусство — вино. И оно правдивее всего. Предвосхищает, опережает события…
— Ой, прямо в Тулу ездили, как здорово! Там самовары, — сказала Барашка. — Хорошо бы нам самоварчик завести! Новенький. Вот здесь вот на лавку поставим, у сарая, будем чай пить все вместе. А то у Старушки нашей их навалом, но они все дырявые.
— Да не доехали мы до Тулы, — сказал Борис. — Доехали по кривой до Оки, а там старый друг Андрюха Татищев перехватил.
— Потомок графа? — поинтересовался Мотылек.
— Ну да, из тех Татищевых. Хороший мужик. Ихтиолог. Мы с ним рыбные запасы родины исследовали. А теперь он на Оке дом построил, рыбу ловит, мастер. Вот он и затащил к себе, на рыбалку. Там и зависли. Первач у него знатный.
— Борис из скромности принижает свои достоинства, из ненужной застенчивости недооценивает себя! — сказал Канарей. — Он может стать и главой управы, и губернатором. Но погодите — я же еще не дочитал! Там идет развитие…
— Потом, потом дочитаешь… А что, губернатором, в этом что-то есть! — оживился Мотылек. — Леонидыч губернатором, ты советником, я замом по внешним связям… По экономическим… С бюджетом помудрим, дороги будем тянуть, газопроводы всякие, самое выгодное дело. Китайцев подключим, в рамках инициативы «Один пояс, один путь», они ее толкают.
— Какой путь? Какая инициатива? — спросил Канарей.
— Шелковый путь. Мой фактически. Да неважно какая инициатива, главное деньги пойдут, кредитоваться будем, — сказал Мотылек. — И перекредитовываться. Там такие деньжищи можно заинициативить… Ух!
— А я кем буду? — спросила Барашка.
— А ты… Ты у нас будешь по связям с общественностью! Тут внешность нужна. Кудри, выразительные глаза, талия! Подвешенный язык, контактность.
— Ой, я согласна! — сказала Барашка и пошла к зеркалу смотреться. Зеркало отразило Барашку, спящий лес и поле. Звезды горели все ярче, от земли тянуло сыростью, становилось зябко.
— Эй, вы там! Полуночники! Спать не пора? — послышался от дома голос Выхухоли. — И костер этот свой водой залить не забудьте! Из бочки берите, да поаккуратнее.
— Погодите, я же не дорассказал! — возмутился Канарей.
В ответ в кустах засвистела птичка, наверное, наступило ее время рассказывать истории.
Выхухоль и Женщина Гу
В гости приехала Женщина Гу.
И с ходу начала жаловаться.
— Погоди, — сказала Выхухоль. — Идем лучше на воздух, а то Борис что-то загрустил. Слышишь, опять Валерия Леонтьева включил, «Грешный путь». Это когда на него накатывает.
— Чувствительный? — спросила Женщина Гу.
— Да уж не ты… На тебе вообще паять можно.
— Что паять?
— Да что угодно! Хоть чугун.
— Чугун не паяют.
— Грамотная очень? Тогда чего приехала? — спросила Выхухоль. — Мы тут народ простой, без всяких там экивоков.
— Да плохо мне, ой, плохо, — сказала Женщина Гу, когда они устроились на веранде, одна на лавке, другая в кресле.
— Сколько тебя знаю, ты всё время жалуешься, — Выхухоль взяла горсть семечек со стола, принялась громко щелкать. — Я-то тебя знаю как облупленную, а вот Борис с непривычки напрягается, всё всерьез принимает… Ты можешь покачаться, ногой вот упрись, ага… Плед накинь.
— Так тяжело же! — сказал Женщина Гу. — С работой перебои, то она есть, то ее нет, договор никак не продлят, тянут… Денег нет, вся в долгах как в шелках, то спина ноет, то нога не ходит…
— Ой, посмотрите на нее! — сказала Выхухоль. — Какая нежная! Окстись, мать, ты и в молодости не очень была… И вообще — оживись! Пример бери. Помнишь, Маркс писал Энгельсу, что даже если бы он валялся на рельсах весь перерезанный, с кишками наружу, а по нему туда-сюда ездил маневренный паровоз, то и тогда он все равно радовался бы жизни.
— Маневровый. Не маневренный. Паровоз. И это не Маркс, это Толстой написал, — сказала образованная Женщина Гу. — Ну, и не так немного, конечно. С отрезанной ногой вроде бы… В образ Карениной вживался, наверное… А вообще-то, согласна, посмотрела бы я, как бы он радовался.
— Неважно, — сказала Выхухоль. — Мог и Маркс написать. Другу Энгельсу. Заразить старика оптимизмом… Или вот другая история, слыхала: в Китае мать голодала, а сын отрезал у себя куски мяса, с голени там или еще откуда, и кормил.
— Ну, это легенда, конечно, и не так буквально, все символически, а свидетельствует она о сыновней почтительности, — сказала Женщина Гу.
— Да все едино, — сказала Выхухоль. — Ты же куски мяса с себя не режешь, верно?
— Верно, не режу, — сказала Женщина Гу. — Пока.
— И на рельсах не лежишь под паровозом с кишками наружу?
— Не лежу, упаси господь. Да и нет там у нас паровозов. Катера в Гонконг только, скоростные, турбоджеты, 60 минут, и ты там.
— Ну вот! Руки-ноги есть?
— Есть.
— Глаза-уши имеются?
— Имеются. Правда, глаза уже подсели. Редактирование, чтоб ему… С утра до ночи. Так что не очень…
— Да у тебя и со слухом не очень, по правде говоря… — Выхухоль помолчала. — А что денег нет, так это мне странно. Ты где живешь?
— В Макао.
— Макао. Аомэнь по-нашему. Игорная столица. Ну и чего страдаешь? Денег там навалом. Бери зарплату или займи у кого — и в казино. Раздели деньги на восемь кучек. Купи фишки. Опять раздели. И вперед, к рулетке…
— А зачем деньги делить перед покупкой фишек? — спросила дотошная Женщина Гу.
— Не придирайся. Не умничай. Лови основу! Потом идешь и ставишь одну кучку на красное-черное, там ставки большие, сразу вдвое получишь.
— А если проиграю?
— Тогда удваивай ставку!
— А если еще проиграю?
— Опять удваивай. В конце концов выиграешь.
— А если в конце концов проиграю?
— Ну, опять ты за свое… Вот тогда и будешь жаловаться… Вообще-то мысль материальная штука, как настроишься, так и будет. Держи лучше яблоко. Не смотри, что сморщенное, зато сладкое. Остатки сладки. Паданцы… Смотри, солнце садится за лес.
— Воздух какой! Такого там нет… И вообще — красиво здесь у вас, — сказала Женщина Гу.
— Еще бы, — сказала Выхухоль гордо, как будто все вокруг создала сама.
— А солнце красное. К ветру…
— «Лепестки чужих цветов ветер принесет в мой дом…» — запела Выхухоль.
— «Облако твоих волос исчезнет в нем», — подхватила Женщина Гу.
Дальше слов они не знали, поэтому Выхухоль просто обняла Женщину Гу за худые плечи, и они долго сидели и смотрели на закат над полем и лесом, слушали вечерних птиц, пока Борис не позвал их ужинать.
На ужин была картошка, запеченная с сыром, луком и грибами, — фирменное блюдо Бориса. И еще поджаренные пескарики с ломкими хвостиками, их можно было есть целиком, как сухарики..
Выхухоль и идеал мужчины
— Эх, Борис, — сказала Выхухоль. — Опять ты картофельные очистки в компостную кучу не выбросил, сколько раз говорила.
— Да ну, — сказал Борис, — была охота возиться.
— А вот есть же люди, настоящие мужчины, ничего не забывают, и по дому помогут, и…
— И пол помоют, — сказал Борис.
— Да, и пол помоют.
— И носки заштопают… Не существует таких, — сказал Борис. — В идеале только если, в женских романах.
— Прямо-таки и не существует?
— Нет, конечно. А если и есть такие, ты сама же первая от тоски взвоешь.
— Во-первых, я не вою. Без особой нужды. Во-вторых, есть такие. — Выхухуль задумалась. — Наверное.
— Ну и как ты с таким идеальным жить будешь? К нему же прицепиться не за что будет. Гладкий, как пельмень. Или вареник. — Борис уже проголодался.
— В Китае говорят, кстати, — в дверях веранды возник Мотылек, он отсыпался после ночных похождений, — насчет настоящих мужиков так говорят: «Нань-жэнь бу хуай, нюйжэнь бу ай!»
— И что это значит? — спросила Выхухоль с подозрением.
— Как бы поточнее… Буквально: «Если мужчина не плохой, женщина не влюбится», это я без рифмы перевел, ну, в смысле, в хороших парней не влюбляются, как-то так, — сказал Мотылек и ухмыльнулся.
— Ерунда, — сказала Выхухоль. — Полная ерунда! Есть же у нас… космонавты, к примеру, или хоккеисты. Или ученые.
— А откуда ты знаешь, что они хорошие? — спросил Борис.
— Видно же! По крайней мере луком не наедаются и чесноком, перед тем, как к людям выйти, — сказала Выхухоль.
— Да, это критерий, — сказал Борис.
— Зато Борис животных любит, — сказал Мотылек.
— Ну разве что, — ответила Выхухоль.
Все задумались, хотя солнце было еще высоко.
Выхухоль и Великий поход. Принятие решения
С рассказом про «Железный поток»
и пиво в подвале
— Идем в поход! — объявила Выхухоль.
На вечерней веранде воцарилось молчание.
— В какой поход? — настороженно спросил Борис, у которого были совершенно другие планы. Он, собственно, по своему внутреннему плану и занимался, как обычно, подготовкой к рыбалке. Такие приготовления, с выкладыванием на стол лески, крючков, грузил, поплавков, блесен и прочих сокровищ, с инспектированием запасов, включая измерение толщины лески микрометром (особая гордость Бориса, подарок двоюродного брата, работавшего на секретном оборонном заводе на Красной Пресне, — должна же быть хоть какая-то польза от секретных заводов!), длились часто дольше, чем сама рыбалка и приносили даже большее удовольствие, потому что, в отличие от рыбы, снасти не могли игнорировать своего владельца и всегда оказывались под рукой. Подготовка была своего рода медитацией, время пролетало незаметно, и голова оставалась совершенно пустой, а сознание незамутненным, готовым к одномоментному просветлению, согласно принципу чань-буддизма, которому следовал Борис, сам того не подозревая.
— Великий поход, — сказала Выхухоль.
— Почему Великий?
— В невеликий нечего и ходить, — ответила Выхухоль.
— Да ну, — рассеянно сказал Мотылек. — У меня дел по горло. У меня встреча важная. — Он торопливо писал что-то в айфоне.
— У тебя все встречи важные, — сказала Выхухоль. — Ничего, отменишь. В кои-то веки все вместе собрались.
— Ну, если недалеко, то можно, — покачиваясь в кресле, Канарей задумчиво перебирал агатовые четки, круглые и прозрачные, словно крупный виноград, и потягивал красное вино, любуясь чайными розами у изгороди. — В Женеву на той неделе лечу, а эта — да, свободна. Обновим мою корзинку, устроим пикник. — Канарей как-то купил с огромной скидкой на распродаже в магазине почти бесполезных, но красивых подарков, две прелестные вещицы: книгу с пустыми страницами в пухлом кожаном переплете и корзинку для пикника. Легкая, светлая, веселая, плетеная из толстой ивовой лозы, она была просто чудо: с отделениями и держалками для тарелок, вилок, ножей, салфеток и, главное, для винных бокалов.
— Ой-ой-ой! — завизжала Барашка, — конечно, пойдем! Все вместе, рано утром! Я буду собирать цветы! Давайте пойдем туда, где много цветов! На поляну!
— С нами Рыбка будет, — сказала Выхухоль. — Просилась. С кем-то познакомить хочет.
— Как же она с нами пойдет? — удивилась Барашка. — Она же Рыбка, она же в воде?
— А, значит, вдоль реки пойдем, — догадался Борис. — Это правильно. Это можно, это даже хорошо! Буду ловить по дороге. Постой, а в какую сторону пойдем? Маршрут какой, точка назначения?.. — Он замолчал, потому что воспоминания разом нахлынули на него…
Рассказ про «Железный поток» и пиво в подвале
Однажды на лекции в институте, где учился Борис, речь зашла о «Железном потоке» писателя Серафимовича, и педагог вдруг сказал, прерывая повествование: «А вот Дубов пусть нам и расскажет теперь, где же завязка, кульминация и развязка в этом романе!» Борис и его приятель Лешка в этот момент играли в карты на задних рядах.
Услышав свою фамилию, Борис встал, в голове еще кружились три карты, три карты, три карты. Играли в очко. «Что, простите?» — сказал он. «Железный поток», скажи про завязку, кульминацию и развязку», — зашептали добросердечные девочки-отличницы. Борис плохо помнил содержание книги, не очень-то она ему нравилась: засушливая степь, гражданская война, конница, суровые люди, бои, поход к морю — и никакой рыбалки…
Но отступать было некуда. «Завязка! — бодро начал Борис. — Отряду надо выйти к морю…» «Так, — сказал зловеще преподаватель. — И все?! А дальше?» «Кульминация! — объявил Борис. — Отряд идет к морю. С боями…» В зале начали хихикать. «Так, — сказал преподаватель. — Что замолчали? Продолжайте!» «Развязка! — сказал Борис. — Отряд вышел к морю!»
Аудитория заржала в полный голос. Преподаватель вскипел. «Вы неуч, Дубов! — сказал он. — Безобразие!» Ну, тут Борису нечего уже было терять. «Вы унижаете мое человеческое достоинство!» — сказал он с этим самым достоинством и покинул аудиторию. За ним, прихватив карты, поспешил и Леша. Они спустились вниз, в институтский подвал, в столовую. Туда как раз завезли свежее бутылочное пиво. «Жигулевское»! Редкость! И без всякой очереди, потому что занятия еще не закончились и народ не ломанулся на пивопой.
Они взяли сосиски с зеленым горошком и по пиву. Говорили про рыбалку, про то, как поедут на Москва-реку, в Тучково, на остров, где в прошлом году таскали в мелкий теплый дождик язей и подлещиков и даже поймали красавца — темно-золотого линя, который бесконечно долго водил притопленный поплавок по заводи туда-сюда, прежде чем взять как следует… Ох, хорошо! Закончилась лекция, столовая стала заполняться народом. И тут Борис и Леша увидели преподавателя, в поисках свободного местечка он зигзагами пробирался через зал между пирующими, заметил прогал, поспешил к нему — и оказался лицом к лицу с нашими друзьями.
Преподаватель встал перед маленьким круглым столиком, держащимся на одной ноге, словно по сигналу «замри», лицо покраснело. Рука, держащая тарелку с сосисками и горошком, задрожала. Другую руку оттягивал пузатый портфель. Из расстегнутого портфеля высовывались конспекты лекций и «Жигулевское». «Дубов, — сказал преподаватель, — извините меня! Я не хотел унижать ваше человеческое достоинство». «Да ладно, — сказал после паузы Борис, взял у препода портфель и повесил на крючок к столбику на треноге, единолично держащему стол. — Чего там. Забудьте. Присоединяйтесь. Пиво будете?» Преподаватель не отказался. Борис оценил этот знак доверия, завязалась беседа. Учитель и ученики расстались с самыми добрыми чувствами, и экзамен Борис и Леша сдали на отлично.
Воспоминания мигом пронеслись в голове Бориса. Отряд идет к морю… Завязка, кульминация, развязка…
— А вот давайте вместе и решим, куда пойдем, — предложила Выхухоль.
— Где цветов много, — сказала Барашка.
— Главное, чтобы было красивое и удобное место для пикника, — сказал Канарей.
— В принципе, можно пойти к слиянию, где две реки наши соединяются, — сказал Борис. — Там поляна большая под сосновой горой, как полуостров, с двух сторон река. Рыбалка хорошая. И цветов полно.
— Да на фиг мне цветы с рыбалкой вашей, — сказал Мотылек, не отрываясь от телефона. — Идите без меня. У меня встреча.
Выхухоль пристально посмотрела на Мотылька.
Все затихли. Сначала Мотылек по-прежнему продолжал писать, корябая по экрану тонким пальчиком, потом ощутил тишину, насторожился, поднял голову.
Все смотрели на него.
— В поход идут все или никто, — тихо сказала Выхухоль.
«Тогда никто», — хотел ответить Мотылек. Но слова как-то сами собой застряли в горле.
— Ну, если все, если ненадолго… — сказал он.
— Решено, идем к слиянию, — подвела итоги Выхухоль. — Готовимся!
Выхухоль и Великий поход. Подготовка
С рассказом про то,
как Барашка на рыбалку ходила
Весь следующий день заняла подготовка к походу. Из высокого и глубокого платяного шкафа в сенях Выхухоль вынимала и складывала в кучу походную одежду: старые куртки, брюки, кроссовки, свитеры, теплые шерстяные носки, сапоги на случай дождя. Дождевики. Борис упаковывал большой рюкзак с палаткой и спальными мешками, котелком и прочими необходимыми в походе вещами. Вроде заветной фляжки, которую он предварительно наполнил до краев.
— А это тебе, — Борис протянул Выхухоли маленький рюкзак, с которым иногда ходил на рыбалку.
— Нет, ты что, Борис! — возмутилась Выхухоль. — Терпеть не могу рюкзаки. Сколько раз тебе говорила! Я вот что возьму, — она вытащила из шкафа синюю дамскую сумочку.
— С этим в поход? — изумился Борис.
— Говорю же в сто пятый раз, не люблю я рюкзаки, — сказала Выхухоль и принялась укладывать в сумочку крем от загара, солнечные очки, щипчики для когтей, лак для когтей, помаду, дезодорант, пинцетик, таблетки от головы и все остальное, без чего не обходится ни одна дамская сумочка.
— Значит, мне все тащить? — затосковал Борис.
— Я помогу, — Канарей достал с антресолей корзинку для пикников. Бережно стер пыль.– Вино и десерт беру на себя.
— А тушенку, а картошку? Лук? Мы что, десертами будем питаться? — спросил Борис. — А хлеб? Соль нужна, три пачки как минимум, рыбу солить…
Но Канарей уже удалился распаковывать набор новых винных бокалов, подаренный ему в журнале «Винные чары» как лучшему критику года.
— Я, я возьму рюкзачок! — предложила Барашка, когда Борис выволок всю кучу снаряжения и еды на веранду. — Я все понесу, я сильная, я крепкая! Я растяжку делаю, я по Джилиан занимаюсь!
— Ну да, понесешь ты, конечно! Слушай, а может, тебе вообще не ходить? Далеко ведь, устанешь, — сказал Борис. — Комары! Репейники!
— Я очень хочу, очень-очень! Не пожалеете!
— Где-то это я уже слышал, — сказал Борис
И снова на него нахлынули воспоминания…
Рассказ про то, как Барашка на рыбалку ходила
Погожим летним вечером Борис собирался на рыбалку. Накопал червей, подточил и перевязал крючки, проверил удочки. Собственно, что там проверять, все и так готово и проверено сто раз. Но все-таки.
Рядом вертелась Барашка. Она маялась.
— Борис, — сказала она, — можно, я с тобой пойду на рыбалку?
— Со мной? Так устанешь, далеко же идти, — засомневался Борис.
— Нет-нет, я не устану. И мешать не буду!
— Ну, я-то ловить буду, а ты что будешь делать?
— Ой, я буду цветы собирать. Я венок хочу сделать, из ромашек. Книжку возьму. Буду читать. Я тебе мешать не буду.
— В самом деле, Борис, возьми ее, видишь, мается, — сказала Выхухоль. — Все возле дома и возле дома. Пусть прогуляется, проветрится. Погода-то хорошая.
— А комары? — сказал Борис.
— Я ее побрызгаю, не волнуйся.
Выхухоль надела на Барашку пеструю вязаную кофточку, розовую панамку, сапожки от сырости. Через плечо повесила холщовую сумочку с книжкой.
Пока собирались, стал маяться уже Борис. Солнце опускалось как-то слишком быстро, вот-вот начнется самый окуневый клев.
— Ну что, пошли? — не вытерпел он.
— Идите. Стойте! А от комаров? — спохватилась Выхухоль. Сбегала в дом, принесла флакон, попшикала на Барашку и заодно на Бориса. Борис поморщился: вдруг рыбе не понравится? Он тайком ополоснул лицо в бочке с теплой, отдающей ржавым железом дождевой водой. Тщательно вымыл руки.
— Погоди, погоди, — Выхухоль снова сходила в дом, принесла складной стульчик. — Возьми. Вдруг она устанет, посидит.
— Ну, все наконец? — не выдержал Борис. — Кровать не будем брать? Шезлонг? Одеяло? Гамак?
— Не будем! Идем! Ура! Ура! — крикнула Барашка. И первая побежала вперед.
Они вышли через сад к полю. У калитки Барашка повертелась перед зеркалом и осталась весьма довольна своим видом.
— Вы там недолго, Борис, хорошо? И смотри, чтобы она от речки подальше держалась, — напутствовала Выхухоль.
Она вышла с ними за калитку и долго махала вслед, пока рыболовы не скрылись в перелеске. Шли медленно. Борис боялся, что Барашка за ним не поспеет.
Солнце заливало поле и лес, от берез и кленов тянулись тени. Веял ветерок, качал траву и сдувал комаров.
— Ля-ля-ля, ля-ля-ля! — пела Барашка. — Как хорошо! Спасибо, Борис, что взял меня с собой!
«А и в самом деле, — подумал Борис, — вдвоем оно как-то веселее».
Так они они дотопали до речки и пошли вдоль нее по заросшей травой и подорожниками старой колее с лужицами, не просыхающими даже в жару. Кое-где в отстоявшейся прозрачной воде сновали головастики. Речка петляла. Наконец они пришли к заветному месту — старой, раскидистой и высокой ветле с серебряными листиками. Там под высоким берегом, заросшим кустами ольхи и крапивой, на тягучем течении, у заводи перед маленьким мостом через речку, водились окуни.
Борис вытоптал в траве на высоком берегу свободный пятачок, разложил стульчик, угнездил его поустойчивее, сломал ивовую ветку, чтобы Барашка могла отмахиваться от комаров. Барашка тем временем нарвала ромашек, сплела венок. Надела. Уселась на стульчик с довольным видом. Огляделась вокруг.
— Как хорошо на рыбалке! — сказала она. — Как я тебя понимаю!
— Ну вот и хорошо, — сказал Борис. — Скучно будет, почитай книжку.
Он торопливо, скользя по глине, спустился вниз, принялся разматывать удочки. Солнце наполовину залезло за верхушки леса, самая золотая пора для рыбалки. Борис закинул удочку. Поплавок наклонился и пошел по течению. Шел ровно, только чуть вздрагивал и притапливался, когда грузило и крючок с наживкой — червяком задевали водоросли на дне. Снова забросил. Поплавок проплыл несколько метров и дрогнул. По-другому дрогнул. Раз, другой, третий… Кто-то тянул его вниз. Окунь, окунек, окунище, точно! Борис приготовился подсечь.
— Ой-ой-ой! Борис, Борис, скорее! — послышался тревожный голос Барашки.
Борис выплюнул сигарету, бросил удочку и полез, хватаясь за ветки кустов, наверх.
— Что такое?
— Я книжку уронила! Туда, вниз, — Барашка показала под откос, на густую стену крапивы. — Я хотела достать, упала, сапог потеряла, коленку расцарапала…
Борис полез в крапиву, обжигаясь, раздвигал ее, шарил в темных жгучих зарослях, наконец нашел заляпанный грязью сапожок, потом книгу, отряхнул, вскарабкался наверх.
— На, не теряй больше! Поаккуратнее.
— Ой, спасибо, спасибо! А мне веночек идет? Вот посмотри, посмотри!
— Идет, идет! Очень идет, — Борис снова спустился к реке. Пока ходил, окуни обожрали червяка. Снова насадил, забросил, поплавок понесло течением, вот сейчас, вот в этом месте, там внизу водоросли, и вот после них сразу, сейчас клюнет…
— Борис, Борис! — послышался голос Барашки. — Сорви мне еще веточку, а то комары кусают, такие огромные, просто ужас какой-то. Ой, ой! Скорее!
Борис вытащил удочку, прислонил к дереву, полез наверх, сорвал пучок ольховых веток с листьями покрупнее, сунул Барашке.
— Ты знаешь, просто звери какие-то, эти речные комары! Дикие, наверное, у нас дома не такие, — пожаловалась Барашка. — Посмотри, в ухо укусил, там волдырь, наверное? А зеркальце мы не взяли? Волдырь видишь? Красный? Большой? Некрасивый?
— Маленький! Красивый! Не видно ничего. Потри и пройдет! — сказал Борис и поспешил к своей удочке.
Порывом ветра беспризорную леску забросило на ветлу, крючок зацепился за ветки, пришлось рвать и привязывать новый. Весь в поту, торопливо привязал, насадил червяка, забросил. За этой возней стремглав уходило бесценное время клева, солнце почти село, отражаясь красным в воде, смешиваясь с быстрыми струями воды. Самый клев! Не упустить! Забросил к тому берегу, в темно-синюю тень, на самое течение.
— Борис, — раздалось за спиной. — Бори-и-ис!
— Что? — отозвался Борис, не отрывая взгляда от несущегося по течению поплавка. Сейчас, вот сейчас клюнет…
— Борис, я домой хочу! Мне скучно! Меня закусали! Здесь холодно! У меня ноги промокли. Отведи меня домой! — плачущим голосом позвала Барашка.
— Барашка, ну потерпи немного, сейчас половлю немного, и пойдем, — попросил Борис и покрепче сжал удилище. Вот сейчас поплавок наискосок нырнет в глубь… — Немного потерпи, хорошо?
— Я не хочу! Я хочу домой! Домой! Я устала! — Барашка почти плакала.
Поплавок ушел в воду, Борис дернул удочку вверх, подсекая рыбу. Пусто. Тьфу ты!
Борис вылез на берег. Вид у Барашки был самый несчастный. Венок сполз набок, кофточка измазалась землей. Сумка с книжкой валялась на траве. Барашка вертелась во все стороны и из последних сил отмахивалась пучком веток, а вокруг нее хищной голодной стаей вились и кровожадно звенели комары.
— Меня знобит, — сказала Барашка. — Как здесь сыро, у речки у твоей!
— Эх! — сказал Борис. — Половили называется. Ладно. Идем.
Смотал удочки. Пошли домой. По дороге не разговаривали. Борис нервно курил на ходу. Пока шли, солнце совсем село, небо потемнело. Высыпала роса, высокая трава хлестала по сапогам, мочила брюки.
— Ну, как рыбалка, рыбачки? — Выхухоль встречала их у калитки.
— Лучше не бывает, — ответил Борис.
Барашка промолчала.
— А где улов?
— Где, где, — Борис едва сдержался. — В воде.
— Что так? Не клевало?
— Не клевало. — Борис прислонил удочки к сараю.
Барашка осталась у берез возле калитки, рассматривала себя в зеркале и тихо ойкала.
— Ну, ничего, бывает, — утешила Выхухоль. — В другой раз поймаете. Все равно молодцы, что сходили, развлеклись.
— Да уж, — сказал Борис. — Развлеклись… Поесть есть что-нибудь?
— На кухне на сковородке посмотри, грибы еще остались с картошкой, яйцом залей… Ой, как тебя комары-то искусали, Барашка, деточка, бедная, давай я тебя китайской мазью смажу. Может, зеленкой еще?
— Не хочу зеленкой, — сказала Барашка.
Вот эти воспоминания опять-таки в одно мгновение пронеслись в голове Бориса.
— Оставайся лучше дома, — предложил он Барашке. — Зачем тебе поход, ноги ломать, грязь месить? Будешь дом сторожить.
— Ну вот еще, нашел сторожа, — сказала Выхухоль. — Неизвестно еще кого сторожить надо. С нами пойдет, всем спокойнее будет.
Выхухоль и Великий поход.
Завершение подготовки
— Ой, а раз все-все идут, можно я Зойку возьму? — спросила Барашка.
— Это козу рыжую? Ты же с ней не ладишь? — удивилась Выхухоль.
— Ой, мне так ее жалко. Она тут приходила, жаловалась, вся в слезах, ее Паша снова бросил, — объяснила Барашка.
— Ее жалко? — еще больше удивилась Выхухоль. — Сама мне говорила, что она наглая, сплетничает про всех, гуляет с кем ни попадя, голой в пруду купается, и не одна.
— Ой, ну это когда было! Она такая несчастная теперь, ходит плачет, нервная такая, трясется, как бы с собой чего не сделала, — сказала Барашка.
— Ну, не знаю, — Выхухоль почесала загривок. — Борис, ты как?
— А что Борис? Борису только за вами и таскать все, — сказал Борис.
— Ой, а мы к Зойке удочки привяжем, она жилистая, — предложила Барашка. — Она бегом занималась, этим, как его, спортивным ориентированием. На местности.
— Нет уж, удочки я сам понесу, — сказал Борис. — Бегом она занималась. Местность только зря топтала… Вон пусть лучше еду несет.
Подготовка длилась до самого заката. Наконец все было собрано.
— Итак, — сказала Выхухоль на вечернем чаепитии, — завтра с рассветом выступаем. Идем к слиянию. Борис маршрут знает.
— Сначала идем вдоль речки, — сказал Борис. — Потом перебираемся на ту сторону реки, поднимаемся на гору, пересекаем сосновый бор и спускаемся вниз, к слиянию двух рек. Там ровная поляна, там и заночуем.
— Вертолет на поляне сядет? — спросил вдруг Мотылек.
— Вертолет? Ну, это смотря какой, — сказал Борис. — Тяжелый транспортник не сядет, завязнет, почва рыхлая, а легкий — запросто.
— Сяо-цань, какой такой вдруг вертолет? — спросила Выхухоль. — Ты что выдумал? Мы в поход идем, ногами.
— Да это я так, чисто из интереса, — ответил Мотылек и пошел с веранды в сад, доставая на ходу телефон.
— Гремучую змейку привезли? — спросила Выхухоль.
— Ах ты, — сказал Борис. — Из головы совсем вылетело. Сейчас съезжу.
— Я за ней слетаю, ты отдыхай, — Мотылек возвратился из сада, вид у него был озабоченный, но довольный.
— Ты только поосторожнее, — попросила Выхухоль. — У нее живот болит, у Змейки, опять грибами отравилась.
Мотылек завел свой «Харлей» и с ревом помчался по деревне под лай собак.
— Так, никого вроде больше не забыли, — сказала Выхухоль.
— А Рыбка? — спросила Барашка.
— Канарей слетал, предупредил. Будет плыть с нами, параллельно, — ответила Выхухоль. — Мы по берегу, она по реке.
— Спички, спички не забудьте, — напомнила Барашка. — Будем костер жечь, да? Истории рассказывать всякие!
— Вино взял, коньяк тоже, сигары есть, корзинка собрана, — доложил Канарей. — Пикник будет славный!
— Вам лишь бы вина взять, — строго сказала Выхухоль.
Примчался мотоцикл, Мотылек привел Гремучую змейку. Она была зеленее обычного и еле стояла на хвосте, положив голову на плечо Мотылька.
— Как ты? — спросила Барашка. — Как-то выглядишь неважно. Живот прихватило?
— Живот в порядке. Все хорошо. Только… только повороты очень крутые, укачало… — У Змейки был такой вид, будто ее вот-вот стошнит. Ее и стошнило, прямо под кусты можжевельника, хотя и тошнить-то было почти нечем, но все-таки… Муравьи, облюбовавшие для житья старый трухлявый пенек у можжевельника, еле успели разбежаться.
— Говорила же тебе, поосторожнее! Все лихачишь, — выговорила Выхухоль Мотыльку.
— Ну и куда с ней завтра? — спросил Борис. — И ее тоже тащить?
— Я вполне! — поспешила заверить Змейка и выпила воды из кружки, протянутой Выхухолью. — Обузой не буду. Свернусь у кого-нибудь на шее, и порядок.
— Вот уж не надо нам на шее сворачиваться, — сказал Борис. — Хотя, если у Зойки вашей… У биатлонистки этой.
— Да, да, конечно, — подтвердила Барашка. — Зойка только рада будет. И поговорить будет с кем в дороге, тема-то общая, Змейку тоже ухажер бросил, Ужик этот противный.
Змейка опустила голову и отпила еще воды.
— Он меня не бросил, — сказала она. — Он не противный. Он мне даже стихи написал, такие красивые, хотите, прочитаю?
— Ой, давай, читай скорее, — обрадовалась Барашка.
— А может, пораньше спать ляжем? — предложил Борис, подуставший во время сборов.
— Да ладно, пусть прочитает, — разрешила Выхухоль.
— В самом деле, даже любопытно, — поддержал Канарей и закурил сигарку, выпуская дым так, чтобы его не тянуло в сторону Выхухоли.
— Тогда слушайте, — сказала Змейка.
Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдруг застал нас ливень далеко от дома;
Мы спешили скрыться под мохнатой елью…
Не было конца тут страху и веселью!
Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли, точно в клетке золотистой;
По земле вокруг нас точно жемчуг прыгал;
Капли дождевые, скатываясь с игол,
Падали, блистая, на твою головку,
Или с плеч катились прямо под снуровку…
Помнишь, как все тише смех наш становился…
Вдруг над нами прямо гром перекатился —
Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря…
Благодатный дождик! Золотая буря!
Змейка замолчала и стерла скатившуюся по щеке слезу:
— Это мы с ним под дождь попали, забрались под елку, промокли, вот он и написал.
— Замечательно! Так трогательно! — сказала Барашка. — И капли прямо так и катились, катились… А что такое снуровка? Это кроссовка, что ли?
— Кх-м! Кх-м! — Канарей загасил сигару и встал с кресла. — Раньше так корсет затягивали, шнуровка, снуровка, это завязки такие. А вообще-то это Аполлон Майков.
— Разве? — удивилась Змейка. — Какой Майков?
— Поэт был такой, — сказал грустно Канарей. — Полтораста лет назад. Н-да. Впрочем, следует отдать должное кавалеру, он старался, запоминал.
— В принципе без разницы, кто написал, главное, чтобы руки этот ухажер больше не распускал, — сказал Борис, ему хотелось поскорее закончить вечер и улечься спать.
— Он больше не распускает, — сказала Змейка.
— Ну конечно, — сказал Борис, — потому что знает, что оторвем. Вот еще, пока не забыл, пусть эта ваша Зойка картошку тащит. У меня уже все расписано, кто что несет. У нее две упаковки картошки, соль три пачки, а теперь еще Змейка. — Борис внес запись в блокнот.
— Ладно, — сказала Выхухоль. — Всем спать. Змейка, ты ко мне давай, в тесноте, да не в обиде. Я тебе молока согрею. Борис, будильник поставь.
— Мне будильник не нужен, — сказал Борис. — На рыбалку без будильника встаю. Не проспал ни разу. Разбужу, не волнуйтесь.
Выхухоль и Великий поход. По суше
Утром проснулись рано. Солнце только-только проявилось на горизонте. На небе ни облачка. День обещал быть солнечным, сухим, жарким.
Борис приготовил кофе, наскоро сляпал бутерброды. Все перекусывали на ходу и выдвигались на исходную позицию у веранды.
Последним из своей комнаты вышел Канарей.
— Вот это да! — удивилась Барашка.
Он был облачен в темно-коричневые замшевые штанишки с бретелями, кофейного цвета гетры с красными полосками, белую рубашку и черную шляпу, украшенную значками и пером.
— Баварский наряд! — сказал гордо Канарей. — Друг Андрюшка привез, у него в Мюнхене внучка родилась.
— Поздравляем, поздравляем! — запрыгала Барашка.
— Лучше бы пива нам привез! Так, проверим аммуницию, — сказал Мотылек, когда все в походном облачении выстроились на лужайке у веранды. — Попрыгали!
Прыгнула одна Барашка, гремя колокольчиком.
— Зачем прыгать, Сяо-цань? — спросила Змейка.
— Ах, да! Это я так, по привычке, — ответил Мотылек и поправил свой рюкзак, в котором угадывалось что-то квадратное, угловатое.
Барашка продолжала прыгать.
— Присядем на дорожку? — предложила Выхухоль. — Да хватит тебе скакать, Барашка, силы береги.
— Ой, я так рада, так рада! — сказала Барашка.
— Стойте, а где эта ваша Зойка? Картошку с солью кто понесет? — спросил Борис, глядя на два пузатых зеленых вещмешка (также наследие приамурской воинской славы).
— Я здесь, — Рыжая Зойка вышла из-за ели.
— Ну, и чего прячемся? — спросил Борис. Он ловко приладил поклажу на рыжей с серыми подпалинами козьей спине: мешок на одной стороне костистого хребта, и мешок на другой.
— Ой, — коза слегка осела под тяжестью.
— Змейка, давай тоже сюда! — позвал Борис.
Гремучая змейка ловко заползла на спину Рыжей Зойки, обвилась вокруг шеи, а голову положила на мешок.
— Жестковато, однако. Ладно, погнали, подруга! — приказала она и гордо вскинула голову, устремив взор вперед.
Зойка покорно потрусила через сад. За ней двинулись остальные.
Тропинкой через перелесок и по косогору они пошли к берегу реки. Грело солнце, пели птицы, цветы вовсю цвели на раздолье.
— Простор какой! Красота-то какая! — воскликнула с легким придыханием Выхухоль, взобравшись на пригорок. Она оглядела окрестности, словно видела их впервые. Вокруг лежали поля, впереди внизу, очерченная кустами, угадывалась река, за ней поднималась к небу гора с сосновым бором. — Вперед, друзья мои!
Сначала шли бойко. Канарей даже успевал временами облететь окрестности. Мотылек в такие моменты напевал:
— «Ты не вейся, черный во-орон, над моею головой, ты добычи не до-объешься, черный во-орон, я не твой!» — и размахивал мечом, срезая высокие кусты чертополоха на пути.
Барашка трусила за Зойкой. Они втроем со Змейкой вели свой девичий разговор. Слышалось только:
— И представляешь, жду, жду, хоть бы позвонил!
— И я тогда как наелась шоколада, так наелась, потом встаю на весы — оооо! Все из-за него…
— Подкатывает ко мне, как ни в чем не бывало, у клуба, я говорю, извини, сегодня не могу. Ушел. И представляешь, нет его и нет! Не звонит даже. А восьмое марта было. Вот ведь гад какой…
Борис нес тяжелый рюкзак с привязанными к нему котелком и удочками и думал, что надо проверить большой омут, образовавшийся перед запрудой у старой мельницы, немного не доходя до слияния, там наверняка водятся и плотва, и окунь, а если поставить на ночь жерлицу, то и щука может попасться, и налим, а то и сом. Сомы огромные бывают…
Тропа вплотную подошла к изгибу реки.
— Ну, где вы там? — послышался голос Рыбки. — Я жду, жду, а вас нет и нет!
— А вот и мы! — откликнулась Барашка. — Вода холодная? Купаться можно?
— Теплая! — ответила Рыбка. — Я рядом буду плыть. Вы мне только покрикивайте иногда, ладно?
В полдень подошли к подножию горы, к которой прижалась речка. Через нее перешли по самодельному мостику — двум положенным поперек течения сосновым бревнам. Встали на песчаном пятачке у основания горы.
— Привал! — объявил Борис. Оглядел команду. Все выглядели утомленными, утирали пот, тяжело дышали. «Вот что значит с непривычки!» — подумал Борис.
К нему подошел Мотылек:
— Как думаешь, до темноты к слиянию доберемся?
— Должны, — ответил Борис. — Это смотря как идти будем. Надо бы перекусить, силы подкрепить.
Быстро разложили еду. Костер решили не разжигать. Съели бутерброды, запили водой из родника под горой. Здесь, у корней старой ели давно жил родник, его забрали в деревянный короб, вода бурунчиком била из дна, завивалась, поднимая и гоняя по кругу песчинки; от чистой ледяной воды ломило зубы. Напились и наполнили фляжки.
Отдыхали недолго.
— Ну что, ребята, подъем! Надо идти, — Выхухоль нехотя поднялась с травы, ступила на песчаную тропинку, которая вела круто в гору. Все последовали за ней.
Зойка бодро карабкалась по склону, ей нипочем были ни мешки с картошкой, ни Гремучая змейка; та разлеглась на мешках и, покачиваясь, смотрела в небо, в которое уходили высокие желтые сосны.
— Ой, — сказала Барашка, цокая по камешкам. — Как круто!
Подъему, казалось, не будет конца. Песок под ногами осыпался, съезжал, вместо одного шага приходилось делать два. Наконец кое-как выползли на край горы.
— Красота-то какая! Уф! — сказала, отдуваясь, Выхухоль. — Глядите! — Обернулась и посмотрела вниз на поля и далекую деревню.
— Это она всегда так говорит, когда устает, — шепнул Мотылек Борису. — Ей неудобно сказать, что устала и надо постоять, передохнуть, вот она и говорит: «Красота-то какая!» Вроде как надо любоваться.
— Вот и любуйся, — ответил Борис. Его рубашка насквозь промокла от пота. Он скинул рюкзак, сел и прислонился к сосне. Вытянул ноги и прикрыл глаза. Солнце грело голову и слепило.
Канарей лежал, привалившись к своей корзинке для пикников. Баварский костюм он снял еще на берегу. Грудь вздымалась, клюв пересох, перья топорщились в разные стороны.
Рыжая Зойка отвела Барашку в сторону и что-то ей втолковывала, наклонив голову с кривыми, побитыми жизнью рожками. Барашка слушала, недовольно отвернувшись.
Борис закурил. Выдохнул дымок.
— Так мы далеко не уйдем, — сказал он после молчания. — Предлагаю план «Б»!
— Что за план «Б»? — спросила Выхухоль, утираясь синим в горошек платком. — На вертолете?
— Зачем на вертолете. Природным способом, — сказал Борис. Посмотрел вниз с обрыва. — Но придется спуститься.
— Только поднялись! — возмутился Мотылек. — И опять к реке? Ты там внизу сказать не мог?
— Не мог, — ответил Борис. — Мне надо было на вас посмотреть. Помнишь, как в притче. Кто-то спросил кого-то, далеко ли до города. Ему ответили: не знаю. Путник пошел, а вслед ему говорят: пять часов хода. Он спрашивает, а чего же сразу не сказали. А ему отвечают, я, мол, не знал, быстро ты идешь или медленно…
— И мы что, не быстро идем? — спросил Мотылек.
— Да мы вообще не идем! — сказал Борис. — А тащимся. Смотри, скоро вечер, а мы и полдороги не прошли.
— А внизу-то что? — спросил Канарей.
— Увидите, — ответил Борис и первым стал спускаться к реке, цепляясь за корни сосен, осыпая с почти отвесного склона песок и камни.
Спуск дался сравнительно легко, потому что можно было сесть на попу и скользить по песчаному откосу вниз, упираясь ногами. Избегая крупных камней, конечно.
У подножия горы все повалились на траву и уставились на Бориса.
— Пошли! Нельзя терять темпа! — скомандовал он и направился вдоль реки к ивовым зарослям. Все последовали за ним.
Выхухоль и Великий поход. По воде
Борис раздвинул ветки. У берега в осоке колыхался на легком течении плот, сбитый из толстых сосновых бревен. Он был привязан веревкой к стволу ольхи, сверху его прикрывали пожухлые ветки. Поперек лежал длинный шест из орешника.
— Туристы сделали, — сказал Борис. — Они здесь на горе все время слеты устраивают. А я на рыбалке его приметил, вот сюда загнал и ветками замаскировал.
— Предусмотрительный! — похвалил Мотылек.
— А поместимся? — спросила Выхухоль.
— Должны, — ответил Борис.
— Всем привет! — из воды выпрыгнула Рыбка. — А я уже испугалась, что вы без меня пойдете.
— Куда мы без тебя, — сказал Борис.
— Давайте Зойку домой отправим, — громко предложила Барашка, не глядя на козу. Та жевала ивовые листья, посматривая вокруг круглыми беспокойными глазками.
— Все поместимся, не беспокойся, — сказал Борис. — Плот большой.
— Не в этом дело, — сказала Барашка.
— А в чем?
— Несовместимость у нас.
— Вот те на! — удивился Борис. — То тебе ее жалко, а то вдруг несовместимость.
— А теперь не жалко, — сказала Барашка. — Так ей и надо. Вот пусть теперь домой отправляется.
Выхухоль вопросительно посмотрела на Змейку. Та широко открыла глаза и приподняла ресницы, выказывая полное недоумение, кивнула на Барашку.
— Пусть, пусть идет! — сказала Барашка. — Пусть знает, как всякие гадости говорить!
— Я правду говорю, — невнятно сказала Зойка, не переставая жевать. — А если кому правда не нравится, так это ее дело.
— Ты до дома-то дойдешь сама? — спросила Выхухоль. — Не заблудишься?
— Картошку оставь, — сказал Борис и снял с Зойки мешки.
— Я провожу, — предложил Канарей.
Зойка направилась было к мостику, к бревнам через реку, но потом решила идти вброд и взяла правее, к мели напротив. Шагнула с берега и двинулась наискосок вперед, угадывая, где помельче, но все равно на середине реки вода скрыла ее по шею.
Зойка встала и повернула голову.
— Вот утоплюсь сейчас всем назло! — пригрозила она, тряся мокрой рыжей бородкой. — Поплачете тогда! А потом вас по судам затаскают, пыль замучаетесь глотать, присудят с конфискацией! Ой, что такое?..
Вода вокруг нее вдруг взбурлила, заходила ходуном, Зойку опрокинуло, она окунулась с головой и рожками, с визгом подпрыгнула и опрометью выскочила на другой берег, проламывая осоку. Отряхнулась. Коза резко уменьшилась в объеме, шерсть плотно облепила хребет и ребристые бока, бородка скаталась в тонкую прядь. Не оглядываясь, Зойка побрела назад вдоль реки.
— Я все-таки присмотрю за ней, на всякий случай, — Канарей взмыл в воздух и последовал за козой.
— Эй, джентльмен! — крикнул ему вслед Мотылек. — Ты гляди там, не слишком любезничай, а то нарвешься!
Он первым ступил на плот, подал руку Выхухоли. За ней последовали Барашка и Змейка.
Борис отвязал плот, оттолкнул от берега, прыгнул. Плот качнулся, тронулся с места, медленно вышел из заводи на течение — и поплыл. Борис отталкивался шестом, ускоряя ход.
— Ура! — закричала Барашка. Она прилегла на рюкзаки, Змейка тут же устроилась на ее теплом боку. — Какой ты умный, Борис!
— Да, ловко придумал! В самом деле, чего ноги бить, — одобрила Выхухоль.
Выхухоль и Великий поход. По воде.
Карпий Иваныч
— Вот здорово, вы теперь совсем рядом! — Рыбка встала в воде столбиком и повела плавниками. — Я вам дорогу показывать буду.
— Да уж не собьемся как-нибудь, — усмехнулся Борис. — А кто это с тобой?
Возле Рыбки начерчивал по воде круги высокий, длинный и темный спинной плавник.
— Это? — Рыбка округлила рот. — Ха! Это сюрприз! Это Зеркальный, мой дружок. Карпий Иваныч, покажись!
Из воды вынырнул, поднимая волну, огромный карп. Бугрились мышцы, мощно работал широкий хвост, удерживая тело в почти вертикальном положении. Сияли черные с золотым ободком глаза. Крупная желтая чешуя сверкала на солнце. В двух местах тело пересекали шрамы. Голову туго обтягивала круглая шапочка цвета вишни.
— Ого, — удивилась Барашка. — Какой большой! А мускулы какие!
— Он у меня культурист! — похвасталась Рыбка. — Первое место по области. Смотрите, какой рельеф!
— Качок, — презрительно усмехнулся Мотылек. — Одна видимость. В деле не масса нужна, а скорость. А чего он в шапочке? Лысина мерзнет?
— Это не шапочка, это карповый берет, — обиделась Рыбка. — Боевой. Такой не всем дают, а только самым лучшим!
Карпий Иваныч ушел в глубину, потом, энергично работая хвостом, высунулся наполовину из воды, приставил плавник ко лбу:
— Разрешите доложить: Зеркальный Карпий Иванович, местный уроженец, военнообязанный, спецназ малых рек, вишневый карповый берет, сорок две боевых операции, двенадцать боевых наград… Комиссован по ранению, по причине контузии от водных мин…
— Да какие тут у вас операции, — презрительно хмыкнул Мотылек.
— Не могу сказать, военная тайна, — ответил Зеркальный. — Да вам лучше и не знать.
— Зеркальный? — удивился Борис. — Зеркальные теплую воду любят. А у нас здесь ледяная, родниковая.
— Закалка, — ответил Карпий Иваныч. — Спецподготовка, в плане боеготовности к арктическим операциям.
— Это ты Зойку спугнул? — спросил Борис.
— Ага! Это я так… Шутка юмора! — сказал Карпий Иваныч. И сам первый захохотал, плюясь водой.
— Ну, раз такой шутник, пусть с нами плывет, веселее будет, — разрешила Выхухоль.
Рыбка радостно подпрыгнула.
— Мне Рыбка задачу поставила — вас прикрывать! — пробасил Карпий Иваныч. — Будет исполнено! А то там впереди этот, усатый.
— Ой, какой усатый? — испугалась Барашка.
— Неважно. Сохраняйте строй и бдительность, и все будет в порядке. Со мною ничего не бойтесь! — Он нырнул и поплыл впереди.
Плот между тем скользил над тянущимися по течению прядями водорослей, огибал нависающие над водой ветки ольхи и ветел. Борис отталкивался шестом, направляя движение, порою приходилось протискиваться, и он хватался за ветки, отстраняя их с хода. Речка была узкой, кое-где деревья с обоих берегов, наклонившись, переплетались ветвями над водой, преграждая путь, тогда в дело вступал Мотылек, отсекал мечом ветки, прорубал проход. Плыли словно в коридоре — один берег был высокий, а другой, пониже, сплошь зарос кустами и деревьями. Тень сменялась солнцем, а солнце — снова пятнистой тенью.
— Как хорошо-то! — воскликнула Барашка. — Лежишь, а тебя вода сама несет. Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
И они со Змейкой запели веселую песенку про солнышко на дворе и про в лесу тропинку.
Над головой свистнули крылья, Канарей плавно опустился на плот. Он ни на кого не смотрел и явно был не в духе.
— Проводил? — спросила Выхухоль.
— Да ну ее, — сказал Канарей, присаживаясь на свою корзинку для пикников. — Такого мне наговорила… И алкоголик я пропащий, и табаком пропах, и одеваюсь как попугай, и высокомерный, и всю жизнь так одиночкой и проживу… Тьфу, повторять нехота! Разве я высокомерный?.. Как вы ее терпите?
— Уже не терпим, — сказал Борис. — Водички попьешь?
— Главное, одеваюсь как попугай! — продолжал возмущаться Канарей. — Она попугаев видела вообще?
День клонился к вечеру. Плот продолжал неспешное движение, чуткие водомерки врассыпную веером прыскали от него под защиту берега; тенью плот наплывал на плотву, стоящую в изумрудной траве, длинными космами устилающей дно, накрывал желтые песчаные отмели со стайками пескарей с буро-серыми спинками и серебристыми боками. Пескари встревоженно скатывались в защитную глубину и немного погодя возвращались назад, выстраиваясь клином: на острие малявки, за ними плыли покрупнее, потом еще крупнее, и замыкали шествие матерые пескарищи — толстые усачи с желтоватым брюшком.
— Ой, у вас весело! Песенки поете! А можно мне к вам? — Рыбка выпрыгнула из воды, улеглась на бревнах рядом со Змейкой, положила голову на бок Барашки и запела пронзительным голоском с легким японским акцентом:
— «У моря, у синего моря, с тобою мы, рядом с тобою. И солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой…»
— «А над морем, над ласковым морем, мчатся чайки дорогой прямою. И сладким кажется на берегу поцелуй соленых губ…» — ладным баском подпевал ей Карпий Иванович.
Он плыл впереди, то и дело высоко выпрыгивал из воды, бил хвостом, поднимая фонтаны брызг, и ловил Рыбку преданным взглядом.
Та не выдержала призывных взглядов и нырнула обратно в речку. Они закружились в глубине. Потом Рыбка высунула голову и смущенно спросила:
— Ребята, а можно я дальше с вами не поплыву? А то голова что-то кружится.
— Ясное дело, кружится. Ваше дело молодое, — ответила Выхухоль. — Гуляйте, пока гуляется. — И вздохнула.
— Ребята, вы там у омута поосторожнее, побдительней, — сказал Карпий Иванович. — Там этот, усатый.
— Разберемся как-нибудь, не маленькие, — сказал Мотылек и рубанул воздух мечом. — Сами с усами!
— Пока и до встречи! — крикнула Рыбка, и они с Карпием Ивановичем исчезли из вида.
Выхухоль и Великий поход. По воде.
Нападение
Подплыли к глубокому омуту. Над поверхностью кое-где торчали коричневые, окаменелые, затянутые зеленой плесенью обломки толстых деревянных столбов — остатки запруды у старой мельницы.
Мотылек уселся на корме, стянул берцы и, охлаждаясь, болтал ножками в воде.
Вдруг огромная тень поднялась к нему из темно-синей глубины, неведомая сила сдернула Мотылька с плота и потащила вниз.
— Карпий Иваныч? Брось шутить! О-о-о-ох! — закричал Мотылек; он ушел в воду с головой, на мгновение вынырнул и вцепился в край плота. — А-а-а-а-а!
Змейка стрелой метнулась к нему, и Мотылек из последних сил ухватил ее за шею. Змейка едва успела обвить хвостом ногу Барашки. Шея Змейки вытянулась, словно резиновая, глаза полезли из орбит. Барашка упала на бок, уперлась в бревна своими острыми копытцами и во весь голос пищала. Всю цепочку неудержимо тянуло в воду, когда Выхухоль упала на Барашку и придавила ее своим весом. Плот перекосило, он закружился на месте.
— Тяните! — кричал Мотылек. — Тяни-ите, — и бил ногой вниз, вторая нога была зажата. В воде угадывались очертания круглой усатой головы с холодными немигающими глазами.
Борис перепрыгнул через Выхухоль, подскочил к краю и со всей силой ударил шестом вниз, как копьем, стараясь не задеть Мотылька. Шест ткнулся в твердое и отскочил.
— Бей! Бей! — кричал Мотылек, продолжая отчаянно лягаться. Борис ударил еще раз, еще, шест угодил в мягкое, вода вскипела, поднялась, плот закачало на волнах, и тут же Мотылек пробкой вылетел из воды. Все повалились на плот.
— Га-ад такой! — кричал Мотылек, лежа на спине и разглядывая ногу. По ней как будто жестко прошлись теркой, сочилась кровь. — Та-дэ ма[14]!
— Это что такое было? — спросила, отдышавшись, Выхухоль и полезла в свою сумочку за йодом и бинтом.
— Сом, — сказал Борис. — Я таких не видел еще. Метра два.
— Ой, я так напугалась, так напугалась! — Барашка дрожала всем телом, вода ручьями стекала с ее кудряшек. — Это усатый!
— Я ему покажу-у, — простонал Мотылек зловеще. — Я ему усы-то поотрубаю. Тоже мне, еду себе нашел… Ой, жжет же!
— Кхе-кхе-кхе! — послышалось деликатное покашливание со стороны ближайшего куста. — Друзья мои, не затруднитесь оказать любезность… — На ветке головой вниз висел мокрый до кончиков перьев, сразу как-то похудевший и помолодевший Канарей. Одной лапой он цеплялся за ветку, другой удерживал на течении свалившуюся с плота корзинку для пикников. — Помогите спуститься, пожалуйста!
Борис втащил на плот Канарея и его драгоценный груз.
Выхухоль закончила обработку мотыльковой ноги и взялась за Змейку. Та растянулась вдоль плота, закрыв глаза, с неестественно вытянутой шеей. Казалось, она удлинилась в два раза. Змейка кашляла и все никак не могла откашляться. Выхухоль плотно обвязала ей шею эластичным бинтом. Достала капли и закапала Змейке в рот. Подумала и на всякий случай капнула и в глаза.
— Как ты? — спросила она.
— Х-х-х-о-ро-ш-ш-о, — едва слышно прошептала Змейка и бессильно привалилась к Барашке. Кончик хвоста с погремушкой свесился в воду. Мотылек заметил, вытянул хвост и положил на плот, озираясь при этом по сторонам.
— А где мой меч? — спохватился он.
— А вот он, между бревен закатился, — сказала Барашка. — Я чуть не напоролась.
— Давай, Борис, толкай сильнее, двигаем поскорее отсюда, — сказала Выхухль, — не нравится мне это место.
— Кило взрывчатки сюда, — мрачно сказал Мотылек. — И все дела.
— Да, да, здесь страшно! Очень! — поддержала Барашка. — Давайте скорее поплывем!
Борис резко оттолкнулся шестом и погнал плот вперед по течению.
Выхухоль и Великий поход.
Встреча на слиянии
К месту слияния приплыли, когда солнце уже опускалось. Здесь сходились две реки. Дальняя, теплая и черная от торфяного дна и вязких берегов, и ближняя, холодная и светлая, бегущая по песчаным мелям от родника к роднику. Две сестрички, Чернушка и Белянка, встречались после разлуки. Обе неглубокие и рыбные, хотя ближняя и побогаче.
Они смыкались, как две руки, а в широком объятии между ними на мысу лежала зеленая поляна размером чуть ли не с футбольное поле. Сверху к ней спускались из бора сосны, а по бокам вдоль речных берегов стеной стояли ивняк и малинник. Поляна была открыта солнцу и защищена от ветра.
— Так, не теряем времени, скоро совсем стемнеет, — сказал Борис. — Я ставлю палатку, Канарей за хворостом, Барашка за водой.
— Я тоже за дровами, — сказал Мотылек и бодро захромал к соснам, проверяя в кармане телефон.
— Погодите, — сказала Выхухоль. — Сначала решим важный вопрос.
— Какой вопрос? — спросил Борис.
— Ну, девочки направо, мальчики налево…
— А, ну да. Значит, так: девочки — направо, мальчики — налево! Мусор где попало не бросать. Собираем все в мешок, — Борис выдернул из рюкзака большой черный полиэтиленовый пакет, подвесил к дереву.
Поставили палатку, разожгли костер на старом кострище. Подвесили на рогульках с поперечиной котелок с водой для чая. Нарезали хлеб, колбасу, огурцы, лук. Выложили на траву картошку и стали ждать, когда дрова прогорят, чтобы испечь на углях. Борис насаживал на веточку кусочки черного хлеба и обжигал на огне.
— Ой, так вкусно пахнет! И так все романтично! Так лес шумит! — восторгалась Барашка. — Сейчас будем истории рассказывать, да?!
Солнце уже скрылось, когда с неба раздался гул турбин и на поляну, раздувая пламя костра, мягко опустился вертолет с бело-синей эмблемой «Росатома» на борту. Из него выпрыгнули четыре автоматчика в черных комбинезонах, затем, пригнув голову, выскочил лысый человечек в белом кимоно с мечом наперевес.
Он устремился к костру.
Наперерез ему бросился Мотылек, выхватывая из-за спины свой меч.
Сверкнула сталь, на весь лес разнесся звон металла, раз, другой, и снова, и снова…
Борис потянул из ножен свой верный шведский нож.
Канарей взмыл в воздух и вошел в пике, готовясь атаковать самого рослого охранника.
Барашка, возвращавшаяся от «девочек направо», подкралась с тыла и с разбега ударила под колено рыжего автоматчика, тот рухнул на землю как подкошенный, голова гулко ударилась о поваленный ольховый ствол. Барашка грозно нависла над ним.
Три других автоматчика вскинули стволы.
Только Выхухоль сохраняла спокойствие, словно происходящее ее не касалось, и не торопясь подбрасывала в огонь ветку за веткой.
Вдруг два сражающихся бойца разом застыли, вскинули над головой мечи, бросились друг к другу и обнялись. Подошли к костру, сели на бревнышко.
— Ха! Смотрю, форму не теряешь, — сказал Мотылек.
— Работа такая, — качая головой, Лысый разглядывал в свете костра свой меч, лезвие было все в зазубринах. — Хоть выкидывай теперь. А ведь меч неслабый. Что у тебя за чудо такое?
— Подарок. — Мотылек нежно провел лапкой по лезвию своего меча. — Не поверишь. Выкован в Камакура самим Масамунэ.
— Масамунэ?! Не может быть! Сто слоев стали!
— Сто двадцать восемь.
— Это же реликвия! Шестьсот лет. Ему цены нет! Как добыл?
— Не добыл — подарили, говорю же. Сам император. — Мотылек хвастливо вздернул подбородок. — Вовку Солнцева на таможне с ним тормознули, хоть он и по диппаспорту. А он им бумагу под нос: подарок императора! Личный! С его печатью. Те аж на колени упали! — Мотылек снова погладил меч.
— Ну ты даешь! Наш пострел везде поспел. Продай!
— Не-а!
— Ну обменяй! Что хочешь проси! Хочешь дачу на Рублевке? С вертолетной площадкой, со всеми делами? — Лысый подскочил на месте. — «Майбах» в придачу? Все, что хочешь!
Мотылек довольно рассмеялся:
— Ни-ког-да! И не проси лучше, а то поссоримся. Зачем мне твоя дача? У меня весь мир в кармане. И подарок не дарят, между прочим. Недавно, кстати, на заточку в Японию отправлял, два месяца работы и восемнадцать штук зеленых. А не жалко!
— Да уж, такой красавец дороже всего!
— Ты знаешь что? Давай оставайся с нами, перекусим! И-бянь чи, и-бянь тань[15]! — Мотылек тщательно протер меч куском замши со смазкой и убрал в ножны.
— Се-се, мэй ши-цзянь! Ся и-цы, — ответил Лысый, переводя взгляд на компанию у костра. — Вомэньдэ бао-бэй дайлала мэй-ю[16]?
— Дайлала, — ответил Мотылек. — Дэн и-хуэй[17].
Лысый вгляделся в Выхухоль.
— Мы с вами случайно не пересекались, мадам? Э-э… Конго, восемьдесят шестой. Да… Алмазные прииски Кампангала, бунт племен? Лагерь миротворцев…
Выхухоль твердо смотрела ему в глаза.
— Меня часто с кем-то путают, — сказала она. — У всех есть свои двойники. Мир большой. Стоит только поискать.
— Ну, вас вряд ли с кем-то спутаешь, — сказал Лысый. — Впрочем, дело прошлое, да и не мое… Друзья моих друзей — мои друзья. — Он повернулся к Мотыльку. — Ну что, я готов принять груз — и мы отчалили…
Он махнул своим автоматчикам. Те пошли к вертолету.
— Погоди, куда ты спешишь? Давай по маленькой, на дорожку! — Мотылек взял у Бориса фляжку, разлил по серебряным стопкам. — А то как-то не по-людски. Ты не обижайся из-за меча, правда, не могу!
— Эх, — огорченно вздохнул Лысый. — Жаль.
— Так выпьем на дорожку?
— Ну, если только на дорожку. Давай. Самую малость.
Выхухоль и Великий поход. Пикник
Лысый опрокинул стопку:
— «Тверская»? Давно не пригубливал. По кишочкам так и побежала! Еще плесни… Хм… Хороша! Николай, — крикнул он в сторону вертолета, — достань нашу, фирменную. И куртку мою захвати.
Автоматчик бегом притащил ящик с бутылками.
— Наша особая, «Атомная» — сказал Лысый, устраиваясь на валежине у костра. — Попробуй. Из Нижнего. На святой фактически воде. Но чур — я только на пять минут!
— Об чем разговор, — ответил Мотылек. — Что, в первый раз, что ли… Вот, хлебушка возьми печеного… Не обожгись. Колбаски положи сверху. Давай-ка я тебе сальца настругаю, с чесночком, с горбушечкой черного… Огурчик не маринованный, а соленый, как ты любишь… Вот так! Ну, поехали?
Дальнейшее Борис помнил смутно, отдельными кадрами.
Вот всей компанией пробуют «Атомную», хором заводят «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету…»
Вот все играют в футбол на поляне, пока мяч не улетает в реку.
Вот все таскают из углей печеную картошку, и Мотылек пробует тихо и душевно петь, как бы сам себе, еле шевеля измазанными сажей губами:
— «Ах ты степь широкая, широкая, раздольная! Ах ты, Волга матушка, Волга вольная». «Ах ты, мать-Янцзы, речка-матушка! Далеко бежишь средь степных равнин!» — и вытирает набежавшие слезы…
Вот он же достает из своего рюкзака квадратный металлический чемоданчик и передает Лысому.
Лысый расцеловывает Мотылька, кричит: «За мирный атом! Буду сватом!» — и по-гусарски, с локтя пьет водку.
«А кто не сватом, тот с автоматом!» — отвечает Мотылек и пьет с лезвия меча, не касаясь руками рюмки, зажав ее губами.
Вот Канарей предлагает всем «отведать, наконец, ну боже мой, достойного вина!», раскрывает свою корзинку для пикника, наполняет бокалы, автоматчики пьют залпом, потом из них же, не делая паузы, — «Атомную», уже вместе с Канареем. Вот Канарей смешивает коктейль из коньяка, шампанского и водки. Вот он же, дико смеясь, пытается отбрать у одного из охранников автомат. С криком «Миру мир, войне пиписка!» — отбирает и закидывает автомат в реку… Охранник ныряет, за ним следом плывет Канарей, держась за корзинку для пикника, в клюве дымящаяся сигара…
Вот Змейка, сорвав с шеи бинт, обвивается вокруг фужера с шампанским и хрипло поет «Tombe la neige» на вполне приличном французском. Вот она же на плечах рыжего автоматчика, хохоча накрашенным ртом, играет с ним в «камень, ножницы, бумагу», и проигравший пьет рюмку за рюмкой…
Вот все бросают ножи в сухую сосну…
Вот Лысый и Мотылек улетают за водкой, возвращаются, с ними почему-то человек с пышной кудрявой шевелюрой в блестящем костюме сказочника, со звездочками, до жути похожий на Юрия Энтина. Вот «Энтин» обнимается с Барашкой, кудряшки сливаются с кудряшками, и вместе со Змейкой они поют: «Ах, глаза у Синеглазки, вы у неба взяли краски, и небесной красотой синий взор сияет мой…»
Вот Выхухоль уводит девочек спать в палатку, обреченно махнув лапой на все происходящее…
Выхухоль и Великий поход.
После пикника
Борис проснулся на траве у берега реки. На песчаной косе у мыса, который образовало слияние двух рек, умывался, отфыркиваясь и сладко охая, голый по пояс Лысый. Правый бок пересекал старый, едва видимый шрам. Между загорелыми лопатками двигалась татуировка — девочка на шаре. Шар сжимался и надувался, а девочка то поднималась на цыпочках, то опускалась.
Мотылек сидел рядом на песке и, сгорбившись, курил сигару. Время от времени, ежась от утреннего холодка, расправлял под солнышком крылья, и тогда на них и на спине между лопатками открывались три красные лопасти вентилятора — знак радиационной опасности, нанесенный краской из распылителя минувшим вечером, весьма, впрочем, аккуратно, не без художественного вкуса.
Уткнувшись в мель, у берега рядом с разбросанными удочками сиротливо покачивалась полузатопленная корзинка для пикника, из которой торчали горлышки шампанского в серебряной фольге.
— Доброе утро, — прохрипел Борис. — Все живы?
Лысый оглянулся.
— Доброе утро! Николай, — крикнул он в сторону костра. — Утренний завтрак сюда!
Комбинезонщик принес поднос, на котором стояли стаканчики с «Кровавой Мэри» — томатным соком с водкой и дольками лимона, нанизанными на край, рядом шипела на сковороде яичница с колбасой.
— Эх, еще бы пивка, — сказал Борис.
Николай зашел в воду, вытащил ящик с пивом из-под куста.
— О, «Пауланер»! — Борис выпил залпом «Кровавую Мэри», съел пласт посыпанной перцем горячей яичницы с ломтем черного хлеба, закусил половинкой луковицы, не торопясь осушил бутылку пива. Взгляд прояснился, жизнь налаживалась, природа и всё вокруг заиграли свежими, необычайно яркими красками. Воздух наполнился ароматами сосен, травы и цветов. Вернулась давно забытая детская радость восприятия — на фоне чувства некой вечной вины перед миром и вытекающего отсюда смирения. — Здорово мы вчера посидели. А хорошие у тебя друзья, Мотылек!
— А то! — сказал Сяо-цань. — Проверенные.
Борис посмотрел на корзинку для пикника в воде, огляделся.
— А где Канарей? — Он встревожился, встал, обошел поляну. Прошарил кусты, поднялся к соснам.
— Канарей пропал, — сказал он Мотыльку, вернувшись. — С работы же будут звонить, искать, а что я им скажу?
В вертолете заговорила рация. Охранник выслушал и подбежал к Лысому, долго что-то докладывал на ухо.
— Нашелся ваш Канарей, — сказал Лысый. — В городском УВД, в местном.
— Ох ты! — сказал Борис.
— Ночью повыпускал из зоопарка всех зверей, ну, и птиц тоже, понятное дело. Сразу задержать не удалось. Не подчинялся законным требованиям полиции, отбился от двух патрульных нарядов, нанес телесные повреждения. Верткий оказался, не смотри что интеллигент. — Лысый хмыкнул. — А повязали его уже в питомнике служебного собаководства. Там тоже всех овчарок из вольеров повыпускал. Хорошо, перехватили вовремя.
— Мама моя! — сказал Борис. — Надо выручать.
— Не надо, — сказал Лысый. — Сидит сейчас вино пьет с Михалычем, начальником полиции. Вечером его доставят домой, просили не беспокоиться.
Лысый сел возле Мотылька. Обнял за плечо.
— Ты даже не представляешь, что ты для нас сделал.
— Представляю, — сказал Мотылек. — Для всех делал.
— Раньше за это сразу на грудь звездочку. Похлопотать?
— Да куда мне их, солить?
— Имей в виду, тебе благодарны на самом высоком уровне.
— Вот мой самый высокий уровень, — Мотылек обвел рукой компанию у костра. Походники с усталым видом пили кофе, нехотя жевали бутерброды.
— А может, все-таки к нам? Гражданство оформим чин по чину. Легализуем.
— Нет, я сам по себе. Привык. Так оно спокойнее.
— Ну смотри. Ласковый телок двух маток сосет, да? — Лысый засмеялся и попытался надвинуть Мотыльку бейсболку на глаза. Тот не дался и ловким приемом завел Лысому руку за спину.
— Или трех? — не унимался Лысый.
— Какая тебе разница? — ответил Мотылек. — А насчет гражданства, пожалуй… да, паспорт сделай нормальный, на всякий случай. А то участковый косится.
— Правильно делает твой участковый! — Лысый встал с бревна, заправил тенниску в брюки. — Бдительность нужна… Эй, орлы, готовы?
Охранники тем временем собрали весь мусор, залили водой костер. Поляна была как новенькая.
— Ну, нам пора! — сказал Лысый. — И так задержались. Мне уже все обзвонились. Вас назад забросить?
— Да хотелось бы, — Выхухоль подошла, потягиваясь. — А то вы всю ночь нам спать не давали. Не дойдем.
— Может, я останусь? Половить-то не успел толком, — сказал Борис.
— А с тобой, Борис, я дома поговорю. Эти-то ладно, молодые, а ты…
— Да я тут хотел новые места проверить. А вечером вернулся бы, а? Или завтра? — без особой надежды спросил Борис.
— Потом проверишь, — сказала Выхухоль. — Вчера проверил уже, будь здоров как. Вон иди свои удочки собирай, по всему берегу раскидал. «Сейчас заброс покажу, заброс покажу!..» Спасибо, глаз никому своим спиннингом не выбил. Девчонки, давайте на борт! Пошустрее, пошустрее!
Выхухоль и Великий поход. Возвращение
С помощью охранников быстро собрались, сняли палатку, закинули все в вертолет. К деревне долетели за несколько минут. Домики внизу были маленькими.
— Куда вам? — крикнул пилот.
— Вон, к высокой ели! На поле давай! — ответил Мотылек.
Они зависли над полем.
Рыжий Коля, сидевший на коньке крыши у соседки Татьяны, чуть не выронил молоток. Да не чуть, а все-таки выронил. И скатился сам, оглашая окрестности нецензурными выражениями.
Вертолет высадил походников, охранники выгрузили рюкзаки.
Козлы, тусующиеся возле ограды Наташи-молочницы, вскинули бороды, переглянулись и потрусили в перелесок, от греха подальше.
Лысый обнял Мотылька:
— Значит, как договаривались. Цзай Сянган цзянь-мянь![18]
— Сян нидэ ай-эжэнь, хайцзымэнь дадэ вэнь-хао! И-лу пин-ань![19] Ты, главное, насчет газа не забудь подсобить, как обещал!
— Уже распорядился, люди заряжены. Пацан сказал, пацан сделал!
Лысый вскочил в вертолет.
— Хорошего полета и мягкой посадки! — крикнул Мотылек.
— А меч? Может, продашь все-таки?
Мотылек отрицательно покачал головой.
— Ну ладно тогда! До встречи! — крикнул Лысый.
Вертолет поднялся вверх и исчез в солнце. Компания гуськом двинулась через калитку.
— Барашка, Барашка, постой! — к забору галопом подлетела Рыжая Зойка. — Это кто прилетал? Это, это… вы прилетели? — Коза еле перевела дух.
— Кто надо, тот и прилетел, — отрезала Барашка, захлопнула калитку перед ее носом и направилась к дому, напевая:
«Я знаю пароль, я вижу ориентир,
Я верю только в это, любовь спасёт мир…»
— А этот, черныш, Канарей этот ваш, он меня в бок клюнул, — пожаловалась ей вслед Зойка. — Как налетел, как набросился, целый клок выдрал, еле закрыла, начесом, вот, — она повернулась ободранным, в репейниках, рыжим боком. — А еще интеллигентом прикидывается, шляпу с пером нацепил, очки…
— Пенсне. Не очки — пенсне! — Барашка остановилась. — А не доводи! И нечего вообще о других гадости говорить! — Оглядела Зойку. — Ужасно выглядишь, ужасно! — Печально покачала головой. — Мешки под глазами, цвет лица нездоровый… Неудивительно, что тебя преследуют неудачи в личной жизни и что в кино ты сама себе покупаешь билеты… Хоть бы ресницы нарастила! И зубы отбеливать давно пора! — Барашка взглянула в зеркало, улыбнулась сама себе, победоносно вскинула голову и пошла домой, грациозно подбирая на ходу упавшие на землю спелые, розово-седые сливы.
Выхухоль и вечер после похода
С рассказом Бориса о рыборазводке
на атомных станциях
Вечером Борис и Выхухоль сидели на веранде. Борис откупорил бутылку пива. Выхухоль пила чай с шиповником.
— Мотылек-то наш каков, а? — сказала Выхухоль. — Лихой.
— Где он, кстати?
— С газовиками ужинает, в поселке. — Выхухоль нахмурила брови и приняла серьезный вид. — Вот что я тебе скажу, Борис, Мотылек-то ладно, молодой, а вот ты вчера, я прямо не ожидала, наклюкался, слова никому сказать не давал, не слушал никого, всем удочки совал…
— Да ладно, ладно! Понял я все, понял, — покорно сказал Борис. Он был тихий. Погладил усы и перевел разговор:
— Мотылек, да… Он вообще… дает. Да все мы молодцы, здорово сходили. Ты классно придумала! Что бы мы без тебя делали!
— Ладно, не подлизывайся, подхалим — сказала Выхухоль. — Но все равно приятно. — И засмеялась.
— Слушай, — осторожно сказал Борис, — а мне померещилось, или… вроде Энтин с нами песни пел, нет? У костра когда, в костюме таком красивом, с жабо кружевным… Жабо вроде бы загорелось, шампанским тушили, как из огнетушителя…
— Ох, — сказала Выхухоль. — Энтин и был. Когда за водкой летали, его и привезли. У него дача рядом. Потом отвозить пришлось. И опять за водкой летали, в Насадкино… Уж натворили делов… Татьяна-лоскутница зашла днем, ты спал, рассказывала, сегодня Нинка со своей торговой лавкой оттуда приезжала, говорит, ночью там у них чуть не война была, ниндзя в белом с мечами гоняли местное хулиганье, автоматчики ее ночью с постели подняли, заставили магазин открыть. Стреляли. В воздух.
— Н-да, — сказал Борис.
— А еще из поселкового совета к тебе приходили. План составляют, разводку газовую будут делать, на всю деревню, отвод от газопровода оформили, уже траншею копать начали, говорят…
— Ух! Вот это Мотылек! Сколько лет мы газ просили провести…
— Не имей сто рублей, — сказала Выхухоль.
— А имей тыщу двести… — сказал Борис. — Знаю я этот Росатом.
— Да вроде ничего ребята, — сказала Выхухоль.
— Да ничего-то ничего, а вот приключилась у них однажды история, не поверишь, — начал рассказ Борис. — В бытность мою ихтиологом меня пригласили к ним в Росатом. Время было смутное, еды мало. У них комбинат питания простаивает, поставок нет. Организация огромная, кормить надо. Пригласили меня к ним на аудиенцию, это в центре, на Новокузнецкой. Два генерала, трое штатских. — Борис налил себе еще пива. — Говорят, Борис Леонидыч, нам тебя рекомендовали как специалиста высшей квалификации, давай рыбой займись. У нас, говорят, атомные станции по всей стране. Реакторы охлаждаются водой. Площадь водных зеркал офигенная. Объемы внушительные. Тепло бесплатное, реакторы так и так охлаждать надо. Вот и давай нам в охладителях рыбу разводи, ты же голова. А мы тебя не обидим. Оклад, премии, социалка, квартиру обещали…
Выхухоль внимательно слушала.
— Ну а мне что? Я тогда рыборазводкой как раз занимался. Правильно говорить — зарыбление, но это слово я терпеть не перевариваю. Рыборазводка — вот это да! Прикинул, список набросал, какая рыба подходит, ну, там сазан амурский, карп, амур черный и белый, толстолобик пестрый и обыкновенный, линь, карась, буффало канадский опять же, тиляпия. Посчитал все по деньгам и срокам, приношу этим генералам в штатском. Они обрадовались, когда я им цифры озвучил.
— И?
— И пошло-поехало. Выделили средства, закупили посадочный материал, я набрал команду профи, каждый за свой род рыб отвечал. Андрюху Татищева пригласил, ну, ты его знаешь, графа нашего, поручил ему курировать тиляпий. Они неприхотливые, нетребовательные к условиям обитания и кормовому составу, быстро набирают вес, но вот в чем петрушка — отличаются вздорным характером и вообще крайне глупые. Только Татищев с его железной волей и бесконечным терпением и мог с ними справляться. Как-то, во время перевозки молоди, тиляпии выдернули у него из кармана комбинезона пачку «Примы», сожрали, совсем одурели, затеяли драку с канадскими буффало, мол, понаехали тут всякие, а те ребята с характером, задиристые… такое началось! Если б не Андрюха с его переносным водобоем, он сам сконструировал, кстати… Впрочем, не об этом разговор, это детали. В общем, работаем с командой на совесть, мотаемся по стране, стараемся, рыборазводка кипит, охладители атомных станций дают рыбную продукцию.
— Но там же радиация?
— В пределах нормы. Ну, так мне сказали. Да и народ надо поскорее накормить. В общем, год-два нормально все шло, такую массу рыбы с метра кубического брали — немцы обзавидуются со своими рыбоводными цистернами. Они у китайцев, кстати, их подсмотрели. Главное, на станциях тепло-то дармовое. Так все здорово развивалось, а потом… началось… — Борис грустно покачал головой и выпил пива.
— Что началось?
— Персонал начал пропадать. Который ухаживал за этими охладителями, солдатики этим занимались, понятное дело, режим секретности, да и платить не надо было. Сначала думали, ну там один пропал, другой, всякое бывает, может, дезертировали, может, еще что, дело житейское, а тут — серия. И по всем станциям. Что делать? На всякий случай заварили все люки, там же люки сделали особые, через них корм туда, внутрь, а оттуда сети с рыбой. Заварить заварили, а что там внутри происходит — кто знает? Мутация дело такое… Только удары стали раздаваться. Такие изнутри — бум, бум, бум. И сталь выпирает. А там же еще титановая тройная защита. На всякий случай заварили все сплошь еще броневыми плитами. Но удары все сильнее, аж станции стало трясти, угроза конструкции. Ну, тут уж безопасность вмешалась. Прилетает комиссия во главе с генералом из Москвы на одну станцию, не буду называть какую, подписку дал. Открывайте, говорит, буду смотреть.
Борис прервал рассказ, достал из внутреннего кармана фляжку, вопросительно посмотрел на Выхухоль. Она кивнула:
— Только немного, не как вчера.
— Само собой. Я свою норму знаю!
Борис выпил, завинтил фляжку, обвел отсутствующим взглядом вечерний сад.
— Ему, генералу, говорят, не надо, подождем специалиста. То есть меня. А меня, слава богу, тогда подагра скрутила. А генерал — нет, я боевой генерал, открывайте. Хотя какой он боевой, шаркун паркетный с Арбатской площади… Ну, ему сварочным аппаратом прорезали отверстие триста на двести миллиметров. Тряпкой сверху прикрыли. А дальше уже стекло было бронебойное со щитком. Он говорит, так, все отсюда вон. Сам тряпку поднимает, щиток отодвинул и приникает к отверстию. Ну, все вышли по приказу, ждут. Ждут десять минут, двадцать, час уже прошел. Не выдержали, открывают, видят, лежит генерал на полу, а голова…
Борис сделал паузу. Отпил из фляжки без спроса.
— Что голова? — Выхухоль привстала в кресле. — Оторвана?
— Да если бы, — сказал Борис. — Если бы оторвана. Голова — вся белая. Как бумага. И брови седые. И ногти на руках побелели. А на ногах — почернели! — Он отпил еще.
— Ну, а потом?
— Потом очнулся, а сказать ничего не может. Слюна течет. Трясется весь. Руками водит перед собой туда-сюда, мычит. Даже честь отдать не может. Да и некому. Его сразу в госпиталь доставили. Отверстие заварили. А толку что? Удары эти все сильнее и сильнее. Здания ходуном. Уже начали население окрестное от станций отселять.
— То есть катастрофа?
— Полная. Полный… звиздец. Тут ученых задействовали, военных. Я же всё с подагрой мучаюсь, а ребят моих в Монголию отправили, по обмену опытом. Военных привлекли. Те говорят, надо успокоительное залить в охладители, может, подействует, хотя и без гарантии. Ну и стали заливать тоннами всякие транквилизаторы. Чтобы эти твари, внутри которые, успокоились.
— А что они там ели-то?
— Думаю, вначале друг друга, а потом как-то приспособились. Еда ведь это что такое? Это энергия. А энергии на станциях там полно. Однако поняли, что ничего на тварей этих не действует, и решили уже все станции законсервировать и залить бетоном. Но, как всегда, вмешался случай. Его величество случай. В лице тульского солдатика. И в лице нашей расхлябанности. — Борис усмехнулся. — Там же как — всем в охране на станциях этих давали солдатам бром пить, как в армии всем дают. Так вот один воин где-то хлебнул лишнего с сослуживцами, пошли, говорит, успокоим гадов, как нас успокаивают. В шутку, значит. Берет свою чашку чая с бромом — и в отверстие заливает, через которое транквилизаторы засаживали. Хотя все эти дела на пломбах, под страхом трибунала и прочее. Пломбу сорвал — и чай туда залил. Да. Ну, пьяный же. И спать пошли. А утром чуть свет тревога — всех на плац. Командир полка спрашивает, кто вчера пломбу сорвал и что туда залил? Ну, сначала солдатик держался, потом видит, дело плохо, всех накажут, по дисбатам рассуют, а то и похуже, вышел вперед и говорит, я залил. Чай с бромом. И тут полковник подходит к нему, обнимает, целует троекратно, и говорит, представлю к Герою! Или к ордену Мужества.
— И что, представили? За что? — спросила Выхухоль.
— Ну, солдатика, конечно, никто никуда не представил, дали отпуск на родину на две недели, а он и рад. А «Героев» дали главному в Росатоме, трем генералам и этому полковнику. За то, что предотвратил катастрофу. Еще квартиру в Москве трехкомнатную, правда, на полях орошения в Марьино, на канализационнных, но для него это как манна небесная — до этого он вообще по семейным общежитиям после развода скитался. «Героя» потом у него отобрали за пьянку, а квартиру оставили, пожалели…
— А твари эти успокоились?
— В том-то и дело. Удары прекратились. Как отрезало. Потом уже опытным путем рассчитали нужную дозу. Я и рассчитывал. Там нужны-то миллиграммы брома на один охладитель в квартал. В общем, спасли станции. И энергетическую безопасность. Всей страны.
— А генерал этот? Оклемался?
— Какое там. Так сознание и не вернулось полностью. Овощ овощем. Но смотрю тут телевизор — академиком геополитических наук заделался, из ящика не вылезает, на шоу всех подряд выступает, слюной брызжет, пятую колонну везде ищет. Это у него от той истории осталось, окошко для него как раз в пятой колонне охладителя прорезали…
— Эх, чего только в жизни не бывает, — вздохнула Выхухоль. — Никакой писатель не придумает. А тебе дали чего-нибудь?
— Ну, сделали замом этого комбината питания в Росатоме. И еще комнату в коммуналке на Комсомольском проспекте дали… Там соседка еще та была, газеты, коробки в коридоре, мусор годами копила… Но я недолго на комбинате задержался. Котлеты, борщи, комплексные обеды… Сытно — но не мое. Уволился. Мне друг еще стихи тогда написал, как бы от моего имени, на прощание и расставание с Росатомом, хочешь, прочитаю?
— Валяй, — сказала Выхухоль, — я стихи люблю. Только если не очень длинные.
Борис сходил за блокнотом, раскрыл.
— Вот, слушай:
На уход друга Бориса Дубова из Мирного атома
Мне опротивел Мирный атом,
Да ну его в дуду!
Котлету не смешать с салатом!
Ты, это, ви хайст ду?
Мне надоело на работе
Бахилы надевать
И в робкой ядерной заботе
Свой щуп везде совать.
Да ну его, тот Мирный атом!
С его всегдашним «стоп»,
Конфету не скрестить с томатом,
Ты понял, остолоп?
И есть ли он — тот Мирный атом?
Не надо нам ляля!
Надежней все же автоматом
И пулеметом, мля.
Уйду туда, где пахнет нефтью,
Где люди веселы,
Где не пугают тихой смертью
Шайтан-рентген-оглы.
Я Боря, я скрывать не стану,
Добрее я бобра.
Я из штанов своих достану
Энергию добра.
Но если заругают матом
И попадут в беду,
Ты свистни только, Мирный атом,
И я к тебе приду.
Верну с лихвой свою утрату,
Покой и мир верну.
За очень скромную зарплату
Башку тебе сверну.
Борис закончил читать. Посмотрел на Выхухоль и сказал:
— Я тут слово одно заменил в самом начале, непечатное.
— Да там много слов можно заменить, — сказала Выхухоль. — Какое-то стихотворение… недоброе… Друг этот твой… А вы что там, все время в бахилах ходили?
Борис не ответил и встряхнул фляжку.
— Допью, что тут осталось-то?
— Ладно, сегодня можно, — разрешила Выхухоль. — День тяжелый. Вернее, ночь вчерашняя. И давай на боковую, поэт, все уже спят давно, намаялись.
Выхухоль и вечер после похода.
Появление Щенка
Только собрались разойтись и улечься спать, как за окном послышался вой полицейской сирены. Борис и Выхухоль выглянули в окно. К воротам подкатил полицейский «Мерседес» с мигалкой. Двое в форме вывели из машины Канарея и под крылья повели в ворота. Довели до веранды, поставили попрочнее, отдали честь и удалились.
— Ми-лейший! Ми-лейший человек оказался этот полковник, начальник ГУВД. — Пошатываясь и хватаясь за перила, Канарей поднялся по ступеням, рухнул в кресло, прикрыл глаза. Пенсне было перекошено, дужка погнута, одно стеклышко треснуло. Черные перья не блестели, как обычно, их словно обрызгали из пульверизатора серой краской. Левый глаз был украшен синяком, клюв обтерся, когти потрескались, один был сломан.
— Правда, вначале вел себя несколько грубовато. — Канарей с трудом открыл глаза, потер скулу и болезненно поморщился. — Но потом мы нашли общий язык. Он увлекается… У него, оказывается, свое шато и винодельня в долине Луары, на юге, у огромной горы… э-э, забыл название, виноградник на западном склоне, шестьдесят гектаров, прекрасное делает «Каберне фран» и «Совиньон», угощал, да… Приглашал к себе. А я его к нам…
— Вот уж не надо! — сказала Выхухоль. — Иди-ка ты спать, освободитель зверей и птиц… Вон уже глаза не открываются.
За окном снова завыла полицейская сирена, «Мерседес» вернулся.
— Ну, что там еще? — насторожилась Выхухоль.
К веранде подошел полицейский с картонной коробкой из-под вина.
— Извините, забыли. Подарок от Михал Михалыча. — Поставил коробку и удалился.
В коробке кто-то скребся и поскуливал.
Борис с опаской открыл коробку, из нее выбрался толстый щенок, встал на задние лапы и лизнул Борису руку.
— Восточно-европейская овчарка, — Борис достал щенка, прижал к груди. — Породистый. Мальчик.
— Ой, какой хорошенький! — закричала Барашка, появившаяся из сада. — Такой толстенький! Это наш? Ой! Вырастет, будет меня охранять.
Выхухоль покачала головой.
— Борис, это же не забава, это ответственность.
— Ну, где пятеро, там и шестой, — сказал Борис.
Щенок тявкнул.
— Давайте назовем его Пограничный пес Алый! — предложила Барашка.
Щенок пискнул и завилял хвостиком.
Все посмотрели на Выхухоль. Та вздохнула:
— Только выгуливать его сами будете. И пусть все свои дела за забором делает. Ясно?
— Ясно, — сказал Борис.
— Я, я буду выгуливать! — сказала Барашка.
— Сейчас пусть пока на веранде спит. Тряпку положите. Так, Борис, конуру ему устроишь у сарая. Сейчас молока ему нагрей. А завтра корм купи нормальный, собачий, в поселке. Да бери лучше импортный.
Щенку дали молока, он быстро заснул. В кресле похрапывал Канарей. Иногда храп переходил в легкий свист. Канарея накрыли лоскутным покрывалом и положили под щеку подушку.
Борис и Выхухоль сели на крыльце. Шумел сад, гулко взмыкивала выпь в болотистом озерце за дальним концом деревни.
— А что, — сказал Борис, — по-моему, правда, без балды, поход удался. На славу. В самом деле — великий. Есть что вспомнить.
— Ты думаешь? — сказала Выхухоль. — Ну да, вообще-то. Сплотились как-то…
— Ага, — сказал Борис. — Ну, я пошел спать.
— Спокойной ночи, — Выхухоль направилась к себе в скворечник, поглядывая на звездное небо. — Надо же, как небо вызвездилось. В городе такого не увидишь.
Выхухоль и туесок
Выхухоль и Борис пошли в лес за клюквой.
Из калитки на поле — и сразу налево по дороге, которая вела через травяной простор на опушку, и снова налево, до самого дальнего, глухого угла леса, и там по заросшей травой тропе зашагали на болото.
Тропа после захода в лес тут же прерывалась топкой низиной с темным ручьем, приходилось прыгать по кочкам и брошенным кем-то сучьям, потом шла постепенно вверх и вливалась в почти стертую, идущую пунктиром дорожную колею, проложенную много лет назад то ли секретными военными, то ли несекретными лесорубами, и затем уже спускалась мало-помалу ниже; по обеим сторонам проявлялись в ельнике зеленые полянки мха, которые встречались все чаще и чаще и наконец слились в сплошной мягкий, пружинящий под ногами покров.
То и дело приходилось обходить стороной или перелезать через поваленные березы и ели, стараясь не напороться на острые обломанные сучья. Одолевали комары, стоило остановиться, и они сразу атаковали, несмотря на то, что Выхухоль и Борис попрыскались перед выходом антикомарином.
Борис то и дело сходил с тропы, проверял, началась ли клюква. Под ногами кое-где сыро чмокало. Сначала клюквенных кустиков было немного, но вот он наконец встал и крикнул Выхухоли:
— Давай сюда, здесь ее полно!
Стащил со спины рюкзак. Вынул пластмассовое ведерко для Выхухоли, а себе достал плетеную овальную корзиночку — родовое, семейное наследство.
— Твоя задача, — сказал он Выхухоли, — набрать ведерко, а моя задача — набрать туесок.
— Какой туесок? — спросила Выхухоль.
— Да вот же туесок, — ответил Борис и повертел в руках свое лукошко.
— Нет такого слова, Борис, не выдумывай! Это — корзинка, а никакой не туесок! — сказала Выхухоль, наклонилась и стала собирать клюкву.
— Как это нет такого слова? — удивился Борис. — Туесок. Плетеная корзинка.
— Нет такого слова, — уперлась Выхухоль.
— Да ты смеешься, что ли? — еще больше удивился Борис. — Это старинное слово.
— Борис, не издевайся, — сказала Выхухоль, — собирай лучше. Ой, гляди, голубика!
Борис прилег на пышный мох возле кочки с клюквой, сидеть на корточках ему было тяжеловато, коленки когда-то давно были застужены во время стояния в воде — ихтиология требовала жертв. Одной рукой оперся, а другой загребал ближайший кустик и обирал темные круглые ягоды. Бросил пару в рот — ки-ислые. Собрал горсть ягод, высыпал в корзинку. Поднялся, прошел к следующему клюквенному островку, проламывая переплетения кустов, собирая на лицо паутину. Снова лег на бок, сгреб в ладонь клюкву.
— Ты прямо как медведь! — засмеялась Выхухоль. Она работала усердно, не покладая лап, ловко, с широким захватом и быстро. Обирая один кустик, взглядом сразу намечала другой. Клюкву она любила и считала кладезью всяких витаминов.
Борис не торопясь набрал половину корзинки и прилег на теплый, нагретый солнцем мох. Над головой с березовой ветки свисала гамаком паутина, она искрилась на солнце, в ней покачивались под ветерком иголки и желтые мелкие листики, чешуйки коры, мелкий лесной сор. Казалось, весь лес плавно покачивается, медленно-медленно плывет. Борис прикрыл глаза.
— Эй, лентяй, давай-ка не залеживайся! — крикнула Выхухоль, но больше уже не приставала, знала, что Борис не охотник до клюквы. Не любил он такую вот мелкую работу.
Вечером, ближе к закату, вернулись домой. Борис сразу бросился с компьютеру. Недавно у них установили вай-фай.
— Смотри, — сказал он Выхухоли. — Ты говоришь, нет туеска, да? А вот викисловарь пишет: «Туесок… — небольшой круглый короб с тугой крышкой для хранения и переноса меда, икры, ягод и т.п., обычно берестяной или лубяной.»
— Ну вот! Ха, — сказала Выхухоль, — у тебя разве короб? Да еще и без крышки.
— Но слово-то такое есть? — упирался Борис. — И вещь такая есть. В принципе. Я найду, только поискать надо.
— Может, и была. А сейчас нет. Сейчас и икры не купишь, чтобы ее переносить.
— А ягоды есть! И слово есть! — Борис расстроился. — Старое слово, но есть же. Слова же, они тоже… живые.
— Ну ладно, ладно, — сказала Выхухоль примирительно. Но Борис не унимался:
— Вот раньше ребята например, играли, бегали взапуски…
— Как, как бегали? — спросила Выхухоль.
— Взапуски.
— Ха, смешно! Взапуски!
— Значит — наперегонки. И катались на закорках. Это на спине друг у друга.
— Ну тебя, Борис. Не говорят так сейчас. И не играют.
— А раньше говорили. А мы забыли…
Они не заметили, что к их разговору прислушивается Мотылек, копающийся в каких-то бумагах, с виду — счетах.
После ужина он подошел к Выхухоли и о чем-то с ней долго говорил.
На другой день с утра Борис отправился калымить на большую дорогу, извоз на верной машинке служил проверенным способом пополнить общую казну, а кроме того, это был денежный ручеек для Борисова загашника, секретной казны, из которой черпались средства для пополнения запасов горьких настоек. Борис и сам их делал, на рябине, калине, клюкве, бруснике, но основу — хорошую водку — приходилось покупать.
Во второй половине дня ему то и дело вдруг принялась названивать Выхухоль, спрашивала, во сколько вернется, и просила позвонить, когда будет въезжать в деревню. Несколько раз звонила.
«И чего звонить? — думал Борис. — Дела срочного нет. Приеду когда приеду, в первый раз, что ли?»
Но все-таки позвонил, когда вечером свернул с щебеночной грунтовки на песчаную проселочную дорогу к деревне.
Еще за несколько домов, не доезжая до высоких густых лип у общего колодца, услышал музыку. У дома в открытых воротах забора маячили фигуры в непонятных одеждах и делали какие-то танцевальные па.
Борис свернул с дороги, подъехал к воротам.
За ними, в центре лужайки пыхтел на столике самовар. Рядом стоял магнитофон.
В воротах, выстроившись в ряд, топтались, производя странные движения руками и ногами, Выхухоль, Мотылек и Барашка.
Выхухоль делала тяжеловатые па в голубом с золотыми блестками костюме Снегурочки, ее голову украшал блондинистый парик с длинной русой косой. Мотылек отплясывал в красной шапке набекрень и красной шубе Деда Мороза, которая была ему сильно велика и волочилась по траве. Барашка прыгала, вскидывая посеребренные копытца, взмахивала серебряными ангельскими крылышками и хлопала длиннющими накладными серебряными ресницами. На шее у нее болталась связка баранок. Вокруг танцоров ошалело носился Пограничный пес Алый.
Вид у всех был очень довольный, если не сказать счастливый.
Борис выключил мотор, посидел немного, переваривая увиденное.
Группа продолжала увлеченно танцевать.
Борис вышел из машины.
— Это что у вас тут за брачные танцы? — спросил Борис. Он был голодный.
— Это гангнам стайл! — воскликнула Барашка. — Ля-ля-ля! Ля!
— Стайл? Лучше бы народное что-нибудь исполнили, — сказал Борис.
Мотылек наклонился, выключил магнитофон и поднял с земли поднос. На нем стояла стопка с прозрачной жидкостью, рядом на блюдце лежал кусок черного хлеба с пластиной розового сала и ломтиком малосольного огурца.
Выхухоль поклонилась, повела над землей рукавом:
— Добро пожаловать, барин!
— Испола-ать вам, Борис свет Леонидыч, — певуче подхватил Мотылек и протянул поднос Борису. Тот выпил, крякнул, закусил.
— Ой-ой, исполать вам! — пропищала Барашка. — Большая такая исполать! Исполатная такая исполать!
— Аки-паки херувимы! — пробасил Мотылек и отвесил такой глубокий поясной поклон, что у него свалилась шапка, а борода накрыла лицо.
— Ну, спасибо! — сказал Борис. — Угодили! Только чего это вы вдруг? Не новый же год, чтобы в шубах париться?
— Мы традиции решили поддержать. Гостей дорогих встречаем… хлебом-солью, как полагается, — сказала Выхухоль. — В самом лучшем наряде.
— А сейчас будем, это… бегать взапуски и… кататься на закорках! — сказал Мотылек.
Борис обвел всех недоуменным взглядом.
— А завтра поутру… э-э, ранешенько… возьмем туески, наденем лапоточки и в лес побежим за брусникой! — добавила Барашка. — И тоже взапуски!
Выхухоль заглянула в бумажку, пришпиленную к рукаву:
— А еще мы тебя будем — потчевать, а ты будешь — отведывать! И… э-э-э… уписывать!..
— Издеваетесь, значит! — Борис вытер усы и засмеялся. — А вообще-то правильно. Забывать не надо…
Он потрепал по ангельским крылышкам Барашку, приобнял за плечи Мотылька и Выхухоль.
— Знаете что — давайте городочную площадку устроим, в городки будем играть.
— Это что еще такое? — спросил уныло Мотылек. Он уже подустал в жаркой шубе. — У меня дел вообще-то полно.
— Завтра объясню, — сказал Борис. — А то лопнете еще от избытка информации.
И захохотал. Заразительно. Но почему-то никто не заразился.
Наоборот, народ настороженно примолк.
— И в чижика еще научу играть! Отличная, между прочим, игра! — добавил Борис и зашагал к дому, он же был очень голодный, а бутерброд с салом и стопка водки только разожгли аппетит.
Выхухоль и дружба между полами
— А вот бывает дружба между разными полами? — спросила Барашка.
— Ты что это вдруг? — насторожилась Выхухоль. — Про дружбу… Уж не про того ли красавца круторогого из совхоза-техникума?
— Да нет, это я так…
— Ты смотри у меня, девка, молода еще, рано тебе про дружбу.
— Но я правда про дружбу, — сказала Барашка. — Вот Зойка говорит…
— А, понятно, откуда ноги растут, — сказала Выхухоль. — Нашла кого слушать. У нее этих дружб знаешь сколько?
— Нет-нет, у нее другое, — упрямилась Барашка. — Ну, правда, дружба, есть она или нет?
— Есть-то есть, — засмеялся Мотылек. — Только ненадолго.
— А почему?
— А потому, — Мотылек засмеялся еще громче.
— Про дружбу говорите? — Борис поднял с пола принесенное из леса ведро с грибами, поставил на стол. — Давайте чистить! Так, все дружно взяли ножи, не отлыниваем! — И сам первым взялся за обработку маслят, цеплял острием ножа и снимал со скользких шляпок тонкую пленочку с налипшими иголками. — Вот что я вам про дружбу расскажу…
— Ой, ой, расскажи, — обрадовалась Барашка.
— Мой приятель когда-то работал в самом крупном в Советском Союзе информационном агентстве. Он вообще-то по международным делам, а практику проходил в сельскохозяйственной редакции. Они редактировали сообщения корреспондентов из разных районов. Ну, кто там урожай собрал или где надои больше. Сами что-то писали. Кстати, моего друга хотели как-то наказать, «Вечерка» напечатала его репортаж про ВДНХ, и там получилось, что корова-рекордсменка давала молока в день чуть ли не больше своего веса.
— Ха, — сказал Мотылек. — Вот это корова, нам бы такую.
— Но потом выяснили, что это в газете лишний ноль добавили.
— А про дружбу когда? — спросила Барашка.
— Сейчас будет про дружбу, — Борис закончил очищать большой и крепкий боровик, повертел, полюбовался белоснежным на срезе корнем и глянцевой коричневой шляпкой, бросил на промывку в тазик с чистой водой и продолжил:
— У них в агентстве были правила определенные. Ну, с чего новость должна начинаться. У американцев содрали. Все главное должно содержаться в первом предложении. Может, до конца и не дочитают, а начало всё даст, всю информацию, да еще с каким-то поворотом, чтобы внимание привлечь. Их главный редактор любил пример приводить, у американского агентства взятый, оно во время второй мировой войны такую новость запустило: «Метеорит, проломивший сегодня крышу фермерского дома в Оклахоме, доказал, что есть в мире силы, не подвластные Рузвельту, Черчиллю и Сталину»…
— А про дружбу когда будет? — возмутилась Барашка. — А то я здесь стою, стою…
— Сейчас будет. Одно из правил, которое ввели в этом агентстве, было — давать обобщение. Например, совхоз скосил сено на стольких гектарах, а в целом по области скосили вот столько-то гектаров. Обобщили, значит. А корреспондентам на местах надо было заранее посылать в редакцию анонсы на следующую неделю, то есть план — какие темы готовятся освещать…
— Не, я пойду вообще, — сказала Барашка, но не ушла, осталась топтаться на веранде.
— И вот однажды, — Борис взялся за подберезовики, — получают они анонс от корреспондента из какой-то области в средней полосе России. Запомнил его мой друг на всю жизнь… Анонс был такой: «История о трогательной дружбе бобра и собаки, с обобщением об отстреле пушных зверей по области»…
Борис засмеялся.
Выхухоль строго посмотрела на Бориса.
Мотылек стал доставать промытые грибы из воды и резать на сковородку.
— И что — этого бобра, который дружил с собакой, тоже застрелили? — спросила Барашка и приготовилась заплакать.
— Нет, нет, — поспешил ответить Борис. — Его предупредили, он скрылся и живет себе спокойно, плавает в реке, уже внуки есть. — Посмотрел на Барашку и добавил: — И правнуки.
— А, — сказала Барашка. — Но ведь это не про дружбу между полами.
— В Китае про дружбу разнополовую много говорят, — заметил Мотылек. — А еще больше делают, — он воткнул нож в стол и заржал.
— Это как? — удивилась Барашка.
— Еще они там в этом агентстве анекдот придумали, про обобщение, — вспомнил Борис, — про физические отношения мужчин и женщин…
— Кхе, — кхекнула Выхухоль.
— Сяо-цань, я тебе потом отдельно расскажу, — пообещал Борис. — Там так это…
— Эй, эй, шутники! Хватит! — сказала Выхухоль. — Обобщения какие-то… Хватит девке голову морочить. Лучше грибы как следует чистите, вон подберезовик червивый пропустили. Подчищай потом за вами. А с тобой, Барашка, мы потом потолкуем, по-девичьи, за чаем с вареньем.
Выхухоль и Серега-разведчик
Временами на веранду заглядывал сосед, Серега-разведчик.
Он прихрамывал, но что у него случилось с ногой, не объяснял. Мотылек уверял, что он плоскостопный.
Серега-разведчик поднимался на веранду и устраивался в уголке на лавке, прислонялся к стене и замирал.
В общих разговорах не участвовал, думал о своем, глядя на ели у дома, покуривал, если предлагали, а если ему наливали, не отказывался. Причем слух у него был удивительный, всё вокруг ловил ушами, как радарами. Как-то Борис, собираясь на рыбалку, уронил крючок, крошечный и легкий, самый маленький номер. И не заметил бы, если бы Серега не сказал: «Что-то упало у тебя», а сам при этом сидел на другом конце веранды, да к тому же еще и ветер шумел..
— Слушай, а чего он к нам припрется и сидит? Сидит и сидит, как приклеенный, — удивлялся Мотылек. — И подслушивает. Сидел бы лучше у своей Татьяны. Тоже мне… разведчик!
Серега-разведчик был мужем Татьяны-лоскутницы. На даче появлялся редко, во время отпуска. А прозвище получил, потому говорил: «С ним в разведку я бы не пошел», ну, про какого-нибудь знакомого или просто известного человека. Со временем выяснилось, что Серега ни с кем вообще-то в разведку не пошел бы. Ну и ладно, не пошел и не пошел. А прозвище приклеилось.
Как-то раз Серега-разведчик заблудился в лесу. Надумал вдруг один пойти за грибами — и пропал. Хотя компас с собой захватил. Но что с него взять, городской человек. Нашли его Выхухоль с Борисом. По наводке Канарея, который усердно на бреющем полете, задевая верхушки елей и осин, обследовал лес.
Отыскав в глухой чаще Серегу-разведчика, они очень удивились. Другой бы на третий день блуждания по лесам изнемог бы, одичал, трясся бы от страха. А Серега-разведчик расслабленно сидел себе на полянке, на поваленной березе, с блаженным видом всепрощающего Будды, над ним вились бабочки — шоколадницы и капустницы, гудели шмели, а он аккуратно, травинкой снимал с коленки рыжих муравьев, опускал на землю, нежно улыбаясь, наблюдал за ними — и с видимым наслаждением жевал грибы. В грибах он не разбирался, и, как с ужасом увидел Борис, доедал как раз ядовитейшую бледную поганку, возможно, не первую, о чем говорили разбросанные вокруг тонкие грибные ножки с черными корешками.
— Вот поэтому и не боялся, — не раз говорила потом Выхухоль, косясь на сидящего в своем любимом закутке Серегу-разведчика. — Или Мальчик помог.
Серега стал чаще захаживать к ним как раз после этих вот поисков и чудесного спасения. Что-то с ним в лесу произошло. Что-то такое в глазах появилось, не то чтобы неземное, но… и не вполне земное… трудно объяснить. Он сошелся с Канареем, дымил с ним, покуривал трубочку, попивал винцо, а то и виски, причем притаскивал неизвестно откуда у него взявшиеся редкие сорта, преимущественно односолодовые.
— Эй, разведчик, ты что разведывал-то? — смеялся над ним Мотылек. — Орхидеи в Сибири? А ногу тебе медведи оттоптали?
Так он его подкалывал.
Серега не отвечал. Иногда эти подколки его задевали. Тогда он уходил к себе и долго не показывался. Как-то раз во время такого его отсутствия на веранду пришла Татьяна-лоскутница.
— Здрасьте, — сказала она. — Что это вы моего Сергуньку обижаете?
— Дорогуша моя, никто его не обижает, — сказала Выхухоль. — Что это ты с ходу накинулась? Мы к нему как ко всем. Приходит — пожалуйста, не приходит — его дело. Подумаешь, важность какая!
— Это для вас, может, не важно, а для него важно, — сказала Татьяна. — Лежит теперь, к стенке повернулся, дуется, даже сырники свои любимые с изюмом есть не стал. А ему, между прочим, работать надо, срочный перевод делать…
— А чего он разведчика из себя корчит? — спросил Мотылек. — Чужой славой пользуется.
— Ничего он не пользуется, — сказала Татьяна. — Вы его не знаете, а он… он в самом деле… Сейчас покажу.
Татьяна сбегала домой и принесла распечатку, положила на стол.
— Вот! — сказала она. — Сами убедитесь.
Мотылек лениво подошел к столу.
— Читай, читай, Фома неверующий, — сказала Татьяна.
Мотылек нехотя стал читать:
Запись телевизионной передачи
с участием С. В. С-ва
— Здравствуйте, Сергей Викторович, здравствуйте, Татьяна! Кстати, кем вам приходится Татьяна?
— Здравствуйте! Татьяна моя жена.
— А, хорошо. Итак, начинаем передачу «Тайны сильных мира сего». В ней мы расскажем, вернее, попросим рассказать Сергея Викторовича о тайнах, которые связаны с его отцом Виктором С-вом. Нашим зрителям, конечно, известно имя переводчика Хрущева и Брежнева, участника важных международных переговоров. Итак, Сергей Викторович, вам слово.
— Ну что вам сказать… Я участвовал фактически во всех переговорах на высоком уровне…
— Погодите, но вы тогда были совсем маленьким!
— Конечно. Сначала был. Но отец не мог без меня обойтись. На кого опереться, как не на сына, говорит. И всегда брал меня с собой. (Сергей С-в достает из кожаного портфеля фотографии). Вот видите, это неизвестные фото из семейного архива. Вот Хрущев, вот Никсон, вот отец, а вот я…
— Сергей Викторович, вы указываете на маленького человека в черных очках с усиками? Неужели это вы? Но ни на одной фотографии в архивах или на съемках этого человека нет!
— Конечно, нет. Все это редактировалось, вырезалось или замазывалось. Я был как бы человеком-невидимкой.
— Но Хрущев вас же видел, Никсон, или позже Брежнев и другие члены делегаций?
— Конечно. Но им объясняли, что это помощник Виктора С-ва, венесуэльский целитель, карлик-хиропрактик.
— И ни у кого не возникало вопросов?
— Нет, конечно, тогда у всех мировых лидеров и их помощников были такие карлики-хиропрактики, просто об этом нельзя было говорить. Видите, на фотографиях из моего семейного архива, неотретушированных — их целая толпа вокруг руководителей.
— Очень интересно. И вы участвовали во всех переговорах, знаете тайны и подводные камни?
— Конечно. Лично и персонально все знаю. Вот к примеру, когда обсуждался договор ОСВ-2, в статье тридцать четвертой говорилось о совместной ликвидации ядерных боеголовок и ракет с радиусом поражения…
— Извините, Сергей Викторович, наших зрителей интересуют скорее личные моменты в жизни Хрущева или Брежнева.
— А… Из жизни. Да полно! Помню как сейчас, играю я в детской на нашей даче на Николиной горе, под полотном Рубенса «Прачка», там у меня был любимый уголок, искусственный газончик для мини-гольфа. Гоняю я шарик, заходит отец с дедушкой Леней. Так я Брежнева звал. Деда Леня берет у меня клюшку, загоняет шарик в лунку парой ударов, потом сует мне пачку «Кэмэла» и говорит, иди-ка, малец, покури, пока мы с твоим папой кое-что обсудим…
— То есть вам все-таки не полностью доверяли?
— Доверяли полностью, я даже знал, где у дедушки Лени заначка коньячная на нашей даче, в нише у камина, за статуей Афродиты, во второй, малой гостиной, возле коридора в банкетный зал…
— Так, так, очень любопытно!
— Ну, я, конечно, никуда не ушел. Они что-то такое про автомобили с отцом говорили. Запчасти выбирали, каталоги листали. Тут охрана докладывает снизу, и приходит старушка слепая. Отец говорит, вот, Леонид Ильич, болгарская прорицательница, все знает о будущем…
— А, это, наверное, баба Ванга?
— Ну да, это я потом уже узнал. А так для меня старушка и старушка. Потыкалась она сослепу по всем углам, вазу разбила китайскую, Танской эпохи, из императорского дворца, наткнулась на меня, погладила по голове, уши пощупала, говорит, эх, сынок, военным будешь, хлебнешь лиха… Как будто я сам не знал. Я тогда уже был подполковником, два ранения, одно в голову, одно в ногу, два ордена… Носить только их нельзя было.
— Так-так, и что баба Ванга?
— Ну, она дала дедушке Лене полизать кусок сахара, потом попросила чашку чая, бросила туда сахар, попила, взопрела, сидит вся потная, чешется…
— И что дальше?
— Берет Брежнева за руку и говорит, лет через 40 появится на земле великая книга, уже родился автор, ему сейчас лет 16—17, и вот в этой книге все будет рассказано о будущем мира и о тайнах всего сущего… И заплакала…
— Как интересно! А имя назвала? И как книга называется?
— Да, конечно. Таня, доставай книгу. Вот она — называется «Китай кусочками», автор — Юрий Михайлович Иляхин. Покажите ее крупным планом!
— Потрясающе! Спасибо, Сергей Викторович! Спасибо, Татьяна! Итак, дорогие зрители, вы знаете теперь, какие тайны скрывали кремлевские стены. А теперь они доступны и вам. И сколько таинственного нам предстоит еще узнать, дорогие зрители! Спасибо за внимание! До новых встреч!
— Да ну, — сказал Мотылек, закончив чтение. — Распечатку любой может сделать. Может, это про другого какого-то Сергея Викторовича. С-в известный человек. А книгу эту я читал, «Китай кусочками», здорово написано.
— А я? — спросила Татьяна. — Татьяна — это я! В этой передаче.
— Да Татьян полно всяких везде, — ответил Мотылек.
— Ах так, — обиделась Татьяна и снова побежала к себе. Вернулась. — Вот, получай! Здесь вот четко написано: Татьяна-лоскутница. И про картину мою. Читай!
— Сама читай! У меня в горле пересохло. — Мотылек лег в кресло и закрыл глаза.
Татьяна стала читать, с выражением и паузами в важных местах, то есть там, где речь шла о Татьяне:
Вторая передача с участием Сергея С-ва
— Здравствуйте, Сергей Викторович, здравствуйте, Татьяна! Спасибо, что пришли к нам снова в передачу «Тайны мира сильных сего»! Ой, простите, «Тайны силы мира сего»! Извините, конечно же — «Тайны сильных мира сего»!
— Здравствуйте!
— После первой передачи читатели засыпали нас вопросами. Всем интересно знать, какую роль вы, Сергей, играли в процессе переговоров на высшем уровне. Вы рассказали нам, что действовали под видом венесуэльского хиропрактика, лилипута в черных очках…
— Карлика, карлика! Не путайте, это разные вещи. Да, в черных очках и еще в шляпе. Иногда в плаще. Стандартное прикрытие. Как говорится, как учили старшие товарищи…
— Ну да, вот мы видим перед нами на столе неотредактированные фотографии, в самом деле — везде вы возле отца, Виктора С-ва, возле Хрущева, а вот и Брежнева.
— Ну, это не все фотографии, у меня дома в подвале целый архив, несколько шкафов, Татьяна как раз приводит все порядок, там же и ящик с орденами, и мундиры, наградное оружие… Кое-что еще в саду зарыто, возле бани, да и в огороде, только копни…
— Да-да, конечно, очень любопытно. Но нашим зрителям интересно, каким образом вы непосредственно участвовали в переговорах? Как-то влияли?
— Естественно. Еще с детства я проявлял необыкновенные общественно-политические способности, чутье можно сказать. У меня нюх на такие дела. Природный талант. Чуть вижу что не так — сразу думаю, ага, брат, меня не проведешь, все интриги раскрою, все узелки распутаю, хоть стакан водки налей, хоть два…
— Сергей Викторович, а конкретнее?
— Ну, конкретнее… Вот идут переговоры в Кремле. Брежнев и Никсон. Говорят, обсуждают, отец переводит туда-сюда. Я под столом на маленькой скамеечке сижу, из железного дерева, тяжелой, устойчивой. Покуриваю, слушаю, жду момента.
— Сергей Викторович, извините, как же — курите, разве разрешено во время переговоров? Да еще под столом?
— Ну, у меня там специальная отводная труба под столом. Затянусь — а дым в нее выдыхаю. Если посмотрите снимки Кремля, там как раз из трубы в Спасской башне дым идет. А откуда он взялся, если там отопление паровое? Вот и думайте, делайте, как говорится, выводы!
— Надо же, очень интересно. Так, и дальше что?
— Ну что дальше. Слушаю. Вникаю. Чувствую, не туда ведем, слабеем, сдаем позицию американцам! Еще немного — и проиграем. А за нами страна, миллионы людей. От нас все зависит, от меня то есть. Надо поднажать, усилиться, насесть на американцев. Тогда я беру и дергаю отца за левый рукав.
— За рукав? Зачем?
— Это был условный знак. Отец тут же берет и незаметно дергает Брежнева за левый рукав. Брежнев был глуховат, но на дерганье реагировал.
— То есть вы регулировали таким образом ход переговоров?
— Конечно. Без меня мы бы с американцами ни о чем бы не договорились. Кстати, если надо было позицию смягчить, то я отца дергал за правый рукав. Но это редко. Вот видите на фото, у отцовского пиджака, у синего блейзера его любимого, с золотыми пуговицами и гербом СССР на груди, левый рукав совсем обтрепанный, а правый почти новый.
— В самом деле. А на официальных фото незаметно.
— Еще бы. Там много чего убирали, ретушировали. Вот видите на моем фото из личного архива — Киссинджер с забинтованной рукой, весь скособоченный?
— Да, в самом деле. Он же тоже участвовал. А что случилось?
— Ну, Киссинджер… хитрая леса. Долго ко мне присматривался. Подкалывал. Мол, привет, драгоценная карла венесуэльская, опять будешь хиропрактичать? С ехидцой такой. Ну, я делаю вид, что не понимаю, мол, ты давай со мной по-испански, тогда поговорим. Раз не выдержал, в лифте с ним вдвоем ехали, как подпрыгну и как на точку болевую ему надавлю, на шее, на сонную артерию. Он глаза закатил, чуть сознание не потерял, но вида не показал, что больно, зубы стиснул, ухмыльнулся только, но злобу, ясен пень, затаил.
— Это вы про это фото с забинтованной рукой?
— Ну да. Сижу я как-то в очередной раз под столом. Обсуждают опять ограничение стратегических вооружений, как вы знаете, спустя четыре года в повестке дня Венских переговоров вопрос ядерного сдерживания в мировом масшабе стал ключевым, требовалось окончательно согласовать пункты номер двенадцать и…
— Сергей Викторович, конечно, знаем. Но зрителей интересуют тонкости и тайны переговоров, давайте вернемся к Киссинджеру…
— Хорошо. Сижу, значит, покуриваю, с девочкой обнимаюсь…
— Простите, Сергей, с какой девочкой?
— Ну, иногда скучно было под столом сидеть одному, девчонок с собой приводил, из ансамбля «Березка», сидишь бывало, откупоришь шампанское…
— Извините, давайте все-таки вернемся к переговорам, значит, Киссинджер с перевязанной рукой…
— А ну да, так вот, сижу на своей скамеечке, перелистываю «Плейбой», его Никсон всегда мне привозил или присылал, после того, как я его от остеохондроза излечил, я же в самом деле в Латинской Америке практиковал какое-то время, еще будучи совсем юным мальчиком, тонкой осинкой, так сказать… Под видом мага племени майя шуровал, клиентура была высокопоставленная, информация таким потоком шла, день и ночь, шифровальщики в Центре глаза ломали просто, мозга за мозгу забегала, звания без очереди шли, премии, квартиры давали, мне на Кутузовском проспекте обещали, в брежневском доме…
— Сергей Викторович, простите, что перебиваю… значит, вот вы сидите под столом…
— Ну да. Сижу, курю, слушаю, вникаю. Вдруг бац — под стол падает ручка. «Паркер» золотой с серебряной насечкой и инициалами Эйч и Кей. И цифрами — 27 и 5. Откуда, что? Другой бы растерялся. А я сразу кумекаю, это киссинджеровская ручка, ему мой батя подарил на день рождения, 27 мая у него. В нее еще наш микрофон был вделан. А как же, просто так подарочки не дарим, как известно… И тут же вижу, ныряет этот Генри под стол, шустро, хоть и пузатый, вроде как за ручкой, а сам на меня уставился. Мол, ага, поймал. И хватает меня за шиворот, хочет вытащить. Не тут-то было. Я его хвать за руку, укусил. От души. От всей. Он завопил, подскочил, головой об стол, упал, ногу вывихнул, стол опрокинулся, бутылки с «Боржоми» попадали, все бумаги залили… Скандал.
— И как же все уладили? Даже в американских СМИ об этом не сообщалось…
— Да элементарно. Я тут же под столом укусил сам себя за руку, вот видите — шрам, вылезаю с возмущенным видом, показываю на Киссинджера, пока он там корчится, весь в «Боржоми», и говорю Никсону, мол, что же это такое получается, я своему отцу не могу ногу отмассировать немного! У него же радикулит застарелый. И за это меня кусать?
— То есть как бы Киссинджер вас и укусил.
— Ну да! И меня укусил, и сам себя, чтобы скрыть преступление. Но бог шельму метит.
— И вам поверили?
— Ну а кому еще верить? К тому же Никсон этого Киссинджера недолюбливал, слишком, говорит, умный… Но мы потом с Киссинджером поладили, я его вербанул на девочках, пошли мы с ним в баню, в Сандуны в ночь на 2 января, и банщица Наташка, затейница наша, майор, только-только ей присвоили, еще и не обмыли звездочку на погоны, говорит, а давай-ка Генри, друг любезный, я тебя намылю погуще да потру…
— Это очень интересно, конечно, Сергей Викторович, очень, но нас дети могут смотреть все-таки… Давайте лучше… Вот, к примеру, вы говорили про пиджак, а где можно увидеть этот обтрепанный рукав, зрители интересуются деталями?
— Ну, раз дети… Хотя чего такого, сейчас такие дети… А про пиджак можно, конечно. Татьяна, доставай, дорогая. Вот видите, блейзер, левый рукав вообще вдрызг. Татьяна замучилась заплаты ставить. Зато так навострилась, просто мастерица стала, лоскутница. У нее недавно была выставка в Пекине, все посетители в восторге, а журнал «Китай» написал о редком художественном таланте мирового уровня… Вот, кстати, ее картина — называется «Бабушкин сад». Татьяна, разворачивай! Желающие могут купить, но цена, предупреждаю, большая, и, конечно, в долларах или евро, можно перевести на мой счет в…
— Какая прелесть! Спасибо, Сергей Викторович, спасибо, Татьяна. К сожалению, время нашей передачи ограничено. Надеемся на новые встречи с нами. То есть с вами. Тайны мира сильных сего будут с необыкновенной откровенностью раскрываться для наших зрителей! До свидания!
— Пока-пока! Таня, картину не забудь… И пиджак, а то как в прошлый раз…
— Ну что, убедились? — Татьяна победоносно вскинула голову. — И шрам у Сереги, вы же видели! И мой «Бабушкин сад» вон висит у нас в большой комнате. Главное, четко обо мне говорится: мастерица-лоскутница! И про выставку в Пекине — помните, я вам оттуда еще жасминовый чай привозила и подарки.
— Ну да, помним, хорошие подарки, — сказала Выхухоль, которой Татьяна привезла красный халат, красную шляпу и красные тапки. И еще веер. Все шелковое, все настоящее, китайское. — И что, вот твой Серега-разведчик, он в самом деле этот — Сергей Викторович?
— Ну а кто же еще? — спросила Татьяна.
— Неубедительно, — сказал Мотылек. — О таких вещах вообще рассказывать нельзя.
— Кто бы говорил, — сказала Выхухоль. — Как доберетесь с Борисом до настойки вашей, такое несешь. Хоть окна закрывай, чтобы не подслушивали.
— В самом деле? — встревожился Мотылек. — Борис, я что, рассказывал о чем-то?
— О чем?
— Ну… о чем-то? О чем-то таком…
— О чем-то рассказывал, — рассеянно сказал Борис, расчехляя новую японскую удочку, подаренную ему Мотыльком на день рождения. — Смотри, какая гибкая! — восхитился он, согнув удилище дугой.
— О чем рассказывал?
— Да не помню я, — сказал Борис, еще сильнее, чуть ли не в кольцо сгибая удочку. — Красавица, любого сазана вытащит!..
— Так говорил я или нет?
— Я что, помню? Если про рыбалку, я бы запомнил, а так чего помнить зря?
— Ну и правильно, — успокоился Мотылек. Подумал. — Ты это, Татьяна, скажи Сереге, пусть заходит. Канарей в Женеву опять укатил, но сигарки оставил. Кубинские.
— Обязательно! Спасибо! Пойду обрадую, пусть расшевелится, а то совсем завял, — сказала Татьяна, забрала распечатки со стола и поспешила домой.
— Татьяна! — окликнула ее Выхухоль. — Ты когда картину-то нам сделаешь, «Нападение зимних зайцев на деревню»? Сто лет ждем!
Но Татьяна сделала вид, что не слышит, хлопнула калиткой и скрылась за липами.
— Фиг мы эту картину когда дождемся, — сказал Мотылек.
Выхухоль и противопожарная оборона
— Чуешь, Борис? — спросила Выхухоль, втягивая воздух. — Всё гуще!
— Еще бы, — сказал Борис.
Уже несколько дней в деревне пахло дымом. Горели торфяники.
— Всё это наши идиоты, — сказал Борис. — Осушали болота, чтобы увеличить площадь пахотных земель. Как будто в России земель не хватает. Вон поля все в кустах. А теперь с пожарами не знают как справиться. Заливают водой, а торф ее пропускает вниз и снова сохнет.
— Борис, ты мне про причины не рассказывай, всем известно, что беды от дураков, больше неоткуда, — сказала Выхухоль. — Ты лучше скажи, что мы практически будем делать.
— Мы будем бороться с пожарами! — Барашка стояла у веранды в полной боевой готовности, с розовым пластмассовым ведерком и лопаткой. Лопатку время от времени перехватывал с игровыми целями Пограничный пес Алый.
— Вот видишь, девка-то наша молодец, прямо образцовый пожарник! — похвалила Выхухоль. — Давай вечером обсудим, что делать.
После ужина на кухне устроили собрание.
— Полагаю, нам не следует бояться, — сказал Канарей. — Думаю, власти знают, как справиться с этой проблемой.
— Ну да, знают они, — сказал Мотылек. — Они знают как ноги сделать в случае чего.
— Согласна с Сяо-цанем, — сказала Выхухоль. — Надо полагаться только на себя. Какие будут предложения?
— Сразу вспомнил юность, — сказал Борис. — Когда меня из пионеров исключали.
— За что? — спросил Мотылек.
— Да вот за это самое, — сказал Борис.
— Ну а все-таки.
— Вы будете смеяться, но за пожар. — Борис обвел всех взглядом. Но никого это сообщение не удивило. — Мы с мальчишками поджигали тополиный пух у гаражей, а огонь пошел дальше… В итоге сгорел коммунистический субботник.
— Это как? — удивился Канарей. — Как субботник может сгореть?
— У нас в советское время и не такое горело, — сказала Выхухоль.
— Наш пух горел, горел и догорел до сарая у райкома комсомола, а там хранились лопаты, грабли, носилки. Для субботника. Все сгорело. Субботник сорвался. Так что выгнали меня.
— Значит, опыт есть, — сказал Мотылек. — Давай, Борис, только теперь наоборот…
— Первым делом, — сказал Борис, — не паниковать. Во-вторых, надо окопаться. Сделать такие рвы вокруг дома, чтобы огонь не прошел. Ну и поливать дом сверху. Это если верховой огонь пойдет.
Так и решили.
Дым между тем становился все сильнее и гуще. По деревне пошли слухи, что леса поджигают вредители.
Народ пугался сам себя.
Борис копал землю вокруг дома и сарая, вдоль забора.
Канарей слетал в поселок, раздобыл там красный пожарный шлем и красное ведро конусом, с противопожарного щита. Теперь в свободное от своей не слишком обременительной работы время, а также по субботам и воскресеньям он летал над домом в пожарном шлеме и поливал водой. Делал он это с присущим ему артистизмом: высоко в небе крутил мертвую петлю и когда достигал верхней точки, из перевернутого ведра выливалась вода, причем с изумительной точностью.
Иногда он менял манеру полета и пикировал под углом 45 градусов, подражая бомбардировщикам. Тогда вода шла косо и порою заливала окна. Выхухоль ругалась.
Деревенский народ, теряя кепки, панамы, шляпы и шляпки, с неизменным интересом наблюдал за его маневрами и комментировал:
— Ну вот, не дремлет же МЧС, когда захочет.
Развлекаясь, Канарей поливал заодно дом Татьяны-лоскутницы, пока у нее не стала протекать крыша, только что отремонтированная Рыжим Колей. Она попросила Канарея перенести усилия на ее огород с огурцами, но Канарей отверг эти обывательские претензии, высказанные в трудный момент противопожарной борьбы.
Барашка натаскивала Пограничного пса Алого на пожар и тренировала противопожарный лай.
Она показывала ему картинку огня из букваря и говорила:
— Огонь!
— Тяв-тяв, — говорил Пограничный пес Алый, приседая на задние лапы.
— Огонь!
— Тяв-тяв!
Гремучая змейка организовала патрулирование лесов. Ей помогал ее приятель Ужик, безалаберный, но добрый малый, которому цены не было, когда и если он не имел доступа к мухоморовой настойке. На молочной ферме, где он подрабатывал на опробировании кормовых смесей, Ужику дали двухнедельный отпуск за свой счет, плюс отгулы.
Теперь парочка целыми днями, с перерывом на обед и ужин, ползала по лесному периметру: Змейка в красной косынке с надписью «Бросай курить, спасай зеленое богатство!», любовно вышитой лоскутницей Татьяной, а Ужик с мегафоном, позаимствованнным у школьного физрука, и красной повязкой с полустершейся надписью «Народная дружина», которая завалялась у Соседской старушки.
Стоило только грибнику или веселой компании расположиться в лесу и чиркнуть спичкой или зажигалкой, как тут же из кустов раздавался громовой голос: «Курение и разведение костров запрещено! Повторяю: курение и разведение костров запрещено!» Если это не действовало, на сцене появлялась Гремучая змейка в сопровождении своих более мелких, но пружинно-шустрых подружек — лесных гадючек.
Они брали нарушителей в кольцо и, сужая круг, смотрели им в глаза. Подражая Змейке, гадючки тоже трясли своими хвостиками, на которые подвешивали грозди сухой рябины. Как правило, действие длилось секунды две-три, после чего сцена стремительно пустела под крики «ой» и «ай».
Гадючки так подсели на патрулирование, что выползали на дополнительное дежурство даже без Гремучей змейки и Ужика. Наверно, им нравилось пугать народ на законных основаниях. Иногда к ним присоединялся сводный (болото плюс заброшенный пруд) отряд ужей-добровольцев, молчаливых и суровых, без всяких погремушек, лишь в противопожарных шлемах, сделанных из желудевых шапочек. Но чаще они патрулировали отдельно, памятуя, что ужи все-таки гадюкам — не товарищи.
Один Мотылек не участвовал в общей работе. Суетился по своим непонятным делам, с кем-то встречался, а однажды в сумерках зачем-то тайком притащил канистру с бензином и спрятал в сарае.
Борис же все копал и копал, утирая трудовой пот полотенчиком, сшитым лоскутницей Татьяной.
Когда Борис заканчивал окапываться, пришла и встала у забора Соседская старушка.
— Борис, можно попросить? — спросила она, делая добрые глаза.
— За спрос денег не берем, — ответила Выхухоль.
— Борис, а можешь мне помочь, тоже покопать малость? Я смотрю, ты уже у себя закончил.
— Своих
