Зоя Криминская
В густой тени магнолий
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Дизайн обложки и рисунки в тексте автора
© Зоя Криминская, 2025
События, описанные в этой книге, происходят в Батуми, солнечном городе в Грузии на берегу Черного моря в течение долгих 60 лет.
ISBN 978-5-0068-4964-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
В густой тени магнолий
Моим одноклассникам дарю я эту книгу.
От автора
Последний раз я летала в Батуми в сентябре 2015 года, и мы отмечали 50 лет окончания школы.
И теперь, в начале июня 2025 года мы с Лёшей отважно решились растрясти свои старые кости: полетели на 10 дней в Батуми.
Подтолкнул нас на это Сергей, наш сын, который собрался прилететь туда вместе с женой и сыновьями из Штатов. К ним присоединились дочь с зятем и дочерьми. Оказалось, неожиданно, кстати, что между Москвой и Батуми пустили прямой рейс, которого не было несколько лет.
В 2025 году исполнялось 60 лет окончания школы, и был повод собраться остатками бывшего 11 «а» класса Батумской средней школы №8 с производственным обучением, что увеличило мое стремление посетить родной город.
Рейс в последний момент перенесли из Жуковского в Домодедово, мы трясемся на такси 2 часа, потом на самолете и вот мы в Батуми, где нас встречают прилетевшие раньше из Сербии внучка Настя с мужем. Почти час пробирались мы сквозь дикие пробки, пока добрались до квартиры, которую помогла нам снять Нелли.
Отмечали мы нашу встречу у Мани в ее новой просторной квартире, которую они получили после сноса их собственного дома.
Были девочки-старушки: Нелли, Маня, Тира, Шушана и я, Алексей в качестве дополнения ко мне, и Лия, дочка Мани, которая наготовила для нас кучу еды.
Разговор, в основном, вела Тира, рассказывала массу интересных случаев из своей жизни. Вспоминала, как ей приходилось в 90-е годы кормить всю семью, родителей, сестер и племянников, работая челноком, а потом она подcчитала и, оказалось, что перетаскала тонну товаров.
Потом рассказ перескакивает на ссору с милиционером, причину не помню, но вот Тира протягивает руки над столом и кричит: «А я говорю, арестуйте меня!».
И гонит соседа, который ночью ломится в ее дверь, хочет свести счеты:
— А я тебя не боюсь!
Приятно было, что кто-то из нас сохранил столько энергии, когда возраст уже приближается к 80.
Шушана говорила мало, негромко, у нее пошаливало сердце, да и в школьные годы она была тихой девочкой.
Они с мужем вернулись в Батуми после начала войны в Израиле, куда эмигрировали в 90-е годы. Купили здесь квартиру. А дочка с мужем остались в Израиле.
Маня и Нелли — прабабушки, остальные трое и я в том числе, еще держимся, вернее держатся наши внуки и внучки.
Мне хотелось, чтобы девчонки почитали то, что я писала о Батуми, я дала Лии ссылки на свою страничку в Самиздате.
Вернувшись домой после нереального сказочного пребывания в родном городе, я подумала, что навряд ли мои подружки будут вылавливать отдельные рассказы, посвященные Батумской жизни из той свалки, что у меня в Самиздате, и решила собрать все в одну кучу, издать книжку и подарить. Так появился замысел этой книги. Она состоит из отдельных рассказов, связанных между собой только местом действия. Рассказы списаны с реальной жизни, имена в них изменены, но моим одноклассникам не составит труда понять, кто есть кто. Кроме рассказов, в книгу включены описания посещений Батуми нашей семьей.
Я объединили эти разрозненные кусочки мемуарной прозы под названием «В густой тени магнолий», в память тех могучих деревьев, которые росли на Батумском бульваре. Под ними подростком и взрослой девушкой гуляла моя мама, там я сфотографирована летом 1951 году в четырехлетнем возрасте. В школьные годы я сидела на лавочках под магнолиями, отдыхая от жаркого южного солнца перед тем, как окунуться в нестерпимый жар раскаленных улиц по дороге домой с теннисных кортов. А в 80-х годах прошлого века летом там бегали мои дети с детьми моих одноклассниц, громко визжа и раскидывая сандалиями гальку на дорожках.
А вот внукам моим удивиться магнолиям не удалось: бульвар преобразили, магнолии вырубили, на их месте возвышаются пальмы.
Нельзя вернуться в город своей юности, как невозможно войти дважды в одну и ту же реку. Только старая магнолия напротив дома, где жила мама, пока стоит.
Катюмченко
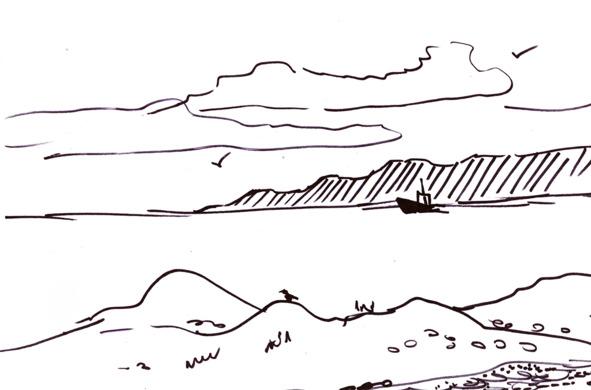
Промозглое сырое ноябрьское утро. Мы сгрудились во дворе школы, неуютном, открытом ветрам, покрытом старым асфальтом. С юга нас прикрывали стены двухэтажной оштукатуренной школы, но справа, с севера располагались низкие постройки коммунальных услуг школы, буфет и мастерские, всё это не защищало, продувалось, заставляло ёжиться, жаться друг к дружке.
Погода была необычно холодная для здешних южных мест.
Когда я, проснувшись, вышла во двор, ещё не рассвело. В утренних сумерках, с полотенцем через плечо, я торопилась к крану, чтобы умыться, и увидела, что оранжевая, еще вчера просвечивающая на солнце янтарем хурма, сорванная ночью ветром, лежит на земле под деревом осклизлой неопрятной кучкой.
Хозяин Сандро, с утра на ногах, подметал листья, дошел до хурмы и укоризненно посмотрел на меня. Он давно предлагал мне съесть эту хурму, но я постеснялась, и вот теперь она валялась на земле, бесполезная, некрасивая, никому не нужная. Рядом с ней лежали еще несколько, не таких крупных, не запомнившихся мне своей прозрачной оранжевой красотой.
Сейчас от холода разыгрался аппетит, и, вслушиваясь в неясные слова директрисы, стоящей перед нашим озябшим строем старшеклассниц, я одновременно мечтала о том, как бы я сейчас ела эту хурму, как сладкая вязкая масса заполняла бы мне рот.
В мечтах о хурме я забыла, о чем говорит директриса, потеряла нить ее речи и стала потихоньку припрыгивать на месте, чтобы согреться. Только обрывки фраз доносились до меня.
…Несчастье для семьи, позор для школы, мы не можем терпеть в наших рядах, честь, с таких ранних лет вступить на позорный путь, несмотря на все наши попытки устыдить, пришлось пойти на крайние меры…
Казенные слова, сильный грузинский акцент нашей Вакладзе, ее плохая от природы дикция, заглушаемые шумом ветра отдельные слова.
Я не могла понять, зачем нас вытащили с уроков и выстроили здесь. Сидели бы сейчас в тепле, на геометрии, шел бы опрос, а я пока придремывала бы.
— О чем это она? Я ничего не понимаю, — зашептала я на ухо Марии, одновременно прижимаясь к ней плечом, чтобы хоть как-то согреться.
Мария, напряженно вслушивалась в неясную речь Вакладзе, отмахнулась от меня. Я затихла. Потеряла надежду что-то понять и только слегка подпрыгивала. Наконец, Мария, уразумев сама, в чем дело, повернулась ко мне.
— Это из-за нее, из-за Катюмченко. Вон она стоит перед строем.
Я вытянула шею, стараясь бросить взгляд поверх спин наших подросших за лето одноклассников, и разглядела худенькую девчоночью фигурку в стороне от Вакладзе. Девочка стояла и смотрела куда-то вбок, и вид был у нее такой, как будто она не имела к происходящему никакого отношения.
Тем временем слышались слова: ни в какое учебное заведение, не будет даже среднего образования, будущее страшно себе представить.
— Да что случилось-то?
— Катюмченко исключают из школы.
— За что?
Маня развернулась на меня, возмущенно сверкнула черными глазищами.
— За то самое. Помнишь, я ж тебе говорила.
Я еще раз встала на цыпочки и оглядела маленькую фигурку с длинной шеей и короткими ногами. Не было в ней никакой пугающей завораживающей красоты, которую я, начитавшись романов Бальзака, ожидала увидеть в девушке, вступившей на путь порока. Выражение ее отливающего синевой замерзшего лица было злое и упрямое, но при этом такое еще детское, и кончики губ дрожали, а пальцы непрерывно теребили рукав формы. Она глянула на директрису, как бы подгоняя ее, прося скорей закончить, и отвернулась. Теперь она стояла к нам в профиль, горбоносая, с поджатыми губами.
Я опустилась с цыпочек на всю ступню, и повернулась к Марии.
— Мань, а Мань, — позвала я ее шепотом, — Мань, почему она Катюмченко? — Она похожа на грузинку.
— Мать у нее с Украины. Катюмченко, — ответила Маня.
— А отец?
— А кто знает? Кто может знать, кто у нее отец? Мать проститутка, и Лилька стала проституткой, и дочь у нее, если родится, тоже будет проституткой.
— Но она только в восьмом классе, моложе нас на два года.
— На один, — сказала прислушавшаяся к нам Софа. — А ты что, не знаешь, что чем моложе, тем лучше? Мать сама толкнула ее на эту дорожку, чтобы Лилька, пока молодая, побольше заработала.
Я ошалело глянула на Софу, облизала пересохшие губы, перевела взгляд на Катюмченко.
Ребята впереди начали толкаться, и закрыли ее от меня, но мне не надо было ее видеть, я ее уже запомнила.
Эта, выглядевшая совсем девочкой молодая женщина знала то, о чем мы только думали, шептались по углам, читали, собравшись кучкой, страницы в затертом томике Мопассана, который Нелька тайком притащила в школу. Мы только думали об этом, а она уже всё знала, она была взрослой тогда, как мы в свои шестнадцать оставались детьми, маленькими девочками.
И к отвращению и ужасу, который я к ней испытывала, присоединялась доля невольного уважения и интереса. Было что-то героическое в ее замерзшей маленькой фигурке, противостоящей нашему строю и высокой Вакладзе с надменным властным лицом.
Но я никому не сказала о своих двояких чувствах. Мои здравомыслящие подруги твердо знали, что хорошо, а о чем даже и подумать нельзя, не осквернившись, и не поняли бы меня.
Я задумалась. Почему девочку не исключили из школы тихо, а устроили это представление, выставили ее на позор? Почему она пришла в школу в этот день, день своего позора? Значит, она, как и мы, ничего не знала о готовившемся спектакле?
За время нашей учебы в школе ЧП с девочками происходили дважды. Оба раза девочки беременели, и их тихо выдворяли из школы, и обе они после родов продолжили учебу в вечерней школе. Но тогда никто не позорил их перед строем, не устраивали публичной казни.
Вакладзе перестала выдавливать из себя невнятные слова и замолчала. Молчал и строй. Минуты три продолжалось это неопределенное молчание.
В застывшей плотной тишине Лилька повернулась, пошла к приоткрытой калитке двора школы, обходя товарищей и прижимаясь к стене школы. Вот она прошла входную дверь школы с вывеской «Батумская средняя школа №8 с производственным обучением», еще десять метров и она исчезла за железной калиткой.
Все время, пока она шла, мы ждали, что директриса окликнет ее, вернет назад, так своевольно нарушившую порядок, уходящую без разрешения, без знака, что всё кончилось, но Вакладзе молча смотрела ей вслед, потом перевела взгляд на наш замерзший строй, и молча ушла, только не в калитку скрылась она от наших глаз, а в исчезла за массивными дверями школы.
За ней тонкой струйкой потянулись в классы и мы.
Проходя мимо директорского кабинета, мы замолкали и начинали свой неуемный гомон только отойдя на несколько шагов от его дверей. Говорили мы о предстоящих нам школьных делах, и ни слова не было вслух произнесено о том, что мы сейчас слышали.
Я встретила Катюмченко возле базара спустя два года.
Мы к тому времени закончили школу, разъезжались по стране, мечтали учиться дальше.
Лилька стояла у входа на базар, покупала персики. Она была в темном облегающем платье с большим вырезом, черные волосы красиво уложены. Грудь распирала платье.
Она посмотрела на меня, не узнавая, и стала складывать персики на тарелку весов, выбирая каждый и препираясь с торговцем, который больше смотрел ей за пазуху, чем на весы.
Сейчас она не показалась мне замухрышкой, как два года назад, перед строем, но и красавицей она, безусловно, не была.
Больше я ее никогда не видела
Спустя много лет кто-то из наших рассказал, что ее, когда ей минуло восемнадцать, взял в жены немолодой аджарец, вдовец, и увез в свою деревню, к коровам, баранам и трем детям. А перед тем, как увезти Лилю, он заплатил большую сумму ее матери, с тем, чтобы она никогда более не интересовалась судьбой дочери.
Бестактность
Солнце беспощадно обрушивало на землю водопад ослепительных лучей. Зной струился с голубого неба, которое, стоило только отвести от него взгляд, мнилось не голубым, а раскаленным добела. Время шло к полудню, и тени, длинные и прохладные с утра, съежились до сине-серых полосок вдоль северных сторон домов и странных, фантастических очертаний пятен под деревьями. Вечнозеленые поверхности листьев, как зеркала, отражали солнечный свет и до боли слепили глаза.
Две неожиданно встретившиеся женщины беседовали.
Младшая, Бела, во время разговора переставляла ноги, чувствуя, как медленно затягивает ее шпильки плавящийся на солнце асфальт.
Она томилась, мечтала поскорее освободиться, пройти, прижимаясь вплотную к стенам домов до прохладной тени подворотни, и забраться до самого вечера в спасительное прибежище зашторенного и закупоренного от жары человеческого жилья. А вечером, в спадающей жаре пройтись по изнуренным солнцем улицам до моря и искупаться. И она мысленно уже раздвигала прохладную и вязкую соленую воду, не вникая, что именно говорит ей стоящая передней немолодая маленькая женщина, просто кивала головой, и соглашалаясь.
Бела была еще слишком молода, занята собой, своим эмоциями, мечтами, планами на будущее, чтобы уметь читать в материнском сердце, и не простом ясном сердце, а в сердце умнейшей, восторженной, ожидающей всего лучшего от жизни, теперь уже не своей, а жизни сына, Ады Георгиевны.
Ада Георгиевна, в черном наряде вдовы, который носят на Кавказе женщины, потерявшие мужа, до конца своих дней, или до той поры, пока снова не выйдут замуж, казалось, совершенно не чувствовала ни жары, ни нетерпения своей молодой собеседницы, и всё говорила и говорила, вглядываясь черными колючими глазами в Белу.
Ада Георгиевна восторгалась своим единственным сыном, и никакая жара не могла помешать ей делать это.
Ада Георгиевна знала, что Белка видела ее сына в Москве, в институте, видела мельком, в президиуме, когда сама сидела в зале, и теперь это визуальное шапочное знакомство Белы и Миши позволяло Аде Георгиевна погрузиться в бесконечные восхваления талантов своего сына, отличника.
Заодно Ада Георгиевна с одобрением упомянула и товарища сына, Петю, который тоже был из Батуми и учился на два курса позже Миши, но, будучи земляками, они дружили.
Бела, вытащила шпильки из асфальта, отвлеклась от мыслей о море, и вынужденно вернулась из солнечного летнего дня юга в нудный и длинный ноябрьский вечер, когда она, сидела в душном зале, и слегка надменный, с умными глазами, маленького роста и очень некрасивый, сидящий крайним за столом, оказался Адин Мишенька, а горячий, сбивчиво выступающий, захлебывающийся словами, и мучительно заливающийся краской, его товарищ Петя, которого Ада Георгиевна расписывала как красавца и чистого душой юношу.
После собрания Бела ни разу не вспомнила об этих двух, а теперь вот стояла перед восторженной матерью, которая что-то от нее хотела, каких-то слов, мнений, сопереживаний, а Бела, еще не отоспавшаяся после летней сессии, не знакомая с предметом обожания Азы Григорьевны, могла только соглашаться, как это здорово, когда сын такой умница.
Вдруг Ада Георгиевна остановилась, глянула на Белу так, как будто хотела сделать ей рентгеновский снимок взглядом и спросила неожиданно прямо:
— Тебе понравился Петя?
Бела изумленно открыла глаза, вытащила в очередной раз шпильки из асфальта, напряглась, вспомнила Петю, его жгучий румянец, темно карие глаза и кивнула головой.
На самом деле Петя ей не понравился своей детской горячностью и лубочной внешностью. Но она была согласна с Адой, что Петя красивый мальчик и ей внешне показался, да, показался привлекательным.
— А Миша?
На какие-то секунды Бела замешкалась, правый каблук просто утопал и надо было срочно его спасать, она отвлеклась, и пока тащила, переносила центр тяжести с правой ноги на левую, вспоминала Мишу, удручающе некрасивого парня, с большим еврейским носом и намечающимися в двадцать два года залысинами и не смогла покривить душой и кивнуть головой также быстро, как на первый вопрос Ады Георгиевна.
Ада Георгиевна была из тех женщин, которые, задавая вопрос, при малейшей задержке со стороны собеседника тут же отвечали на него сами, и сейчас Ада Георгиевна, не дожидаясь кивка Белы, с плеча стала говорить о том, что Миша мальчик некрасивый, и Петя вот его лучше. Беле, как это обычно и бывает, больше понравился Петя.
Бела, которая была из тех девушек, чьей благосклонности надо добиваться, а сами они и полшага вперед не сделают, и с точки зрения позволила ли бы она проявить интерес к себе Пете или Мише у Белы был один однозначный ответ, нет, не позволила бы.
Но рассказывать об этом Аде Георгиевна было невозможно, тут надо было отвечать очень коротко. Поэтому, оглушенная потоком слов своей собеседницы, Бела промямлила что-то вроде того, что Петя ей понравился больше.
Просто Ада Георгиевна так ждала этого, так напирала в разговоре, что Петя красивый мальчик и девушки его любят, и он, конечно же понравился Беле больше, и что Миша некрасив, что Бела, забыв о кавказской учтивости, машинально, имея привычку не спорить со взрослыми, устав и расслабившись от жары, согласилась, что Петя приглянулся ей больше, чем Миша.
Получив то, к чему, казалось, она всеми силами стремилась, Ада Георгиевна замолчала, гордо подняла голову, встряхнула густой еще шевелюрой, глядя Беле в глаза снизу вверх, высокомерно сказала:
— Зато, Миша, он ведь гениальный, безмерно талантливый человек, а что такое Петя? Обыкновенный троечник. А ум, ум еще надо оценить… Не каждой этой дано.
И оставив ошеломленную Белу с открытым ртом, Ада Георгиевна ушла в гневе и презрении.
Бела забыла бы и этот летний день, и разговор, и допущенную ею бестактность, если бы спустя шесть лет не услышала от своей матери совершенно невозможное: Миша был убит в Москве на улице ночью. Услышала и содрогнулась, не представляя себе, как пережила это Ада Георгиевна.
— Аде всей правды не сказали, — добавила мама.– Она думает, что он просто умер. Скончался скоропостижно.
Из воспоминаний
1980 год
Надо мной высоко стояло темно-синее южное небо, забыто пахло кипарисами, морем и розами. Все вокруг цвело, шумно бил фонтан, отраженное от белых плит мостовой солнце резало глаза.
Я шла по Батумскому бульвару, со своими веселыми веснушчатыми детьми и не верила в реальность происходящего.
Осенью 67 года последний раз я была в Батуми, мучаясь болями в печени, лежала в стационаре и вышла на берег только один раз. Дул пронзительный сырой ветер, раздувая серые низкие облака, к ним поднимали белые вспененные головы бурые волны. Я постояла на пляже, облизала соль с губ, и уехала на тринадцать лет, а казалось мне, что навсегда, и сейчас, радуясь солнечному приволью раскинувшихся над морем родных кипарисовых аллей, я не понимала одного, что мешало мне все эти годы купить билет, сесть на поезд и приехать сюда?
Почему я не приехала раньше? Стеснялась неустроенности своей жизни? Не имела денег?
Или за время жизни среди блеклой природы Подмосковья, суровых зим, неярких лет, я перестала верить в существование субтропиков, круглогодичного торжества и буйства зеленых растений и своей юности, и невозможно было приехать туда, где есть то, чего не было в окружавшем меня мире.
Пустынный Крым и высохшая полевая трава в Кабардинке не напоминали мне мой родной юг, это был другой юг, даже другое море, мелкое и холодное.
По аллее навстречу мне шла Тира, важная-преважная, с глубоким макияжем и совершенно не изменившаяся, не считая того, что перестала мучить своих учителей в школе и мучила теперь своих учеников — Тира окончила Батумский пединститут и работала учительницей в младших классах.
— Привет, — сказала мне Тира так, как будто мы расстались вчера. — Приехала? С детьми?
Она оглядела моё потомство.
— А что все такие худые? А кто еще приехал? Ты кого из наших видела?
И вдруг я поняла, что Тира каждый год встречает кого-нибудь из одноклассников, вот так прогуливающихся по бульвару, и я одна из этих немногих.
— Да я вчера с поезда, а кто здесь из наших?
— Да ты первая.
И Тира удалилась, не удостоив меня более продолжительной беседой.
Я ошеломленно посмотрела ей вслед, потом засмеялась празднику узнавания. В Тире было столько же перемен, сколько в Батумском бульваре: выросла пальмовая роща, поменяли ограду вокруг, и море отошло еще метра на два, а Тира стала использовать другой цвет макияжа, и сегодня ее веки отливали зеленым, вместо примелькавшегося мне синего.
Первые три дня я была счастлива встречей с природой, с городом, его улицами и домами, и радостную встречу с друзьями я пережила совершенно случайно.
Исколотив все кулаки по автомату в попытках связаться с Москвой и поговорить с любимым мужем, я устала, угомонилась, по старинке заказала разговор через телефонистку, уселась ждать, когда меня позовут.
Мне нужно было рассказать, как мы тут живы, и что нужно привезти из Москвы, чтобы прожить здесь три недели, как запланировано. В Батуми были ужаснувшие меня абсолютно голые прилавки. Не было ни яиц, ни масла, ни сыра, ни колбас. Продавец маленького магазинчика с двойным названием «Мясо» и «Хорци» сидел на пороге абсолютно пустого магазина и глазел на проходящих полуголых курортниц. Хорци было только на рынке, говядина, по пять рублей за кг, и куры, цыпленок на полкило за 5 рублей, а большая курица 10. Скучно как-то при зарплате 120 рублей
Разговор обещают дать в течение часа. Всех потихоньку соединяют, с Харьковым, с Одессой, даже с Ленинградом, а меня никак, и я скучаю, разглядываю говорящих и ожидающих, жалею, что не взяла книжку.
Огромная молодая женщина с симпатичным личиком. Толчется возле кабинки. Очень внушительных размеров. И высокая и толстая. Но вот лицо…
Я вглядываюсь в эти светло карие глаза, чуть на бок ухмылку и как во сне сквозь те черты, которые я вижу, проступают другие, детские, и я узнаю эту девочку. Боже мой, этот слонопатам — Кира, маленькая девочка, младшая сестра моей одноклассницы Марины Игитханян!
Я хочу окликнуть ее, спросить, где Марина, но она разговаривает с двумя женщинами, я жду момента. Одна из женщин поднимает голову, она в темных очках, смуглое лицо в конопушках…
— Марина?
Женщина спустила темные очки на нос и стала озираться в поисках, кто же ее зовет, и я уверенней и громче:
— Марина!
Ее взгляд скользнул по мне и прошел дальше.
— Маринка! Ты что, меня не узнаешь?
Наконец она увидела, шагнула навстречу, мы радостно потискали друг дружку, потормошили, враз заговорили и уже не могли оторваться, пока меня не пригласили в кабину.
Так началось мое восстановление старых дружеских связей спустя пятнадцать лет. Марина была замужем за нашим одноклассником, Юрой Вороновым, у них было двое детей: Дима, на год старше Кати и Ира, на год моложе. Ира станет на годы наших приездов летней подружкой Сережи.
На другой день кто-то позвал меня, стоя у окна комнаты тети Тамары, у которой остановилась я с детьми и мама до приезда Леши.
Выглянув, я увидела Марину и рядом с ней невысокую розовощекую женщину.
— А, Марина, здравствуй, сейчас выйду.
— А со мной ты здороваться не собираешься? — спросила незнакомая женщина.
Я напряглась, вглядываясь.
— Инга, ты?
И мы рассмеялись, радуясь узнаванию.
Прошло два или три дня с моего приезда, я сидела на лавочке бульвара недалеко от теннисных кортов и увидела проходящего мимо Ниази Жордания с товарищами. 14 лет назад, когда я была в Батуми после первого курса, Софа Чартилиди, моя одноклассница и близкая подруга, рассказала мне, что Ниази нашел Нелли в Тбилиси, где она училась в институте и они снова, как когда-то во время нашей учебы в десятом классе, стали встречаться.
Я окликнула Ниази, поздоровалась.
— Не знаешь, случайно, где Нелли? — спросила я.
— Ну, вообще-то знаю, — ответил он. — Она моя жена. У нас трое детей. А работает она на улице Сталина, в банке.
Трое детей у Нельки, нашей спортсменки, меня просто сразили.
Подруги мои были заняты на работе, за исключением Инги, которая приехала с сыном в отпуск из Твери, и я, уходя с детьми с пляжа, заходила к Мане в Филармонию, где она работала секретарем, к Нельке в банк, она была экономистом и заведовала отделом, к Нанули в диспетчерскую. Это было так просто зайти к ним, не было проходной и высокой ограды с колючей проволокой, как в закрытом институте, где я работала.
Маня была вдовой с двумя детьми, я это знала от мамы, которая эти годы изредка наезжала в Батуми, и общалась по старой дружбе с тетей Валей, матерью Марии. Муж был водителем троллейбуса. Наверное, при ишемической болезни сердца, которая у него была, ему не следовало заниматься такой тяжелой работой. В разгар жаркого дня он зашел к матери усталый, выпил воды, чтобы охладиться и неожиданно скончался, оставив жену с двумя маленькими детьми.
Когда я неожиданно появлялась на пороге комнат, где работали мои подружки, возникало много визгу, писку и объятий. Подруги орали от неожиданности, эмоционально выражали свои чувства, я снова была на родине, среди людей, так похожих на меня, ещё более шумных, ещё более увлекающихся.
Алешка приехал через неделю после нас. Он был извещен об отсутствии продуктов и не знаю, каким образом, но притащил огромное количество еды, все продукты, коробки с яйцами, пачки масла, всем родственникам и знакомым в подарок. В Грузии, где, если верить справочнику, сельское население преобладает над городским, не было еды.
Проводница впала в истерику, когда Алешка все это выносил. Кричала, что столько мест нельзя иметь, и думаю, была не права, по весу было не так уж и много, да и возмущаться по этому поводу надо было в Москве, а не сейчас.
Встречать его пришли мы все и тетя Тамара (мамина мачеха, третья жена моего деда).
Наклоняясь к подавшей ему руку тете Тамаре и заглядывая ей в лицо, Алешка засмеялся:
— У Самсона Николаевича, оказывается, был большой диапазон.
Дело в том, что тетя Тамара была крохотная женщина, не выше 150 см, а бабушка высокая, а для тех лет и очень высокая, все 170.
Шел восьмидесятый год, и поднапрягшись, я вспомнила, что исполнилось 15 лет окончания нами школы. Мы решили встретиться и собрались у Инги в просторной 3-х комнатной квартире ее родителей. Человек десять было, все Батумские, кроме нас с Ингой. Отпраздновали пятнадцатилетие окончания школы и договорились встретиться спустя пять лет, отметить двадцатилетие и собрать всех, кого найдем.
Мы были счастливы вернуться в детство, как в лучшую пору своей жизни, и никто не вспоминал сейчас, как хотелось вырасти поскорей, чтобы стать независимым от взрослых, как тяготил постоянный контроль дома и в школе.
Когда сидели за столом, наши двое детей и Ингин сын Дима играли в соседней комнате.
Я, отвлекшись от общего разговора, обратилась к мужу, который не остался дома и пришел со мной, хоть одноклассником не был. Инга и Марина дружно посчитали, что ему можно присутствовать, так как личных друзей у него в Батуми нет и он будет скучать.
— Лёша, — попросила я, — пойди, глянь, что дети делают.
Услышав меня, Нели округлила глаза, но сказать ничего не успела. Ее опередила Тира.
— Это что? — спросила она.– Как можно? А ты на что?
— А ну-ка, — сказала Нели, — вставай и бегом, сама смотри за детьми.
Я засмеялась, вылезла из-за стола и прошла в другую комнату. В Грузии царил патриархат, а со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
Алёшка привез матрац, ласты, и мы стали проводить время, как обычно все отдыхающие: с утра на море, потом передых, потом на бульвар. С приездом Лёши мы поселились у родственницы тети Тамары, Венеры. Она сдавала дачникам жилье, и это было отдельная комната со своим входом, Венера меняла нам постельное белье и мы могли готовить на кухне. Готовила я мало, мы забегали на обед к тете Тамаре, у которой жила мама. Через неделю после приезда Алёшки мама укатила обратно в Москву, окончился отпуск.
Сережка боялся прибоя и в этот наш приезд довольно неохотно купался, легко заходил в море только в полный штиль, предпочитая в остальное время мелкий детский бассейн. Ходили мы большой командой, брали с собой внучку Венеры и соседскую девочку, а иногда и двух соседских девочек, так что мы были с пятью детьми, а когда к нам присоединялась еще и Инга со своим Димкой, на год моложе Кати, было совсем весело.
