автордың кітабын онлайн тегін оқу В Кэндлфорд
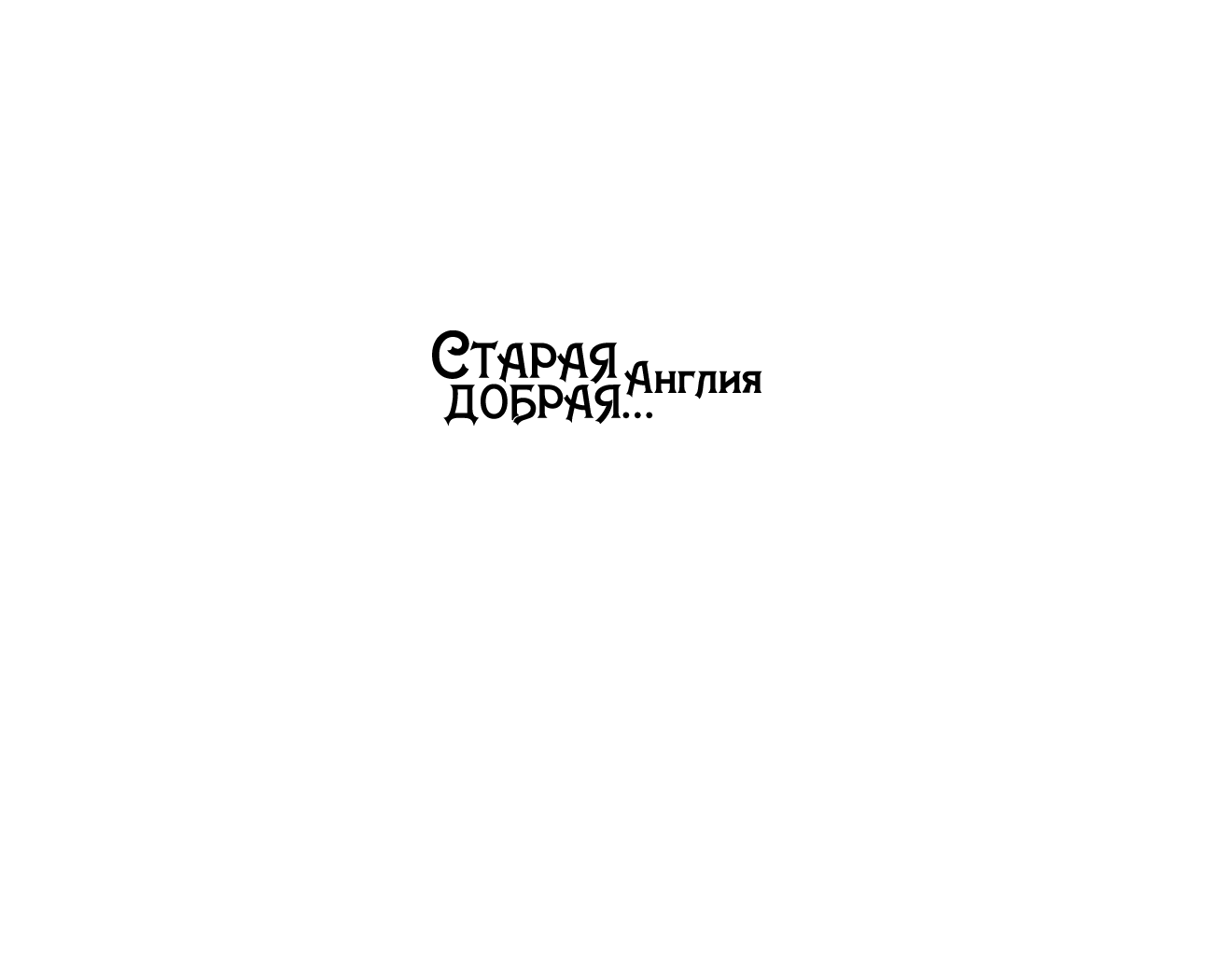

Flora Jane Thompson
OVER TO CANDLEFORD.
CANDLEFORD GREEN
Перевод с английского Анастасии Рудаковой
Серийное оформление и иллюстрация на обложке Екатерины Скворцовой
Томпсон Ф.
В Кэндлфорд! : сборник / Флора Томпсон ; пер. с англ. А. Рудаковой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2024. — (Старая добрая...).
ISBN 978-5-389-27098-5
16+
Автобиографическая трилогия «Из Ларк-Райз в Кэндлфорд» — ностальгическая ода, воспевающая жизнь провинциальной Англии Викторианской эпохи, рассказанная от лица девочки Лоры, выросшей в деревушке Ларк-Райз на севере Оксфордшира, а затем, еще подростком, устроившейся работать в почтовое отделение в близлежащем городке Кэндлфорд-Грин. Эти полулирические-полудокументальные воспоминания очаровывают искренностью повествования и простотой деревенских нравов, порой кажущихся наивными, и от этого еще более трогательных. В этот том вошли вторая и третья части трилогии.
© А. А. Рудакова, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
Издательство Иностранка®
В КЭНДЛФОРД!
I
Такие, как есть
– Вот придет лето, одолжим в «Фургоне и лошадях» старушку Полли с тележкой и все вместе отправимся в Кэндлфорд, — объявил отец (уже в десятимиллионный раз, подумалось Лоре). Хотя он вечно твердил про эту поездку, в Кэндлфорде семья еще ни разу не бывала. Дальше ближайшего городка, куда ездили за субботними покупками, они вообще не выбирались.
Однажды кто-то спросил детей, давно ли они живут в своем коттедже, и Лора ответила: «О, много-много лет», а Эдмунд присовокупил: «Всю жизнь»; однако «вся жизнь» мальчика насчитывала тогда пять лет, а его сестре едва исполнилось семь. Вот почему, когда мама сказала им, что самая большая оплошность на свете — родиться бедным, дети не поняли, что и сами уже совершили этот изначальный промах. Они были слишком малы, и им не с чем было сравнивать.
Их дом принадлежал к горстке небольших, окруженных полями коттеджей в трех милях от ближайшего городка и в пятидесяти от крупного города. Кругом простирались плодородные земли, которые память цепко хранила до конца жизни: полосы ребристых коричневых пашен, перемежаемых живыми изгородями из кустов и вязов. Картина эта была неизгладима; при желании можно было вызвать и другие воспоминания: акры молодой зеленой пшеницы, по которым стремительно несутся тени облаков; золото спелых нив; белизна глубоких снегов с цепочками заячьих и лисьих следов, тянущимися от изгороди до изгороди.
Среди этих коричневых, зеленых или белых, в зависимости от сезона, просторов, на небольшой горке, притулилась деревушка — скопление серых каменных стен и блеклых шиферных крыш, бесцветность которых лишь подчеркивалась пышными кронами плодовых деревьев и темной полосой тисовой изгороди. Путникам, шагавшим по большаку, что пролегал в миле отсюда, это селение, должно быть, нередко казалось уединенным и безлюдным; но в действительности место было оживленное, и более внимательный наблюдатель обнаружил бы, что тут кипит жизнь, не менее деятельная и занимательная, чем в колонии кротов.
Во всех здешних коттеджах обитали бедняки. Некоторым — старикам или семействам, разросшимся больше обычного, — жилось похуже, двум-трем семьям в более благополучных обстоятельствах — чуть покомфортнее, чем их соседям, но денег недоставало в каждом доме.
Если кто-то хотел одолжиться, он знал, что больше шести пенсов лучше не просить, а если просьбу встречали с обескураживающим выражением лица, то проситель поспешно прибавлял:
— Если шести не найдется, пожалуй, обойдусь и двумя.
Детям, когда в деревню приезжал бакалейный фургон, выдавали на сласти полпенни или всего один фартинг. Даже на меньшую сумму они накупали столько миндальной карамели или мятных леденцов, что могли часами набивать ими рот. Родителям же приходилось копить несколько месяцев, чтобы приобрести поросенка на откорм или несколько десятков вязанок хвороста на зиму. За исключением самых бережливых, всегда имевших немного денег про запас, к концу недели люди по нескольку дней сидели без гроша.
Но, как тут любили говорить, деньги — еще не все. Как ни беден был местный люд, обитатели каждого из маленьких коттеджей, так похожих друг на друга внешне, считали его неповторимым, ведь это был их «родной дом», или, по-здешнему, «до-ом». Запахи каминного дыма, бекона и капусты, которые встречали и окутывали мужчин, проработавших целый день в поле, на холодном свежем воздухе, казались усталым труженикам такими уютными; отрадно было опуститься в «отцовское кресло» у очага, стянуть тяжелые, в запекшейся грязи, сапоги и, усадив к себе на колени младшенького, прихлебывать крепкий, сладкий чай, покуда «наша мама» готовит ужин.
Старшие ребята весь день проводили в школе, а в хорошую погоду обретались на улице; но, как говаривали матери, дети знали, куда идти, когда проголодаешься, и под вечер они устремлялись домой на ужин и ночлег, словно почтовые голуби или кролики, спешащие в свою норку.
Для женщины дом был совершенно особым местом, ибо в четырех стенах проходили девять десятых ее жизни. Там она стирала, стряпала, убиралась и чинила одежду своего многочисленного семейства; там наслаждалась драгоценным получасовым покоем за чашкой чая перед камином, там несла, как умела, свое бремя и лелеяла редкие радости. Порой, когда гнет забот слегка ослабевал, она находила удовольствие в том, что по-новому переставляла скудные, убогие предметы мебели, переклеивала обои или мастерила из старых лоскутков покрывала и подушки, чтобы украсить свое жилище и придать ему уют; и мало какая женщина оказывалась настолько бедна, что не имела ни единого сокровища, которое можно было выставить напоказ, — какой-нибудь вещицы, хранившейся в семье «с незапамятных пор», или мебели, купленной на распродаже в таком-то поместье или подаренной ей господами, когда она находилась в услужении.
Такие сокровища по прошествии времени приобретали репутацию баснословно дорогих вещей. Дедушка Билла отказался продавать вон тот угловой буфет или эти напольные часы за двадцать фунтов, говорила одна; некий таинственный джентльмен однажды поведал, что огромные рубины и изумруды, украшавшие старую, облезлую металлическую рамку для фотографий, — настоящие, утверждала другая. И вечно твердила, что «в один прекрасный день» отнесет ее ювелиру в Шертон на оценку, но так этого и не сделала. Как и все окружающие, эта женщина понимала, что не стоит подвергать проверке свою любимую иллюзию.
Никто из слушателей не оспаривал ценность подобных сокровищ. Это было бы «неприлично», а кроме того, вещица с похожей легендой имелась почти в каждом доме. Отец Лоры и Эдмунда со смехом говорил, что, поскольку ни у кого из семейства Брэби в жизни не водилось за душой больше двадцати шиллингов, любой, кто предложит им двадцать фунтов за часы, будет тут же с негодованием отвергнут; а что касается рубинов и изумрудов миссис Гаскин, то всякому, у кого есть глаза, видно, что они происходят с того же месторождения, что и материал, из которого изготавливают дешевые однопенсовые стаканы.
— Какая разница, если им нравится так думать? — спрашивала его жена.
Это были работящие, самостоятельные, довольно-таки честные люди. От них частенько можно было услышать: «Провидение помогает тем, кто умеет сам позаботиться о себе». Врожденным чувством юмора они не отличались, зато унаследовали коллекцию шутливых изречений, считавшихся остроумными. Сосед, которого звали помочь передвинуть тяжелый шкаф, являясь, плевал на ладони и говорил: «А вот и я, готов на шиллинг потрудиться и полукроною разжиться». Помимо путаной арифметики, в этой безобидной шутке фигурировала фантастическая сумма, запрашиваемая в качестве вознаграждения. Обычной платой за подобную или чуть более существенную услугу служил бокал пива или стоимость оного.
Тот, кто помогал соседу справиться с каким-либо заковыристым вопросом, цитировал старую поговорку: «Одна голова хорошо, а две лучше», и сосед откликался: «Вот почему дураки женятся», или, если был настроен более приземленно: «Да, особенно если головы овечьи». Поговорку всегда нужно было заканчивать. Нельзя было просто сказать: «Если хочешь убить собаку, не обязательно ее вешать», не услышав в ответ: «Или душить подушкой»; а любое упоминание о деньгах как о корне всех зол влекло за собой непременное: «Однако я от такого корешка не откажусь».
Обсуждение собственных и соседских дел занимало место, которое в современном мире принадлежит книгам и фильмам. Ничего значительного по меркам внешнего мира в деревушке никогда не случалось, и тамошний уклад был совершенно непохож на нынешнее представление о сельской жизни, ибо Ларк-Райз не был ни рассадником порока, ни вертоградом пасторальных добродетелей. Но в жизни любого человеческого существа, какой бы ограниченной она ни была, всегда есть место и затруднениям, и тому, что позабавит стороннего наблюдателя, так что и на этой скромной сцене разыгрывалось много занимательных маленьких драм.
В повседневной жизни Ларк-Райза не имелось ни одного из тех удобств, которые ныне считаются необходимыми: вместо водопровода — общий колодец, вместо канализации — будка во дворе, вместо электрического освещения — свечи и керосиновые лампы. Жизнь была нелегкая, но деревенские обитатели себя не жалели. Они приберегали свою жалость для тех, кого считали настоящими бедняками.
Дети приносили домой из библиотечки воскресной школы книги о лондонских трущобах, которые прочитывались и их матерями. Тогда это была излюбленная тема писателей-беллетристов; целью их, по-видимому, было не столько вызвать возмущение ужасными условиями жизни, сколько обеспечить какой-нибудь сердобольной леди или ребенку выразительный фон повествования. Много было пролито в деревне слез над «Старой шарманкой Кристи» и «Младшим братцем Фрогги». Все жалели, что не могут вызволить из трущоб бедных маленьких сироток и поделиться с ними самым лучшим, что тут имеется.
— Несчастный крошка. Будь у нас возможность взять его к себе, он спал бы в кроватке с нашим маленьким Сэмми, а здешний воздух мигом бы его оживил, — сказала одна женщина про умирающего младшего брата Фрогги, забыв, что он, как она выразилась в другой раз, «всего-то книжный персонаж».
Впрочем, читать о страдальцах было не только печально, но и приятно, ведь это внушало отрадное чувство превосходства. Слава богу, у читательницы имелся в полном распоряжении и целый двухэтажный дом, так что ей не приходилось «ютиться» в одной каморке, и настоящие, к тому же чистые, кровати, а не кучи тряпья в углах вместо постелей.
Для этих людей, так же как для Лоры и Эдмунда, которые росли среди них, деревенская жизнь была совершенно нормальной. За одной гранью этой нормы находилась подлинная беднота, обитавшая в трущобах, а за другой — «джентри», мелкопоместное дворянство. Другого разделения на классы селяне не признавали; хотя им, разумеется, было известно, что и между ними живет несколько «важных людей». У навещавших их священника и врача из городка и денег было побольше, и домá получше, чем у ларк-райзцев, но, хотя оба являлись «урожденными джентльменами», к аристократии, обитавшей в огромных загородных домах или наезжавшей в окрестные охотничьи домики, они не принадлежали. Однако одного снисходительно именовали «старым пастором», а другого ласково «нашим доктором» и не относили к какому-либо определенному классу общества.
Джентри мелькали в здешних краях точно зимородки, порхнувшие сквозь стаю воробьев, копошащихся в живой изгороди. На глазах у местных жителей они проносились по деревне в своих экипажах, и дамы в развевающихся шелках и атласе прикрывались крошечными зонтиками с синельной бахромой, чтобы уберечься от загара. Зимой выезжали на псовую охоту: джентльмены — в безукоризненных красных охотничьих камзолах, леди на дамских седлах — в плотно облегавших изящные фигуры черных амазонках. «Выглядят так, будто их расплавили и залили в эти костюмы, верно?» Сырыми, туманными утрами, направляясь к месту сбора, господа пускали своих скакунов рысью, перекликаясь пронзительными голосами, которые было весело передразнивать.
Позднее в тот же день часто можно было видеть, как они несутся во весь опор по пашням, и тогда работники бросали свои орудия и забирались на полевые ворота, чтобы поглазеть на них, или останавливали упряжки, высовывались из-за плугов и, приставив рупором ладони ко рту, кричали:
— Ату, вперед, вперед, улюлю, ату!
Когда экипажи проезжали по деревне, многие женщины, идущие с колодца, ставили ведра на землю и делали реверанс, мальчики почтительно дергали себя за челку, а девочки приседали, как их учили в школе. Лора в такие моменты ощущала неловкость, поскольку отец говорил, что, хотя он согласен, чтобы Эдмунд приветствовал каждую леди (однако весьма надеется, что сын не будет при этом дергать себя за волосы, словно за веревку звонка), но решительно возражает против того, чтобы его дочери приседали, разве что в церкви или перед королевой Викторией, если ей случится тут побывать. Мама смеялась.
— В Риме поступай как римляне, — замечала она.
— Это не Рим, — парировал отец. — Это Ларк-Райз — место, которое Господь создал из того, что осталось после сотворения мира.
При этих словах мама запрокидывала голову и цыкала языком. Она говорила, что некоторые его понятия выводят ее из терпения.
Если не считать редких экипажей и дилижанса, проезжавшего дважды в неделю, по большаку мало кто ездил, разве только фургон пекаря и фермерские повозки, и телеги. Иногда проходила женщина из соседнего села или деревушки, спеша с корзиной для покупок в городок. Тогда считалось сущим пустяком проделать шесть-семь миль, чтобы купить катушку ниток, упаковку чая или шестипенсовый кусок мяса на воскресный мясной пудинг. За исключением дилижанса, появлявшегося лишь по определенным дням, другого транспорта не существовало. Поездка со Стариной Джимми считалась шиком, но и ужасным расточительством, ибо плата за проезд составляла шесть пенсов. Большинство людей предпочитали пройтись пешком и сэкономить шесть пенсов, чтобы потратить их там, куда они направлялись.
Впрочем, хотя этого никто еще не осознавал, транспортная революция началась. По дорогам уже носились, вихляя из стороны в сторону, дорогие «пенни-фартинги», предвещая, подобно первым ласточкам, грядущее лето автобусов, автомобилей и мотоциклов, которым вскоре предстояло преобразить сельскую жизнь. Как же быстро колесили эти новомодные велосипеды и какими опасными казались! Прохожие, встречая подобное средство передвижения, чуть ли не вжимались в живую изгородь, ведь почти каждую неделю в воскресной газете появлялись истории о людях, сбитых велосипедами, и печатались письма читателей, где говорилось, что велосипедистов не следует пускать на дороги, которые, как всем известно, предназначаются только для пешеходов и гужевых повозок. «У велосипедов, как у поездов, должны быть собственные дороги», — гласило общее мнение.
И все же это было захватывающее зрелище: человек, стремительно рассекавший пространство на одном высоком колесе, пока другое маленькое колесико беспомощно болталось позади. Вас поражало, как ему удается сохранять равновесие. Неудивительно, что у него такой ошалелый вид! Подобное выражение называли «лицом велосипедиста», и газеты предсказывали, что из-за этого занятия следующее поколение вырастет горбатым и издерганным.
Езду на велосипеде считали мимолетным поветрием, а велосипедистов в обтягивающих темно-синих костюмах с бриджами и кепках со значками своего клуба — посмешищами. Ни один деревенский житель, выбегавший к своей калитке, чтобы поглазеть на проезжающего мимо велосипедиста, надеясь и одновременно страшась, что тот упадет, не поверил бы, если бы ему сказали, что через несколько лет в каждом доме заведется по меньшей мере один «костотряс», на котором мужчины станут ездить на работу, а молодые женщины, покончив с домашними хлопотами, будут запросто оседлывать «железного коня» и, крутя педали, отправляться в городок, чтобы пройтись по магазинам. И уж тем более усомнились бы, если бы им поведали, что многие из них доживут до той поры, когда совет графства милостиво выдаст каждому деревенскому ученику по велосипеду и дети будут ездить в школу «совсем задаром», как тут выражались.
В остальном мире люди сооружали высоченные фабричные трубы и отводили многие мили зеленых лугов под убогие жилища для рабочих. И без того большие города обрастали десятками дорог и пригородных вилл. Для удовлетворения потребностей быстро увеличивавшегося населения строились новые церкви, часовни, железнодорожные станции, школы и гостиницы. Но обитатели Ларк-Райза не видели этих перемен. Они жили далеко от промышленных районов, и их окружение оставалось таким, каким было с самого их рождения. За много лет в маленьком селении в полях не прибавилось ни одного коттеджа, и, как оказалось впоследствии, в этом виде ему суждено было просуществовать еще по меньшей мере полвека; возможно, оно останется таким навсегда, ведь облик Ларк-Райза не изменился по сей день.
Престол занимала королева Виктория. Она прочно обосновалась там еще до рождения Лориных родителей, поэтому девочке и ее брату казалось, что королева была и будет всегда. Но многие старики еще помнили ее коронацию и могли поведать, как во всех окрестных селах целый день звонили в церковные колокола, жарили бычьи туши, а ночью жгли костры.
По утверждению священника, подданные называли королеву «нашей маленькой английской розой», и Лора частенько думала об этом, изучая портреты Виктории в рамке за стеклом, висевшие на почетном месте во многих коттеджах. С портретов смотрела полная, немолодая, довольно-таки сердитая особа с ярко-голубой лентой ордена Подвязки на груди и короной на голове, такой крошечной, что по сравнению с ней лицо казалось огромным.
— Как она держится? — спрашивала Лора, потому что ей чудилось, что при малейшем шевелении корона тотчас свалится.
— Не волнуйся, — успокаивала ее мама, — она продержится на этой голове еще много лет, вот увидишь.
И в самом деле, корона продержалась еще лет двадцать.
Для всей остальной страны королева уже не была «нашей маленькой английской розой». Она сделалась «королевой-императрицей» или «Викторией Добродетельной, матерью своего народа». В деревне ее называли «старой королевой» либо «бедной старой королевой», ибо разве она не была вдовой? И говорили, что ей тоже приходится нелегко с этим ее сыночком. Впрочем, все соглашались, что Виктория хорошая королева, а когда у них спрашивали почему, отвечали: «Потому что она снизила цену на четырехфунтовую буханку» или: «Ну, при ней ведь у нас мир, не так ли?»
Мир? Ну разумеется. Война была чем-то таким, о чем читали в книгах, штукой довольно захватывающей, если бы не приходилось погибать бедным солдатам; впрочем, все это было давно и далеко, а в наше время случиться никак не могло.
Однако война была не так давно, поведал Лоре и Эдмунду отец. Он сам родился в день Альминского сражения [1]. Тогда мы сражались с русскими, суровым и жестоким народом, который считал, что правда в силе, но обнаружил, что ошибался. Он не смог сделать рабами свободных людей.
Еще был старик, который являлся раз в несколько месяцев, играл на дудочке и просил милостыню. Его прозвали Одноглазым Хромушей, потому что он потерял под Севастополем глаз и часть ноги. Одна штанина у него доходила только до колена, и культя опиралась на так называемую деревянную ногу, хотя человеческую ногу та не слишком напоминала и в действительности представляла собой слегка сужающуюся книзу деревяшку, заканчивавшуюся железным наконечником. «Пошкандыбал», — говорили про Одноглазого Хромушу.
Однажды старик Хромуша при Лоре рассказывал их соседу о том, как лишился конечности. Его задело пушечным ядром, и он провалялся на поле боя незамеченным целые сутки. Затем пришел хирург и сразу же отпилил раздробленную голень.
— А я только орал, — говорил калека, — особенно когда он окунул обрубок в ведро с кипящей смолой. Это было до того, как пришли сестрички.
Он имел в виду сестер милосердия. Лора знала, что это значит, потому что в книге о «леди со светильником», которую читала ей мама, было изображение Флоренс Найтингейл [2], чью тень целовали раненые.
Но эти рассказы, кажется, ничуть не приближали войну в Крыму к той эпохе, в которую жили Лора и Эдмунд, и когда позднее они читали в своих старомодных книжках повести о хороших детях, помогавших матерям вязать и сворачивать бинты для солдат, сражавшихся в России, война и тогда представлялась Лоре и Эдмунду столь же неправдоподобной, как любая сказка.
Солдат — уроженцев Ларк-Райза считали не воинами, а молодыми искателями приключений, которые пошли в армию, потому что это был единственный способ повидать мир, перед тем как они остепенятся, женятся и встанут за плуг. Судя по их письмам, которые часто зачитывались вслух односельчанам, собиравшимся у порогов коттеджей, единственными врагами, с которыми им доводилось сталкиваться, были песчаные бури, москиты, тепловые удары и малярия.
Испытания, выпавшие на долю Лориного дяди Эдмунда, были иного рода, поскольку он находился в Новой Шотландии, где можно было отморозить себе нос. Но он, само собой, служил в королевских инженерных войсках, как и все военные по отцовской линии, ведь не зря же они владели ремеслом? В семье это давало повод к некоторому снобизму. В те наивные времена человек, которого родители отдали в ученики к какому-нибудь мастеровому, считался уже состоявшимся в жизни. «Вложите ему в руки ремесло, и он всегда будет надежно обеспечен», — говорили люди о каком-нибудь многообещающем парнишке. Им еще предстояло сполна уяснить смысл таких слов, как «депрессия» и «безработица». Так что в «крайнем доме» речь всегда шла про королевские инженерные войска, даже при матери Лоры и Эдмунда. В ее семье предпочтение отдавали полевой артиллерии, разумеется, тоже королевской, хотя на этом внимания не заостряли.
И инженеры, и артиллеристы несколько свысока взирали на полк графства, а тот, в свою очередь, свысока взирал на милицию. Без сомнения, у солдат милиционных войск также имелись свои мерила; вероятно, они свысока взирали на пассивных молодых людей, оставшихся дома, «парней, у которых не хватило удали пойти в армию». Те, кто отваживался вступить в милицию, редко задерживались в ней надолго. Почти все они еще до завершения первого этапа подготовки отправляли родителям письма, где сообщали, что прикипели к прекрасной солдатской жизни и решили перейти в «регулярные». Потом они приезжали домой на побывку в алых мундирах и маленьких круглых шапочках и прогуливались по деревне, покручивая тросточками и поглаживая свои новые усы, после чего отправлялись за море, в Индию или Египет. У тех, кто оставался дома, развлечений было немного: Рождество, праздник урожая и ежегодный сельский пир. В те дни не было ни кино, ни радио, ни экскурсий, ни танцев в сельских клубах! Летом несколько юношей и мужчин помоложе играли в крикет. Один парень считался в этих краях хорошим боулером и иногда набирал команду, чтобы провести игру в какой-нибудь из окрестных деревень. Как-то на пороге его дома произошел любопытный разговор. Вышедшая из экипажа дама попросила, вернее, приказала ему собрать команду для игры с «юными джентльменами», имея в виду своих сыновей, приехавших на каникулы, и их друзей. Естественно, Фрэнк захотел выяснить, насколько сильны соперники, с которыми ему предстояло сразиться.
— Полагаю, мэм, вы желаете, чтобы я позвал умелых игроков? — почтительно осведомился он.
— Конечно, — ответила дама. — Юным джентльменам по душе хорошая игра. Но пусть команда будет не слишком сильная. Джентльменам не хочется проиграть.
— И это, по ее мнению, называется крикетом, — с широкой улыбкой заметил Фрэнк вслед удаляющейся собеседнице.
Это сельское общество отделяют от нас пятьдесят с небольшим лет; но в смысле манер, обычаев и условий жизни — целые столетия. Не считая того, что соломенная кровля уступила место черепичной, а старинный открытый очаг сменился встроенной решеткой-жаровней, коттеджи оставались такими же, какими жилища бедняков были на протяжении многих поколений. Люди по-прежнему питались обычной деревенской едой, пока еще предпочитая ее новым продуктам фабричного производства, с которыми уже познакомились. Мужчины постарше по-прежнему носили длинные крестьянские рубахи, заявляя, что одна добротная рубаха переживет двадцать новых готовых костюмов, какие начали покупать молодые люди. Белоснежная, выстиранная вручную рубаха с искусно сшитой затейливой кокеткой, безусловно, выглядела куда живописнее грубых, плохо сидящих фабричных «пинжаков».
Женщин мода волновала больше, чем мужчин, но их усилия соответствовать последним веяниям ограничивались «воскресными нарядами», которые редко доставали из коробок, хранившихся на втором этаже. В повседневной жизни деревенские жительницы довольствовались большим, тщательно отглаженным белым фартуком, прикрывавшим заплаты и штопку. Чтобы дойти до колодца или до соседнего дома, хозяйка набрасывала на плечи, а в непогоду и на голову, клетчатую шерстяную шаль. А надев в придачу крепкие башмаки-паттены, она была готова ко всему.
Обитатели Ларк-Райза во многом еще походили на своих предков; но перемены уже подкрадывались к ним, хотя и медленно. В каждом доме читали еженедельную газету, которую покупали или одалживали, и хотя ее по-прежнему издавали образованные авторы для образованных читателей, так что нашим деревенским интеллектуалам порой приходилось поломать голову над их идеями, мало-помалу идеи эти добирались и сюда.
Необходимость ломать голову над идеями была естественна для поколения, воспитанного на Библии. Отцы этих людей считали «Слово Божье» единственным надежным проводником в нелегкой жизни. Священное Писание было для них и занимательным чтением, и сокровищницей слов и изречений, и поэтическим сборником — для тех, кто умел оценить поэзию. Многие пожилые люди по-прежнему считали каждое слово Библии истиной в буквальном смысле. Другие уже не были в этом убеждены; например, история об Ионе и ките требовала недюжинной доверчивости. А вот газетам верили все. Фраза «Я прочел об этом в газете, стало быть, это правда» была рассчитана на то, чтобы положить конец любому спору.
[2] Найтингейл Флоренс (1820–1910) — знаменитая английская сестра милосердия, работавшая во время Крымской войны в полевом госпитале в Балаклаве.
[1] Сражение на реке Альме в Крыму произошло 20 сентября 1854 года между англо-франко-турецким и русским войсками в ходе Крымской войны 1853–1856 годов.
II
Малая родина
Лора пришла в этот мир холодным декабрьским утром, когда поля были покрыты глубокими сугробами, а дороги занесены снегом. В спальне Лориной матери, так же как и в других деревенских коттеджах, камина не было, и наверх носили нагретые в печи и обернутые фланелью горячие кирпичи, терявшие по пути тепло.
— Ох, как же мы мерзли, как мерзли, — повторяла мама, рассказывая ту историю, и Лоре нравилось это «мы». Оно свидетельствовало о том, что даже новорожденный малыш, никогда еще не бывавший за пределами комнаты, в которой появился на свет, уже являлся личностью.
Жизнь ее родителей была не столь тяжкой, как у большинства соседей, ведь Лорин отец был каменщиком и зарабатывал больше, чем батраки на ферме, хотя в восьмидесятые годы жалованье такого вот квалифицированного ремесленника было немногим больше нынешнего пособия по безработице.
Отец Лоры не был уроженцем этих краев; несколькими годами ранее его отправила туда строительная компания, занимавшаяся реставрацией церквей в округе. Это был опытный мастер, любивший свое дело. Говорили, будто он копировал и заменял обветшавшие детали резного убранства так, что подмену не сумел бы обнаружить и сам создатель резьбы. Отец занимался резьбой и дома, в небольшой столярке, которую построил рядом с коттеджем. Три его работы — лев, ландыши, растущие у корней дерева, и головка ребенка, возможно Эдмунда или Лоры, — украшали гостиную. Насколько искусны были эти изделия, Лора так и не выяснила, поскольку они покрылись сажей и были выброшены на свалку прежде, чем она повзрослела и смогла составить о них ясное представление; однако ей было приятно знать, что отец, по крайней мере, обладал творческим импульсом и художественными навыками, пусть и несовершенными.
К тому времени, когда реставрация завершилась, он женился и обзавелся двумя детьми, и, хотя этот человек никогда не питал любви к Ларк-Райзу и, в отличие от своей жены и детей, так и не влился в тамошнее маленькое общество, когда его товарищи по работе уехали, он остался и стал трудиться обычным каменщиком.
В этих краях по-прежнему много строили из камня. Один загородный дом сгорел дотла, и его пришлось отстраивать заново; к другому решили добавить новое крыло; также Лорин отец мог изготовить надгробную плиту, возвести коттедж или стену, сложить камин или, по необходимости, несколько рядов кирпичей. От мастерового ждали, что он возьмется за все, что относится к его ремеслу, и тот, кто умел больше остальных, считался лучшим работником. Эпоха специалистов еще не настала. Впрочем, каждый мастер должен был ограничиваться своим делом. Лора помнила, что однажды, когда из-за морозов отец был вынужден остаться дома, он случайно обмолвился при жене, что у плотников нынче много заказов, а та, зная, что в юности он успел подвизаться во всех мастерских, как было принято в ту пору у сыновей строителей, поинтересовалась, почему он не попросится на плотницкую работу. Отец рассмеялся и ответил:
— Плотникам это не понравится! Они скажут, что я браконьерствую, и посоветуют заниматься своим ремеслом.
Он трудился в строительной компании в городке тридцать пять лет: сперва каждое утро и вечер проделывал по три мили пешком, впоследствии ездил на велосипеде. Работал с шести утра до пяти вечера и, чтобы не опоздать, большую часть года был вынужден выходить из дома затемно.
В самых ранних Лориных воспоминаниях отец представал худощавым, стройным молодым человеком лет под тридцать, с горящими темными глазами и черными, как вороново крыло, волосами, но притом светлым, свежим цветом лица. Из-за белой пыли, неизбежной при его работе, обычно он носил одежду из прочной светло-серой шерстяной материи. Спустя многие годы после смерти этого постаревшего, озлобившегося человека Лора будто въяве видела, как он в повязанном вокруг пояса белом фартуке, с висящей на плече корзиной с инструментами и сдвинутой на затылок черной широкополой шляпой шагает домой по обочине дороги с таким видом, точно, по выражению деревенских жителей, «скупил землю по одну сторону дороги и подумывает о том, чтобы скупить по другую».
Даже в темноте его можно было узнать по походке, более легкой и энергичной, чем у других мужчин. Да и ум у него тоже был быстрее, а язык лучше подвешен, ибо он принадлежал к иному кругу и воспитывался в иной среде.
Некоторые соседи считали Лориного отца «самомнительным» гордецом, но терпели его ради жены, и отношения его с окружающими, во всяком случае внешне, были мирными — особенно во время выборов, когда он взбирался на доску, положенную на два пивных бочонка, и излагал гладстоновскую программу, а Лора, глаза которой оказывались на одном уровне с его выходными ботинками на пуговицах, внутренне трепетала, опасаясь, как бы над ним не насмеялись.
Его аудитория, слушателей двадцать или около того, смеялась довольно много, но не над ним, а вместе с ним, поскольку оратором он был занимательным. Никто из них не догадывался (и, вероятно, отец и сам еще не начал подозревать), что перед ними потерянный, надломленный человек, заблудившийся в жизни, к которой он не принадлежал, и по собственной слабости оторванный от нее до конца своих дней.
Он уже начал задерживаться где-то после работы. Мама, рассказывая детям сказку на ночь, нередко бросала взгляд на часы и говорила: «Куда подевался наш папа?» или, если дело уже шло к ночи, сурово замечала: «Ваш отец снова припозднился»; когда же он наконец являлся, лицо у него полыхало и он был словоохотливее, чем обычно. Впрочем, падение его только начиналось. Еще несколько лет все шло хорошо или, во всяком случае, сносно.
Коттедж их принадлежал миссис Херринг. Она с мужем сама жила там некоторое время, прежде чем его сняли родители Лоры, но, поскольку мистер Херринг когда-то был конюхом и имел пенсию, а миссис Херринг гордилась своим высоким положением, в Ларк-Райзе они никогда не были ни счастливы, ни любимы. Ее чувство превосходства еще можно было вытерпеть и даже подыграть ему, ведь, как говорили некоторые соседи, «свечку надо поднести к огню», но оно сопровождалось пороком, которого здесь не терпели, — скаредностью. Миссис Херринг не только держалась особняком, чем сама похвалялась, но и тряслась над каждым куском, вплоть до последней шкварки, когда готовила лярд [3], и последнего кочна капусты со своего огорода. «До того скупа, что и ниточку жаворонку на чулки пожалеет», — вот какую репутацию она себе составила.
Миссис Херринг, со своей стороны, жаловалась, что деревенские жители — народ грубый и неотесанный. Здесь не было людей, которых можно было пригласить поиграть в карты, она скучала по обществу и давно уже хотела перебраться поближе к замужней дочери, и вот однажды в субботний день к ней заглянул молодой каменщик, подыскивавший коттедж недалеко от работы. Она оказала новым жильцам любезность, очень быстро съехав, но не произвела на тех большого впечатления, поскольку запросила высокую плату, полкроны в неделю — больше, чем платили остальные арендаторы в деревне. Соседи вообще полагали, что миссис Херринг никогда не сдаст дом: кто может позволить себе столь дорогое жилье?
Лорины родители, лучше осведомленные о городских ценах, решили, что дом того стоит, поскольку он представлял собой два небольших коттеджа с соломенными крышами, объединенные в один, с двумя спальнями, и при нем был хороший сад. Конечно, по их словам, в нем недоставало городских удобств. Пока они сами не купили решетку-жаровню и не установили ее в так называемой прачечной — нижней комнате второго коттеджа, готовить воскресное жаркое было негде, к тому же было утомительно ходить за водой к колодцу, а в сырую погоду таскаться под зонтиком в уборную в саду. Зато в коттедже имелась уютная гостиная с полированной мебелью, полками, уставленными разноцветной посудой, и красно-черными дорожками, устилавшими вытертый плиточный пол.
Летом окно постоянно держали открытым, и в комнату заглядывали мальвы и другие высокие цветы, мешаясь с геранями и фуксиями, стоявшими на подоконнике.
В комнате этой была «детская». Так ее порой называла мама, когда дети вырезали картинки и оставляли на полу обрезки.
— Ведь эта комната — детская, — говорила она, на мгновение забывая, что детские, в которых она начальствовала до замужества, обычно считались у нее образцом чистоплотности.
У этой комнаты имелось одно преимущество перед большинством детских. В ней была дверь, выходившая прямо на садовую дорожку, и в хорошую погоду детям разрешалось бегать из дома в сад и обратно. Даже когда шел дождь и в выемки в дверных косяках по деревенскому обычаю вставляли доску, чтобы дети не выбегали наружу, они все равно могли перегибаться через нее и подставлять дождю ладони, наблюдать за птицами, хлопающими крыльями по лужам, вдыхать запахи цветов и мокрой земли, напевая хором: «Дождик, дождик, перестань, лучше завтра к нам нагрянь».
Сад был больше, чем им было нужно в ту пору, и один его угол беспрепятственно зарастал буйными кустами смородины, крыжовника и малины, окружавшими старую яблоню. Эти джунгли, как называл их отец, занимали всего несколько квадратных футов, но ребенок пяти-семи лет мог забираться туда и играть, будто он заблудился, или устраивать в зеленых зарослях домик. Лорин отец вечно твердил, что надо бы заняться делом — обрезать ветви давно не плодоносившей яблони и кусты, чтобы дать им больше света и воздуха, но он так редко бывал дома днем, что руки у него долго не доходили до сада, и дети продолжали устраивать в зарослях домики и, оседлывая нависающие над землей ветви яблони, раскачиваться на них.
Оттуда им был виден коттедж и мама, которая сновала из дома на улицу и обратно, выбивала коврики, гремела ведрами и драила каменные плиты перед порогом. Порой, когда она уходила к колодцу, Лора и Эдмунд бежали с ней, она поднимала их и, крепко держа в руках, давала посмотреть вниз, на свои крошечные отражения на поверхности воды, окаймленной склизкими зелеными камнями.
— Вы никогда не должны ходить сюда одни, — наказывала она. — Я знала маленького мальчика, который утонул в таком вот колодце.
Дети, конечно, любопытствовали, где, когда и почему он утонул, хотя слышали эту историю, сколько себя помнили.
— Где была его мама? Почему крышка колодца оказалась открыта? Как его вытащили? Он был совсем-совсем мертвый? Как дохлый крот, которого мы видели однажды под изгородью?
Летом за их садом простирались поля пшеницы, ячменя и овса, которые колыхались, шелестели и наполняли воздух пыльцой и запахами земли. Эти поля были большие, ровные и тянулись до дальней живой изгороди с рядом деревьев. В то время изгородь отмечала для детей границу их мира. Лора и Эдмунд наизусть знали очертания всех этих деревьев, высоких и маленьких, а также одного кряжистого, густого и приземистого дерева, похожего на притаившегося зверя, и разглядывали их, как в гористой местности дети разглядывают далекие вершины, где никогда не бывали, но которые так им знакомы.
За пределами их мирка, ограниченного теми деревьями, лежал, как им поведали, большой мир с другими деревнями, селами, городами и морем, а за морем были другие страны, где люди говорили на языках, отличавшихся от их собственного. Так рассказывал отец. Но до тех пор, пока дети не выучились читать, у них отсутствовала мысленная картина этого мира и имелись лишь отвлеченные представления о нем; зато в их собственном маленьком мирке в границах, обозначенных деревьями, всё казалось гораздо крупнее и ярче, чем было на самом деле.
Лора и Эдмунд знали каждый крошечный холмик в полях, каждую сырую ложбинку, где молодая пшеница делалась выше и зеленее, и берег, поросший белыми фиалками, и особенности каждой живой изгороди — с жимолостью, дикими яблоками, сизовато-синим терном или длинными побегами брионии, усыпанными ягодами, сквозь которые, будто сквозь церковный витраж, просвечивало алеющее солнце. «Но не вздумайте к ним даже прикасаться, иначе через руки отравите пищу!»
Им были известны и звуки разных времен года: пение невидимых в вышине жаворонков над зеленой пшеницей, громкий железный стрекот механической жатки, бодрые окрики пахарей «Тпру-у» и «Пошла-а», хлопанье крыльев вспорхнувшей над оголенной стерней скворчиной стаи.
Здесь витали тени не только плывущих по небу облаков и кружащих над нивами птичьих стай. Еще бродили истории о привидениях и колдовстве, которым и верили, и не верили. Никому не хотелось очутиться по наступлении темноты на перекрестке, где схоронили самоубийцу Дики Брэкнелла, пробив его тело колом, или приближаться к стоявшему в поле амбару, где он повесился еще в начале века. Поговаривали, что там видели дрожащие огоньки и слышали клокочущие звуки.
Далеко в полях, на опушке леса, находился пруд, который, по слухам, был бездонным и в нем обитало чудовище. Никто не мог точно сказать, как это чудовище выглядело, ведь ни один человек его ни разу не видел, однако считалось, будто оно напоминает большого, размером, пожалуй, с вола, тритона. Дети называли этот водоем «чудищевым прудом» и никогда к нему не приближались. Туда вообще мало кто ходил, поскольку пруд отделяла от полей полоса необрабатываемой земли и тропинки рядом с ним не было. Некоторые отцы и матери даже не верили, что пруд существует. Они утверждали, будто это просто глупая старая сказка, которой люди пугали себя когда-то. Но пруд существовал, потому что однажды Эдмунд и Лора, уже заканчивавшие школу, прошагав несколько пашен, продравшись сквозь множество живых изгородей и пустырь, заросший сухим чертополохом и крестовником, остановились, наконец, перед темным, тихим, притаившимся в тени деревьев прудом. Никакого чудовища там не было — только черная вода, темные деревья, угасающее небо и тишина, такая глубокая, что брат с сестрой могли слышать стук собственных сердец.
Ближе к дому, у ручья, росла старая бузина, из которой, если рассечь кору, якобы текла человеческая кровь, и все потому, что это было не обычное, а ведьмино дерево. Поколение назад мужчины и молодые парни застали одну женщину за подслушиванием под окном у соседей и гнались за ней с вилами, пока та не добежала до ручья. Но перебраться через поток она, будучи ведьмой, не смогла и превратилась в бузину на берегу.
Должно быть, ведьма снова обернулась женщиной, ибо на следующее утро она на глазах у всех, как обычно, отправилась на колодец за водой; эта нищая, уродливая, сварливая старуха отрицала, что накануне вечером выходила за порог своего дома. Но дерево, которого раньше никто не замечал, по-прежнему росло у ручья; оно стояло там и пятьдесят лет спустя. Однажды Эдмунд и Лора взяли столовый нож и собрались сделать надрез на коре, но мужество покинуло их. «А вдруг действительно потечет кровь? Вдруг бузина обернется ведьмой и бросится за нами?»
— Мама, — спросила однажды Лора, — существуют ли сейчас ведьмы?
И мать серьезно ответила:
— Нет. Похоже, все вымерли. В мое время они уже бесследно сгинули; но когда я была в вашем возрасте, в живых еще оставалось много стариков, знававших ведьм или даже заколдованных ими. И, конечно, — добавила она, подумав, — нам известно, что ведьмы существовали. О них говорится в Библии.
Это был решающий довод. Все, о чем говорилось в Библии, должно было быть правдой.
Эдмунд, в ту пору тихий, задумчивый маленький мальчик, имел обыкновение задавать вопросы, ставившие маму в тупик. Соседи утверждали, что он слишком много думает, пусть лучше побольше играет, однако привечали его за миловидность и очаровательные старомодные манеры. Если только он не забрасывал их вопросами.
— Я тебе не скажу, — отвечал очередной загнанный в угол Эдмундом взрослый. — Если скажу, ты будешь знать столько же, сколько я. А кроме того, какое тебе дело, откуда берутся гром и молния? Ты их слышишь и видишь; счастье, если они не поразят тебя насмерть, довольствуйся этим.
Другие, более доброжелательные или же более разговорчивые, сообщали Эдмунду, что гром — это глас Божий и что кто-нибудь, возможно сам Эдмунд, согрешил, вот Бог и прогневался; или объясняли, что гром вызывается столкновением туч; или предупреждали мальчика, чтобы во время грозы он держался подальше от деревьев, потому что одного человека, который прятался под деревом, убило насмерть, часы в его кармане расплавились и потекли по ногам, точно ртуть. Кто-нибудь обязательно цитировал:
Под дубом молнию привлечешь,
Под вязом безжизненный упадешь,
Под ясенем вечный покой обретешь.
И Эдмунд погружался в себя, чтобы осмыслить полученную информацию.
Это был высокий, стройный мальчуган с голубыми глазами и правильными чертами лица. Одевая сына на дневную прогулку, мама целовала его и восклицала:
— Должна сказать, таким ребенком гордилась бы и родовитая семья. На мой взгляд, он ничем не отличается от какого-нибудь юного лорда, а что до ума, то он даже слишком умен!
Лора, отправляясь на эти прогулки в туго накрахмаленном платье, с белым шелковым шарфом, завязанным бантом под подбородком, и в оборчатых панталончиках, должно быть, выглядела опрятной, старомодной особой. Соседки, обсуждая девочку в ее же присутствии, называли ее «странноватой», потому что у нее были темные глаза и соломенные волосы, а такое сочетание они не одобряли.
— Жаль, что у нее не ваши глаза, — говорили они ее голубоглазой матери. — Пускай бы даже у нее были темные волосы, как у отца, всё лучше, чем теперь — ни то, ни се. Про такую масть говорят: ни рыба ни мясо. Но ты, деточка, — обращались они к Лоре, — не переживай. Красота — это еще не все; ничего не поделаешь, если ты отлучилась, пока ее раздавали. Зато здоровенькая, — утешали они мать. — Щечки вон какие румяные!
— С тобой все в порядке. Всегда будь чистой и опрятной, старайся иметь приятный, любезный вид — и будешь не хуже других, — говорила Лоре мама.
Но Лору это не устраивало. Она была одержима улучшением своей внешности. Изменить цвет глаз девочка не могла, зато попыталась покрасить волосы тушью, которую нанесла на прядки с помощью новой отцовской зубной щетки. В результате ее как следует вздули, и ей пришлось при свете дня лежать в кровати с только что вымытыми волосами, заплетенными в мелкие тугие косички, от которых у нее разболелась голова. Однако, к великой радости Лоры, волосы у нее вскоре сами начали темнеть и, после многих напрасных опасений, например, что шевелюра порыжеет, приобрели респектабельный каштановый оттенок, вполне неприметный.
Некоторые Лорины воспоминания о тех давних годах сохранились в виде отдельных маленьких эпизодов, никак не связанных ни с предыдущими, ни с последующими событиями. К примеру, ей запомнилось, как она шла с отцом по заиндевелым полям, держась маленькой ручкой в вязаной перчатке за его большую руку, тоже в перчатке, и на стерне под их ногами хрустели маленькие льдинки; потом они добрались до сосняка, пролезли под жердью и зашагали по рыхлой, мягкой земле под высокими темными деревьями.
Поначалу лес был так сумрачен и безмолвен, что было почти страшно; но вскоре отец и дочь услышали звуки работающих топоров и пил и вышли на вырубку, где мужчины валили деревья. Там был построен шалаш из сосновых веток, а перед ним горел костер. В воздухе разливался резкий хвоистый запах дыма, голубые клубы которого плыли по вырубке и заволакивали ветви еще не поваленных деревьев, высившихся над ними. Лора с отцом сидели на стволе дерева у костра и пили горячий чай, который им налили из жестяной банки. Потом отец набил принесенный мешок поленьями, маленькую Лорину корзинку наполнили глянцевитыми коричневыми сосновыми шишками, и они ушли. Должно быть, отправились домой, хотя обратная дорога бесследно испарилась из Лориной памяти: остались только воспоминания о веселом чаепитии вдали от дома и красоте потрескивающего пламени и голубого дыма на фоне сине-зеленых сосновых ветвей.
Еще Лоре запомнилось, как крупная рыжеволосая девушка в ярко-синем платье порхала по лугу в поисках грибов, а мужчина, стоявший у ворот, вынул изо рта глиняную трубку и, прикрыв ладонью рот, прошептал товарищу:
— Если за этой девицей не приглядывать, она падет прежде, чем ее отправят к алтарю.
— Пэтти падет? Как это — падет? Почему?
Услышав этот вопрос, Лорина мать явно смутилась и заявила маленькой дочери, что та никогда, никогда не должна подслушивать мужские разговоры. Это просто неприлично. Затем она объяснила, против обыкновения довольно сбивчиво, что Пэтти, должно быть, совершила какой-то проступок. Возможно, солгала, и мистер Арлисс испугался, что она может «пасть бездыханной» [4], как те муж и жена из Библии.
— Помнишь? Я рассказывала тебе про них, когда ты заявила, что своими глазами видела, как из гардеробной на втором этаже появилось привидение.
Упоминание об этом проступке заставило девочку залезть в кусты крыжовника в саду, где, как ей казалось, даже самому Господу было бы трудно ее отыскать; однако ответ матери ее не удовлетворил. Какое мистеру Арлиссу дело до того, что Пэтти лжет? Многие люди лгут, но до сих пор в Ларк-Райзе от этого еще никто не пал бездыханным.
Сорок лет спустя мама рассмеялась, когда Лора напомнила ей об этом разговоре.
— Бедняжка Пэт! — заметила она. — Вот уж вертихвостка-то была, ничего не скажешь. Впрочем, к алтарю ее все же удалось отправить, хотя шептались, что для этого пришлось дать ей хлебнуть бренди на церковном крыльце. Как бы там ни было, мне говорили, что она уже слишком располнела, чтобы плясать на свадьбе, и в белом платье со сплошными голубыми бантами спереди выглядела, должно быть, восхитительно. Наверное, тогда я в последний раз слышала, как на свадьбе пускали по кругу шляпу, чтобы собрать на люльку. Когда-то у этой прослойки людей подобное было делом вполне обычным.
Осталась в Лориной памяти и другая картина: мужчина, лежавший в устланной соломой фермерской телеге с белой тряпкой на лице. Телега остановилась у одного из коттеджей; известие о ее прибытии, по-видимому, сюда не дошло, потому что сначала рядом находилась только Лора. Задок телеги опустили, и девочка смогла отчетливо увидеть мужчину, который был так неподвижен, так страшно неподвижен, что показался ей мертвым. Прошло, как почудилось Лоре, много времени, прежде чем из дома выбежала хозяйка, забралась в телегу и с криком: «Родной! Бедный ты мой старик!» сорвала белую тряпку, открыв лицо почти столь же белое, не считая длинного темного пореза от губы до уха. Тут старик застонал, и сердце у Лоры снова забилось.
Вокруг собрались соседи, и наконец выяснилось, что произошло. Старик, который был скотоводом, кормил своих коров, и одна из них случайно попала ему в рот рогом и вспорола щеку. Пострадавшего сразу же доставили в сельскую больницу, и рана его вскоре зажила.
Особенно ярким воспоминанием был один апрельский вечер. Лоре было тогда около трех лет. Мама сообщила ей, что завтра майский праздник, Элис Шоу станет майской королевой и наденет корону из маргариток.
— Мне бы хотелось быть майской королевой и носить корону из маргариток. Можно мне тоже корону, мама? — спросила Лора.
— Можно, — ответила та. — Сбегай на лужайку для игр и нарви маргариток, а я сплету тебе венок. Ты будешь нашей майской королевой.
Девочка побежала с маленькой корзинкой на лужок, но к тому времени, когда она добралась до травянистого участка, где ребятишки Ларк-Райза играли в свои деревенские игры, было уже слишком поздно; солнце село, и маргаритки уснули. Их были тысячи, но все они были туго сжаты, словно зажмуренные глаза. Лора так огорчилась, что села посреди них и заплакала. Слезы очень скоро иссякли, и девочка начала оглядываться по сторонам.
Высокая трава, на которой она сидела, была чуть влажная, то ли от росы, то ли после апрельского ливня, и бутоны маргариток с розовыми кончиками тоже были слегка влажные, как глазки спящей девочки, уснувшей в слезах. Небо в том месте, куда опустилось солнце, было розово-лилово-желтое. Вокруг не виднелось ни одной живой души и не слышалось ни единого звука, кроме птичьего пения, и внезапно Лора осознала, как чудесно быть тут, на свежем воздухе, в высокой траве, наедине с птицами и спящими маргаритками.
Чуть позже в жизни девочки случился вечер после забоя свиньи; она стояла одна в кладовой, где с крюка в потолке свисала мертвая туша. Мама находилась всего в нескольких футах от нее. Лора слышала, как та весело переговаривается с Мэри-Энн, девушкой, приносившей им молоко с фермы и водившей детей на прогулки, когда мама была занята. Через тонкую деревянную перегородку слышались знакомые смешки Мэри-Энн, промывавшей водой из кувшина длинные, скользкие куски свиной требухи, которой занялась мама. Там, в «прачечной», царило деловитое веселье, а в кладовой, где притаилась Лора, стояла мертвая, холодная тишина.
На глазах у девочки прошла вся жизнь этой свиньи. Отец часто поднимал Лору над дверцей свинарника, чтобы та почесала хрюшке спинку; она проталкивала сквозь жерди загородки листья салата и капустные кочерыжки, чтобы угостить животное. Еще утром свинья рыла землю пятачком, хрюкала и визжала, потому что ее не покормили. Мама заявила, что этот шум действует ей на нервы, и у отца сделался смущенный вид, хотя он отмахнулся от жены, возразив:
— Нет. Сегодня, хрюшка, ты останешься без завтрака. Скоро тебе предстоит серьезная операция, а перед операцией не завтракают.
Операцию провели, и теперь свинья, холодная, окоченевшая и совсем-совсем мертвая, висела в кладовой. Уже отнюдь не забавная, но, как ни странно, исполненная достоинства. Забойщик накинул на переднюю ногу туши длинный ажурный кусок ее собственного жира, точно белую кружевную шаль, какие в те времена носили дамы, и этот последний штрих показался Лоре совершенно бессердечным. Она долго стояла там, поглаживая твердый, холодный бок свиньи и поражаясь, как существо, еще недавно полное жизни и шумное, может сделаться столь неподвижным. Затем, услышав, как ее зовет мама, девочка выбежала через самую дальнюю дверь, чтобы ее не отругали за то, что она оплакивала покойную свинью.
На ужин подали жареную печень с жиром, и когда Лора сказала: «Нет, спасибо», мама с подозрением покосилась на нее, после чего заметила:
— Что ж, может, и вправду не стоит, просто отправляйся спать, и все; но вот вкусный кусочек сладкого мяса [5]. Я приберегала его для папы, но ты можешь взять. Тебе понравится.
И Лора съела сладкое мясо, обмакнула его в густую, жирную подливку и перестала думать о бедной свинье в кладовой, ибо, хотя ей было всего пять лет, она уже училась жить в этом мире компромиссов.
[5] Сладкое мясо — деликатесное блюдо из зобной или поджелудочной железы.
[4] Деян. 5: 5.
[3] Лярд (смалец) — вытопленное нутряное сало.
III
«Давным-давно»
Никого из знавших в те времена Лорину мать не удивил поспешный ранний брак, из-за которого ее муж, предполагавший задержаться в здешних местах на несколько месяцев, остался тут насовсем.
Эмма была стройная, миловидная девушка с нежным, как лепестки дикой розы, лицом и волосами цвета новенького пенни, которые она разделяла на прямой пробор и собирала в узел на затылке, потому что глава семейства, где она до замужества служила няней, сказал, что ей всегда следует укладывать волосы именно так. Впоследствии Эмма говорила, что он прозвал ее «карманной Венерой».
— Вполне невинно, — спешила она заверить своего собеседника, — ведь он был джентльмен, человек женатый и глупостей себе не позволял.
Также, вспоминая ту пору, когда она была няней, мама поведала Лоре и Эдмунду, что у некоторых членов семьи вошло в привычку приводить останавливавшихся в доме гостей в детскую послушать сказки, которые Эмма рассказывала на ночь малышам.
— То было обычное развлечение, — говорила она, и ее дети не считали это странным, ведь теперь, когда сказки на ночь рассказывали им, они знали, насколько те занимательны.
Иногда это бывали короткие, на один вечер, истории: типичные для тех времен волшебные сказки, рассказы о животных, о послушных и непослушных детях, о том, как хорошие люди были вознаграждены, а дурные наказаны. Некоторые из них происходили из обычного арсенала всех сказочников, но историй ее собственного сочинения было гораздо больше, ибо, по словам Эммы, придумать сказку куда легче, чем пытаться ее выучить. Детям больше всего нравились сказки, сочиненные матерью.
— Что-нибудь из головы, мама, — просили брат с сестрой, и мама морщила лоб, притворялась, что напряженно думает, после чего начинала:
— Давным-давно…
Одна такая сказка надолго засела в Лориной памяти, когда сотни других превратились в приятные, но смутные воспоминания. Не потому, что это была одна из лучших историй матери, отнюдь, а потому, что ее цветовая гамма соответствовала детскому вкусу. Это была сказка о маленькой девочке, которая забралась под куст на верещатнике, «таком же, как Хардвик-Хит, знаете, где мы собирали ежевику», и нашла потайной ход в подземный дворец, где вся мебель и занавеси были голубые и серебряные. «Серебряные столы, серебряные стулья, серебряные тарелки, а все подушки и портьеры — из нежно-голубого атласа». Героиня пережила удивительные приключения, но они не оставили в памяти Лоры никакого следа, зато серебряно-голубые подземные чертоги излучали в ее воображении нечто вроде лунного света. Но когда мама, уступив настоятельной просьбе девочки, попробовала рассказать эту сказку снова, волшебство растаяло, хотя Эмма, надеясь угодить дочери, присовокупила серебряные полы и потолки. По-видимому, она перестаралась.
Были и многосерийные истории, которые ежевечерне рассказывались на протяжении целых недель, а то и месяцев, поскольку никто не желал, чтобы они заканчивались, а изобретательность рассказчицы никогда ей не изменяла. Впрочем, одна из них имела внезапное и трагическое завершение. Однажды вечером пора было, и уже давно, отходить ко сну, а брат с сестрой умоляли о продолжении сказки и получили его, но просьбы не прекратились, и тогда мама, потеряв терпение, напугала детей, сказав:
— А потом он пришел к морю, упал в воду, и его съела акула. Так бедному Джимми настал конец.
И сказке тоже настал конец, ведь никакого продолжения быть уже не могло.
Еще были семейные истории, каждую из которых дети знали наизусть и вполне могли бы рассказывать друг другу. Самая любимая из них была та, которую они называли «Бабушкина золотая скамеечка». История была короткая и довольно незатейливая. Родители их отца когда-то держали в Оксфорде трактир и извозчичий двор, и история гласила, будто то ли по дороге в «Лошадь и всадника», то ли едучи оттуда, дедушка усадил бабушку в экипаж и поставил ей под ноги шкатулку с тысячей фунтов золотом, сказав при этом:
— Не каждая леди ездит в собственном экипаже да с золотой скамеечкой для ног.
Должно быть, они направлялись туда с деньгами на покупку, ведь не могли же они возить с собой золотую скамеечку для ног. До приобретения трактира, ставшего возможным благодаря наследству, оставленному бабушке одним ее родственником, дедушка подвизался мелким подрядчиком и в дальнейшем тоже был подрядчиком, очевидно, еще более мелким, поскольку ко времени появления на свет Лоры семейное дело уже прекратило существование, а ее отец трудился по найму.
Тысяча фунтов исчезла столь же бесследно, как съеденный акулой Джимми, и все, что оставалось детям, — это пытаться представить, как должна выглядеть такая куча золота, и планировать, как бы они распорядились этакой суммой, окажись она теперь у них. Об этом любила рассуждать даже их мать, хотя и говорила, что терпеть не может расточительные, экстравагантные привычки некоторых ее знакомых, гордыню и самомнение, которые они выказывают, тогда как должны стыдиться утраты былого положения.
И точно так же, как они гордились золотой скамеечкой для ног и сопутствующим преданием, согласно которому их бабушка была «урожденная леди», тайно вышедшая за дедушку, почти каждая семья в Ларк-Райзе гордилась фамильным преданием, которое, во всяком случае в их собственных глазах, возвышало их над общей массой ничем не примечательных людей. У кого-нибудь дядюшка или двоюродный дед владел коттеджем, который со временем разрастался до целой улицы домов; у кого-то один из членов семьи некогда держал лавку или трактир либо возделывал собственную землю. Кто-то похвалялся благородной кровью, пусть даже незаконной. Один человек утверждал, что он правнук графа, хотя и признавал, что, «разумеется, пригульный»; однако ему нравилось рассказывать об этом, и его слушатели, обратив внимание, возможно впервые, на его прекрасную осанку и большой крючковатый нос и припомнив репутацию некоего необузданного молодого аристократа давних времен, начинали верить, что эта история имеет под собой кой-какие основания.
Другое семейное предание Эдмунда и Лоры, более фантастичное и не столь хорошо подкрепленное доказательствами, как история с золотой скамеечкой для ног, гласило, что один из дядей их матери, будучи совсем юным, запер своего отца в сундуке, а сам сбежал на австралийские золотые прииски. В ответ на вопросы детей о том, зачем юноша запер отца в сундуке, как он его туда запихнул и когда отец выбрался, мама могла лишь ответить, что не знает. Все это произошло еще до рождения ее собственного отца. Семья была большая, а дедушка детей — самым младшим отпрыском. Но сундук мама видела: это был длинный дубовый кофр, в котором вполне мог уместиться взрослый мужчина, а историю эту ей рассказывали, сколько она себя помнила.
Это случилось, должно быть, лет восемьдесят назад, и о дяде с тех пор никто не слыхал, но дети никогда не уставали говорить о нем и гадать, нашел ли он в конце концов золото. Быть может, он сколотил на приисках состояние и умер, не оставив потомков и завещания. Тогда его деньги принадлежат им, верно? Возможно, они и сейчас находятся в канцлерском отделении [6], ожидая, когда семья заявит на них свои права. У нескольких ларк-райзских семей были деньги в канцлерском отделении. Им было об этом известно, потому что одна воскресная газета еженедельно печатала список людей, которых дожидалось состояние, и они «собственными глазами, провалиться мне на этом месте», видели свои фамилии. Правда, отец Лоры и Эдмунда замечал, что фамилии-то у них в большинстве своем распространенные, но если им на это указывали, они страшно обижались и намекали, что, когда наскребут несколько фунтов «на адвоката», чтобы заявить свои притязания, маловерных среди них не будет.
Дети своей фамилии среди напечатанных в газете не нашли, но им нравилось планировать, как они распорядятся «канцлерскими» деньгами. Эдмунд сказал, что купит корабль и побывает во всех странах мира. Лора думала, что хочет полный книг дом в лесу, а мама утверждала, что была бы вполне довольна, имей она доход тридцать шиллингов в неделю, «выплачиваемый регулярно и надежный».
Эти «канцлерские» деньги были химерой, и ни у кого из них на протяжении всей жизни не водилось больше нескольких фунтов одновременно, однако их желания более или менее исполнились. Эдмунд много раз пересекал океан и побывал на четырех из пяти континентов; у Лоры был полный книг дом, если не в самом л
