автордың кітабын онлайн тегін оқу По городам и весям
Евгения Ярославская-Маркон
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
Книга очерков
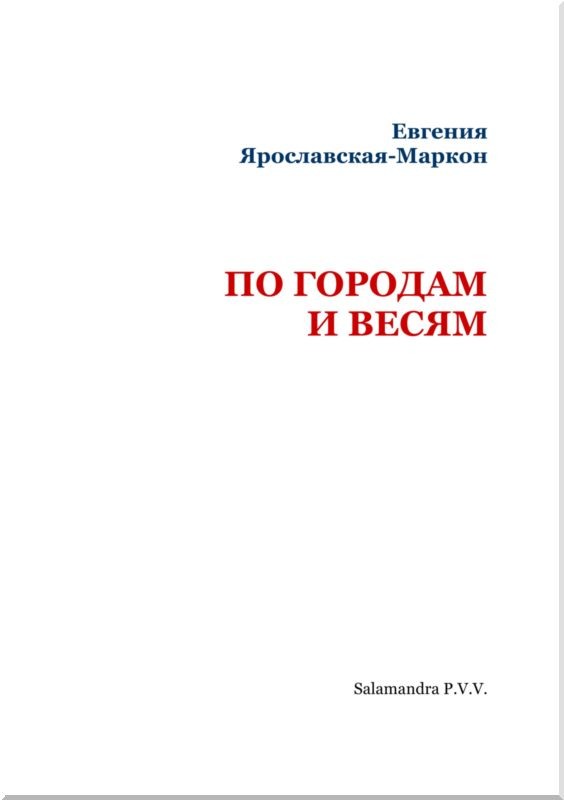
Письмо первое
КОСТРОМА. ДЕТДОМ
В один из тех весенних дней, когда солнце насмешливо высовывает длинные языки своих лучей и тотчас же, точно испугавшись собственной дерзости, опрометью убегает куда-то, — и когда и весны-то собственно настоящей нет, но лед под санями уже шибко трещит и при каждом хрусте его ямщик тревожно оглядывается, — в один из таких вот дней приехали мы в Кострому.
Губернский жилотдел умудрился и здесь в глуши создать нечто вроде жилищного кризиса и гостеприимство местного культпросвета бросило нас… в детский дом-приемник для беспризорных детей. При нем нам временно отвели комнату. В этом, немного шумном убежище нам довелось довольно близко ознакомиться с бытом тех немногих «счастливцев» из беспризорных, для которых нашлось местечко в советском детдоме.
В первое же утро мне довелось увидеть детские головы, с живым интересом склоненные над большим рабочим (он же — обеденный) — столом… Маленькие ручонки, с прилежанием, какое не всегда встретишь у детей в нормальных школах, — что-то мастерили под надзором учительницы…
Подойдя ближе, я увидела, что каждый из детей делал из проволоки какой-то странный бесформенный предмет.
— Что это вы такое мастерите? — спросила я, заинтересовавшись.
— А ты что, — сама не видишь, что — щипцы, — недоверчиво встретил меня один из представителей молодого поколения Эрэфесерии.
— А на что же вам столько щипцов, дети?
— Как — на что? — Ежели залезешь рукой, — схватить могут. А так одни щипцы останутся, а сам всегда убежать успеешь…
— Так… — раздумчиво проговорила я. — А только не слишком ли они заметные, щипцы эти ваши? Вот как бы проволока была потоньше…
Недоверие противной стороны было сломлено и дружба между нами — заключена. И кто-то даже предложил подарить мне на память такие же вот точно щипцы.
— Приходи вечером к нам наверх почитать нам что-нибудь, — просили меня дети.
— Сумеете ли вы приноровиться к их вкусу? — тревожно осведомилась учительница-воспитательница. — Больше всего они любят похождения разбойников, бандитов… Про разные там преступления… Почитайте им что-нибудь в этом роде.
Сама она, бедняжка, хорошо «приноровилась» к вкусам своих питомцев; можно даже сказать, что беспризорным удалось совершенно перевоспитать ее…
Во время работы между нею и детьми происходил оживленный разговор на всевозможные темы.
— Почему, — деловито допрашивал один из питомцев постарше, — деньги нам на книжки давно поступили, а книг все нет? Уж ты те деньги на себя не потратила ли?
— Говорите спокойно, дети, — ровно, с чувством собственного превосходства перебила она. — Ну, чего вы бузу подымаете? Ведь я вот говорю же спокойно, — не бузюсь.
— А почему так? — предложил коварный вопрос мальчик лет двенадцати. — Когда к тебе в четверг заведующий приходил на счет хозяйственной части говорить, — кровать-то у тебя все скрипела и скрипела…
— Стыдно, дети, так врать… — вспыхнув, с неподдельным возмущением воскликнула воспитательница. — Да ведь это же в среду было, а не в четверг.
— Ну а теперь, дети, — кто из вас хочет со мной на прогулку идти?
Поднялась небольшая группка, преимущественно самых младших. Остальным учительница только сказала: «Ну а вы, значит, можете пока идти в город, куда хотите… Смотрите, — ночевать возвращайтесь…»
Как мне потом объяснила воспитательница, большинство детей предпочитает самостоятельные прогулки в город, в частности — на рынок. Прогулки эти отнюдь не увеселительные, а чисто промысловые: дети определенно «городушничают», то есть воруют с лотков… Администрация детдомов отлично знает об этом, но пресечь не может, тем более, что это явление в значительной степени — прямое следствие чудовищной бесхозяйственности заведующих хозяйственной частью детдомов. У меня на глазах ежедневно выкидывались целые котлы недоеденной каши, и в то же время администрация не решалась затратить хотя бы ничтожную сумму на покупку, — пусть в небольших количествах, — такого решительно необходимого для детского организма продукта, как молоко… Выяснилось, что дети охотнее всего воруют съестные припасы, а украденные при случае деньги тратят преимущественно… на молоко и ситный…
К обеду дети собрались далеко не в полном составе.
— Где же остальные? — равнодушно осведомилась учительница.
— В угрозыск забрали… Мы-то сами еле утекли…
— А вы что стащить хотели, — деньги или так?
— Да вот мадаму одну окружили, сбили с ног… Я ее легонько сзаду подтолкнул… А Сережа вытащил, да хотел бежать… Тут его снегирь и сцапал… И Августа и Османа заодно… Они как раз с краю стояли…
Учительница слушает даже с интересом, — пока воруют вне детдома, — дело ее не касается. Зато когда дети стащат что-либо непосредственно у педагогического персонала или казенные деньги в канцелярии самого приемника…
На другой день после нашего приезда я увидела за обедом детей, которых не было накануне. Тем не менее, явно было, что это не новенькие…
— Ты зачем «лягала» на нас? — накинулся один из них на воспитательницу.
Она объяснила мне, что эти мальчики сегодня только вернулись из угрозыска, где пробыли три дня по ее же собственному донесению, так как украли у нее 15 рублей казенных денег, взломав замок от ее комнаты.
— Ну что, — шибко вас там били? — заботливо осведомилась она.
— Не, — в этот раз — не больно… Вот только, — и мальчик показывает два больших синяка на правом плече и один — задрав рубашку на нижней части спины.
Своеобразный метод коммунистического воспитания — физическое воздействие — антикультурно и антигуманно, поэтому физическое воздействие изъято из школы. Но физическое воздействие необходимо. Поэтому дети, в целях экзекуции, направляются преподавателем в уголовный розыск. Сапог агента — в роли школьного пособия. Но что заслуживает не только удивления, — нет, — самого неподдельного уважения, — так это — героизм маленьких преступников, с которым они во время дознания терпят побои, крепятся, кусают губы и все-таки не выдают товарища.
У них существует и своеобразное понятие о чести. Если такой шпаненыш скажет вам, по какому-либо поводу, добровольно, а не под влиянием каких либо угроз — «на честь», — то есть — честное слово, — то вы можете быть уверены, что он не врет.
При такой стойкости характера и преступном навыке питомцев, с одной стороны, и малоопытности, невежественности, крайней нищете, а потому и халтурном отношении к делу, — педагогов — с другой, не удивительно, что последние не пользуются ни малейшим авторитетом у первых.
Однажды, сидя вечером в комнате одной из воспитательниц, я услышала панический стук в дверь. Обитательница комнаты поднялась и отперла дверь. Вбежала вторая воспитательница с бессмысленным от испуга, бледным лицом:
— Я у вас здесь пока спрячусь… Позвольте… Дети поколотить меня обещались… За то, что я в угрозыск на них донесла… Уж я здесь у вас пережду до завтра… Авось к утру злоба в них поуляжется… — бормотала она трясущимися губами…
Письмо второе
ИЛЕЦК (ОРЕНБ. ГУБ.). СОВ. КУРОРТ
Верблюдица нервничала. Дома у нее оставался свежерожденный верблюжонок и она то и дело оборачивалась назад и протяжно выла… Никакие монологи и прощания с родным селением Жанны д’Арк не могли бы сравниться по драматизму с этими звуками. Казалось, что именно сейчас, а не накануне ночью — разрывается пуповина, соединяющая многотерпеливое и выносливое тело верблюдицы с таким нежным, таким беспомощным телом маленького верблюжонка…
Звуки эти были прямо непереносны для уха и нервов, но киргиз не нервничал. Ибо он был киргизом.
В меховой шапке и бараньем тулупе сидел он на краю телеги, непроницаемый для жары и солнца. Глянцевитый загар на его лице казался лаком, раз навсегда покрывшим лицо и не пропускающим более ни одного луча…
Киргиз с неподвижным лицом монотонной и неподвижной мелодией поет о всех предметах, попадающихся ему по дороге…
«Большое-шое-шое дерево растет… Маленький-маленький-маленький кустик под деревом растет… Ветер-ветер-ветер над степью пробежал… Навстречу еще один-один-один верблюд идет… За верблюдом другой-другой-другой верблюд идет… На верблюде один-один-один казак сидит…» («казаками», то есть наездниками, — киргизы именуют себя) — и так далее до бесконечности…
Так обстоятельно и спокойно распевал киргиз, и однако, жизнь его вовсе не чужда житейских треволнений… Дочь его Фатала, за которую уже был внесен богатый калым, внезапно вступила в комсомол, отказалась идти замуж, — за нее вступился женотдел и пришлось весь калым вернуть семье жениха. Сын Ахмет сидит вот уже второй месяц в советском исправдоме за то, что кому-то, где-то, взятку дал, а как же было не дать, когда всем давно известно, что все комиссары взятки берут, — большой комиссар — большая взятка — и без взятки никакое дело в важном учреждении не делается…
— «Справа-справа-справа большой-озеро лежит… В озере-озере-озере соленая вода… Большевик-большевик-большевик на озере устроил курорт… Не было-не было курорт — каждый купался, кто хотел… Очень-очень-очень в озере полезная вода… Теперь-теперь-теперь за купанье деньги берут…»
И вот поэтому-то киргиз проезжает мимо, не освежившись в озере.
На «пляже» для более «чистой» публики — ответственные, трестовики, директора, коммунисты и нэпманы — устроены кабинки для раздевания. За это с каждого купальщика берут 15 копеек. Но и за купанья с открытого берега администрация курорта берет пятачок. Очевидно, с «нечистых» берут за то, что они пачкают воду…
Тут же у озера — буфет, где каждый получающий парт-максимальный и более — оклад, может недурно и не очень дорого подзакусить после купанья…
В озере вода горько-соленая и густая; потонуть в ней невозможно. И если вы посередине озера, где глубина приблизительно в два человеческих роста, — перестанете делать какие бы то ни было плавательные движения, — то вы так и останетесь неподвижно лежать на поверхности воды, точно в гамаке… Здесь бы можно было создать действительно недурной курорт… Этого с нетерпением ждут местные крестьяне и обыватели, надеясь заработать от будущих курортных гостей. Впрочем, илецкие крестьяне и сейчас зажиточны. В одной из крестьянских семей я снимаю комнату. У моих хозяев большой деревянный двухэтажный дом. Три верблюда. Огромные бахчи. В парадных комнатах — мягкая мебель — красные плюшевые кресла и диван. Я уже не говорю о граммофоне — неотъемлемом спутнике культуры и цивилизации…
— Вы, конечно, кулаки считаетесь? — спрашиваю я у моего хозяина.
— Да нет… Мы в середнячках числимся… Да и то я собираюсь обжалование подать, — не переведут ли в бедняки…
Я вспоминаю соломенные крыши и про голодное существование «кулаков» в средней России, и — недоумеваю…
— У нас здесь вообще все зажиточно более живут… — поясняет мне хозяин. — Так мы еще, по сравнению, среди них — маломощные…
Итак, одно и то же имущество, в зависимости от состояния соседских хозяйств, — может быть причислено к кулацким, середняцким или бедняцким…
Политика ясна: опасно причислить к кулакам целую деревню, таким образом восстановив против себя поголовно все ее население, — может вспыхнуть восстание.
С другой стороны, если целые бедные области отнести в категорию бедняцких хозяйств, то с кого же брать налоги?
А потому — «разделяй и властвуй».
Достигает ли такая политика своей цели?
Наиболее ловкая, гибкая, подхалимская и пронырливая, так сказать — передовая, — часть кулачества, действительно, чует возможные выгоды и всячески старается втереться в доверие к советской власти… Такие кулачки ничего не имеют против и даже поощряют, чтобы их дети шли в комсомол и в партию, — а сами на всякий случай — «авось и не удержатся еще большевики» — не порывают и со священником…
Я сама видела именно в самых богатых крестьянских избах ленинский красный уголок с безбожными плакатами и портретами «вождей» напротив красного угла с иконостасом…
Это они-то, — кулаки — устраивали одному и тому же младенцу тайные крестины и явные октябрины, — ставили и Богу свечку и советской власти… серп и молот…
Но большая часть кулачества, а тем более середняков и бедняков, все-таки ропщет, внутренне бурлит, остается недовольной и готова признать любую власть, которая бы только отменила — или снизила — налоги…
Так обстоит дето по всей России…
Пресловутые селькоры отнюдь не являются подлинными голосами крестьянства, а скорее играют некрасивую роль правительственных фискалов и доносчиков, чем и объясняются частые убийства их односельчанами… Подлинного крестьянского голоса вы, разумеется, не услышите из советской прессы, — он звучит в крестьянских частушках, вроде следующей:
«Ленин Троцкого спросил:
Где ты сено накосил?
Я нигде не накосил, —
У крестьян я напросил…»
Письмо третье
ЧЕРЕПОВЕЦ. ДИСПУТ
«Череповец, семь лет я прожил
В твоем огрязненном снегу…»
Эти строки вертелись у меня в голове, когда извозчик вез меня со станции в гостиницу. День был морозный и снег вовсе не казался «огрязненным», да и весь Череповец ничем не напоминал ни о Северянине, ни о его строчках… Впрочем, череповецкая интеллигенция помнит своего прошумевшего земляка.
Но сейчас другое имя слышалось на всех углах и другое имя полуаршинными буквами облепило заборы. Череповец был потрясен необычайным событием: из центра приехал лекции читать — не какой-нибудь лектор-безбожник, — а сам владыко — митрополит Введенский.
Местный губполитпросвет и губпрофсовет с перепугу (ой, не справиться местным безбожникам с таким противником) пригласили заезжего из Москвы лектора, благо оказался он в Питере — тут же под рукой — официальным оппонентом.
Афиши украсились еще одним именем, а в городе только и слышалось: — Кто кого?!
Россия — особенно уездная и губернская — любит диспуты. По трем причинам. Во-первых, она рассматривает их, как кулачные бои, — сам азарт состязания, поединка увлекают, напрягается любопытство, — кто из противников кого «положит на лопатки» ловкими приемами-доводами. Во-вторых — при полном отсутствии в советской России какой бы то ни было свободы печати, слова и собраний, — диспут является единственным случаем выслушать противников коммунизма, и — хотя бы и не в политической, а в религиозно-философской области, — да и самому высказать, хотя бы и в замаскированной форме, свой протест против того неослабного гнета, под которым находится в настоящее время русская общественная мысль.
Протест этот иногда принимает несколько неожиданные формы. Так, например, на многих заводах и в глухих уездных городах практикуется следующий вид обструкции: приносят с собой в мешке живого поросенка и в момент выступления нежелательного оратора незаметно дергают поросенка за хвост. Последний принимается визжать, публика — в том числе даже сторонники оратора — не могут удержаться от смеха, и выступление — сорвано… Впрочем, как известно из парижской прессы, даже такие испытанные общественные деятели, как Марков и его сторонники, прибегают к подобным же приемам вовлечения четвероногих в общественно-политическую борьбу…
Наконец, еще третья причина делает диспут завлекательным для масс. Дело в том, что в провинции до сих пор еще есть наивные люди, надеющиеся на диспуте действительно получить ответ на объявленные в афишах вопросы. А вопросы поистине животрепещущие: «Есть ли Бог?» — «Существует ли загробная жизнь и душа?» и так далее… Я сама слышала, как один череповецкий рабочий спрашивал у другого на следующее утро после диспута:
— Так ты говоришь, — был вчера на диспуте… Ну, так как же оно все-таки выходит, — есть Бог или нет?
— А кто его знает… И владыко красно говорит… И лектор ему не уступит… Тот доказывает. И этот доказывает. А доказать — так и не доказали ничего…
— Так и не доказали… Тогда для чего же было диспут устраивать? Коли так, то и ходить не стоило…
— Оно хотя и занятно было обоих послушать, однако, пожалуй, что и не стоило… — соглашается второй.
И, однако, диспуты все же имеют несомненное положительное значение и уж не в смысле внедрения в мозги тех или других предвзятых теорий… В пылу спора каждая сторона, желая блеснуть эрудицией, попутно сообщает аудитории ряд разнообразнейших и интересных сведений. И благодаря этому в настоящее время вы иной раз можете в самой глуши услыхать от какого-нибудь крестьянина в ужаснейшем произношении имена Канта, Лапласа, Декарта, Платона, Геккеля, Древса, — а также путаное и маловразумительное изложение теорий Ламетри или Лейбница…
Затем, диспуты несомненно приручают население недоверчиво и крайне осторожно относиться как к той, — так и к другой стороне, — вырабатывают хороший скептицизм, дают толчок к самостоятельному мышлению.
Может быть, поэтому большевики спохватились и в последнее время не совсем охотно допускают диспуты, особенно в провинции…
Итак, Череповец собрался послушать «живого» митрополита. Однако митрополит оказался не «живым». По крайней мере, на вопрос из публики: — «Как смотрит живая церковь на слова: “Не противься злу”?», — он торжествующе заявил, что отнюдь не является представителем живой церкви, а возглавляет собой церковь обновленческую… Самому же вопросу по существу он дал совершенно исключительное по своей оригинальности истолкование, утверждая, что евангельское «Не противься злому» — надо понимать в смысле… — «если злой сильнее тебя, так как ты все равно потерпишь поражение от него…» Местные представители тихоновского духовенства совсем оробели от такой ловкости обновленческого митрополита, но, будучи обыкновенными скромными провинциальными священниками, не решились открыто выступить против такого эрудита, как Введенский и против его явно еретического толкования.
Первый в России оратор после Троцкого, митрополит Введенский, как угорь, скользит по поверхности темы, почти не затрагивая ее по существу, из боязни утомить аудиторию, — оставаясь неуязвимым даже в самых сомнительных положениях своего доклада, — всегда увлекательный, находчивый и изящный…
— Антихрист, это — Тихон… Христос, это — мы… — хладнокровно раскрывает он карты своего доклада на тему: «Христос и антихрист».
— «Что будет с нашей душою после смерти? Существует ли загробная жизнь?» — поступает записка из публики.
— Умрете — узнаете, — не задумавшись, отвечает митрополит и переходит к следующей записке.
Введенский отлично знает и чует аудиторию и не прочь иной раз потрафить и антисемитским настроениям.
На трибуне юнец-коммунист, брызгая слюной, раскачиваясь из стороны в сторону, с резким нерусским акцентом разглагольствует на тему: «Долой религию». В пылу спора он употребил выражение «поп»…
Возражая ему, митрополит Введенский, между прочим, делает ему замечание, что «употреблять такие выражения, как “поп”, некорректно совершенно так же, как например… назвать противника жидом».
Аудитория в восторге, аудитория покрывает эту фразу аплодисментами… Жаль только, что на этот раз, как потом выяснилось, противник оказался не евреем, а латышом…
Во время перерыва коммунистическая часть аудитории, а особенно комсомольцы, с пеной у рта спорят с верующей половиной публики. У обеих сторон чувствуется острое раздражение, злоба друг против друга.
На трибуне, за спущенной занавесью настроение более дружелюбное: митрополит из профессиональной лекторской солидарности советует оппоненту для сохранения голоса пить во время лекций минеральную воду… Оппонент высказывает соболезнование митрополиту: «Здорово, верно, устали: сначала — обедня в монастыре. Теперь этот диспут…»
Комсомолка, заглянувшая за кулисы, чтобы передать от имени молодежи благодарность лектору, при виде этой мирной идиллии недоуменно останавливается: Что это… — предательство? — Тайный контакт? — Ренегатство?
Диспут заканчивается около пяти часов утра. Многие рабочие, не заходя домой, отправляются прямо на работу…
И еще долго потом в мастерских, в лавчонках, у ворот и у колодца ведутся нескончаемые споры о Боге, бессмертии и антихристе…
Можно сказать с уверенностью, что никогда еще, с самого времени протопопа Аввакума, — не жила страна — (вернее, низы ее) — такой интенсивной религиозно-философской жизнью, как сейчас. «Мертвая» церковь, «живая» церковь, «единая церковь» (о ней — в другой раз), сектанты всех толков — сколько сомнений, сколько исканий… И не только у стариков — часть молодежи тоже ушла в религиозное движение. Существует даже христомол — (союз христианской молодежи) — в противовес комсомолу. Христомольцы и интернационал поют. На тот же мотив, — только свой, особенный. Поется он так:
«…Никто не даст нам избавленья,
Лишь Бог спасет от всех грехов…»
Христомол организовали баптисты. Бывали случаи вступления в него бывших комсомольцев…
Итак, несмотря на все старания коммунистического правительства, подавить свободную критическую мысль не удается; она работает, ищет, находит, заблуждается, снова ищет… Так было — так будет…
Письмо четвертое
ОРЕНБУРГ. СОСЕДИ
Я люблю Оренбург… Этот город стоит точно на перекрестке.
Направо — Поволжье обильное и голодное, Волга простая и трагичная…
Налево — Сибирь, свирепая и лютостью морозов и хищным зверьем своим и окаянным золотом россыпей и руды…
А прямо вниз… — Тысяча и одна ночь — русский Багдад
— «Ташкент, город хлебный…»
Сам Оренбург — словно и не город даже, а просто — площадь базарная, к которой сбегаются проселочные дороги…
Оренбург лежит прямо в центре хлебороднейших, хлебоноснейших губерний России. В Оренбургской губернии нет и не было недорода… Но это ничуть не препятствует тому, что в иной день совершенно внезапно с оренбургского рынка исчезает хлеб…
Хлеба в такие дни нет в столовой Дома крестьянина и посетителям предлагается приносить его с собой… Хлеба нет в базарных палатках… Хлеба нет в булочных…
Дальше, за Уралом, это явление еще разительнее: осенью этого 1926 года в городе Златоусте Уральской области неожиданно с базара, из всех лавок, вообще из продажи — исчез хлеб, как ситный, так и ржаной…
Правда, в русской провинции, как известно, большая часть хозяек печет на дому; но вся беда в том, что отсутствие печеного хлеба в продаже немедленно отозвалось на ценах на муку, поднявшихся чуть ли не вдвое. А еще через два дня у всех мучных лабазов стояли в очереди целые семейства и после нескольких часов стояния каждый получал по норме, — столько-то фунтов на человека, — одним словом, зрелище в точности напоминало то, что все мы видела в Петербурге в 1917 году…
На все недоуменные вопросы торговцы и кооператоры твердили одно:
— Не привезли… Из-за распутицы…
Как раз на площади стоит местный Дом крестьянина, двор которого в каком-нибудь срединном русском городе, скудном разнообразными видами фауны — смело мог бы сойти за зоологический сад… Приезжая на базар, крестьяне сразу же заезжают в Дом крестьянина напиться в трактире при нем чайку (обед там не по карману крестьянину, как, впрочем, почти во всех Домах крестьянина), животных же своих они распрягают и оставляют тут же во дворе…
И вот по утрам двор наполняется волами, верблюдами двугорбыми и верблюдами одногорбыми, изящными ишаками, похожими на игрушечных, и просто лошадьми… На верблюдах в Оренбургской губернии редко ездят верхом, — большей частью их впрягают в телегу, обычно — парой; на них же здесь пашут. Верблюжье молоко приготовляют подобно кумысу, причем киргизы часто сбывают его, выдавая за кумыс.
Вечер… Возвращаюсь из кино. Я живу в Доме крестьянина, мне отвели там комнату во втором этаже, предназначенную под сельскохозяйственную выставку.
Осторожно подымаюсь по лестнице к себе наверх, стараясь в темноте не наступить на голову кому-либо из семейства заведующего, которое спит тут же, на площадке лестницы, подостлав соломенный тюфяк… Дома, мол, у себя в комнате клопы одолевают… Примеру семьи заведующего следуют и все низшие служащие Дома крестьянина.
Вход в общежитие, где останавливаются крестьяне, совсем отдельный, поэтому я никогда не встречаю их, но у моей комнаты и у общежития одна общая глухая стена, — настолько нетолстая, что пропускает не только каждое слово, но даже каждый вздох или чих… Таким образом, я не знаю в лицо никого из моих соседей, но уже научилась отличать их по голосам…
— Так… А все-таки заботятся об нашем брате товарищи… — растягивает, словно прядет свою речь, елейный голос, нарочито-громкий («хорошо, кабы кто из начальства услыхал»).
— Вот Дом крестьянина какой поставили… Дом крестьянина…
— А раньше постоялых дворов, что ли, не было?! — равнодушно, точно сплевывает, — второй голос.
— Были… Зачем не были? — Сам, бывало — придешь — тут тебе и чайку горячего, — тут тебе и щи жирные наварные, — всего за двугривенный вся недолга… — соглашается первый голос, вибрируя затаенным смехом и тонкой крестьянской иронией. — Тоже опять и выставку устроили… В комнате направо, — видал?
— Видал… — нехотя отзывается второй.
— Машинища-то эта, — трактор… Видал, — показывали во дворе?..
— А на что ее нам показывать-то?
— Как это — на что показывать-то! Да чтобы знали мы, народ темнай, — как хозяйство свое улучшать…
— Ну и знаем… Ну, и что из того?.. Да разве мы не понимаем?! Мы что это — для плезиру, что ли, плугом землю ковыряем?.. Кабы привезли нам товарищи таких тракторов — нате, мол, — работайте — мы-то разве отказались бы, — что ли? Да где они — трактора-то? — Их на всю на Рассею, пожалуй, столько как раз будет, чтобы на выставках показывать… А плуги-то разве имеются? А косы, а серпы? На деньгах их только отпечатывают для фасона… А на деле, — не во всяком кооперативе достанешь…
— Верно, верно… Оно точно, все, что ты говоришь, — засуетился вдруг первый голос. — Я вот и приезжал как раз для этого — плуг покупать… А мне говорят: нет еще, — не выслали… Приезжай так недельки через две…
Я в этом винить никого не виню… — заторопился голос и снова начал елейно растягивать: — Оно, ка-неч-на и то-ва-ри-щам нелегко сразу всю страну наладить да пустить. Опять же и раз-ру-ха… На все, милок, свое время надобно… Не успевают…
— Не успевают!.. А почему они с налогами поспевают?.. Не поспеет еще урожай в поле, как они уже налоги с него собирать поспели…
— Опять же и налоги… Погоди, милок, я тебе все пораскажу… Это все какая голова кому от Бога дадена… Вот скажем, я… завсегда с любой властью поладить сумею… И уж она мне не страшна… Я, милок, в бедняках числюсь, и меня оно, милок, не касается… Опять же, сын у меня в вол совете — свой человек, и две дочери — комсомолки, безбожницы… Косы были — во, до самого до пола, — срезали… Я им не препятствую, — как хотят… А смотреть на них стриженых смехота разбирает. Вот моя — даром, что комсомолка, а замуж шла — у попа венчалась, для крепости, значит… Нарочно в город венчаться ехали, чтобы свои комсомолы не пронюхали… Нюх у них на это тонка-ай!.. А вот уж как дите принесла, — так не крестили, — Октябрины делали. Я на это молчал, потому как сам думаю, — октябрённому ребенку большевики больше хода дадут…
— Грех это, браток!..
— А кто его знает?.. Мож, и грех!.. А только я так располагаю, — попы, они тоже все больше темный народ обманывают… — Те же товарищи!..
И вот стал я тебе, значит, милок, рассказывать… Все, стало быть, говорю, от того — какая человеку голова дадена… Помнишь время-то в гражданскую войну, — когда коней- то всех для армии забирали… Был у меня мерин, с господского двора, — ну и мерин был… — Неужели же такого для армии отдать?! И вот надумал я мерина моего прописать бережой кобылой… На реквизиционном пункте тоже у меня свой человечек был. Так и ходил мой мерин всю гражданскую войну в бережих кобылах… Оно великое дело, чтобы везде и всюду своего человека иметь… Вот скажем, к примеру, селькор у нас заявился… Ябеда такая, что не приведи Господь… Стали наши уж подумакивать, как бы его того-с, прикончить… Насилу я их отговорил… — Рази ж это, — говорю, — можно православную душеньку сгубить… Опять же, и по головке за это не погладят… Мы с ним и без этого обойдемся… — И стал я его почастенько к себе зазывать да самогоном потчевать… Сладчайший стал мужик: что я ему велю, то и пишет… Таперича все обчество мне благодарно…
А властей нам бояться нечего… — голос понизился, почти перешел в шепот: — Это все до поры, до времени… Нам что — власть? — Мы и без нее проживем… А власти без нас никак нельзя… Город, он, прости Господи, что вошь крестьянином сыт… — за стеной затрясся хитрый и долгий смешок…
Под него я и заснула. Если б я была коммунисткой, — вряд ли я спокойно уснула бы под этот смех, добродушно-угрожающий…
Письмо пятое
ЯРОСЛАВЛЬ. ТРАКТИР
Надпись «Просят не выражаться» приходилась как раз напротив меня и, вероятно, к ней служил иллюстрацией добродушный и выразительный «мат», как нежный ветерок проносящийся над трактирной залой…
Трактир был без крепких напитков, если не считать пива, и тем, кто не хотел пива, приносили чай в чайниках; чай этот был особенный, — не дымился, выглядел прозрачным, как вода или же, наоборот, — крепким до красноты, и за пределами трактира именовался «русской горькой» и «перцовкой»…
Справа от общей залы лепились отдельные кабинеты, отделенные от нее, вместо двери, только ситцевыми занавесками, а друг от друга — тонкими, не доходящими до верха, перегородками…
Так было в верхнем этаже. Нижний же — был явно рассчитан на коммунистов и фининспектора. Здесь скромные советские служащие или, еще чаще, благообразные извозчики, — получали свой обед из двух блюд, опрятно сервированный, и чай (настоящий) никогда не подавался здесь спитым…
Но я лично всегда предпочитала верхний этаж…
— Скажите, сестрица, — вы, как мне кажется, человек просвещенный, — могут или не могут психиатрически ненормальную личность под суд отдать? — непосредственно ко мне обратился человек из-за соседнего столика. Вместо рекомендации мой неожиданный собеседник протянул мне пожелтевшую и пропотевшую от долгого ношения на груди бумажку с казенной печатью.
Я пробежала ее глазами: в ней удостоверялось, что гражданин такой-то, похитивший такого-то числа, такого-то года 7 рублей 50 копеек вместе с кошельком у гражданки такой-то и оказавший сопротивление при аресте, а также, будучи приведен в милицию, оскорбивший действием милиционера при исполнении служебных обязанностей, и затем, разбив окно, пытавшийся совершить побег, — действительно является психически ненормальным, а потому суду и следствию не подлежит…
Уже с первых слов мне стало ясно, что мой новый собеседник страдает манией преследования, во всем же остальном является вполне нормальным (как вообще многие душевнобольные — вне цикла своих болезненных идей) и, пожалуй, даже неглупым, хотя и простоватым парнем… Впрочем, вскоре он был уже настолько пьян, что от вразумительных слов перешел к пьяному всхлипыванию и причитаниям…
Но вот в залу случайно вошел вороватой походкой ответственного и видного работника, спешащего тайком напиться, — какой-то агент уголовного розыска…
— А, здравствуй, старый знакомый!.. Присаживайся!.. — обратился к нему мой собеседник.
Агент прищурился на него, очевидно, действительно признал в нем старого знакомого, — назвал по фамилии и добродушно присел к нему за стол… «Психиатрически-ненормальная личность» потребовала у официанта еще пару пива и стала угощать старого приятеля, приговаривая:
— Ты — парень хороший. Справедливый парень… Я тебя во как уважаю… Справедливый ты парень… Как сказал — так и делаешь… Зря не берешь… Вот и давеча, — ты с меня хотя и большой куш содрал, а дело сделал…
— Тс-с… — останавливает его смущенный агент и тихо прибавляет: — Ну, перестань ты бузить… Мало раз тебя, что ли, в милицию доставляли… То одно, — то другое… Все я тебя выгораживал… А в последний раз и мне бы тебя не выгородить, — одно тебя спасло, что больным тебя признали…
— Так рази ж я тебе не благодарен?! — не унимается его приятель. — Я вот и хочу тебе громко, что б все слышали — благодарность высказать… А денег, что я тебе передал, — ничуть я не жалею… Как ты всегда был сердечный парень…
Не знаю, слыхал ли агент последние слова, — вскочив, будто на пружинах, — он уже мчался опрометью вниз по лестнице…
Ко мне подошла девочка лет девяти, в коротеньком, не по росту ей, платьице, в странных, из полотна сшитых туфлях, — несмотря на то, что была зима, — одетых на босу ногу… Поверх платьица на ней была надета дамская кофточка старомодного покроя, которая на ребенке казалась длинным и чрезвычайно уродливым пальто… Непомерно длинные рукава свисают, создавая жуткое впечатление безрукости… Головка курчавая, как каракулевая шапочка. И миловидное, давно не мытое личико, время от времени передергивающееся молнией пляски св. Витта.
— Можно? — указывает она на объедки на моей тарелке и жадно собирает их прямо руками и перекладывает в просаленный карман своего платьица.
Я усаживаю ее за свой стол и спрашиваю:
— Может быть, ты лучше чаю хочешь?
— Мне все равно… Что — чай, что — кипяток… — тихо отвечает она и наливает кипяток в принесенную ею с собой жестяную кружку.
Я протягиваю ей кусок сахара, оставшийся у меня на розетке. Она на минуту приостанавливает свое чае-, вернее, водопитие, — жадно, со скрипом жует сахар и, только проглотив его, снова принимается за свой кипяток. При этом она, опять же руками, переводит объедки из кармана к себе в рот; там и застывший соус из под котлет, перемешанный с хлебными крошками, и голова от селедки, и несколько картофелин, и половина соленого огурца…
— Как тебя зовут?
— Верочка. — (Она так и сказала «Верочка», а не Верка, — и это очень странно).
— У тебя родители есть?
— Нету.
— А ты у кого живешь?
— У тети.
— А она разве на кормит тебя?
— У ней самой нет. Она старая.
— Ты здесь, в трактире, часто бываешь?
— Я здесь каждый день чай пью, — с важностью отвечает она.
Но вот она уже наелась до рыгания и икания, встает из-за стола и — о, чудо! — делает реверанс.
Кто эта девочка, с ненародным говором, именующая себя Верочкой и делающая реверансы?
В соседней комнате компания еврейских нэпмапов, напившихся до русского «мата», под воркование последнего, скрепляют какой-то торговый договор с представителем треста… А с другого конца залы тоже доносится «мат». Там мелкий местный коммунист рассказывает о своей встрече с Ильичом:
— Вы — что, мать вашу… — обращается он к своим собутыльникам, таким же мелким коммунистикам, как он сам. — Вы мразь одна, — вот вы что! Вот — Ленин, мать его… так это был человек!.. Большой человек, мать его…
— Ты, товарищ, полегче бы… — тревожно останавливает его менее пьяный товарищ.
— Отстань!.. Молчать!.. Я про великого вождя говорю, мать вашу…
Около «коммунистического» столика собирается целая толпа и с наслаждением слушает повествование расходившегося ленинца.
— Ну, и сказал он мне, — Ленин то-ись, мать его…
— Я тебе, товарищ, вот что скажу: — ты Ленина вспоминай, вспоминай Ленина… А только «мать», это — уж ты забудь! — вразумляет его один из собутыльников в форме ГПУ.
А в это время около одного из столов какая-то женщина со слезами, руганью и угрозами уговаривает мужа идти домой. Он встает, делает к ней шаг, хочет запустить в нее бутылкой, но, совершенно пьяный, валится на пол… Услужливый официант подымает его… Затем два официанта под руки выводят из трактира не его, а… ее.
— Парочку пива!.. Живо!.. — заказывает новая компания. Подслепая старушка с унылым видом обходит ряды столиков и предлагает большие ярмарочные конфеты в бумажках по две копейки штука.
Письмо шестое
ЦАРИЦЫН
Двое неизвестных на соседней скамейке разговаривали о фининспекторе.
А ветер, точно хмурый фининспектор, молча собирал с деревьев последние шелестящие червонцы листвы…
Деревья, так же как и люди, не протестовали и только укоризненно покачивали своими лысыми головами…
Но двоим неизвестным недолго пришлось спокойно и обстоятельно беседовать о фининспекторе: с громким криком, суетливой разноголосицей, перебивая друг друга, — накинулась на них стая детей…
Это не были беспризорные. Это были деловитые и очень положительные маленькие человечки.
Маленькая армянка Роза, — черненькая, чистенькая, свеженькая, в белом передничке, предлагает большие яблоки — по 5-ти копеек штука, — такие же чистенькие и свеженькие, как она сама… Ее подружка — длинноносая худенькая еврейка — торгует тем же. Но обе они предлагают свой товар чинно, степенно и никогда не отбивают друг у друга покупателей… Другое дело мальчишки: юные армяне, греки, татары, персы, — одним словом, дети всевозможных народов черной масти — точно разнородная птичья стайка, в которой и вороны, и галки, и грачи, — ссорятся, перебивают друг у друга, отлетают в стороны и налетают снова…
— Давай, гражданин, ботинки почищу!..
— Барышня, барышня, — давай, — туфли вычищу!..
— Не слушай его, гражданин, он маленький, — еще не умеет, дай я почищу!..
Но «маленький» — самый юркий из всех. Это — шестилетний братишка Розы, — забавный до невероятного, — малюсенький, худенький, — с огромными, круглыми, как у птенца, глазами… Голос у него звончей, чем у всех, и раньше, нежели «гражданин» успел согласиться, пронырливый мальчонок уже покрыл ему ботинки ваксой…
Беспризорный — и маленький чистильщик сапог, это — два полюса. В любом отношении.
В классовом: первый — ярко выраженный люмпен-пролетарий; второй — будущий мелкий буржуй…
В идеологическом: чистильщик сапог — реалист, материалист… Злостный беспризорный (а бывают ведь и не злостные, невольные) — всегда романтик…
В семейном отношении: беспризорный является не имеющим и не помнящим родства; уличный же торговец, напротив, покорный и полезный член семейства, под вечер добросовестно приносящий родителям часть своего заработка, а иногда и всю дневную выручку… А если он и оставляет часть ее себе, — то вы можете быть уверены, что он не потратит ее на сласти, куренье и прочие слабости, она целиком откладывается на расширение предприятия: сегодня он только чистит сапоги, — через неделю он попутно будет торговать шнурками для ботинок…
Но что роднит и тех и других — всех вообще питомцев улицы и бульвара, — их удивительное знание людей и жизни, и притом знание — в применении к своей личной пользе. Вот, например:
На одной из скамеек сидят две проститутки. Они сегодня еще ничего не заработали. И это знают Роза с подружкой так же хорошо, как если б они могли рентгеновскими лучами опрозрачить карман этих двух проституток.
Тем не менее, именно к ним направляются Роза с подружкой:
— Хотите яблоков? — У вас денег нет? — Ничего… Мы вам это устроим…
И маленькие ножки направляются к соседней скамье. Там сидят два молодых человека.
Бедно, но аккуратно одеты. С застенчивыми, но независимыми манерами. Из типа «бедных, но благородных»..
Вот к ним-то обращается Роза.
— Посмотрите, — на той вон скамеечке какие барышни красивые сидят. — Купите для них яблочков.
Говорится это, разумеется, нарочито громко, чтобы не только сами барышни, но и весь городской сад слышал. Конечно, кавалеры не захотели ударить лицом в грязь перед барышнями. Конечно, через минуту Роза уже неслась обратно к барышням и звонким голоском провозглашала:
— Барышни, — вам кавалеры — вон с той скамейки — яблоков прислали.
Но это была лишь завязка. А результат получился к всеобщему удовольствию: через полчаса обе проститутки уходили под руку с новыми знакомыми и Роза с пустой корзиной из-под распроданных яблок — бежала домой. Итак, — десяти-одиннадцатилетние девочки в роли сводниц…
Впрочем — не только дети улицы…
Вообще советские дети очень уж много знают и об очень уж многом заботятся. Эти дети, выросшие в годы голода, с первым пробуждением в них сознательной мысли, — привыкли считать, что вкусная, обильная еда и хорошая новая обувка — суть первейшая цель жизни каждого сознательного гражданина. Дети эти закалены жизнью — они не пропадут даже в самых тяжелых условиях, но зато — даже в самых легких и благоприятных — они будут продолжать думать лишь о материальных благах… Сказка, фантазия, елка, кукла, — все это для них лишь синоним глупости… Расчетливые дети. Самостоятельные дети. И — абсолютно корыстные. Даже в самых обеспеченных семьях. Я вовсе не хочу сказать, что они вырастут отъявленными подлецами и негодяями. Нет. Но это — молодое племя карьеристов и стяжателей.
Карьеризм — вообще одна из черт молодого поколения в советской стране. Среди старых коммунистов есть много бескорыстных и беззаветно преданных, если и не рабоче-крестьянскому, то партийному делу. В комсомоле — все от карьеризма. Даже популярность среди них того или другого вождя — по инструкции из центра. И теперь, когда Троцкий, в связи с оппозицией, не в фаворе, — всякий провинциальный комсомолец по любому поводу будет ругать его… Когда статьи Коллонтай о половом вопросе вызвали неудовольствие в московских «сферах», — несчастная Коллонтай сделалась мишенью для всех комсомольских постановок, всевозможных куплетов «Синей блузы», а с легкой руки последней, — и заезжих эстрадных куплетистов…
Все эти мысли бродили в голове, пока я сидела одна на скамейке городского сада.
Но вот струя новых наблюдений вытеснила их: на соседней скамейке расселась новая компания проституток…
Их было трое. Одна высокая, с резким голосом и жестами, с визгливыми, как две маленькие собачонки, глазами, — с носом, нахально, точно подол, задранным… И, вероятно, — хорошая душа…
Вторая — красивая, полная, — с равнодушным, немного заспанным лицом… И в то же время, как первая вызывающе естественно смеется, стараясь обратить на себя внимание, она вяло и инертно дожидается, пока кто-нибудь ее пригласит…
Третья — собственно говоря, еще не «гулящая». Но несомненно будет гулящей. Маленькая упругая мусульманка, с безответными и скрытными мусульманскими глазами… Она сдружилась с двумя первыми и по дружбе сопровождает их. Когда ее развязная подруга отпускает слишком уж вольные шутки, она смущенно останавливает ее, а когда та неожиданно, не то расшалившись, не то для рекламы, циничным жестом задирает подол, она тихо говорит ей:
— Если ты так себя вести будешь, то я с тобой больше ходить не буду… Ищи себе другую подругу! — и пересаживается на другую скамейку. Но сама она уже несколько раз уходила с посетителями. Пока еще бесплатно. Чтоб не отставать от подруг, из своеобразного самолюбия. — «И я, мол, могла бы “работать” не хуже вас, если б захотела… Вот видите, приглашают».
Вообще, ни в одной стране нет такого простого, почти неуловимого перехода от просто несколько распущенной женщины к профессиональной проститутке.
И та, и другая знакомится с мужчиной в любом месте; и та и другая готова принадлежать мужчине с первого же раза, после двух-трех переходных фраз или же заменяющих их жестов, без всякого предварительного ухаживания и знакомства, часто без всякой надежды, да, пожалуй, и без особого желания встретиться еще раз со своим случайным приятелем.
Проститутка в России не воспринимает себя психологически таким потерянным, всеми отверженным существом, как ее сестра в Западной Европе. Если в России легче скатиться до проституции, то легче и выкарабкаться из нее. Легче, но все-таки нелегко. Ибо пока существует безработица, проституция неизбежна, несмотря ни на какие женотделы, комсомолы, охраны материнства и прочие коммунистические начинания.
И, точно иллюстрацией к моим мыслям, звучит со скамейки напротив:
— И вот, милая моя, приходит это к ней третьего дня подруга. А она мертвая лежит. Пузырек и записка: «Работу найти надежды у меня больше не осталось. Телом своим торговать не хочу».
Там сидят все худенькие, очень бедно одетые девушки. Одна из них, помоложе, — та вот, что рассказывала, — выглядит изнуренной и все-таки жадной до жизни. Нет, она никогда не напишет такой записки. И когда-нибудь и она будет заманивать мужчин в этом же самом саду и жаркий блеск ее глаз, жадных до обыкновенной питательной и вкусной пищи, — вот сейчас бы колбаски чайной, да хлеба белого к ней побольше — будут принимать за любовный пыл…
Письмо седьмое
МОСКОВСК. ГУБ. КРИЗИС БРАКА
Кризис брака… — приевшееся, ничего не объясняющее сочетание слов… И все-таки — нужное, единственно определяющее состояние «брачного» вопроса в России.
Вопрос этот выпирает из всех привычных рамок, рассыпаясь на брачный, женский, «хулиганский» и проч. — подвопросики.
Возьму для иллюстрации несколько семей, которые подверглись особенной внутрисемейной разрухе. Пример первый:
Она — типичная русская интеллигентка, бывшая подпольщица, безукоризненно-щепетильно честная и немного старомодная и смешная, сохранившая в сорок лет свой вид «курсихи», стригущая свои — теперь уже с сильной проседью — волосы точь-в-точь той же некокетливой и залихватской стрижкой, как двадцать лет тому назад, и до сих пор не могущая без глубочайшего волнения душевного слышать два мотива, столь дорогих когда-то сердцу: «Интернационал» и… «Gaudeamus».
Пламенный, яростный член партии («Единой Российской Социал-демократической (фракции большевиков)» — как писалось тогда) — с 1905-го года.
Он — тоже старый партиец. И очень видный в настоящее время. Но гибкий, эластичный донельзя.
Был подпольщиком. Был эмигрантом.
В начале Октябрьской революции сразу сумел почувствовать и осознать себя диктатором. Впрочем, подписывая приговоры о расстреле, отменил несколько из них, чем создал себе среди беспартийных масс, падких до легенд о добрых заступниках, — репутацию человека некровожадного и даже великодушного. Так же мгновенно, как диктатуру, — принял НЭП и в него погрузился.
А она, безропотно коловшая дрова и стиравшая белье при военном коммунизме, — упрямо сидевшая на голодном пайке, в то время как все коммунистки ее круга имели шоколад, икру и даже вино, — с жутким хладнокровием относившаяся к работе мужа в Чека, — как раз к НЭПу-то никак не могла приноровиться.
— Ты — неоценимый работник при женотделе, — прекрасный агитатор и организатор. Как тебе не стыдно тратить время на никому не нужную домашнюю работу, которую отлично могла бы выполнить за тебя любая прислуга… — говорил он ей не раз.
А она, понимая, что в его словах есть доля правды, — все же верным женским инстинктом чувствовала, что если она возьмет прислугу, то уже перестанет быть коммунисткой. Как всем известно, метрессы крупных коммунистов в изысканности туалета не уступают бывшим придворным фавориткам, а, ревниво соперничающие с первыми, коммунистические жены стараются не отставать. И вот ему часто неловко было за скромный, почти общипанный вид своей жены, одетой со всей убогостью женщины, не привыкшей, не умеющей и не желающей следить за своей внешностью.
Эти двое не разошлись. Они слишком любили друг друга. Но близость их, общность, то что, заимствуя церковный термин, правильнее всего было назвать истинным «таинством брака» — незаметно и неуловимо растаяла. Он утонул в трестах, учреждениях, командировочных, наградных. Она, закусив удила, мчалась в оппозиционной упряжи.
Теперь новый пример, — диаметрально противоположный:
— Чего только не испытала на своем веку та маленькая женщина, о которой я хочу здесь рассказать!..
Круглая сирота, в раннем детстве была она поводыркой у какого-то слепого нищего… Лет с десяти работала на фабрике. Шестнадцати лет вышла замуж за человека, вечно пьяного и без ножа не ходившего… Бил жену немилосердно, а однажды и ножом полоснул… Наконец она не выдержала и, беременная на пятом месяце, от него ушла. Ночевала по пристаням и вокзалам, а днем «стреляла» (просила милостыню). Но от всяких предложений интимного характера стойко отказывалась.
— У меня тогда одна цель была… — говорила она мне потом:
— Дите свое выносить, а потом и выкормить… Не хотела я с невинным дитем в утробе под заборами с мужиками валяться…
И пока кормила — тоже себя соблюдала. А уж как выкормила — так скажу правду, — стала гулять… Потому — теперь мне никто ничего сказать не мог. Материнское свое дело я справила…
Вот тут-то, в качестве проститутки среднего разбора, свела она совершенно случайно знакомство с маленьким провинциальным коммунистиком из заводских слесарей, — немолодым уже, сухоньким и немного с придурью…
И решил он вернуть бабенку к «честной трудовой жизни и в сознательную пролетарку перевоспитать», для коей цели на ней и женился. Женщина, всю жизнь прожившая в нужде, — именно потому особенно стремилась вздохнуть посвободнее… Хотелось ей на вечно босые ноги самые дорогие шелковые чулки надеть… Хотелось, чтобы в доме — всякая утварь… Чтобы — комод, горка и, на случай гостей, чтобы ну хотя бы две-три «золотые» чашечки в цветочках с блюдечками… И, выходя замуж за «хоть и плохонького, а все — коммуниста», уж конечно рассчитывала, что все это получит… А мужа в коммунистической партии все в черном теле держали (уж очень он там всех идеологией и партэтикой одолел… И главное дело, без малейшего партийного чинопочитания с обличительно-усовещевательными речами к партначальству лез…) И оказался он вскоре одновременно из партии за «благородство душевное» вычищен и с работы за непригодностью уволен.
А жену молодую утешал тем, что зато он — «единственный правильный член партии, который совесть свою партейную не потерявши, а то все — карьеристы и взяточники…»
Тут он вскоре к тому же запил. И не раз слышала я за стеной подобные диалоги:
— Опять в кабак? — А мне, значит, одной сидеть — пропадать?!
— Да ты-то пойми… Рази ж меня на выпивку тянет? — Я затем в пивную иду, что там завсегда человека найти можно, который думу мою понимает…
Дверь хлопает, — по лестнице — мужские шаги, а женский голос за стеной уныло тянет любимую свою песню:
«Родилась я у нищего в подвале
И опять же я попала в нищету…»
А в один день не выдержала бедная женщина, — собрала узелочек, — взяла плаксивого со сна ребенка и, тихонько крадучись, сбежала, — точно кошка с голубятни… Больше всего обижался муж, что так вот ушла, — даже записочки после себя не оставила…
И наконец — третья иллюстрация, — наиболее типичная, наиболее характерная для современного брачного кризиса: — Жили Федор с женой Таней хорошо. Всем соседям на зависть. Оба молодые — погодки, оба красивые, оба ловкие. Вместе работали, вместе на печи отдыхали и баловались. Любили друг дружку и — крестьянское свое хозяйство. Тут взяли его на войну. Воина — беда всеобщая, неминуемая, — как все равно молния, али лесной пожар… Таня не роптала. Только тосковала, да никак дождаться Федора не могла… Попал Федор в плен. Поспокойнее стало Тане — в плену хоть цел будет… Только свидеться еще пуще не терпится…
А как дождалась — опять же не на радость: вернулся Федор не тем, чем был. Больно ему жизнь в Германии понравилась. Хозяйство, мол, свое улучшают, и в хлебах и в скоте — во всем толк знают немцы… И втемяшилось Федору на агронома учиться… Уговаривал жену: — «Вот, погоди, — выучусь — тебе же лучше будет… Хозяйство такое заведем, что всем на образец… Опять же я, как агроном, жалованье получать буду…»
Не слушала Таня: — «Уедешь ты учиться в уезд, — меня позабудешь… Да и не учиться вовсе ты желаешь, а просто другую завел!.. — Вот и хочешь, чтобы — с глаз долой…»
А когда Федор все-таки собрался ехать, Таня заартачилась:
— Когда так, — давай мне развод… Я себе другого найду. А то я всю войну ждала, да опять тебя дожидаться…
И загс зарегистрировал очередной развод.
Письмо восьмое
ТАШКЕНТ — РУССКИЙ БАГДАД
Песок пустыни разостлан на сотни и тысячи верст, точно смятая горячим телом простыня… Точно метался кто-то огромный в сильном жару по этой простыне, — оттого и складки — складки песка. Сухие растения — низкорослые клубки-кустики — совсем как пучки волос под мышками. А ветер дышит сухо и безотрадно, как в тифу.
В вагоне скучно… Разговаривать не с кем. Два ответственных коммуниста напротив с ответственной высоты поругивают оппозицию, Троцкого и какого-то уездного секретаря. Их жены, нежно обнявшись, беседуют о ташкентском шелке, жалуются на то, какая грубая теперь пошла домашняя прислуга — «нет, что ни говори — профсоюз пересолил, — надо же и за нас, бедных хозяек, кому-нибудь вступиться. А без прислуги тоже никак невозможно: муж — ответственный, это обязывает», — и с интимно-дамской улыбкой нашептывают друг другу анекдоты «для курящих». Остальные пассажиры от жары и скуки спят. Да их и вообще немного: поезд — скорый, а в советской России скорый поезд это — как раньше мягкий вагон, — в нем едут только «ответственные» и трестовики.
Небогатый ассортимент железнодорожных приключений уже исчерпан: локомотив наш по дороге перерезал пополам верблюда, поднявшийся сильный ветер унес шарф у какой-то дамы, стоявшей на площадке, ссадили двух оборванных и голодных безбилетных, на станции у кого-то стащили кожаный чемодан, — новых происшествий как будто не предвидится.
Покупаем на станциях у киргизов кумыс и пьем; злые языки утверждают, что это не кумыс, а верблюжий арьян… Продают свой напиток киргизы из-под полы, — ввиду необычайного распространения среди киргизов сифилиса и заведомо антигигиенического приготовления ими кумыса, продажа последнего во многих местах России запрещена. Разрешение на продажу выдается лишь отдельным лицам, подвергающимся регулярному медицинскому осмотру.
Скучно… И все-таки пустыня очень красива. Она нежно ласкает, баюкает глаз, в ней что-то успокоительное, мягкое. Но вот в воздухе внезапно появляется какая-то сочность, влажность. И вдруг — сады, сады, сады. Мы подъезжаем к Ташкенту. Город — оазис среди пустыни.
Как на ткацком станке, тянутся нити виноградника на четырехугольных рамах. Сады тенистые и довольно сумрачные, неприветливые, как строгие, экзотически-красивые и неласковые лица туземцев. Туземцами в Ташкенте являются узбеки или, как их раньше называли — сарты. Теперь слово «сарт» считается оскорбительным. Почему?
— «Сарт» по-нашему значит — собака, — так пояснил мне один узбек.
Вечером Ташкент сказочно прекрасен. В настоящее время в России не найдется ни одного города, кроме Москвы, который был бы так оживлен, как Ташкент. Техника световых реклам и киноплакатов здесь чуть ли не перещеголяла столичную. Улицы полощутся в электричестве. Сплошная человеческая волна струится вдоль главной улицы, заливая увеселительные сады и кинематографы. Тротуары и стены домов бледны от электрического света. Толпа, как лунатик, движется в этом свете, зачарованная не луной, а бледными и затягивающими лампочками кинематографов.
По бокам улица густо облеплена чайханами (чайными домами, трактирами) — как карниз дома ласточкиными гнездами. Напротив каждой чайханы, на мостовой, нечто деревянное, среднее между широким столом и квадратными нарами. На этом «нечто» сидят, поджав под себя ноги или просто вытянув перед собой, туземцы в халатах, в круглых татарских ермолках, черных или вышитых, старики в чалмах.
Пьют они из «азиатских чашек», почти в точности напоминающих трактирные полоскательницы, кумыс и чай, едят, прямо руками, плов и шашлык, которые жарятся на вертелах и жаровнях тут же в чайханах. Вместо хлеба — плоские чуреки, круглые, тонкие лепешки.
Ничего провинциального нет в Ташкенте, и очень мало русского. Весь он — смесь восточной экзотики и порочной нервной напряженности крупного торгового западноевропейского города. Советская власть умеет здесь оставаться незаметной или, может быть, не умеет стать заметной.
Город — оазис среди пустыни! Какое изобильное богатство, запрятанное среди песков!
Днем Ташкент не такой сказочный, но зато этнографически, пожалуй, еще интереснее. Как большинство восточных городов, он имеет две части: новый город и старый город. Новый город — это, разумеется, «европейская» часть Ташкента; но и здесь чайханы, шашлык, плов, чуреки, и здесь — обилие восточных товаров на базаре, и здесь — среди туземцев очень мало русских, и здесь — то и дело на плавно выступающих, изящных, точно искусной рукой из дерева вырезанных миниатюрных ишаках выезжают величавые старики-узбеки с пророческими белыми бородами, в длинных восточных одеяниях и пышных чалмах. Узбеки-старики удивительно красивы. Белая чалма и седые бороды эффектно контрастируют со смуглыми лицами и немного диким блеском черных глаз. Молодые узбеки красивы далеко не всегда. Так как между всеми мусульманскими народностями края (татары, узбеки, киргизы, персы) происходило и происходит постепенное скрещивание путем брака, то в настоящее время у узбеков преобладают два типа лиц: один напоминает киргизский; узкие косые глаза и желтый цвет лиц сразу выдают большую примесь монгольской крови. Широкие скулы, нос несколько плоский, с небольшой горбинкой. Второй тип — ближе к персидскому: скулы хотя и несколько широкие, но не в такой степени, как у первого типа. Глаза значительно шире, более выразительные, менее косые. Цвет кожи более смуглый и с меньшей примесью желтого тона.
Оригинальны местные повозки: на двух огромных колесах возвышается, как балдахин, место для седока. Впрочем, сами узбеки очень редко им пользуются, предпочитая оставлять саму повозку пустой, а самим сидеть впереди на крупе у лошади или ишака. Поэтому в Ташкенте, впрягая лошадей, узбеки обычно одновременно оседлывают их.
«Старый город» значительно менее живой. Он всегда, и днем и ночью, какой-то заспанный, непроспавшийся. Прохожих по улицам мало, улицы узкие, холмистые и на каждом шагу перерезываются арыками (искусственными узенькими каналами с неаппетитной на вид водой). Перепрыгивая через эти арыки, не раз проклинаешь их, а между тем, только им обязан Ташкент своим цветущим видом, своими плодовыми садами, чуть ли не даже своим существованием вообще.
Прямо-таки жуткое впечатление производят узбечки старого города: неопределенные фигуры, возраст которых можно определить разве только по походке, с пугливыми движениями и лицами, завешенными густыми черными решетками-сетками. Покачиваясь при ходьбе и от ветра, решетки эти неуловимо напоминают хоботы и производят безобразное, отталкивающее впечатление. Турецкая чадра или покрывало крымских татарок неизмеримо изящнее.
У узбеков распространено многоженство, но совсем напрасно слово «гарем» вызывает повышенный интерес почти всякого европейца: гарем мусульманина — это просто семья, где, как и во всякой обычной семье, несколько женщин и дети этих женщин. И, если жены одного мужа и ссорятся между собой, то вовсе не из половой ревности, не из боязни охлаждения мужа, а просто из-за способов приготовлять плов, из-за невыстиранного вовремя белья, одним словом, из хозяйственных принципов и кулинарного тщеславия. Старшая жена — вроде сварливой хозяйственной свекрухи, младшие жены — лукавые, бесхозяйственные золовки. Встречаются среди последних и такие, которые, наоборот, усердствуют, желая показать мужу, что они понимают в хозяйстве не меньше старшей жены. Ревнует обычно не старшая к младшей, а младшая — к старшей, так как ревнуют не мужа, а хозяйство: каждая хочет быть полной хозяйкой.
Женотделы ведут энергичную борьбу с многоженством и загсы не регистрируют более одной жены, но это мало смущает благочестивых мусульман. «Расписавшись» с одной женой, они венчаются с остальными у муллы.
Еще одна маленькая пикантная подробность: в советском Туркестане существует рабство. Не какое-нибудь там иносказательное, а самое настоящее, прямое: неимущие родители продают детей в рабство богатым узбекам. За небольшой выкуп богатый туземец может приобрести мальчика, девочку на всю жизнь для всевозможных услуг, в том числе и услуг интимно-полового характера. Такой запроданный мальчик (или девочка) должен всю жизнь работать на своего хозяина, разумеется, без малейшего вознаграждения. В самом Ташкенте этого, конечно, нет. Но в окрестных деревнях и местечках, за Ташкентом, это практикуется до сих пор.
Туркестанский быт, виды Ташкента, живописность его улиц и лиц так и просятся на кинофильм. И можно только удивляться бездарности заправил ташкентского «Узбекгоскино», не сумевшего создать ничего путного из такого изобильного материала. И право же, даже противоречия между старым мусульманским и новым «коммунистическим» бытом на улицах Ташкента обозначены гораздо ярче, чем в фильмах «Узбекгоскино».
Я уже говорила, что в общем советская власть в Ташкенте очень мало заметна. И все-таки.
Среди многочисленной толпы восточных торгашей и московских приезжих дельцов — неожиданно да промелькнет узбечка-комсомолка, зрелище поистине забавное; справедливость требует отметить, что вообще мало идет узбекам европейский наряд, а уж узбечкам комсомольская «форма» и того меньше.
Мне особенно запомнилась одна такая комсомолка. В вышитой шапочке-ермолке, какую носят мужчины-узбеки, она казалась сразу потерявшей всякий пол. Косоглазая, скуластая, желтенькая, с книжечками под мышкой, она казалась цирковой обезьянкой, приодетой для представления. Чуждая нашему глазу экзотичность черт, — странно привлекательная в оттенении туземной одежды — при европейском одеянии резко подчеркивается и кажется отталкивающе-негармоничной.
Русскому глазу часто случается видеть узбечку с непокрытым лицом: с русскими они не стесняются, но как только завидят кого либо из мужчин-мусульман, стыдливо прикрываются сеткой. Только комсомолки и жены коммунистов ходят да улицам с открытым лицом. Но в домашнем быту и эти последние часто следуют заветам праотцов. Я, например, знала одну мусульманскую чету, которая вместо религиозного обряда устроила своему ребенку Октябрины. Но когда маленькая Роза (в честь Розы Люксембург) через полгода заболела, то обратились не в больницу, а к знахарке. И вот я наблюдала жуткую картину: в соседней комнате пришедшие покупатели спрашивали самогон (вино пророк — да будет благословенно имя его — запретил, но о самогоне в Коране — велика премудрость Аллаха — ничего не сказано), и мать ребенка сообщала, что самогона сегодня нет, все некогда было из-за больного ребенка, а «вот приходите денька через два, тогда либо выздоровеет, либо схоронят уже…» А на террасе, прямо на полу, обернутая в тряпки, лежала маленькая Роза с сильным воспалением легких, хрипящая тонким и жалобным детским хрипом, а над ней какая-то женщина читала Коран, сплевывала и дула в сторону, отгоняя злого духа, — и опять читала суру Корана. К утру ребенок умер. Хоронили по гражданскому обряду, без муллы.
Письмо девятое
АСТРАХАНЬ. ИНТЕРВЬЮ С АСТРАХАНСКИМИ КАРМАННИКАМИ
Собственно говоря, я могла бы дать в этом письме не одно, а целых два интервью: первое — с наркомфином Брюхановым, второе — с астраханскими карманниками. Но о наркомфине скажу только, что он отдых свой проводил, как любой чиновник или совслужащий, добросовестно гулял по пароходной палубе, собственноручно распределял гражданкам чайкам хлебные пайки, беседовал с дамами о погоде, восхищался красотами Волги и, казалось, если б пришли ему сейчас сказать, что весь его комиссариат уничтожен за низвержением советской власти, то ответил бы он, даже рассердившись немного: «Обратитесь к заместителю. Я сейчас в отпуске».
Но если так мирно и неделовито был настроен сам наркомфин, то совсем в противоположное настроение приводило его присутствие на пароходе всех пароходных обитателей. Обеды в буфете стали свежее, изысканнее и обильнее, «наркоматовские» обеды. Что же касается пароходной ячейки Рекапе, а существуют и таковые на волжских пароходах, то на нее напала митинговая лихорадка. По всему пароходу заметалась в красном платочке жена одного из матросов — эркапистка — и деловитым говорком сообщала:
— Приходите сегодня в 5 часов вниз. На собрание женщин. Все женщины из 3-го и 4-го класса пусть придут.
Какой-то лектор почему-то «докладывал» о женском движении. Недоумевали собравшиеся, так как женщин оказалось меньше, чем мужчин. Недоумевали женщины — несколько татарок и киргизок, плохо разумеющих по-русски, старая бабка, едущая к женатому внуку в Астрахань, две монашки, несколько пароходных служащих и матросских жен, а больше всего — облепленных детьми, как мухами, русских, отупелых от детей, преддорожной суматохи и вынужденного пароходного безделья, крестьянок — зачем их позвали? Недоумевал капитан парохода, как бы ему лучше подхальнуть и, конфузясь, сбиваясь и потея, предложил длинную и нескладную резолюцию благодарности советской власти за раскрепощение женщины. Но больше всего недоумевали сами коммунисты: виновник происшествия — наркомфин Брюханов — не соблаговолил даже сойти вниз полюбоваться на собрание.
В Астрахани пароход стоял суток двое, а через двое суток должен был отправиться в обратный рейс.
И скучный же город Астрахань. Пыль, пыль и еще раз пыль… Троекратная достопримечательность Астрахани.
И вот, во время одной прогулки с парохода в город, я наткнулась на маленький, пыльноватый и жалковатый городской садик. В саду было душно и скучно, как и во всей Астрахани. На скамеечке сидели две пионерки и, жеманясь, вели разговор:
— Я всю зиму в звене состою. А уж в лагерь я ни за что не поеду. Я мальчишек боюсь. Они и так все время ко мне пристают. И целоваться лезут и все. Я так руководителю и сказала. А он мне: «Почему это именно к вам, Шестакова, все пристают? И истории всякие. Кроме вас, никто больше не жалуется. Видно, вы сами повод какой-нибудь подавали».
В это время к скамейке подходит компания из трех молодых людей. Пионерки с визгом срываются с места и с кокетливостью молодых горничных убегают на другую скамью. «Чего испугались? Или, может, людей никогда не видели?» — смеется, усаживаясь, один из молодых людей. Одет он бедно, но очень опрятно. Лет ему — шестнадцать, не более — на вид. Глаза серые, еще немного детские и с наглецой.
Приятель его одет гораздо изысканнее, не без фатовства. Ослепительно белая, только что выстиранная и выглаженная рубашка, нарочито небрежно расстегнута я спереди. На груди — изумительная, сложная татуировка: спящая на скале женщина и пароход вдали. На левой руке тоже татуировка, но более вульгарная: сердце, пронзенное двумя стрелами, и чьи-то инициалы. У самого парня лицо решительное, умное и очень честное.
— Воры… — тотчас же мелькнула у меня догадка. И только третий из трех приятелей заставлял меня усомниться в моем предположении: слишком уж типично бандитски-фильмовый вид был у него, а настоящие воры редко бывают такими. Угрюмо-недоверчивое лицо, храброе до дикости, татарского типа, глаза ультра-черные, непонимающие и непонятные, и мускулы крепкие, напряженные.
Но мне недолго пришлось сомневаться и рыться в догадках.
— Неплохая гостиница, — со смехом заговорил один из парней со своими приятелями. — Голубей-то сколько. Все вылетят. Мы уж их приручим. Голубь, конечно, птица маленькая.
— Да там сейчас есть кто или нет? — перебил второй.
— Шмара стремит.
Спасибо великому бытописателю Куприну, из его очерков блатных типов мне были известны кой-какие выражения воровские. Я понимала выражения «гостиница», «стремит», «голуби». Меня с самого начала подмывало заговорить с моими случайными соседями.
— Вы вот говорите, так думаете, никто и не понимает? А между тем очень даже понятно, — перебила я двух приятелей, тараторивших, как галчата.
— Мы так говорим, что никто ничего не понимает, — с уверенностью возразил самый младший.
— Ну вот, что вы поняли, что мы здесь говорили? — недоверчиво, желая меня проэкзаменовать, спросил второй.
— Понять — поняла, а переводить не стану, — уклонилась я.
— Стало быть, «засыпались», ребята, — смеясь, воскликнул кто-то из них.
— Да, нет, пока еще не «засыпались», пока не «зекс», а вот если б вы, вместо меня, на другого кого напали…
— Верно — «зекс», — сказал парень с татуировкой, словно пораженный, услышав термин этот от меня.
— Красивая у вас татуировка, — заметила я, — где делали — в «училище»?
Он, еще более удивленный, ответил не сразу:
— В «училище» сидели, «учились», там и делали. А вы что, тоже верно из «своих»? — обратился он ко мне.
Долго не верили мне, что я — обыкновенная, мирная гражданка, мужняя жена и больше ничего. А когда поверили, спросили:
— А муж ваш где работает?
— В Цека водников, — ответила я.
— А он что там делает?
— По культурно-просветительной части.
— Так муж ваш, значит, фрайер. Что ж это вы за фрайера вышли?
Что меня больше всего поразило, так это их чисто детская наивность и доверчивость. А между тем, обоим старшим было уже 19 и 20 лет. Очевидно, профессия, сопряженная с опасностью, не всегда делает людей осторожнее, и мне стало понятно, почему преступники так часто самым нелепым образом попадаются.
Они даже сообщили мне о своих специальностях. Самый младший по профессии — карманник, «работает» больше на базаре и в трамваях. Второй — обычно специализируется на сберегательных кассах и почтовых отделениях. Но в данный момент дела у всех троих идут скверно и они довольствуются чем попало, даже самым презренным с воровской точки зрения делом — кражей белья, вывешенного для просушки. Дело свое они очень ругали, говорили, что «больно беспокойно — никогда спокою нет для души», да еще в последнее время «очень уж конкуренция велика — много “своих” развелось».
— Я уж лучше бы на какую ни на есть службу поступил, кабы приняли, — добавил младший. — А ну его — этот риск. Зачем он мне? Из-за каждого червонца сколько переволнуешься, — настаивал он.
И я поняла, что передо мной просто не имеющий ничего — даже уменья работать — мальчишка (а, значит, пролетарий в кубе), еще недавно беспризорный ребенок, без всякой хотя бы чисто эмоциональной идеологии, совершенно пустой изнутри, не умеющий еще ни думать, ни любить, ни добиваться каких бы то ни было целей. Кинематограф, пивнушка — вот и все. Даже самогон и девчонка — больше для шика.
Я подумала, что именно таких вот, лишенных всякой частной собственности, даже духовной частной собственности, расстреливают большевики за «бандитизм». И еще подумала, что все что угодно, только не это прощу я советской власти.
В это время один из ребят встал, покачал на ладони пятачок и подбросил его. Пятачок упал «орлом», вернее — серпом и молотом — кверху.
— Фарты будут, — радостно воскликнул парень.
— Это что же такое «фарты»? — осведомилась я.
— «Фарты» — удача. «Фартовый парень», значит — удачливый. Примета есть: «орел» выйдет — будут «фарты».
Потом все трое ушли. Я пожелала им успеха и всяческих фартов.
Письмо десятое
ТАМБОВ. ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
НЭП — не очень спокойный, но все таки успокоительный — более уверенный, чем верный, — доплескался и сюда, до монастыря, возвратив монастырю часть его прежних обитательниц… И, пугливо оглядываясь, вернулись они с узелочками, иконами, божницами, пасхальными яйцами и деревянными пяльцами. Вернувшись, долго кропили углы святой водой, прежде чем размещать иконы, — выкуривая безбожный дух (— «Шутка ли сказать, — сколько времени большевики хозяйничали, — в монастырских стенах кощунствовали да сквернословили!») — и наладилась жизнь своим чередом.
Строгого прежнего устава и в помине нет, — нет былого чинопочитания, — оно и понятно: если раньше многое в монастыре держалось строгостью, то сейчас все решительно зависит от одной лишь доброй воли монахинь и послушниц… Те, что были помоложе, поповерхностней, — большей частью повыходили замуж в годы искушения и рассеяния, пока был реквизирован монастырь, — а вернулись лишь те, в ком сильна тягота к родному монастырю и в применении к кому, значит, всякая игуменская строгость была бы излишня…
Много детского в них — в этих девушках, уже не молодых, но никогда не знавших реальной жизни — той жизни, за которую цепляться надо зубами и в которой так легко и незаметно стираются с души и любезная ласковость, и игрушечное благолепие, и даже сама честь… Прожили они здесь лет по 30–40, как расписные яйца и пучки вербы в горке, — кормились трудом рук своих — вышиваниями по атласу и бархату, — стеганьем одеял ватных, — работали, правда, — иной раз далеко за полночь, натруживая слабое зрение, — но самой когтистой борьбы за существование все-таки не знали, ибо на них только работа лежала, забота же лежала на других…
Вот хотя бы матушка Антония. Вступила она в монастырь семнадцати лет, соблазнившись рассказами родной своей тетки, монахини этого же монастыря…
«Самый счастливый день моей жизни был день пострига» — говорит матушка Антония и глаза ее — голубые, детские, ясные — блестят неподдельной радостью теплого воспоминания. Она любит рассказывать об этом дне, описывать торжественную церемонию пострижения… Лицо у матушки круглое, щеки — розовые, девичьи, — морщин почти нет, — и, если бы не белые, как ризы на иконах, — волосы, — ее шестьдесят лет смело сошли бы за семнадцать…
Молится матушка тихим спокойным шепотком, — ласково и ровно, — сразу видно, — не грехи замаливает, — не груз сваливает с души, а только беседует о своих маленьких делах с давно знакомыми, и оттого — уже родными, — угодниками… И четки теребит, словно девушка, гадающая о суженом — лепестки цветка…
В келье матушки Антонии чисто, бело, и от чистоты — весело… Убранства и украшений никаких нет, и только множество икон блестит, горит и играет, да белоснежная белизна салфеток и скатертей отражает этот блеск…
Все три послушницы любят матушку, как родную мать — одна из них так даже и зовет ее: — «Мама», — вместо «матушка», — и целыми днями склоняются над пяльцами с очередными одеялом четыре деловитые головы… Выполняют и другие рукоделия, — шьют на заказ белье.
Странно было видеть, как девственница-монашенка, в глухом целомудренном платье, трудилась над батистовыми «комбинэзон», явно предназначенными для разжигания похоти и прельщения плоти… Но времена настолько тяжелые, что одними рукоделиями не прокормишься, и стали монашки, в виде подсобного приработка, — сдавать комнаты в кельях… И вот появились в кельях первые мужчины… Монастырский кот шарахнулся в сторону от новых квартирантов, — его, как видно, забыли предупредить о будущих жильцах, — а одна из послушниц кокетливо сказала:
— Это он мужчин боится… Потому не привык: в девичьем монастыре вырос!.. К женщинам он сразу идет.
Питаются монахини более чем скромно, общего стола нет; в каждой келье готовят отдельно… Сколько заработают в неделю, — столько и проедят… В постные дни едят капустный навар и пшенную кашу пополам с вареной картошкой (кушанье это весьма распространено в Тамбовской губернии и называется здесь — «сливни»…) с подсолнечным маслом… В скоромные дни едят почти то же… Только разговляются… стаканом молока или молочной лапшой. Рыбы почти не едят даже по праздникам…
Подрабатывают на жизнь и «по специальности»: ходят на целые ночи читать псалтырь по покойникам…
Круг интересов у всех этих девочек-старушек крайне ограничен: почему кот Вася пришел сегодня домой раньше, чем вчера? — Успеть — или не успеть к завтраму достегать заказанное одеяло? — Чем бы лучше разговеться в следующий праздник, который будет через два с половиной месяца, — молочной ли лапшой или галушками с молоком? — Не сготовить ли завтра вместо приевшейся пшенной каши — каши гречневой? — Сумеет ли справиться мать-регентша с воскресной службой, когда она уже дня два, как охрипла? — Что сказала матушка-казначея про матушку-просвирню, с которой она полгода в ссоре?
Вот темы их бесконечных разговоров… Угощать их чем-нибудь сладеньким так же приятно, как — маленьких детей… Если угостить послушниц конфетами — они их не съедят, а тут же побегут показывать друг другу и матушке Антонии, будут сравнивать все конфетки между собой, — и уж непременно каждая поделится с матушкой Антонией, которая сама — большая сластена и лакомка…
— А что, — как моложе были, — не скучно вам здесь казалось? — спрашиваю я у одной из послушниц.
— Эх, — когда моложе были, — чего-чего мы тогда не выделывали!.. Сберемся, бывало, во дворе на лужайке в горелки играть… А матушки смотрят на нас — радуются…
Или еще, бывало, — как вечер: приходит матушка к нам наверх, — мы, послушницы, наверху, во втором этаже спали, — и говорит: — «Ну, девочки, пора спать!..» — Она нас, бывало, не «сестрами», а «девочками», — все называла… Мы обождем, пока она за дверь, — и босиком, чтоб не слышно было, — собираемся все в кучу, — до самой полночи шушукаемся.
Только раз случилось мне видеть серьезное и даже недоброе (очень недоброе притом) — выражение на приветливых лицах монастырских обитательниц: это, когда «живо»-священник с представителями своей общины — приходили смотреть монастырскую церковь, которую собирались отобрать у «тихоновского» монастыря… Лица монашек сразу стали суровыми и заговорщическими:
— «Не дадим церковь!.. Искони — наша была… Пусть “живцы” свою сами строят!.. Ишь, проклятые, — к чужому добру подбираются!..» — И с ненавистью следило множество глаз из всех келий за проходившим по двору живоцерковником… Я заговорила с монахинями о «живой» церкви. Оказалось, они весьма смутно представляли себе историю и причины церковного раскола, — цели и задачи живоцерковников совершенно не были им известны, — как, пожалуй, для большинства ортодоксально-православных кругов русского населения, для них живоцерковники были просто подхалимами перед советской властью, «шкурниками», «предателями церкви Христовой» и т. д., а отсюда и — ненависть к ним…
