автордың кітабын онлайн тегін оқу Заря всего. Новая история человечества
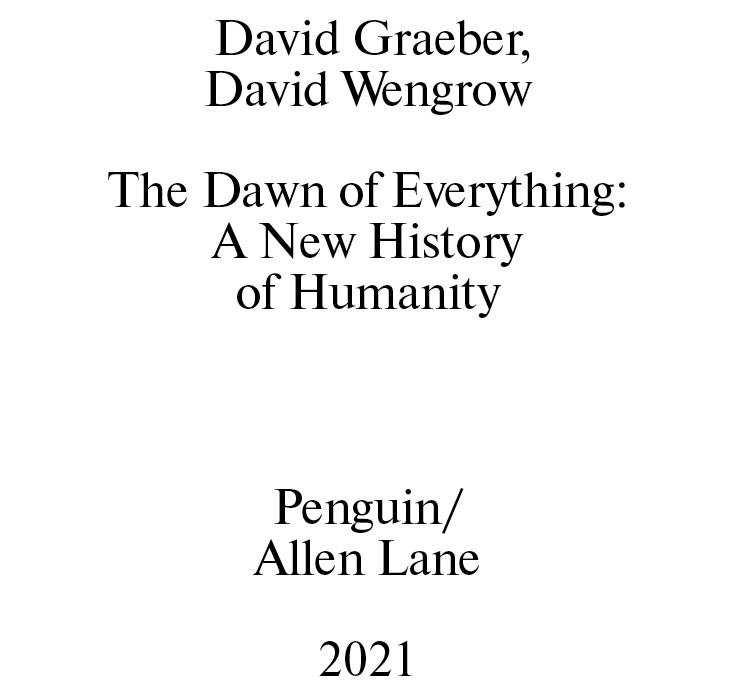
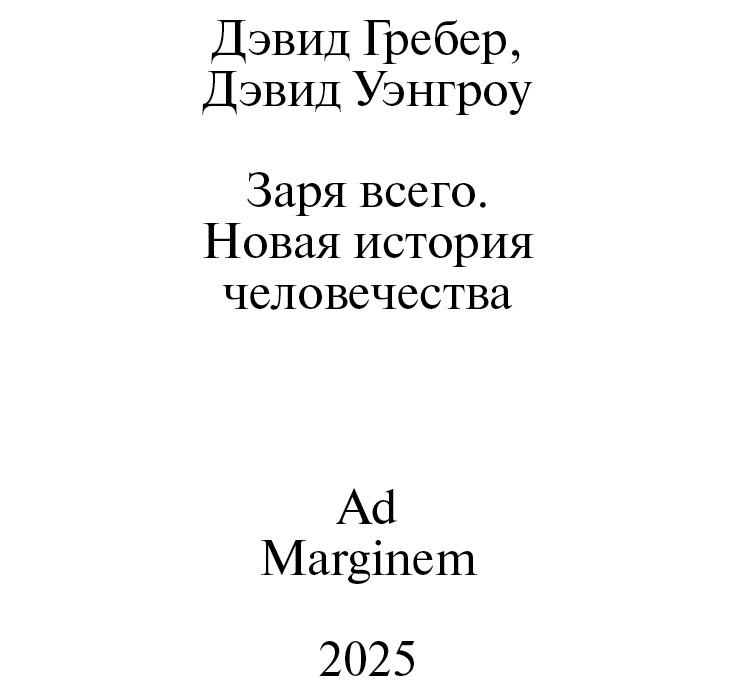
Список карт и иллюстраций
1 Культурные ареалы Северной Америки, выделенные этнологами в начале XX века (вставка: этнолингвистическая «зона разлома» в Северной Калифорнии)
(Взято из: Wissler C. The North American Indians of the Plains // Popular Science Monthly. 1913. Vol. 82; Kroeber A. Handbook of the Indians of California. Bureau of American Ethnology Bulletin 78. Washington, DC: Smithsonian Institution, 1925.)
2 «Плодородный полумесяц» неолитических земледельцев Среднего Востока, живших в окружении мезолитических охотников-собирателей, 8500–8000 год до н. э.
(Составлено на основе карты Э. Шерратта, любезно предоставленной С. Шерратт.)
3 Независимые центры одомашнивания растений и животных
(Составлено на основе карты, любезно предоставленной Д. Фуллером.)
4 Небелевка: доисторическое «мегапоселение» в украинской лесостепи
(Составлено на основе карты, подготовленной Й. Биднеллом с использованием данных Д. Хэйла; карта любезно предоставлена Дж. Чапманом и Б. Гайдарска)
5 Теотиуакан: жилые районы, расположенные вокруг главных монументов в центральной части города
(Составлено на основе: Millon R. The Teotihuacán Map. Austin: University of Texas Press, courtesy the Teotihuacan Mapping Project and M. E. Smith, 1973.)
6 Важнейшие археологические памятники в бассейне реки Миссисипи и соседних регионах
(Составлено на основе карты, любезно предоставленной Тимоти Пукетатом.)
7 Сверху: Расположение кланов (1–5) в деревне осейджей. Снизу: Расположение представителей кланов внутри помещения во время проведения важных ритуалов
(Взято из: Fletcher A., La Flesche F. The Omaha tribe // Twenty-seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1905–1906. Washington, DC: Bureau of American Ethnology, 1911; La Flesche F. War Ceremony and Peace Ceremony of the Osage Indians. Bureau of American Ethnology Bulletin 101. Washington: US Government, 1939.)
Предисловие и посвящение
Дэвид Рольф Гребер скончался 2 сентября 2020 года в возрасте пятидесяти девяти лет спустя всего три недели после того, как мы закончили писать эту книгу, работа над которой заняла более десяти лет. Сначала это было просто ответвлением наших более «серьезных» академических проектов: эксперимент, своего рода игра, в ходе которой антрополог и археолог попытались с опорой на современные данные возобновить грандиозную дискуссию об истории человечества, которая раньше велась внутри наших дисциплин. У нас не было ни правил, ни дедлайнов. Мы писали когда хотели и как хотели, со временем всё глубже погружаясь в проект. На заключительном этапе работы над книгой мы с Дэвидом нередко разговаривали по два-три раза в день. Часто мы забывали, кому именно пришла в голову та или иная идея или пример, — всё шло в «архив», который быстро разросся настолько, что весь собранный материал стало невозможно уместить в одной книге. В итоге получилось не лоскутное одеяло из фактов и теорий, а самый настоящий синтез. Мы чувствовали, как наши стили письма и мышления постепенно сливались, образуя единый поток. Понимая, что мы не хотим заканчивать это интеллектуальное путешествие и что многие введенные нами понятия нуждаются в дальнейшем развитии и пояснении, мы планировали написать продолжение — не менее трех книг. Но первую книгу нужно было закончить, и 6 августа в 21:18 Дэвид с характерным твиттерским задором (и перефразируя Джима Моррисона) заявил: «Мой мозг оцепенел от неожиданности»1. Мы закончили книгу так же, как начали ее, в диалоге, пересылая друг другу черновики, читая и обсуждая одни и те же источники, часто засиживаясь до глубокой ночи. Дэвид был не просто антропологом. Он был активистом и публичным интеллектуалом с мировой репутацией, который стремился жить в соответствии со своими представлениями о социальной справедливости и свободе, давая надежду угнетенным и вдохновляя людей следовать его примеру. Эта книга посвящается светлой памяти Дэвида Гребера (1961–2020) и, как он и хотел, памяти его родителей Рут Рубинштейн Гребер (1917–2006) и Кеннета Гребера (1914–1996). Покойтесь с миром.
1 Отсылка к строчке «Your brain seems bruised with numb surprise» из песни The Doors «Soul Kitchen» из песни The Doors «Soul Kitchen» (альбом «The Doors» 1967 года). — Здесь и далее — примеч. пер. и науч. ред.
Дэвид Уэнгроу
Благодарности
К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что я, Дэвид Уэнгроу, вынужден писать раздел с благодарностями в отсутствие Дэвида Гребера. Ника, жена Дэвида, пережила его. Скорбь по Дэвиду объединила людей с разных континентов, относящихся к разным социальным классам и представляющих различные идеологические лагеря. Десять лет совместной работы — это серьезный срок, но я всё равно не возьмусь гадать, кого бы он хотел поблагодарить в конце этой книги. Люди, с которыми Дэвид вместе шел по тому пути, что привел его к написанию этой книги, и так знают, как он ценил их поддержку, заботу и советы. Одно я могу сказать наверняка: этой книги не было бы (или бы она была совсем иной), не будь рядом с нами Мелиссы Флэшмен, которая вдохновляла нас, заряжала своей энергией и всегда была нашим мудрым советчиком во всём, что касается книжных дел. В лице Эрика Чински из издательства Farrar, Straus and Giroux и Томаса Пенна из Penguin UK мы нашли превосходных редакторов и настоящих интеллектуальных партнеров. Я благодарю Дэбби Букчин, Альпу Шах, Эрхарда Шюттпельца и Андреа Луку Циммерманн за то, что они многие годы активно участвовали в нашей интеллектуальной работе. Также я благодарю всех тех, кто любезно консультировал нас по разным темам, затронутым в этой книге: Мануэля Арройо-Калина, Элизабет Бакидано, Нору Бейтсон, Стивена Берквиста, Нурит Берд-Давид, Мориса Блоха, Дэвида Карбальо, Джона Чапмана, Луиза Косту, Филиппа Дескола, Александра Дьяченко, Кевана Эдинборо, Дориана Фуллера, Биссерку Гайдарска, Колина Гриера, Томаса Грисаффи, Криса Ханна, Венди Джеймса, Меган Лос, Патрицию Маканани, Барбару Элис Манн, Симона Мартина, Йенса Нотроффа, Хосе Р. Оливера, Майка Паркера Пирсона, Тимоти Пукетата, Мэттью Поупа, Карен Раднер, Наташу Рейнольдс, Маршалла Салинза, Джеймса Скотта, Стивена Шеннана и Мишель Воллстоункрофт.
Многие идеи, изложенные в этой книге, изначально были представлены в лекциях и научных публикациях: предварительная версия второй главы была впервые опубликована по-французски под названием «La sagesse de Kandiaronk: la critique indigène, le mythe du progrès et la naissance de la Gauche» («Мудрость Кондиаронка: индигенная критика, миф о прогрессе и рождение левой мысли») в журнале La Revue du MAUSS; отдельные части третьей главы были представлены в 2014 году под названием «Прощание с детством человечества: ритуал, сезонность и происхождение неравенства» в рамках Henry Myers Lecture, проводимой «Журналом Королевского антропологического института» (Journal of the Royal Anthropological Institute); отдельные части второй главы были представлены под названием «Много сезонов назад: о рабстве и о том, как собиратели с Тихоокеанского побережья Северной Америки отказались от него» в рамках лекции, организованной журналом American Anthropologist; наконец, отдельные части четвертой главы были представлены в 2015 году под названием «Города в догосударственный период в древней Евразии» в рамках Jack Goody Lecture, проводимой Институтом социальной антропологии Макса Планка.
Я благодарю все академические институции и исследовательские группы, которые приглашали нас выступить и обсудить темы, связанные с этой книгой. В особенности я хочу сказать спасибо Энцо Росси и Филиппу Дескола за мероприятия в Амстердамском университете и Коллеж де Франс. Джеймс Томсон (бывший редактор Eurozine) помог нам донести наши идеи до широкой аудитории, опубликовав эссе «Как изменить ход истории человечества (по крайней мере, той ее части, что уже произошла)», от которого другие площадки отказались; я также благодарен всем тем, кто перевел это эссе на другие языки, расширив его аудиторию; наконец, я благодарю Келли Бурдик из Lapham’s Quarterly, которая пригласила нас принять участие в специальном выпуске журнала, посвященном вопросам демократии, где мы представили некоторые из идей, изложенных в девятой главе настоящей книги.
С самого начала нам удалось инкорпорировать работу над книгой в нашу преподавательскую деятельность на факультете антропологии Лондонской школы экономики и Института археологии Университетского колледжа Лондона соответственно. Поэтому я бы хотел от нас обоих поблагодарить наших студентов за их многочисленные меткие замечания и размышления. Мартин, Джуди, Эбигейл и Джек Уэнгроу были рядом со мной на всём протяжении пути. Наконец, я выражаю глубочайшую благодарность Еве Домарадзке за самую острую критику и безоговорочную поддержку, какую только можно получить от своего партнера. Ты вошла в мою жизнь так же, как вошли в нее Дэвид и эта книга: «Как дождь, разрывающий воздух, бьющий по голым стенам солнца… Дождь, дождь, падающий на сухую землю!» 2
2 Цитата из стихотворения Кристофера Фрая «Дождь».
Дэвид Уэнгроу
Глава I.
Прощание с детством человечества
или Почему это не книга о происхождении неравенства
«Это настроение ощущается во всех сферах: политической, общественной, философской. Мы живем во время, которое греки называли Καιρός, „верное мгновение“ — для „метаморфозы богов“, фундаментальных принципов и символов» 3.
К. Г. Юнг «Нераскрытая самость» (1958)
3 Юнг К. Г. Трансцендентальная функция [1916] / пер. Е. Глушак // К. Г. Юнг. Избранное. М..: Попурри, 1998. С. 138.
Бо́льшая часть человеческой истории безвозвратно утрачена. Наш вид, Homo sapiens, существует уже по меньшей мере двести тысяч лет, но мы не имеем никакого представления о том, что происходило с людьми бо́льшую часть этого времени. Например, рисунки и письмена в пещере Альтамира на севере Испании создавались на протяжении десяти тысяч лет, примерно между 25 000 и 15 000 годами до нашей эры. Вероятно, в этот период произошло множество важных событий. Но у нас нет никакой возможности что-либо о них узнать.
Для многих это не имеет особого значения, ведь мы редко задумываемся об истории человечества в такой широкой перспективе. Нам незачем об этом думать. Если подобный вопрос и возникает, то во время размышлений о том, почему в мире царит хаос и почему люди так плохо поступают друг с другом, — то есть когда речь заходит о причинах войн, жадности, эксплуатации и систематического безразличия к страданиям других. Мы всегда были такими или в какой-то момент что-то пошло не так?
По большому счету это теологическая дискуссия. Вопрос по сути звучит так: люди по своей природе добрые или злые? Но если задуматься, то вопрос, сформулированный таким образом, оказывается бессмысленным. «Добро» и «зло» — это чисто человеческие понятия. Никому бы не пришло в голову говорить, используя такие категории, о рыбе или о дереве, поскольку «добро» и «зло» — это понятия, придуманные людьми для того, чтобы сравнивать себя друг с другом. Выходит, что спорить о том, добрые или злые люди по своей природе — это то же самое, что спорить о том, худые ли или полные по своей природе люди.
Тем не менее, когда мы всё же размышляем о тех уроках, которые можно извлечь из доисторического периода, то почти неизбежно возвращаемся к подобным вопросам. Всем известен ответ, который дает христианство: сначала люди были безгрешными, но затем запятнали себя первородным грехом. Мы хотели уподобиться Богу и понесли наказание; теперь человечество обречено находиться в падшем состоянии, и нам остается только надеяться на будущее спасение. Современное популярное изложение этой истории представляет собой несколько модернизированную версию работы Жан-Жака Руссо «Рассуждение о происхождении и основании неравенства между людьми», написанной в 1754 году. Давным-давно люди были охотниками-собирателями, которые пребывали в затянувшемся состоянии детской невинности и проживали небольшими группами. Группы эти являлись эгалитарными в силу своей малочисленности. Та счастливая жизнь закончилась только после наступления «аграрной революции» и далее с возникновением городов. Ей на смену пришли «цивилизация» и «государство». Они принесли с собой письменность, науку, философию, но одновременно с этим почти всё плохое, что есть в человеческой жизни: патриархат, регулярные армии, массовые казни и назойливых бюрократов, требующих, чтобы мы проводили бо́льшую часть своей жизни, заполняя разные бумажки.
Конечно, это сильное упрощение, но примерно так и выглядит история зарождения цивилизации, которую мы слышим каждый раз, когда кто-то, начиная с организационных психологов и заканчивая революционными мыслителями, говорит что-то вроде «но, конечно, бо́льшую часть своей истории люди жили в группах по десять-двадцать человек» или «вероятно, сельское хозяйство — это самая большая ошибка человечества». И как мы увидим впоследствии, многие популярные авторы вполне открыто высказывают этот тезис. Проблема в том, что любой, кто ищет альтернативу такому довольно депрессивному взгляду на историю, в скором времени обнаружит, что единственная альтернатива еще хуже: если не Руссо, то Томас Гоббс.
«Левиафан» Гоббса, опубликованный в 1651 году, во многих отношениях стал основополагающим текстом современной политической теории. Гоббс утверждал, что люди по своей сути эгоистичные создания, а жизнь в естественном состоянии не была невинной; напротив, она была «одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» — короче говоря, люди жили в состоянии войны всех против всех. Прогресс и выход из этого мрачного состояния, как сказал бы последователь Гоббса, стал возможным преимущественно благодаря тем репрессивным механизмам, на которые жаловался Руссо: правительству, суду, бюрократии и полиции. Такая точка зрения на историю человечества тоже существует уже очень давно. Неслучайно в английском языке слова politics («политика»), polite («вежливый») и police («полиция») звучат почти одинаково — они произошли от греческого корня polis, или «город». Латинский перевод этого слова — civitas, отсюда произошли такие слова, как civility («вежливость»), civic («гражданский») и определенное современное понимание «цивилизации» (civilization).
Согласно этой теории, человеческое общество основано на коллективном подавлении наших базовых инстинктов, что становится особенно важным, когда большое количество людей проживает в одном месте. Современные гоббсианцы сказали бы, что на протяжении почти всей своей истории мы действительно проживали в маленьких группах, члены которых находили общий язык в основном благодаря тому, что у них была общая цель — обеспечить выживание своего потомства (эволюционные биологи называют это «родительским вкладом» 4). Но даже такие отношения не были основаны на равенстве. В группе всегда был «альфа-самец», то есть лидер. Иерархия, доминирование и циничный эгоизм всегда лежали в основе человеческого общества. Просто мы коллективно пришли к идее, что надо поставить наши долгосрочные интересы выше немедленных инстинктов; а точнее, создать такие законы, которые заставят нас давать волю своим наихудшим побуждениям в тех областях, где это было бы полезно для общества (например, в экономике), а в остальных случаях подавлять их.
4 Согласно определению автора теории родительского вклада Роберта Триверса, родительский вклад — это любые затраты (например, ресурсов, времени, энергии) на воспитание потомства, которые увеличивают шансы этого потомства на выживание или репродуктивный успех и уменьшают способность родителя вкладываться в других или будущих потомков. См., напр.: Pazhoohi F. Parental Investment Theory / ed. T. Shackelford // The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Sexual Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. P. 137–159.
Как читатели уже могли догадаться по нашему тону, мы не в восторге от необходимости выбирать между этими двумя альтернативами. Наши возражения можно разделить на три широких группы. Такие взгляды на общий ход человеческой истории:
1) попросту ошибочны;
2) ведут к печальным политическим выводам;
3) делают наше прошлое неоправданно скучным.
Эта книга представляет собой попытку рассказать другую, более обнадеживающую и интересную историю — и при этом лучше учитывающую то, чему нас научили исследования последних десятилетий. Отчасти наша задача заключается в том, чтобы свести воедино данные археологии, антропологии и смежных дисциплин, которые предлагают совершенно новый взгляд на развитие человеческих обществ за последние тридцать тысяч лет. Почти все эти исследования противоречат общепринятому изложению истории. Слишком часто самые замечательные открытия так и остаются достоянием специалистов, или же о них вообще приходится узнавать, читая научные публикации между строк.
Чтобы представить, насколько отличается наша история от привычных концепций, достаточно одного факта: сейчас стало очевидно, что до появления земледелия люди не жили исключительно в небольших и эгалитарных группах. Напротив, мир охотников-собирателей, существовавший до появления сельского хозяйства, был пространством смелых социальных экспериментов, напоминавшим скорее карнавальное шествие политических форм, а не абстрактные построения эволюционной теории. Появление сельского хозяйства, в свою очередь, не привело к возникновению частной собственности и не означало, что человечество сделало необратимый шаг на пути к неравенству. На самом деле первые аграрные сообщества зачастую не знали рангов и иерархий. Появление первых городов отнюдь не закрепило классовые различия. Как ни странно, но жизнь во многих из них была организована скорее эгалитарно, им не требовались авторитарные правители, амбициозные политики-военачальники и даже властные управленцы.
Информация по этим вопросам поступает со всех концов земного шара. Исследователи по всему миру начинают рассматривать этнографические и исторические материалы в новом свете. Из существующих фрагментов мы можем сложить совершенно иную картину мировой истории — но пока что эти фрагменты остаются достоянием небольшого числа экспертов (и даже сами эксперты, как правило, неохотно отрываются от изучения своего небольшого кусочка пазла, чтобы сравнить полученные результаты с данными исследователей из других областей). Цель нашей книги — начать собирать этот пазл, отдавая себе отчет в том, что ни у кого еще нет в распоряжении всех элементов общей картины. Эта задача столь колоссальна, а стоящие перед нами вопросы столь важны, что потребуются годы исследований и дискуссий, чтобы просто начать понимать реальное значение картины, которая открывается перед нами. Очень важно запустить этот процесс. Но одно становится ясно уже сейчас: доминирующая «большая картина» истории — которую разделяют современные последователи Гоббса и Руссо — не имеет почти ничего общего с фактами. Для того чтобы осмыслить эту новую информацию, недостаточно просто собрать и обработать огромные объемы данных. Необходимо произвести и понятийный сдвиг.
Чтобы это сделать, нужно проследить, как сформировалась наша современная концепция социальной эволюции — представление о том, что человеческие общества можно классифицировать в соответствии со стадиями развития, каждой из которых присущи определенные технологии и формы организации (охотники-собиратели, земледельцы, урбанизированное индустриальное общество и так далее). Как мы увидим далее, источник этих представлений — консервативная реакция на критику европейской цивилизации, набиравшую силу в начале XVIII века. Однако истоки этой критики — не в работах философов Просвещения (хотя поначалу они ей и восхищались, и подражали), а в комментариях и наблюдениях о европейском обществе представителей коренных народов Америки, таких как вождь из племени гуронов-виандотов Кандиаронк, о котором мы подробнее расскажем в следующей главе.
Вновь обратиться к тому, что мы будем называть «индигенной критикой» (indigenous critique) 5, — значит воспринять всерьез общественную мысль, происходящую извне европейского канона, и в частности — берущую начало в тех коренных народах, которым западные философы не привыкли отводить какой-либо роли, кроме роли ангелов истории или же, наоборот, ее дьяволов. Оба эти варианта исключают какую-либо возможность интеллектуального обмена или хотя бы диалога: одинаково сложно спорить и с тем, кто считается воплощением зла, и с тем, кто считается святым, так как почти всё, что они скажут или подумают, скорее всего, будет восприниматься либо неважным, либо чем-то чрезвычайно значительным. Большинство из тех, о ком пойдет речь в этой книге, давно мертвы. У нас уже нет никакой возможности побеседовать с ними. Тем не менее мы твердо намерены писать о доисторическом периоде так, словно его населяли люди, с которыми мы могли бы поговорить, будь они живы. Именно люди, а не просто образцы, экземпляры, марионетки или игрушки в руках какого-нибудь неумолимого закона истории.
5 Гребер и Уэнгроу пишут о сознательной критике социальных порядков и способов организации совместной жизни, осуществляемой коренными жителями Америк и других мест. В оригинале, говоря об этой критике, авторы используют термин indigenous, варианты перевода которого на русский как «туземный», «аборигенный», «коренной» намеренно отвергнуты переводчиком и редактором русского издания в пользу решения переводить его буквально как «индигенный», когда речь идет о социальной критике, политических правах и критическом воображении коренных сообществ, чтобы избежать лишних смысловых шлейфов таких слов, как «аборигенный» и «туземный» (во многом колониальных), и, наоборот, сохранить те политические смыслы и контексты, которые закрепились за этим понятием в антропологической теории сегодня и которые учитывают авторы, задействуя его в книге во многом как деколониальный инструмент. В этом контексте любопытно вспомнить, что одним из главных учителей Гребера был антрополог Теренс Тёрнер — исследователь Амазонии и политический активист, участник движения в защиту прав коренных сообществ этого региона. Слово «коренной» закрепляется в переводе за обозначением сообществ, проживавших в Америках до прихода европейцев: коренные сообщества осуществляют индигенную критику.
Безусловно, в истории есть определенные тенденции. Некоторые из них очень сильны; это настолько мощные течения, что плыть против них крайне сложно (хотя, кажется, всегда находятся те, кому это всё равно удается). Но мы сами создаем все «законы» истории. Что и подводит нас ко второму возражению.
Почему гоббсианская и руссоистская картины истории человечества ведут к печальным политическим выводам
Нет нужды чересчур подробно останавливаться на политических следствиях гоббсианской модели. В основе нашей экономической системы лежит предпосылка, что люди по своей природе — довольно скверные и эгоистичные создания, которые принимают решения исходя из циничного расчета, а не альтруизма или желания сотрудничать. А в таком случае лучшее, на что мы можем рассчитывать, — это более изощренные формы внешнего и внутреннего контроля нашего врожденного стремления к накоплению и самовозвеличиванию. Руссоистская история о том, как человечество от первоначального состояния эгалитарной невинности пришло к неравенству, выглядит более оптимистичной (по крайней мере, когда-то в прошлом было что-то хорошее). Но сейчас ее, как правило, используют, дабы убедить нас в том, что, хотя система, в которой мы живем, может быть несправедливой, самое большее, что реально можно сделать, — это провести немного скромных позитивных изменений. И сам термин «неравенство» очень показателен в этом отношении.
После финансового краха 2008 года и последовавших за ним потрясений вопрос неравенства — а с ним и история неравенства — стали центральными темами дискуссии. Интеллектуалы и в определенной мере даже политическая элита пришли к некоторому консенсусу о том, что уровень социального неравенства вышел из-под контроля и что большинство мировых проблем так или иначе стали следствием всё увеличивающегося разрыва между имущими и неимущими. Просто указать на это — значит бросить вызов глобальным властным структурам. Но вместе с тем такая формулировка проблемы в конечном счете звучит успокаивающе для людей, выигрывающих от существования этих структур, поскольку она подразумевает, что содержательное решение проблемы никогда не будет найдено.
Давайте представим, что проблема сформулирована иначе, как это могло бы быть пятьдесят или сто лет назад: как проблема концентрации капитала, олигополии или классового доминирования. В отличие от всех этих понятий, слово «неравенство» будто бы создано для полумер и компромиссов. Можно представить себе ниспровержение капитализма или слом государственной власти, но неясно, что значит избавиться от неравенства. (О каком именно неравенстве идет речь? Материальном? Неравенстве возможностей? Насколько именно равными должны быть люди, чтобы можно было сказать: «Мы избавились от неравенства»?) «Неравенство» — это способ обозначения общественных проблем, который характерен для эпохи реформаторов-технократов, изначально исходящих из того, что ни о никаком настоящем ви́дении общественного преобразования нет и речи.
Споры о неравенстве позволяют возиться с числами, дискутировать о коэффициентах Джини и верхних границах нормы, корректировать систему налогообложения или механизмы социального обеспечения и даже шокировать общественность графиками, демонстрирующими, насколько всё плохо («Можете ли вы себе представить? Один процент богатейших людей мира контролирует сорок четыре процента мирового богатства!»). Они же позволяют делать всё вышеперечисленное, не занимаясь тем, что действительно вызывает непосредственное недовольство людей в этом «неравном обществе». Например, что одни люди используют свое богатство для утверждения власти над другими людьми. Или что некоторым внушают, будто их нужды несущественны, а их жизни не имеют собственной ценности. Нас убеждают, что всё это — лишь неизбежное следствие неравенства, а неравенство неизбежно в любом крупном, сложном, урбанизированном и технологически развитом обществе. Так, предположительно, будет всегда — вопрос только в степени этого неравенства.
Сейчас происходит настоящий бум дискуссий о неравенстве: начиная с 2011 года «глобальное неравенство» регулярно становится основной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Существуют индексы неравенства, институты по изучению неравенства, льется нескончаемый поток публикаций, авторы которых стремятся спроецировать нынешнюю одержимость вопросами распределения благ на прошлое вплоть до каменного века. Есть даже попытки вычислить уровень дохода и коэффициент Джини применительно к охотникам на мамонтов эпохи палеолита (оба эти показателя оказываются очень низкими) [1]. Кажется, будто нам непременно нужно придумать математическую формулу, оправдывающую выражение, популярное уже во времена Руссо, что в таких обществах «все были равны, поскольку были одинаково бедны».
В конечном счете все эти истории об изначальном состоянии невинности и равенства, а также сам термин «неравенство» приводят к тому, что пессимистичный взгляд на человеческий удел в этом мире становится чем-то само собой разумеющимся. Начинает казаться, будто эти представления абсолютно логичны, если посмотреть на человечество в широкой исторической перспективе. Да, вполне реально жить в подлинно эгалитарном обществе, если вы пигмей или бушмен из Калахари. Но если вы хотите создать современное общество настоящего равенства, придется сообразить, как вернуться к жизни в небольших группах охотников-собирателей, не обладающих какой-либо значительной личной собственностью. Поскольку охотникам-собирателям требуется довольно большая территория, чтобы обеспечить себя пищей, население Земли придется сократить примерно на 99,9%. В противном случае лучшее, что мы можем сделать, — подобрать размер сапога, которым нас будут давить вечно; или же немного увеличить пространство маневра — для тех из нас, кто сможет на время от него увильнуть.
Чтобы сделать первый шаг к более достоверной и обнадеживающей картине мировой истории, нам необходимо раз и навсегда отказаться от идеи райского сада и просто остановиться на представлении о том, что сотни тысяч лет на Земле царила одна и та же идиллическая форма социальной организации. Однако, как ни странно, такое предложение часто расценивают как консервативное. «То есть вы утверждаете, что люди никогда не были по-настоящему равными? И что, следовательно, равенство недостижимо?» Мы считаем такие возражения одновременно контрпродуктивными и откровенно нереалистичными.
Прежде всего, довольно странно предполагать, что на протяжении тех десяти (кто-то скажет — двадцати) тысяч лет, что люди создавали рисунки на стенах пещеры Альтамира, никто — не только в Альтамире, но и в других частях света — не экспериментировал с альтернативными формами социальной организации. Как такое возможно? Во-вторых, разве не способность экспериментировать с различными формами социальной организации (среди прочего) и делает нас людьми? Людьми, то есть существами, способными творить самих себя и даже быть свободными? Как мы увидим, главный вопрос человеческой истории — это не вопрос равного доступа к материальным ресурсам (земле, калориям, средствам производства), как бы важны они ни были, а вопрос равной способности влиять на решения о том, как жить вместе. Естественно, наличие этой возможности предполагает, что есть и некоторые осмысленные, содержательные вопросы, по которым можно было бы принимать решения.
Раз будущее нашего вида, как утверждают многие, сейчас зависит от того, сумеем ли мы создать нечто иное, новое (скажем, такую систему, в которой богатство нельзя свободно использовать для получения власти над людьми или в которой никому не внушают, будто их потребности несущественны или что их жизни не имеют собственной ценности), выходит, что самый насущный вопрос — сможем ли мы вновь открыть для себя те свободы, которые и делают нас людьми? Еще в 1936 году археолог Вир Гордон Чайлд написал книгу «Человек создает себя». За исключением сексистского заголовка 6, посыл у этой работы правильный. Мы — произведения коллективного самотворчества. Что, если мы взглянем на историю человечества под таким углом? Что, если мы будем с самого ее начала рассматривать людей как творческих, разумных и склонных к игре созданий, заслуживающих именно такого определения? Что, если вместо рассказа о том, как наш вид лишился некоторого идиллического состояния равенства, мы зададимся вопросом о том, как мы оказались в столь крепких концептуальных оковах, что более не в силах даже вообразить возможность собственного переизобретения?
6 «Man makes himself» (букв. «Мужчина создает себя»).
Несколько кратких примеров, демонстрирующих, что общепринятые представления об основных вехах истории человечества по большей части ошибочны (или вечное возвращение Жан-Жака Руссо)
Когда мы только начали работать над этой книгой, то стремились найти новые ответы на вопрос о происхождении социального неравенства. Очень скоро мы поняли, что это не самый лучший подход. Рассматривая историю человечества таким образом — то есть неизбежно соглашаясь, что некогда человечество пребывало в состоянии невинности и что можно определить момент в истории, когда это изменилось, — мы лишали себя возможности задавать те вопросы, которые были для нас по-настоящему интересными. Казалось, что почти все исследователи угодили в ту же самую ловушку. Специалисты из узких областей отказывались делать обобщения. Те же, кто всё-таки шел на такие риски, почти неизбежно в том или ином виде воспроизводили руссоистскую модель.
В качестве примера такого обобщения можно обратиться к книге Фрэнсиса Фукуямы «Происхождение политического порядка: от доисторических времен до Французской революции» (2011). Вот как Фукуяма излагает то, что кажется ему общепризнанным взглядом на первобытные общества: «На ранних этапах своего развития политический строй людей схож с группами, наблюдаемыми у высших приматов, например шимпанзе». По мнению Фукуямы, это можно рассматривать как «изначальную форму социальной организации». Далее он соглашается с позицией Руссо касательно того, что происхождение политического неравенства связано с развитием сельского хозяйства, поскольку общества охотников-собирателей (согласно Фукуяме) не имеют представления о частной собственности и оттого — значимых стимулов выделить участок земли и заявить: «Это мое». Он утверждает, что такого рода группы имеют «ярко выраженный эгалитарный характер» [2].
Джаред Даймонд в книге «Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке» (2012) предполагает, что такие группы (в которых, как считает автор, люди жили еще «одиннадцать тысяч лет назад») состояли из «нескольких десятков индивидов», в основном связанных биологическим родством. Они жили довольно скромно, «собирая дикорастущие растения или охотясь на диких животных, встретившихся им в районе одного акра леса». Простоте их социальной жизни, пишет Даймонд, можно было позавидовать. Решения принимались в результате «непосредственного обсуждения членами группы», «предметов, находящихся в личной собственности» было немного, «формальное политическое лидерство или выраженная экономическая специализация» отсутствовали [3]. Даймонд с сожалением заключает, что только в таких первобытных сообществах люди достигали значительного уровня социального равенства.
Даймонд и Фукуяма, как и Руссо несколькими столетиями ранее, убеждены, что именно появление сельского хозяйства и обеспеченный им прирост населения раз и навсегда положили конец равенству во всём мире. Сельское хозяйство привело к превращению «групп» (bands) в «племена» (tribes). Благодаря росту запасов продовольствия население увеличивалось, и некоторые «племена» превратились в ранжированные сообщества — «вождества» (chiefdoms). Фукуяма рисует почти библейскую картину изгнания из рая: «Пока маленькие группы кочевали и приспосабливались к различным условиям жизни, они стали выходить из естественного состояния и развивать новые социальные институты» [4]. Они воевали за ресурсы. Юные и неуклюжие, эти общества явно двигались навстречу неприятностям.
Но вот пришло время взрослеть и назначать подходящих предводителей. Стали возникать иерархии. Как утверждают Даймонд и Фукуяма, сопротивляться было бессмысленно, поскольку иерархия неизбежна при крупных и сложных формах организации. Даже когда лидеры начинали плохо поступать: пользоваться излишками сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечивать родственников и поощрять приближенных, делать свой титул бессменным и передавать его по наследству, собирать человеческие головы в качестве трофеев, создавать гаремы с рабынями и вырезать обсидиановыми ножами сердца соперников, — пути назад уже не было. Вскоре вождям удалось убедить остальных называть себя «королями» и даже «императорами». Даймонд терпеливо объясняет нам:
Большие общества не могут функционировать без вождей, которые принимают решения, исполнителей, которые претворяют эти решения в жизнь, и бюрократов, обеспечивающих всеобщее исполнение этих решений и законов. К огорчению наших читателей-анархистов, мечтающих о жизни без государственной власти, именно поэтому их мечта неосуществима: им пришлось бы найти какой-то малочисленный род или племя, которое согласилось бы их принять, где все знакомы и где нет необходимости в королях, президентах и чиновниках [5].
Удручающий вывод не только для анархистов, но и для любого, кто задается вопросом, есть ли реальная альтернатива статусу-кво. И всё же по-настоящему примечательно, что, несмотря на самоуверенный тон, такие высказывания на самом деле не основаны на каких-либо научных данных. Как мы вскоре увидим, нет причин полагать, что общества малого масштаба с особо высокой вероятностью оказываются эгалитарными, а в обществах многочисленных обязательно есть короли, президенты и бюрократы. Такого рода заявления — это всего лишь предрассудки, облекаемые в форму фактов или даже законов истории [6].
О погоне за счастьем
Как мы сказали, всё это просто бесконечное повторение истории, впервые рассказанной Руссо в 1754 году. Многие современные исследователи считают концепцию Руссо доказанной. Если так, то мы имеем дело с невероятным совпадением, поскольку сам Руссо не говорил, что люди когда-либо пребывали в естественном состоянии. Напротив, он настаивал, что это лишь мысленный эксперимент: «Не стоит принимать тип исследования, приведенного здесь, за поиск исторических истин; это лишь гипотетические и условные рассуждения, более способные осветить природу вещей, чем установить их действительное происхождение…» [7]
Когда Руссо описывал естественное состояние и то, как оно закончилось с появлением сельского хозяйства, он не предполагал, что это описание станет основой для концепции эволюционных стадий развития общества, таких как «дикость» и «варварство», о которых говорили шотландские философы Смит, Фергюсон и Миллар (и позже Льюис Генри Морган). Размышляя об этих воображаемых состояниях, Руссо отнюдь не рассматривал их как стадии общественного и нравственного развития, соответствующие историческим изменениям в способах производства — собирательству, животноводству, земледелию, промышленности. Он скорее рассказывал своего рода притчу, пытаясь исследовать фундаментальный парадокс политической жизни человечества: как так выходит, что наше врожденное стремление к свободе раз за разом «самопроизвольно приводит нас к неравенству»? [8]
Руссо описывает, как изобретение сельского хозяйства приводит к появлению частной собственности, а собственность — к необходимости в гражданском правительстве для ее защиты, следующим образом: «Все бросились прямо в оковы, веря, что этим они обеспечат себе свободу; ибо, будучи достаточно умны, чтобы постигнуть преимущества политического устройства, они не были достаточно искушенными, чтобы предвидеть связанные с этим опасности» [9]. Он использовал воображаемое «естественное состояние» главным образом для иллюстрации этой идеи. Да, саму концепцию придумал не Руссо: к тому времени она уже на протяжении столетия использовалась европейскими философами в качестве риторического приема. Широко применяемая теоретиками естественного права, она фактически позволяла каждому мыслителю, интересующемуся происхождением государства (Локку, Гроцию и так далее), поиграть в Бога и предложить свой собственный вариант естественного состояния человека, используя его как отправную точку для умозрительных построений.
Примерно этим же занимался и Гоббс, когда писал в «Левиафане», что первобытное состояние человеческого общества неизбежно представляло бы собой bellum omnium contra omnes, войну всех против всех, остановить которую может только создание абсолютной суверенной власти. Он не утверждал, что люди когда-то действительно пребывали в подобном первобытном состоянии. Некоторые предполагают, что гоббсовское состояние войны на самом деле было аллегорией на его родную Англию середины XVII века, скатывающуюся в гражданскую войну, из-за которой автор-роялист эмигрировал в Париж. Как бы то ни было, ближе всего к утверждению о том, что такое состояние действительно имело место, Гоббс подошел, когда отметил, что единственные люди, не подчиняющиеся королевской власти, — это сами короли, а они постоянно воюют друг с другом.
Несмотря на всё это, многие современные авторы рассматривают «Левиафан» так же, как другие — «Рассуждение» Руссо: как будто Гоббс закладывал основу для эволюционного подхода к изучению истории; и хотя эти отправные точки полностью отличаются друг от друга, результат получается довольно похожим [10].
«Что касается насилия у догосударственных народов, — пишет психолог Стивен Пинкер, — Гоббс и Руссо шли вслепую: ни тот ни другой ничего не знали о жизни до появления цивилизации». Пинкер совершенно прав. Тут же, однако, он убеждает нас в том, что Гоббс, который написал свою книгу в 1651 году (очевидно, вслепую), каким-то образом сумел предугадать и предложить анализ насилия и его причин в истории человечества, который «ни в чем не уступает любому современному» [11]. Если Пинкер действительно прав, то это удивительный — если не сказать убийственный — вердикт, вынесенный тем эмпирическим исследованиям, которые велись на протяжении столетий после выхода книги Гоббса. Но далее мы увидим: Пинкер сильно ошибается [12].
Мы можем рассматривать Пинкера как типичного представителя современного гоббсианства. В своем magnum opus, книге «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше» (2011), и последующих работах, таких как «Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса» (2018), он утверждает, что сейчас мы в целом реже сталкиваемся с насилием и жестокостью, нежели наши предки [13].
Этот вывод может показаться сомнительным любому, кто часто смотрит новости, не говоря уже о тех, кто знаком с историей XX века. Пинкер, однако, уверен, что объективный статистический анализ, свободный от лишних эмоций, продемонстрирует, что мы живем в эпоху невиданного прежде мира и безопасности. Он утверждает, что это закономерный итог жизни в суверенных государствах, каждое из которых обладает монополией на законное использование насилия в пределах собственных границ, в отличие от «анархических племен» древности (как он их называет), в которых жизнь большинства людей и правда была преимущественно «беспросветна, тупа и кратковременна».
Поскольку Пинкера, как и Гоббса, интересует происхождение государства, для него переломным моментом оказывается не развитие земледелия, а появление городов. «Археологи говорят, что люди жили в состоянии анархии до возникновения цивилизации (примерно пять тысяч лет назад), когда оседлые земледельцы впервые объединились в города и государства и создали первые правительства», — пишет Пинкер [14]. А дальше, если говорить откровенно, психолог начинает выдумывать историю на ходу. Может быть, вы ожидаете, что ярый сторонник науки подойдет к вопросу по-научному и проанализирует широкий спектр источников, — но Пинкеру такой подход к изучению доисторического периода кажется неинтересным. Вместо этого он опирается на анекдоты, яркие картинки и сенсационные открытия, попавшие в заголовки газет, вроде обнаруженного в 1991 году «Этци, человека из льда».
«Что было не так с древними людьми,— задается вопросом Пинкер, — если они не могли оставить нам ни одного интересного трупа, не прибегая к убийству?» Логично задать встречный вопрос: разве это не зависит от того, какие трупы кажутся вам интересными? Действительно, чуть более пяти тысяч лет назад кто-то шел через Альпы и был убит стрелой; но нет никаких оснований считать Этци образцовым примером человека в его естественном состоянии, за исключением того обстоятельства, что Этци хорошо вписывается в аргумент Пинкера. Но если придерживаться такого избирательного подхода, то с тем же успехом можно выбрать более раннее захоронение, известное археологам как Ромито 2 (названо в честь пещеры в Калабрии, где оно было обнаружено). Давайте посмотрим, что получится, если мы поступим таким образом.
Ромито 2 — это захоронение мужчины, возраст которого составляет десять тысяч лет, с редким генетическим заболеванием acromesomelic dysplasia: тяжелой формой карликовости. Должно быть, из-за него он резко выделялся в своем сообществе и к тому же не мог участвовать в высокогорной охоте, необходимой для выживания его сородичей. Исследования патологии мужчины демонстрируют, что сообщество охотников-собирателей, несмотря на недостаток пищи и слабое здоровье своих членов, старалось помогать ему в детские и юношеские годы, обеспечивая мужчину мясом наравне со всеми, а после смерти аккуратно захоронило его труп в укромном месте [15].
Случай Ромито 2 не уникален. При тщательном исследовании захоронений охотников-собирателей эпохи палеолита археологи обнаруживают множество останков людей, страдавших серьезными заболеваниями, — что удивительно, о многих из них заботились вплоть до самой смерти (и даже после нее, судя по роскоши некоторых захоронений) [16]. Если бы мы действительно решили сделать общий вывод о том, как изначально выглядели человеческие общества, опираясь на статистические показатели состояния здоровья людей, похороненных в древних могилах, то пришли бы к заключению, противоположному мнению Гоббса (и Пинкера): по своей природе мы заботливый вид, так что жизнь необязательно была «беспросветна, тупа и кратковременна».
Мы не предлагаем действительно сделать такой вывод на основе этих данных. Как мы увидим далее, есть основания считать, что в эпоху палеолита людей хоронили лишь в исключительных случаях. Мы лишь хотим указать, что тот же самый прием можно легко провернуть и в обратную сторону — легко, но, откровенно говоря, бессмысленно [17]. Как только мы обращаемся к конкретным материалам, то обнаруживаем, что социальная жизнь первобытных людей была гораздо сложнее и значительно интереснее, чем может представить себе любой современный теоретик естественного состояния.
Другой прием — избирательное использование антропологических исследований реально существующих в настоящее время обществ для того, чтобы представить их как наших «современных предков», то есть примеров того, какими люди могли быть в естественном состоянии. Авторы, работающие в традиции Руссо, предпочитают африканских охотников-собирателей, таких как хадза, пигмеи или !кунг 7, а те, кто придерживаются идей Гоббса, — народ яномами 8.
7 Необычное написание названия племени «!кунг» не является ошибкой. В языке !кунг существуют так называемые «щелкающие согласные», которые практически не встречаются за пределами Южной Африки. Восклицательный знак указывает на такой щелчок, необходимый для произношения названия племени. Поскольку передать этот щелкающий звук в английском (как и в русском) языке невозможно, в текстах антропологов закрепился вариант «!кунг» как более близкий к самоназванию представителей племени.
8 В антропологических текстах встречаются разные названия яномами — «яномами», «яномамо» и «яномама». В русском языке принято название «яномама», например в: Биокка. Э. Яномама. М.: Мысль, 1972. Словоупотребление напрямую зависит от выбранной политики репрезентации и позиции по отношению к дискуссии вокруг работ Наполеона Шаньона, которой Гребер и Уэнгроу касаются далее. В этом издании выбран перевод с «и» на конце — «яномами», — т. к. подобное словоупотребление, как пишет об этом антрополог Роберт Борофски, устоялось в ходе дискуссии как наиболее нейтральное. Об этом см. в: Borofsky R. Yanomami: the fierce controversy and what we can learn from it. London: University of California Press, Berkley, 2005.
Яномами — это группа коренных племен из местности на границе Венесуэлы и Бразилии, живущих в основном выращиванием бананов и маниока в дождевых лесах Амазонии. Начиная с 1970-х яномами приобрели репутацию архетипичных кровожадных дикарей: «жестоких людей», как назвал их этнограф Наполеон Шаньон, самый известный исследователь яномами. Такое определение, видимо, совсем несправедливо — согласно статистике, они не выделяются особой жестокостью: количество убийств среди яномами ниже среднего по сравнению с другими племенами американских индейцев [18]. Но опять же, оказывается, что наличие драматичных образов и историй важнее статистики. На самом деле, своей известностью и столь красочной репутацией яномами обязаны самому Шаньону. В 1968 году он опубликовал книгу «Яномама: жестокий народ», которая разошлась миллионами копий; он также участвовал в создании нескольких фильмов, таких как «Битва на топорах», предложивших зрителям живописную картину племенных войн 9. На некоторое время это сделало Шаньона самым популярным антропологом в мире, а яномами — широко известным случаем первобытного насилия, особенно важным для появляющейся в те годы социобиологии.
9 Наполеон Шаньон работал среди яномами в компании Тимоти Эша, режиссера этнографического кино. «Битва на топорах» («The Ax Fight») — экспериментальный фильм, созданный Эшем, в котором он пытается работать с формой этнографического фильма, совмещая «полевую» сьемку с серией слайдов и закадровыми комментариями, объясняющими контекст происходящего. О фильме и режиссерской работе Эша см. в: Утехин И. Что такое визуальная антропология: путеводитель по классике этнографического кино. СПб.: Порядок слов, 2018.
Мы должны отдать должное Шаньону (далеко не все это делают). Он никогда не утверждал, что яномами нужно воспринимать как живых ископаемых, оставшихся от каменного века; более того, он часто отмечал, что дело, очевидно, обстоит иначе. Одновременно с этим, в довольно необычной для антрополога манере, он был склонен характеризовать яномами с точки зрения того, чего у них не было (например, письменности, полиции, формальной судебной системы), а не положительных атрибутов их культуры. Это привело к тому же самому результату — созданию образа хрестоматийных первобытных людей [19]. Основной аргумент Шаньона заключался в том, что взрослые мужчины яномами получают культурные и репродуктивные преимущества, убивая других взрослых мужчин; и что если эта взаимосвязь между насилием и биологической приспособленностью репрезентативна для первобытных людей в целом, то она могла иметь эволюционные последствия для всего нашего вида [20].
Это «если» — не просто большое, а огромное. Коллеги-антропологи завалили Шаньона вопросами — не всегда дружелюбными [21]. Его обвинили в непрофессионализме (в основном речь шла об этических стандартах полевого исследования) 10. Одни антропологи поддержали Шаньона, другие — разделили позицию его критиков, и никто не остался в стороне. Некоторые обвинения оказались беспочвенными, но сторонники Шаньона в ходе полемики так разгорячились (говоря словами Клиффорда Гирца, другого известного антрополога), что не только начали превозносить его как олицетворение научно строгой антропологии, но и нещадно критиковать всех, кто ставил под сомнение социальный дарвинизм Шаньона, называя их «марксистами», «лжецами», «культурными антропологами с левого фланга академии», «аятоллами» и «политкорректными сердобольными людьми». По сей день лучший способ заставить антропологов начать обвинять друг друга в крайностях — это упомянуть имя Наполеона Шаньона [22].
10 Полевая работа и этнографические тексты Шаньона стали предметом ожесточенной дискуссии в антропологии после выхода книги «Тьма в Эльдорадо» журналиста Патрика Тирни, в которой тот обвинил антрополога не только в нарушении исследовательской этики, но и в том, что Шаньон состоял в сговоре с силами, намеревавшимися захватить земли яномами, специально провоцировал войны и конфликты между племенами, а также его действия привели к вспышке кори, унесшей тысячи жизней. Американская антропологическая ассоциация провела расследование, в результате которого осудила действия Шаньона, нанесшие вред племени, но оправдала его по части безумных обвинений журналиста — Шаньон и другие исследователи не вызывали эпидемии, обвинения Тирни были ложными. Историю этой ожесточенной дискуссии вокруг яномами в антропологии, к которой отсылают авторы, описал Роберт Борофски: Borofsky R. (ibid.); и сам Наполеон Шаньон, сравнивший жестокость племени антропологов с жестокостью яномами в: Chagnon N. Noble Savages: My Life Among Two Dangerous Tribes. The Yanomamö and the Anthropologists. New York: Simon and Schuster, 2013. Cм. также текст Клиффорда Гирца, обозревающий эту дискуссию в: Geertz C. Life Among the Anthros and Other Essays. Princeton University Press, 2010. P. 123–234.
Здесь важно, что, по мнению ряда авторов, яномами как «безгосударственный» народ должны служить примером того, что Пинкер называет «гоббсианской ловушкой», когда люди из племенных обществ оказываются в замкнутом кругу набегов и войн, живут в опасных, нестабильных условиях, постоянно рискуют быть жестоко убитыми острым оружием или отмщающей дубинкой. Как утверждает Пинкер, это — мрачная судьба, предначертаннная нам эволюцией. Мы спаслись от нее только из-за готовности перейти под защиту национальных государств, судов и полиции, а также благодаря тому, что прониклись ценностями аргументированной дискуссии и самоконтроля, которые Пинкер считает уникальным наследием европейского «цивилизационного процесса», подарившего миру эпоху Просвещения (иначе говоря, не будь Вольтера и полиции, академические споры о результатах исследований Шаньона перешли бы в поножовщину).
У этого тезиса множество слабых мест. Начнем с самого очевидного из них. Идея о том, что наши нынешние идеалы свободы, равенства и демократии есть некий продукт «западной традиции», стала бы большим сюрпризом для людей вроде Вольтера. Как мы вскоре увидим, мыслители Просвещения, которые проповедовали эти идеалы, почти всегда вкладывали их в уста иностранцев и даже «дикарей», таких как яномами. В этом нет ничего удивительного, ведь в той самой «западной традиции», начиная с Платона и Марка Аврелия и заканчивая Эразмом Роттердамским, почти все авторы демонстрировали явное неприятие подобных идей. Возможно, слово «демократия» и правда придумали в Европе (и то с натяжкой, ведь Греция в те времена имела гораздо более тесные культурные связи с Северной Африкой и Ближним Востоком, чем, скажем, с Англией), но до начала XIX века почти невозможно найти европейского автора, который обнаружил бы в идее демократии что-либо кроме ужасной формы правления [23].
По очевидным причинам позиция Гоббса импонирует тем, кто находится на политическом спектре справа, а позиция Руссо — левым. Пинкер позиционирует себя как рационального центриста и осуждает представителей обеих сторон, придерживающихся крайних вглядов. Но зачем в таком случае настаивать на том, что все значимые достижения человеческого прогресса до XIX века можно справедливо приписать тем, кто раньше называл себя «белой расой» (а сейчас, как правило, употребляет в отношении себя более приемлемый термин — «западная цивилизация»)? Для этого попросту нет оснований. С таким же успехом (и это было бы проще) первые признаки рационализма, законности, совещательной демократии и тому подобного можно обнаружить по всему миру и затем продемонстрировать, как они сформировали современную глобальную систему [24].
Если автор, напротив, настаивает, что всё хорошее придумали в Европе, то его работа может быть прочитана как написанная задним числом апология геноцида. Ведь тогда складывается впечатление, что (для Пинкера) порабощение, изнасилования, массовые убийства и уничтожение целых цивилизаций, принесенные европейскими державами в остальные части света, — обычное человеческое поведение. По такой логике, что действительно важно, так это то, что всё вышеперечисленное позволило приобщить выживших к идеям свободы, равенства перед законом и прав человека — «чисто» европейским, по мнению Пинкера.
Каким бы неприятным ни было прошлое, убеждает нас Пинкер, мы имеем все основания для того, чтобы с оптимизмом и даже радостью смотреть на тот путь, по которому идет человечество. Да, он признаёт, что ряд аспектов вроде бедности, неравенства доходов, а также, в самом деле, мира и безопасности, еще предстоит существенно доработать. Но в общем и целом — особенно учитывая численность нынешнего населения планеты — мы наблюдаем невероятный прогресс во всевозможных сферах (правда, не для чернокожих или жителей Сирии). Жизнь в современном мире, согласно Пинкеру, почти во всех отношениях лучше, чем в прошлом, он приводит тщательно проработанные статистические данные, призванные продемонстрировать, что каждый день мы наблюдаем улучшения во всех аспектах жизни: здравоохранении, безопасности, образовании, комфорте и почти по любым другим возможным параметрам — всё становится только лучше.
Тяжело спорить с числами, но любой статистик скажет вам, что статистика хороша настолько, насколько хороши те предпосылки, из которых она исходит. Действительно ли «западная цивилизация» улучшила жизнь человечества? В конечном счете всё сводится к вопросу о том, как измерить людское счастье, а сделать это очень трудно. Единственный надежный способ определить, действительно ли жизнь стала более приятной, полноценной, счастливой или улучшилась каким-либо иным образом, — это дать людям возможность сравнить два варианта и выбрать наиболее привлекательный. Например, если Пинкер прав, то любой человек в здравом уме, выбирая между (а) насилием, хаосом, крайней нищетой «племенной» стадии развития человечества и (б) относительной безопасностью и процветанием западной цивилизации, без промедления выберет второй вариант [25].
Но у нас есть эмпирические данные, и они свидетельствуют о том, что Пинкер сильно ошибается.
За последние несколько столетий в целом ряде случаев люди стояли перед таким выбором и почти никогда не шли по тому пути, который предположил бы Пинкер. Некоторые из них оставили нам ясное, аргументированное объяснение своего поступка. Рассмотрим случай Хелены Валеро, бразильской женщины испанского происхождения. Пинкер упоминает ее как «белую девочку», похищенную яномами в 1932 году, когда она путешествовала с родителями по Рио-Димити.
В течение двадцати лет Валеро жила в нескольких семьях яномами, дважды была замужем и в итоге стала довольно важной фигурой в своем сообществе. Пинкер кратко цитирует рассказ Валеро о своей жизни, в котором она описывает жестокости набегов яномами [26]. Но он не упоминает, что в 1956 году она покинула яномами с целью отыскать родную семью и снова пожить в «западной цивилизации», а в итоге лишь периодически голодала и постоянно испытывала уныние и одиночество. Спустя некоторое время Валеро, имея достаточно информации для принятия обдуманного решения, предпочла вернуться к яномами [27].
В этом нет ничего необычного. История колонизации Северной и Южной Америки знает множество примеров того, как поселенцы, захваченные в плен или усыновленные местными племенами, впоследствии оставались жить в них, даже имея возможность уйти [28]. Это касается и похищенных детей. Большинство из них, снова встретившись со своими биологическими родителями, возвращались в усыновивший или удочеривший их род, ища там защиту [29]. Напротив, американские индейцы, включенные в европейское общество путем усыновления или брака, в том числе те, кто — в отличие от несчастной Хелены Валеро — получили хорошее образование и обладали значительным состоянием, почти всегда поступали противоположным образом: или сбегали при первой возможности, или — приложив все усилия к тому, чтобы адаптироваться, и потерпев неудачу — возвращались в родное сообщество, чтобы остаться там навсегда.
Одно из самых красноречивых замечаний об этом феномене можно обнаружить в письме Бенджамина Франклина к своему другу:
Если ребенок индейцев, который воспитывается среди нас, обучается нашему языку и приучается к нашим обычаям, отправится навестить своих родных, то его уже не убедить вернуться назад. Так происходит не только с индейцами. Если белые люди обоих полов в молодые годы оказываются в плену у индейцев и некоторое время живут среди них, а потом их выкупают друзья, которые обращаются с ними со всей возможной чуткостью, дабы убедить их остаться среди англичан, в скором времени они начинают испытывать отвращение к нашему образу жизни и всей той заботе и трудам, необходимым для его поддержания и при первой возможности сбегают обратно в леса, откуда их уже невозможно вернуть. Я слышал об одном человеке, который должен был вернуться домой, где он получил бы хорошее наследство; но обнаружив, что забота о наследстве сопряжена с определенными хлопотами, он отказался от него в пользу своего младшего брата и, захватив с собой только ружье и шерстяную накидку, направился обратно в дикую природу [30].
Многие из участников этого «соревнования» цивилизаций изложили причины, побудившие их остаться среди своих бывших похитителей. Некоторые подчеркивали достоинства свободы, обнаруженной ими в коренных североамериканских обществах, включая сексуальную свободу, но также и свободу от ожидавшегося от них постоянного тяжелого труда в погоне за землей и богатством [31]. Другие отмечали то, как «индейцы» противятся нищете, голоду и другим лишениям. Причина была не столько в том, что они боялись бедности, сколько в том, что жизнь в обществе, где никто не испытывает ужасных страданий, казалась им гораздо более приятной (подобно тому, как Оскар Уайльд заявлял, что выступает за социализм потому, что ему не нравится видеть и слушать бедняков 11). Любой, кто вырос в городе, полном бездомных и нищих,— а это, к сожалению, большинство из нас — всегда испытывает некоторое потрясение, когда узнаёт, что всё может быть иначе.
11 Авторы отсылают к тексту Оскара Уайльда «Душа человека при социализме» (1891), в котором нашли отражение либертарные социалистические взгляды писателя.
Другие отмечали легкость, с которой чужаки, взятые в «индейские» семьи, могли получить признание и достигнуть высоких позиций в усыновившем или удочерившем их сообществе, присоединиться к семье вождя или даже стать вождем [32]. Западные пропагандисты бесконечно твердят о равенстве возможностей; судя по всему, у представителей таких сообществ возможности действительно равны. Однако наиболее распространенной причиной была сила социальных связей, которую люди испытали в коренных американских сообществах: взаимная забота, любовь и прежде всего счастье, которые, как они обнаружили, невозможно было воспроизвести, вновь оказавшись в европейских условиях. «Безопасность» принимает различные формы. Можно чувствовать себя в безопасности, зная, что, согласно статистике, в вас с меньшей вероятностью выстрелят из лука. А можно — зная, что в мире есть люди, которые позаботятся о вас, если это всё же случится.
Почему традиционный нарратив истории человечества не только ошибочный, но и неоправданно скучный
Создается впечатление, что жизнь в первобытных условиях была, грубо говоря, гораздо интереснее, чем жизнь в «западном» городе или мегаполисе, особенно если вам нужно на протяжении многих часов заниматься монотонными, повторяющимися и бессмысленными вещами. Тот факт, что нам тяжело представить себе, какой бесконечно увлекательной и интересной могла бы быть такая альтернативная жизнь, возможно, характеризует скорее ограниченность нашего воображения, чем эту жизнь.
Обеднение картины исторического развития, сведение людей до стереотипных образов, упрощение проблем (мы по своей природе эгоистичны и жестоки или, наоборот, добры и склонны к сотрудничеству?) — одна из самых вредных черт стандартного изложения мировой истории. Такой нарратив подрывает или даже разрушает наше представление о человеческих возможностях. В конечном счете «благородные» дикари оказываются такими же скучными, как и обычные дикари; что еще более важно, ни те ни другие на самом деле не существуют. Хелена Валеро была в этом отношении непреклонна. Она настаивала, что яномами не были ни демонами, ни ангелами. Они были такими же людьми, как и мы.
Конечно, нельзя забывать: социальная теория неизбежно предполагает определенное упрощение. Например, почти про любое действие человека можно сказать, что в нем есть политический, экономический, психо-сексуальный аспект и так далее. По большей части социальная теория — игра, в которой мы делаем вид, просто ради дискуссии, что существует лишь какой-то один из этих аспектов. По сути, мы сводим всё к карикатуре, и это позволяет нам выявить закономерности, которые в противном случае остались бы невидимыми. В результате весь настоящий прогресс в социальных науках стал возможен благодаря тем, кому хватало смелости говорить вещи, в конечном приближении слегка нелепые: работы Карла Маркса, Зигмунда Фрейда или Клода Леви-Стросса — это лишь несколько характерных примеров. Нужно упростить мир, чтобы открыть в нем что-то новое. Проблема возникает, когда открытие давно совершено, а люди продолжают упрощать.
Высказывания Гоббса и Руссо были ошеломляющими и глубокими для их современников, открывали новые просторы воображению. Теперь же эти идеи звучат банально. В них нет ничего, что оправдывало бы продолжающееся упрощение истории человечества. Современные социологи сводят людей прошлого до двухмерных карикатур не столько для того, чтобы продемонстрировать что-то незаурядное, а потому, что, по их представлениям, именно такой формы «научности» от них ожидают. В результате это лишь обедняет историю и, как следствие, — наше представление о возможном. Завершим введение еще одним примером, прежде чем перейти к сути дела.
Со времен Адама Смита так называемая примитивная торговля рассматривается в качестве аргумента в пользу укорененности современных форм конкурентного рыночного обмена в самой природе человека. Известно, что десятки тысяч лет назад некоторые предметы — драгоценные камни, ракушки или другие украшения — перемещались на огромные расстояния. Зачастую именно предметы такого рода, как позднее отмечали антропологи, использовались в качестве «примитивных валют» по всему миру. Несомненно, это должно доказывать, что капитализм в том или ином виде существовал всегда, не так ли?
В таких доказательствах заложен порочный круг. Если драгоценные предметы перемещались на большие расстояния, это свидетельствует о «торговле», а если существовала торговля, то она так или иначе должна была принять какую-то коммерческую форму; следовательно, тот факт, что, скажем, три тысячи лет назад балтийский янтарь попал в Средиземноморье или ракушки из Мексиканского залива очутились в Огайо, доказывает, что уже тогда существовали зачатки рыночной экономики. Рынки встречаются повсеместно. Следовательно, рынок наверняка существовал. Следовательно, рынки встречаются повсеместно. И так далее.
Авторы, рассуждающие подобным образом, лишь подтверждают свою неспособность вообразить другой процесс перемещения драгоценных предметов. Но сама по себе нехватка воображения — не аргумент. Складывается ощущение, что эти авторы боятся предложить что-то оригинальное, а когда всё же решаются, считают своим долгом использовать расплывчатые наукообразные формулировки («трансрегиональные сферы взаимодействия», «многоуровневые сети обмена»), чтобы не строить предположений о том, что же именно за ними стоит. При этом антропология обеспечила нас бесчисленными примерами того, как ценные предметы перемещались на большие расстояния в отсутствие чего-либо даже отдаленно напоминающего рыночную экономику.
В книге Бронислава Малиновского «Аргонавты западной части Тихого океана» (1922), основополагающей этнографической работе XX века, описывается «кольцо кула» на островах области Массим в Папуа — Новой Гвинее. Мужчины на каноэ отправлялись в рискованные экспедиции по опасным морям, чтобы обменяться наследственными браслетами и ожерельями (самые значимые украшения обладали своим именем и историей прошлых владельцев) — только затем, чтобы вскоре передать их следующему владельцу, снова отправившись в экспедицию на другой остров. Драгоценные реликвии бесконечно кружат по цепи островов, пересекая сотни миль по океану: браслеты — в одном направлении, ожерелья — в противоположном. Внешнему наблюдателю это кажется бессмысленным. Для мужчин 12 Массима это было самым главным приключением — нет ничего важнее, чем таким образом донести свое имя до мест, которые ты сам никогда не видел.
12 При этом феминистские критики указывали на ограниченность взгляда Малиновского. Классик буквально «не увидел» некоторых особенностей экономической жизни тробрианцев. Обмен кула — «мужское» занятие, но это не означает, что тробрианские женщины исключены из циклов обмена и сферы производства. Спустя шестьдесят лет после полевой работы Малиновского антрополог Аннет Вайнер показала, что тробрианские женщины играют важную роль в политике и воспроизводстве социальной структуры посредством производства вещей для обмена вне кольца кула. Например, тканей из банановых листьев, используемых в важных политических ритуалах — погребальных церемониях, когда необходимо погасить долги умершего человека. С точки зрения Вайнер, во время ее полевой работы на Тробрианах мужчины и женщины контролировали разные ресурсы и сферы производства, а следовательно, разные виды власти над другими. См: Weiner, A. The Trobrianders of Papua New Guinea. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1988.
Можно ли назвать это «торговлей»? Вероятно, — но в таком случае нам придется изменить до неузнаваемости обычное определение этого слова. Существует множество этнографических работ о том, как подобный обмен на большом расстоянии реализуется в обществах, где нет рынков. Иногда действительно происходит бартер: различные группы развивают местные промыслы — одна группа известна изделиями из перьев, другая поставляет соль, в третьей группе все женщины занимаются гончарным делом — чтобы получить то, что они не могут сделать сами; иногда какая-то группа специализируется на самой перевозке людей и вещей. Но часто такие региональные сети появляются по большей части ради дружественных взаимоотношений или для того, чтобы создать повод время от времени ездить друг к другу в гости [33]. Существуют и многочисленные другие варианты, тоже не имеющие ничего общего с «торговлей».
Основываясь на этнографической литературе о коренных обществах Северной Америки, перечислим для читателя несколько вариантов того, что же на самом деле подразумевается под «протяженными сферами взаимодействия» из прошлого:
1. Поиск предметов из сновидений. В XVI и XVII веке у народов, говоривших на ирокезских языках, считалось очень важным в буквальном смысле слова «осуществлять свои сны». Многие европейские наблюдатели изумлялись готовности индейцев отправиться в многодневное путешествие за каким-нибудь предметом — трофеем, кристаллом — или даже животным (например, собакой), который они перед этим заполучили во сне. Если человеку приснилась вещь, принадлежащая соседу или родственнику (котел, украшение, маска и так далее), он мог спокойно попросить ее; как следствие, такие предметы постепенно перемещались из города в город. У народов Великих равнин путешествия на большие расстояния в поисках редких или экзотических предметов могли быть частью поиска предметов из видений [34].
2. Странствующие целители и артисты. В 1528 году потерпевший кораблекрушение испанец по имени Альвар Нуньес Кабеса де Вака по пути из Флориды в Мексику оказался на территории нынешнего Техаса. Там он обнаружил, что от одной деревни до другой можно легко добраться (даже если эти деревни воюют друг с другом), предлагая услуги волшебника и целителя. В значительной части Северной Америки целители были одновременно и артистами и часто обзаводились немалой свитой; те, кто считал, что представление спасло их жизнь, обычно отдавали всё свое имущество труппе, члены которой делили его между собой [35]. Таким образом драгоценности могли легко перемещаться на очень большие расстояния.
3. Азартные игры среди женщин. Во многих коренных обществах Северной Америки женщины были заядлыми игроками. Женщины из расположенных рядом деревень часто собирались сыграть в кости или в игру с миской и сливовой косточкой. Обычно на кон ставили бусы из ракушек или другие украшения. Археолог Уоррен Дебур, хорошо знакомый с этнографической литературой, считает, что многие ракушки и другие экзотические предметы, обнаруженные посреди континента, попали туда благодаря тому, что их на протяжении очень длительных периодов времени таким образом разыгрывали между деревнями [36].
Мы можем привести множество других примеров, но полагаем, что читатель уже понял, к чему мы клоним. Когда мы просто гадаем, чем занимались люди, жившие в другое время и в другом месте, наши предположения почти всегда оказываются гораздо менее интересными и необычными — одним словом, гораздо менее человечными, — чем то, что происходило на самом деле.
Что ждет нас дальше
В этой книге мы собираемся не только предложить новую версию истории человечества, но и пригласить читателей окунуться в новую науку об истории, такую, которая возвращает нашим предкам их человечность в полной мере. Вместо того чтобы сразу задаться вопросом о неравенстве, мы начнем с другого — как «неравенство» вообще стало проблемой, а затем будем постепенно выстраивать альтернативный нарратив, лучше соответствующий накопленным к настоящему моменту знаниям. Если люди не жили на протяжении девяноста пяти процентов своей истории в небольших группах охотников-собирателей, то чем они занимались всё это время? Если появление сельского хозяйства и городов не привело к возникновению иерархий и доминирования, то что они изменили? Что на самом деле происходило в те периоды, когда, как мы привыкли считать, формировались «государства»? Ответы на эти вопросы зачастую неожиданны; они указывают на то, что ход истории человечества в меньшей степени, чем мы склонны думать, высечен в камне и в большей — полон различных возможностей.
В определенном смысле эта книга — попытка заложить фундамент для новой мировой истории, как это удалось сделать Гордону Чайлду в 1930-е годы, когда он придумал такие словосочетания, как «неолитическая революция» и «урбанистическая революция». Поэтому она обречена на некоторую шероховатость и неполноту. В то же время эта книга посвящена и другому, а именно поиску правильных вопросов. Если «откуда произошло неравенство?» — не самый главный и интересный вопрос человеческой истории, какой вопрос должен занять его место? Истории бывших пленников, которые предпочли вернуться в леса, свидетельствуют о том, что Руссо не во всём ошибался. Мы действительно что-то утратили. Но его понимание того, что это было, довольно своеобразное (и в конечном счете ошибочное). Как описать это нечто? И в какой степени мы действительно этого лишились? Что всё это подскажет нам о возможности перемен в современном обществе?
На протяжении почти десяти лет мы — двое авторов этой книги — вели друг с другом продолжительный диалог, посвященный именно этим вопросам. Оттого структура книги получилась довольно необычной. В начале мы прослеживаем исторические корни вопроса («как возникло социальное неравенство»?) вплоть до контактов между европейскими колонистами и интеллектуалами из числа коренных жителей Америки XVII века. Влияние этих контактов на то, что мы сейчас называем Просвещением, как и вообще на наши базовые представления об истории человечества, оказалось и менее очевидным, и более существенным, чем мы признаём. Выяснилось, что обращение к этим контактам имеет важнейшие последствия для современных попыток осмыслить прошлое человечества, включая происхождение сельского хозяйства, собственности, городов, демократии, рабства и самой цивилизации. В итоге мы решили написать книгу, которая отразила бы, пусть лишь отчасти, эту эволюцию наших собственных размышлений. Поворотным для нашей дискуссии стало решение уйти от европейских мыслителей, таких как Руссо, и вместо этого взглянуть на интересующие нас вопросы глазами индигенных мыслителей, которые в конечном счете вдохновили мыслителей европейских.
С этого и начнем.
Глава II.
Порочная свобода
Индигенная критика и миф о прогрессе
Жан-Жак Руссо оставил нам историю о происхождении неравенства, которую и по сей день рассказывают и пересказывают в различных вариациях. Это история об изначальной невинности человечества и о том, как мы невольно отказались от изначальной простоты в погоне за технологическими открытиями. Этот путь привел людей одновременно к нашей «сложности» и к нашему порабощению. Как возникла эта противоречивая история цивилизации?
Исследователи интеллектуальной истории до сих пор полностью не отказались от теории, согласно которой историю творят Великие Мужи. Будто все важные идеи в любую эпоху восходят к той или иной экстраординарной личности — Платону, Конфуцию, Адаму Смиту или Карлу Марксу. Однако их сочинения — это лишь реплики, пусть и блестящие, в дискуссиях, развернувшихся в те времена в тавернах и парках или на званых ужинах (или в университетских аудиториях), которые без участия великих мужей не были бы записаны. Это почти то же самое, что считать, будто Уильям Шекспир единолично изобрел английский язык. На самом деле многие наиболее выдающиеся фигуры речи широко использовались его современниками и соотечественниками в повседневном общении. Авторы этих выражений давно канули в Лету, как и авторы шуток «тук-тук, кто там?» 13. Конечно, если бы не Шекспир, то и сами выражения наверняка давным-давно вышли бы из употребления и забылись.
13 Knock-knock! Who’s there? (букв. «Тук-тук! — Кто здесь?»). По одной версии, впервые подобная шутка появялется в постановке «Макбета» Уильяма Шекспира в 1606 году.
Всё это относится и к Руссо. Из работ по интеллектуальной истории складывается впечатление, будто трактатом 1754 года «Рассуждение о происхождении и основании неравенства между людьми» Руссо единолично запустил дискуссию о социальном неравенстве. На самом же деле «Рассуждение» было написано Руссо для конкурса сочинений по этой теме.
Раздел, в котором мы продемонстрируем, как критика европоцентризма может дать обратный эффект и превратить индигенных мыслителей в «кукол, сделанных из носков»
В марте 1754 года научное общество под названием Дижонская академия наук, искусств и литературы объявило национальный конкурс сочинений на следующую тему: «Каково происхождение неравенства среди людей и допускается ли оно естественным законом?» В этой главе мы хотели бы задаться следующим вопросом: почему группа ученых из Франции эпохи Старого порядка 14, которая организовала конкурс сочинений, посчитала этот вопрос уместным? Ведь такая формулировка вопроса предполагает, что социальное неравенство действительно имеет происхождение. То есть люди когда-то были равны, а затем произошло событие, изменившее ситуацию.
14 Политический режим, существовавший во Франции с конца XVI века до Великой французской революции.
Удивительно, что люди, которые жили во время абсолютистской монархии Людовика XV, могли размышлять о неравенстве подобным образом. Ведь, в конце концов, ни у кого из французов не было личного опыта жизни в обществе, где все равны. В культуре того времени почти каждый аспект взаимодействия между людьми — принятие пищи, распитие алкоголя, работа или общение — был связан со сложными иерархиями и ритуалами почтения. Авторы, приславшие свои тексты на конкурс сочинений, были мужчинами, которых всю жизнь окружали слуги, удовлетворявшие все их потребности. Они опирались на покровительство герцогов и архиепископов. Заходя в помещение, они всегда знали о том, какое положение в иерархии занимает каждый из присутствующих. Руссо был одним из таких людей. Амбициозный молодой философ был занят сложным проектом — пытался улучшить свое положение при дворе через постель. Вероятно, ближе всего к социальному равенству он мог оказаться на званом ужине, когда раздавали равные куски торта. Однако Руссо и его современники не считали такое положение дел естественным и предполагали, что так было не всегда.
Если мы хотим понять, почему они так думали, то нам нужно принять во внимание не только события в самой Франции, но и ее место в мире в то время.
Увлеченность вопросом социального неравенства в 1700-е являлась относительно новым явлением и была связана с тем потрясением и замешательством, которое испытали европейцы, когда Европа внезапно интегрировалась в мировую экономику, в которой на протяжении долгого времени играла незначительную роль.
В Средние века большинство из тех, кто хоть что-то знал о Северной Европе, считали ее непривлекательным захолустьем, населенным религиозными фанатиками, которые за исключением периодических нападений на соседей («крестовые походы») в целом не играли никакой роли в мировой политике и торговле [1]. В это время европейские интеллектуалы только открывали заново Аристотеля и античный мир и плохо представляли себе, о чем размышляют и спорят люди в других уголках мира. Всё изменилось в конце XV века, когда португальские эскадры впервые обогнули Африку и оказались в Индийском океане,— и особенно после того, как испанцы завоевали обе Америки. Внезапно значительную часть земного шара стали контролировать несколько могущественных европейских королевств, а европейские интеллектуалы столкнулись не только с цивилизациями Китая и Индии, но и с множеством прежде незнакомых социальных, научных и политических идей. Результат этого наплыва новых идей стал известен как «Просвещение».
Конечно, историки идей обычно рассказывают об этом несколько иначе. Они не только приучают нас рассматривать интеллектуальную историю преимущественно как результат деятельности отдельных личностей — авторов великих книг и идей. Они также утверждают, что эти «великие мыслители» писали и размышляли, опираясь исключительно на работы друг друга. Как следствие, даже когда мыслители Просвещения прямо указывают, что их идеи позаимствованы из зарубежных источников (немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц, к примеру, призывал соотечественников перенять китайскую модель государственного управления), современные историки зачастую настаивают, что такие заявления не стоит рассматривать всерьез; на самом деле, как они утверждают, эти мыслители не перенимали идеи китайцев, персов или коренных жителей Америки, а лишь приписали свои собственные идеи экзотическим Другим [2].
Такие предположения поражают высокомерием — будто «западная мысль» (как ее стали называть впоследствии) была столь могущественным и монолитным корпусом идей, что никто не мог оказать на нее существенного влияния. Очевидно, что это не так. Рассмотрим случай Лейбница: в течение XVIII и XIX веков правительства европейских держав постепенно переняли идею, что в подчинении государства находится население страны, обладающее единым языком и культурой и управляет этим государством бюрократическая машина, состоящая из чиновников, которые получили гуманитарное образование и сдали экзамены, проходящие на конкурентной основе. Это удивительно, ведь ничего даже отдаленно похожего не существовало в Европе на протяжении всей ее истории. Однако почти точно такая же система к тому моменту уже несколько столетий действовала в Китае.
Неужели кто-то будет всерьез утверждать, будто продвижение Лейбницем, а также его сторонниками и последователями китайской модели государственности никак не повлияло на то, что европейцы действительно переняли модель государственного управления, очень напоминающую китайскую? В случае Лейбница необычна лишь честность, с которой он указал интеллектуальные источники своих идей. В те времена церковь в большинстве европейских стран всё еще обладала значительной властью: любой, кто утверждал, что нехристианские идеи так или иначе лучше христианских, мог быть обвинен в атеизме, а это потенциально каралось смертной казнью [3].
То же самое с проблемой неравенства. Если вместо вопроса о том, «каково происхождение социального неравенства», мы зададимся вопросом о том, «каково происхождение вопроса о происхождении социального неравенства» (иначе говоря, почему в 1754 году Дижонская академия сочла этот вопрос уместным), то сразу же столкнемся с длинной историей европейцев, спорящих друг с другом о природе далеких чужеземных обществ — в особенности, в данном случае, о жителях Восточного Вудленда 15 в Северной Америке. Более того, участники этих дискуссий часто ссылались на споры между европейцами и коренными жителями Америки, посвященные сущности свободы, равенства, да и рациональности или религии откровения — собственно, большинству тем, впоследствии ставших центральными для политической мысли эпохи Просвещения.
15 Woodland (англ.) — название лесистого региона на северо-востоке Северной Америки, а также исторического периода в доколумбовой истории обществ этого региона.
Многие влиятельные мыслители эпохи Просвещения утверждали, что напрямую заимствовали некоторые идеи у коренных американцев. Современные историки предсказуемо отрицают эти заимствования. Считается, что коренные народы Америки существовали в совершенно другом мире или даже иной реальности; так что всё сказанное о них европейцами было лишь игрой теней, фантазиями о «благородном дикаре», взятыми из самой европейской традиции [4].
Конечно, историки, отстаивающие такую точку зрения, обычно преподносят ее как критику западного высокомерия («как вы можете утверждать, что устроившие геноцид империалисты в действительности прислушивались к представителям тех народов, которые они в тот же момент истребляли?»). Но саму эту критику также можно рассматривать в качестве специфической формы западного высокомерия. Европейские купцы, миссионеры и поселенцы, без всякого сомнения, вели дискуссии с людьми, которых они встречали в так называемом Новом Свете, и долгое время жили среди них — даже если одновременно с этим принимали участие в их истреблении. Мы также знаем, что многие европейцы, принявшие принципы свободы и равенства (принципы, которые практически отсутствовали в их странах еще за несколько поколений до этого), утверждали, что рассказы об этих встречах оказали глубокое влияние на их мышление. Отрицать любую возможность того, что они были правы, — значит в конечном счете утверждать, что коренные народы не могли оказывать реального влияния на историю. По сути, это способ инфантилизации незападных людей: практика, осуждаемая теми же самыми авторами.
В последние годы увеличивается число американских ученых, в большинстве своем — коренного происхождения, которые оспаривают эти предположения [5]. Здесь мы идем по их стопам. По сути, мы собираемся пересказать историю заново, исходя из того, что все участники диалога — и европейские колонисты, и их собеседники из числа коренного населения — были взрослыми людьми и что, по крайней мере иногда, они действительно слушали друг друга. Если мы поступим таким образом, то даже знакомые сюжеты предстанут перед нами в совершенно ином свете. На самом деле мы увидим, что не только коренные американцы, столкнувшись со странными иностранцами, постепенно выработали свою собственную, удивительно последовательную критику европейских институтов, но и то, что эта критика стала восприниматься очень серьезно и в самой Европе.
Серьезность этого восприятия трудно переоценить. Критика со стороны коренного населения стала для европейской аудитории настоящим потрясением. Она продемонстрировала возможности человеческого освобождения, которые, приоткрывшись однажды, едва ли могли быть проигнорированы впредь. Идеи, которые лежали в основе этой критики, воспринимались как столь серьезная угроза самой ткани европейского общества, что для их опровержения был создан целый теоретический корпус. Как мы вскоре увидим, история, изложенная в прошлой главе, — наш стандартный исторический метанарратив о противоречивом прогрессе человеческой цивилизации, в котором свободы теряются по мере того, как общество становится более сложным и многочисленным,— во многом была придумана для того, чтобы нейтрализовать угрозу, исходившую от индигенной критики.
Прежде всего нужно подчеркнуть, что в Средние века вопрос о «происхождении социального неравенства» не имел никакого смысла. Тогда считалось, что ранги и иерархии существовали испокон веков. Даже в Эдеме, как заметил философ XIII века Фома Аквинский, Адам явно превосходил Еву. Таких понятий, как «социальное равенство» и «неравенство», попросту не существовало. Недавно двое итальянских ученых провели исследование средневековой литературы и обнаружили, что латинские термины aequalitas или inaequalitas или их английские, французские, испанские, немецкие и итальянские аналоги вообще не использовались для описания общественных отношений до времен Колумба. Поэтому нельзя даже сказать, что средневековые мыслители отвергали понятие социального равенства: мысль о том, что оно может существовать, похоже, не приходила им в голову [6].
На самом деле термины «равенство» и «неравенство» начали входить в обиход только в начале XVII века под влиянием теории естественного права. А теория естественного права, в свою очередь, возникла преимущественно в ходе дебатов о моральных и правовых последствиях европейских открытий Нового Света.
Важно помнить, что испанские искатели приключений, такие как Кортес и Писарро, в основном совершали завоевания без разрешения вышестоящих властей; впоследствии в Европе шли напряженные дискуссии о том, можно ли оправдать такую неприкрытую агрессию против людей, которые, в конце концов, не представляли никакой угрозы для европейцев [7]. Основная проблема заключалась в следующем. Считалось, что у нехристианского населения Старого Света была возможность приобщиться к учению Христа, которое они, по-видимому, отвергли. При этом было совершенно очевидно, что жители Нового Света просто никогда и не сталкивались с христианскими идеями. Поэтому их нельзя было отнести к неверным.
Конкистадоры обычно улаживали этот вопрос, зачитывая на латыни декларацию, призывающую всех индейцев обратиться в христианство, прежде чем нападать на них. Эта уловка не произвела особого впечатления на правоведов из университетов вроде Саламанкского в Испании. Одновременно с этим попытки списать ситуацию на то, что жители Америки настолько чужды европейцам, что полностью выходят за рамки человеческого, и с ними можно обращаться буквально как с животными, также не нашли отклика. Даже у каннибалов, отмечали юристы, были правительства, общества и законы, и они могли строить аргументы в защиту справедливости своих (каннибальских) общественных порядков; поэтому они, несомненно, были людьми, наделенными Богом силой разума.
Тогда возник юридический и философский вопрос: какими правами обладают человеческие существа просто в силу того, что они люди,— то есть какие у них есть «естественные» права, даже если они существуют в естественном состоянии, не подвержены влиянию философии, религии и систематизированного законодательства? Нет необходимости останавливаться на точных формулах, к которым пришли теоретики естественного права (достаточно сказать, что они допускали наличие у американцев естественных прав, но в итоге всё равно оправдывали их завоевание при условии, что последующее обращение с ними не было слишком жестоким или деспотичным). Важно другое — они приоткрыли концептуальную дверь. Теперь такие авторы, как Томас Гоббс, Гуго Гроций и Джон Локк, могли пропустить библейские повествования, от которых все обычно отталкивались, и начать с вопроса: «Какими могли быть люди в природном состоянии, когда всё, что у них было, — это их человечность?»
Все перечисленные авторы «наделили» естественным состоянием самые простые, по их мнению, из известных им обществ Западного полушария. Таким образом они пришли к выводу, что первоначальное состояние человечества было состоянием свободы и равенства. Другой вопрос — хорошо это или плохо (Гоббс, например, определенно считал, что плохо). Здесь важно остановиться и разобраться, почему они пришли к такому выводу, ведь его нельзя считать очевидным или неизбежным.
Прежде всего само решение теоретиков естественного права XVII века рассматривать в качестве образцовых представителей первобытных времен простые на первый взгляд общества — например, алгонкинов Восточного Вудленда в Северной Америке или карибов и амазонские племена, а не городские цивилизации вроде ацтеков или инков, — нам может показаться очевидным, но для того времени оно таковым не являлось.
Более ранние авторы, столкнувшись с популяцией лесных жителей, не имевших короля и использовавших только каменные орудия труда, вряд ли сочли бы их сколь-нибудь первобытными. Ученые XVI века, такие как испанский миссионер Хосе де Акоста, скорее всего, пришли бы к выводу, что перед ними — остатки какой-то древней цивилизации или беженцы, которые за время своих скитаний забыли искусство металлургии и государственного управления. Такой вывод был бы очевидным для людей, которые полагали, что все действительно важные знания были раскрыты Богом в начале времен, а города существовали до Великого потопа, и которые рассматривали собственную интеллектуальную жизнь в основном как попытку восстановить утраченную мудрость древних греков и римлян.
В Европе XVI–XVII веков, в эпоху Ренессанса, история не предполагала прогресса. В основном она рассматривалась как серия катастроф. Использование концепции естественного состояния не означало отказа от такого взгляда на историю — по крайней мере, не сразу, — но оно позволило политическим философам, писавшим после XVII века, изобразить людей, не имеющих внешних атрибутов цивилизации, не как деградировавших дикарей, а как представителей человечества «в сыром виде». Это в свою очередь позволило им поставить целый ряд новых вопросов о том, что значит быть человеком. Какие формы социальной организации были бы свойственны даже людям, не имеющим узнаваемых форм государства и права? Существовал бы у них брак? Какие формы он мог бы принимать? Присуще ли людям в естественном состоянии стремление к общению, или же они избегают друг друга? Существует ли естественная религия?
Но вопрос остается открытым: почему к XVIII веку европейские интеллектуалы настолько прониклись идеей изначальной свободы или, тем более, равенства, что вопрос «Каково происхождение неравенства между людьми?» казался совершенно естественным. Это особенно странно, если учесть, что до этого времени большинство даже не считало социальное равенство возможным.
Прежде всего, необходимо сделать оговорку. Определенный народный эгалитаризм существовал уже в Средние века, выходя на первый план во время популярных праздников — карнавала, Майского дня 16 или Рождества, когда бо́льшая часть общества наслаждалась идеей «перевернутого мира», где все власти и авторитеты были низвергнуты или осмеяны. Часто такие празднования представлялись как возвращение к некой первобытной «эпохе равенства» — веку Кроноса или Сатурна или возвращение в страну Кокань 17. Иногда на эти идеалы ссылались и во время народных восстаний.
16 Праздник, восходящий к римскому фестивалю чествования начала лета, отмечали в Англии в первый понедельник мая.
17 Мифическая страна изобилия и безделья во французской и английской литературе XII–XIII веков.
Правда, неясно, до какой степени такие эгалитарные идеалы являются лишь побочным эффектом иерархических общественных отношений, существовавших в обычное время. Например, наше представление о том, что все равны перед законом, изначально восходит к идее о том, что все равны перед королем или императором: ведь если один человек наделен абсолютной властью, то, очевидно, остальные люди равны по сравнению с ним. Раннее христианство также настаивало на том, что все верующие были (в каком-то конечном смысле) равны перед Богом, которого они называли «Господом». Как показывают эти примеры, власть, перед которой простые смертные фактически равны, необязательно должна принадлежать реальному человеку из плоти и крови; один из смыслов «короля карнавала» или «королевы мая» — они существуют для того, чтобы быть свергнутыми [8].
Европейцы, воспитанные на классической, античной литературе, также были знакомы с рассуждениями о давних, счастливых, эгалитарных порядках, которые появляются в греко-римских источниках; а представления о равенстве, по крайней мере среди христианских народов, можно было найти в концепции res publica или понятии «содружества» (commonwealth), которые опять же обращаются к античным истокам. Всё это говорит лишь о том, что состояние равенства не было совершенно немыслимым для европейских интеллектуалов до XVIII века. Однако это не объясняет, почему почти все они предположили, что человеческие существа, не затронутые цивилизацией, когда-либо существовали в таком состоянии. Действительно, в классической литературе можно было найти подобные идеи — но точно так же в ней можно было найти и идеи противоположные [9]. Чтобы ответить на данный вопрос, нам необходимо вернуться к аргументам, которые использовались для доказательства того, что жители обеих Америк вообще являются такими же людьми, как и европейцы, а именно к заявлениям о том, что, какими бы экзотичными или даже извращенными ни казались их обычаи, коренные американцы были способны выдвигать логические аргументы в свою защиту.
Мы утверждаем, что американские интеллектуалы — мы используем термин «американский», как он использовался в то время, для обозначения коренных жителей Западного полушария; а термин «интеллектуал» — для обозначения любого человека, склонного рассуждать об абстрактных идеях, — действительно сыграли свою роль в этой концептуальной революции. Очень странно, что это считается такой уж радикальной идеей, однако среди современных интеллектуальных историков это почти ересь.
Это особенно странно потому, что никто не отрицает, что многие европейские исследователи, миссионеры, торговцы, поселенцы и другие люди, поселившиеся на американских берегах, потратили годы на изучение аборигенных языков и совершенствование своих навыков в разговоре с их носителями; точно так же как коренные американцы потратили усилия на изучение испанского, английского, голландского или французского. Мы думаем, что любой человек, когда-либо по-настоящему учивший чужой язык, не станет отрицать: чтобы уловить смысл незнакомых понятий, требуется значительная работа воображения. Мы также знаем, что миссионеры обычно вели долгие философские дебаты в рамках своих профессиональных обязанностей; в других случаях представители обеих сторон спорили друг с другом либо из простого любопытства, либо потому, что им нужно было понять противоположную точку зрения из практических соображений. Наконец, никто не станет отрицать, что литература о путешествиях и письма миссионеров, часто содержавшие краткое изложение или даже выдержки из этих обменов мнениями, были популярными литературными жанрами, за которыми жадно следили образованные европейцы. В любом доме представителей среднего класса в Амстердаме или Гренобле XVIII века на полках, скорее всего, стоял как минимум экземпляр «Реляций иезуитов Новой Франции» (как тогда называли французские колонии в Северной Америке), а также один или два рассказа, написанные путешественниками в далекие страны. Такие книги ценили преимущественно за содержащиеся в них удивительные и неслыханные соображения [10].
Историкам всё это известно. Но подавляющее большинство из них по-прежнему считают, что даже когда европейские авторы прямо говорят, что заимствуют идеи, концепции и аргументы у индигенных мыслителей, не стоит воспринимать эти заявления всерьез. Всё это понимается как недоразумение, выдумка или, в лучшем случае, наивная проекция уже существовавших европейских идей. Когда американские интеллектуалы появляются в описаниях европейцев, предполагается, что они просто воплощают в себе некий западный архетип «благородного дикаря» или же служат «куклой, сделанной из носка», чтобы предоставить правдоподобное алиби автору, который в противном случае может попасть в неприятности за изложение подрывных идей (например, деизма, рационального материализма или нетрадиционных взглядов на брак) [11].
Если текст европейского автора приписывает «дикарю» аргументацию, отдаленно напоминающую взгляды Цицерона или Эразма Роттердамского, то мы автоматически должны решить, что «дикарь» не мог этого сказать — или даже что разговор, о котором идет речь, вообще не имел места [12]. Помимо всего прочего, такой образ мысли очень удобен для исследователей западной литературы, воспитанных на Цицероне и Эразме, которые в противном случае были бы вынуждены попробовать узнать что-то о том, что коренные народы думали о мире, и прежде всего о том, что они думали о европейцах.
Мы собираемся пойти в противоположном направлении.
Мы рассмотрим ранние свидетельства миссионеров и путешественников из Новой Франции — особенно из района Великих озер,— поскольку именно с этими свидетельствами был лучше всего знаком сам Руссо. Это позволит нам понять, что действительно думали о французском обществе коренные американцы и как в результате они изменили собственные представления о своих обществах. Мы утверждаем, что коренные американцы действительно выработали весьма сильный критический подход к институтам своих захватчиков: подход, который изначально фокусировался на отсутствии свободы в этих институтах, и лишь позднее, по мере того как они всё больше знакомились с устройством европейского общества, на проблеме равенства.
Одна из причин, по которой миссионерская литература и литература о путешествиях стали столь популярны в Европе, заключалась именно в том, что она знакомила читателей с такого рода критикой, а также давала им новое представление о возможном — знание о том, что знакомая читателям организация общества не является единственной, ведь в этих книгах речь шла о реально существующих обществах, устроенных иначе. Мы утверждаем, что многие крупные мыслители Просвещения совсем не случайно настаивали на том, что их идеалы индивидуальной свободы и политического равенства были вдохновлены американскими источниками и примерами. Так оно и было на самом деле.
Раздел, в котором мы выясним, как жители Новой Франции воспринимали европейских завоевателей, особенно в том, что касается щедрости, общительности, материального богатства, преступлений, наказаний и свободы
«Век разума» был веком полемики. Просвещение вырастало из разговоров; в основном они проходили в кафе и салонах. Многие классические тексты эпохи Просвещения были написаны в форме диалогов; в большинстве из них культивировался легкий, прозрачный, разговорный стиль, явно вдохновленный атмосферой салона. (Это немцы в те времена были склонны писать в том туманном стиле, которым впоследствии прославились французские интеллектуалы.) Обращение к «разуму» было прежде всего стилем аргументации. Идеалы Французской революции — свобода, равенство и братство — обрели свою форму именно в ходе длинной серии дебатов и бесед. Мы же лишь предполагаем, что эти беседы простирались дальше, чем думают историки, изучающие Просвещение.
Начнем с вопроса: как жители Новой Франции восприняли европейцев, которые начали прибывать в их края в XVI веке?
В те времена регион, который впоследствии стал известен как Новая Франция, преимущественно населяли люди, говорившие на языке монтанье-наскапи, а также на алгонкинских и ирокезских языках. Те, кто жил ближе к побережью, занимались рыболовством, лесоводством и охотой, хотя большинство из них также занимались садоводством; вендат (гуроны) [13] сосредоточились в долинах крупных рек дальше вглубь страны, выращивая маис, сквош и бобы в окрестностях укрепленных городов. Интересно, что ранние французские наблюдатели не придавали большого значения таким экономическим различиям, тем более что собирательство или земледелие в любом случае было преимущественно женской работой. Мужчины, отмечали они, были заняты в основном охотой и время от времени воевали, а значит, в определенном смысле их можно было считать природными аристократами. Идея о «благородном дикаре» восходит к таким наблюдениям. Изначально речь шла не о благородстве как черте характера, а лишь о том, что мужчины-индейцы занимались охотой и войнами. По европейским представлениям это было в основном уделом дворянства.
Но если французы весьма неоднозначно оценивали характер «дикарей», то местные жители составили довольно четкое представление о характере французов. Так, например, отец Пьер Биар, бывший профессор богословия, в 1608 году был направлен обратить в христианство микмаков, которые говорили на алгонкинском языке и обитали в Новой Шотландии — некоторое время они проживали неподалеку от французского форта. Биар придерживался невысокого мнения о микмаках, и, по его сообщениям, они отвечали взаимностью: «Они считают себя лучше французов: „Ибо, — говорят они, — вы всегда враждуете и бранитесь между собой, мы же живем мирно. Вы завистливы и всё время клевещете друг на друга; вы воры и обманщики; вы жадные, не щедрые и не добрые; что касается нас, то, если у нас есть кусок хлеба, мы делимся им с соседом“. Они постоянно говорят подобные вещи» [14]. Вероятно, больше всего Биара раздражало то, что микмаки постоянно утверждали, будто вследствие этого они «богаче» французов. Французы обладали бóльшими материальными благами, признавали микмаки; но у них самих были другие, более значительные богатства: непринужденность, чувство комфорта и свободное время.
Двадцать лет спустя брат Габриэль Сагар, августинец-реколлект [15], оставил похожий рассказ о народе вендат. Поначалу Сагар весьма критически относился к образу жизни вендат, который он описывал как порочный по своей природе (он был одержим идеей, что женщины вендат пытались его соблазнить), но к концу своего пребывания среди них Сагар пришел к выводу, что социальное устройство вендат во многом превосходило французское. В этом отрывке он явно вторит мнению самих вендат: «У них нет никаких судов, и им не требуется много усилий для приобретения жизненных благ, ради которых мы, христиане, так истязаем себя. Закономерно, что мы, добивающиеся этих благ с чрезмерной и ненасытной алчностью, воспринимаем их тихую жизнь и спокойный нрав в упрек себе» [16]. Так же как и микмаки из рассказа Биара, вендат были особенно возмущены тем, что французы не щедры друг к другу. «Они проявляют взаимное гостеприимство и оказывают друг другу такую помощь, что все потребности обеспечиваются и в их городах и деревнях нет попрошаек; они посчитали ужасным, что во Франции, как они слышали, попрошаек так много. Они сказали, что это потому, что нам не хватает милосердия, и сильно винили нас за это» [17].
Столь же язвительно вендат отзывались о привычной для французов манере беседовать. Сагар был удивлен и впечатлен красноречием принимавших его хозяев и их умением вести аргументированную дискуссию, навыками, которые оттачивались в ходе почти ежедневных публичных обсуждений общественных вопросов. Принимавшие его хозяева, наблюдая собрания французов, напротив, часто отмечали, что те постоянно спорят и перебивают друг друга, приводят неубедительные аргументы и в целом (как минимум, таким казался общий подтекст их высказываний) не выглядят особо умными людьми. Европейцы, которые пытались переключить внимание на себя, не давая другим возможность изложить свои аргументы, действовали примерно так же, как те, кто захватывал материальные средства существования и отказывался ими делиться; сложно избавиться от впечатления, что американцы воспринимали французов как людей, пребывающих в своего рода гоббсианском состоянии «войны всех против всех». (Вероятно, стоит отметить, что, особенно в этот ранний период контактов, американцы, скорее всего, были знакомы с европейцами в основном в лице миссионеров, звероловов, торговцев и солдат — то есть групп, почти полностью состоявших из мужчин. Первоначально в колониях было очень мало французских женщин и еще меньше детей. Поэтому, вероятно, конкуренция и отсутствие взаимной заботы в среде европейцев выглядели еще более радикальными.)
Рассказ Сагара о его пребывании среди вендат стал влиятельным бестселлером во Франции и всей Европе: и Локк, и Вольтер ссылались на «Большое путешествие по стране гуронов» как на основной источник собственных описаний американских обществ. Более масштабные «Реляции иезуитов», над которыми работало сразу несколько авторов, публиковались с 1633 по 1673 год. Эти книги, которые также активно читали и обсуждали в Европе, содержали многочисленные высказывания вендат, возмущенных нравами французов. В этом издании отчетов о миссионерской деятельности объёмом в семьдесят один том больше всего поражает, что ни американцам, ни их французским собеседникам, похоже, нечего было сказать о «равенстве» как таковом — например, слова égal или égalité почти не встречаются, а в тех редких случаях, когда они употребляются, это почти всегда касается «равенства полов» (нечто особенно возмущавшее иезуитов).
По всей видимости, ничего не менялось, спорили ли иезуиты с вендатами — которые не выглядят эгалитарными с антропологической точки зрения, поскольку у них были официальные политические должности и слой военнопленных, которых иезуиты, по крайней мере, называли «рабами», — или с микмаками или монтаньи-наскапи, которых антропологи позднее окрестят эгалитарными группами охотников-собирателей. Многочисленные американцы жаловались на дух соперничества и эгоистичность французов и, пожалуй, в еще большей степени — на их неприязнь к свободе.
То, что коренные американцы жили преимущественно в свободных обществах, а европейцы — нет, никогда не было предметом обсуждения в этих беседах: обе стороны соглашались, что это так. Они расходились лишь в том, насколько важна личная свобода.
В этом отношении рассказы ранних миссионеров или путешественников об Американском континенте представляют собой настоящий концептуальный вызов для многих современных читателей. Большинство из нас просто принимают как должное, что «западные» наблюдатели даже XVII века — это просто более ранняя версия нас самих, в отличие от коренных американцев, которые представляют собой по сути чужого, возможно, даже непознаваемого Другого. Но на самом деле во многих отношениях авторы этих текстов были совсем не похожи на нас. Когда речь идет о вопросах личной свободы, равенства мужчин и женщин, сексуальных нравах или народном суверенитете — или даже, если на то пошло, о теориях глубинной психологии [18],— взгляды коренных американцев, скорее всего, читателям гораздо ближе, чем взгляды европейцев XVII века.
Эти различия во взглядах на личную свободу особенно поразительны. Сейчас почти невозможно представить, чтобы человек, живущий в условиях либеральной демократии, выступал против свободы — по крайней мере, в абстрактном плане (на деле, конечно, наши взгляды обычно гораздо сложнее). Это часть наследия Просвещения, а также Американской и Французской революций. Как правило, мы уверены, что личная свобода — это по сути своей хорошо (даже если некоторые из нас считают, что общество, основанное на полной личной свободе — где отсутствует полиция, тюрьмы и какой-либо аппарат принуждения,— обречено на хаос и разгул жестокости). Иезуиты XVII века, конечно же, не разделяли таких взглядов. Как правило, они считали личную свободу свойственной животным. В 1642 году иезуитский миссионер Ле Жён писал о монтанье-наскапи:
Они считают, что по праву рождения должны наслаждаться свободой диких жеребцов, не оказывая никому никакого почтения, кроме как по своему желанию. Сотни раз они порицали меня за то, что мы боимся наших Капитанов, в то время как они смеются и подшучивают над своими. Вся власть их вождя — в его языке; ибо он силен настолько, насколько красноречив; и как бы он ни распинался перед ними, они не станут ему подчиняться, если он не угодит Дикарям [19].
Однако из приведенного отрывка ясно, что монтанье-наскапи считали французов, пребывающих в постоянном ужасе перед начальниками, немногим лучше рабов. Подобная критика регулярно встречается в сообщениях иезуитов; она исходит не только от тех, кто жил в кочевых группах, но и от городских жителей, таких как вендат. Более того, миссионеры были готовы признать, что эти слова не были пустословием со стороны американцев. Даже государственные мужи вендат не могли заставить соплеменников поступать вопреки их желанию. Как отмечал в 1644 году отец Лаллеман, чьи письма послужили образцом для «Реляций иезуитов»:
Я не верю, что на земле есть более свободные и менее способные подчинить свою волю чьей-либо власти люди, чем они,— вплоть до того, что Отцы здесь не имеют никакого контроля над детьми, Капитаны — над подчиненными, Законы страны — над кем-либо из них, разве что в той степени, в которой каждый пожелает им подчиняться. Виновные здесь не несут наказания, и нет преступника, который не был бы уверен, что его жизни и имуществу ничего не угрожает… [20]
Рассказ Лаллемана дает представление, насколько вызывающими с политической точки зрения должны были быть некоторые материалы, содержащиеся в «Реляциях иезуитов», для европейской аудитории того времени и почему многие находили их столь увлекательными. После размышления о том, как возмутительно, что даже убийцы у вендат остаются безнаказанными, благочестивый отец всё же признаёт, что такую систему правосудия нельзя назвать неэффективной для поддержания порядка. В действительности она работала на удивление хорошо. Вместо того чтобы наказывать виновных, вендат требовали, чтобы весь род или клан виновного выплачивал компенсацию. Таким образом, каждый был обязан держать своих сородичей под контролем. «Наказание несет не сам виновник», объясняет Лаллеман, а скорее «общество, которое должно возместить ущерб, нанесенный отдельными людьми». Если гурон убивал алгонкина или другого гурона, то весь край собирается, чтобы согласовать число даров, причитающихся скорбящим родственникам, «чтобы сдержать месть, которую они могли бы совершить».
Вендатские «капитаны», как далее описывает Лаллеман, «настоятельно призывают своих подчиненных предоставлять всё необходимое; они никого не принуждают, но желающие приносят то, чем они хотели бы поделиться; кажется, будто они соревнуются, у кого больше богатств, и что стремление к славе и желание продемонстрировать свою заботу об общем благосостоянии побуждает их так поступать, когда это требуется». Что еще более примечательно, Лаллеман признаёт: «…такая форма правосудия сдерживает эти народы и, кажется, более эффективно пресекает беспорядки, чем принятое во Франции личное наказание преступников» несмотря на то, что это «очень мягкая мера, которая оставляет людей в таком духе свободы, что они никогда не подчиняются никаким законам и не повинуются никакому другому импульсу, кроме своей собственной воли» [21].
Здесь следует отметить несколько моментов. Во-первых, становится ясно, что среди вендат были те, кто считались богатыми. В этом смысле их общество не было «экономически эгалитарным». Однако существовала разница между тем, что мы бы назвали экономическими ресурсами — такими как земля, которая принадлежала семьям, обрабатывалась женщинами и продуктами которой в основном распоряжались женские коллективы,— и «богатством», о котором здесь идет речь, таким как вампум (этим словом обозначали шнуры и пояса из бусин, сделанных из раковин лонг-айлендских моллюсков) и другими драгоценностями, которые использовались преимущественно в политических целях.
Богатые мужчины вендат копили такие драгоценности в основном для того, чтобы жертвовать их в подобных драматических ситуациях. Ни в случае с землей и продуктами земледелия, ни в случае с вампумами и аналогичными ценностями не было никакой возможности превратить доступ к материальным ресурсам во власть — по крайней мере, такую власть, которая могла бы позволить заставить других работать на вас или принудить их делать то, чего они делать не хотели. В лучшем случае накопление и умелое распределение богатств могло повысить шансы занять политический пост (стать «вождем» или «капитаном» — французские источники склонны использовать эти термины без разбора); но, как постоянно подчеркивали иезуиты, сама по себе должность не давала права отдавать приказы. Или, если быть совсем точным, человек, занимающий должность, мог отдавать любые приказы, какие ему или ей вздумается, но никто не был обязан их исполнять.
Конечно, для иезуитов всё это было возмутительно. На самом деле, отношение иезуитов к идеалам свободы коренных американцев полностью противоположно взгляду большинства современных французов и канадцев, то есть отношению к свободе как, в принципе, замечательному идеалу. Отец Лаллеман был готов признать, что на практике такая система работала довольно хорошо; она создавала «гораздо меньше беспорядка, чем во Франции» — но, как он отмечал, иезуиты были против свободы в принципе:
Это, вне всякого сомнения, совершенно противоречит духу Веры, который требует от нас подчинения не только нашей воли, но и нашего разума, наших суждений и всех чувств человека силе, неведомой нашим чувствам, закону, который не от мира сего и который полностью противоречит законам и чувствам порочной природы. Добавьте к этому, что законы страны, которые кажутся им наиболее справедливыми, всевозможными способами посягают на чистоту христианской жизни, особенно в том, что касается их браков… [22]
«Реляции иезуитов» полны подобных замечаний: шокированные миссионеры часто отмечали, что американские женщины могли сами свободно распоряжаться своими телами, и, следовательно, незамужние женщины обладали сексуальной свободой, а замужние могли разводиться по своему желанию. Для иезуитов это было возмутительно. Такое греховное поведение, по их мнению, было лишь следствием самого принципа свободы, уходящего корнями в естественные склонности человека, которые они считали пагубными по своей природе. «Порочная свобода дикарей», утверждал один из них, была самым большим препятствием для того, чтобы они «покорились бремени Закона Божьего» [23]. В языках коренных народов Америки было тяжело даже найти слова, которыми можно было бы перевести такие понятия, как «Господь», «заповедь» или «послушание»; объяснить же лежащие в их основании теологические концепции и вовсе было практически невозможно.
Как европейцы узнали от (коренных) американцев о связи между аргументированной дискуссией, личными свободами и отказом от произвольной власти
Получается, с политической точки зрения французы и американцы спорили не о равенстве, а о свободе. Во всём семидесяти одном томе «Реляций иезуитов» политическое равенство упоминается лишь однажды и совсем вскользь — в рассказе о событии 1648 года. Речь идет о поселении обращенных в христианство вендат неподалеку от города Квебека. После беспорядков, вызванных прибытием корабля с контрабандным алкоголем, губернатор убедил вождей вендат согласиться на запрет алкогольных напитков и опубликовал соответствующий указ, что важно, отмечает губернатор,— подкрепленный угрозой наказания. Отец Лаллеман записал и эту историю. Для него это было эпохальное событие:
От сотворения мира до прихода французов Дикари никогда не знали, каково это — официально запретить что-то своим людям, пригрозив наказанием, хотя и незначительным. Это свободные люди, каждый из которых считает себя столь же значимым, как и другие; и они подчиняются своим вождям лишь в той мере, в какой это им угодно [24].
Равенство здесь является прямым продолжением свободы; более того, ее выражением. Оно также не имеет почти ничего общего со знакомым нам (евразийским) понятием о «равенстве всех перед лицом закона», которое в конечном счете сводится к равенству всех перед лицом суверена — то есть, опять же, равенством в общем порабощении. Американцы, напротив, были равны в той мере, в какой они были одинаково свободны подчиняться или не подчиняться приказам по своему усмотрению. Демократическое управление у вендат и пяти племен хауденосауни, которое впоследствии так впечатлило европейских читателей, выражало тот же принцип: если в этих обществах было запрещено какое-либо принуждение, то очевидно, что существующее общественное единство должно быть создано путем аргументированных дискуссий, убедительных доводов и достижения общественного консенсуса.
Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали: европейское Просвещение как апофеоз принципа открытой и рациональной дискуссии. Мы уже упоминали, что Сегар хоть и с неохотой, но отдавал должное способности вендат к логической аргументации (эта тема проходит также и через большинство свидетельств иезуитов). Важно помнить, что иезуиты были интеллектуалами католического мира. Обученные классической риторике и технике ведения диспута, они изучали языки американцев прежде всего для того, чтобы иметь возможность дискутировать с ними, убеждать их в превосходстве христианской веры. Однако иезуитов регулярно поражал и впечатлял уровень контраргументов, с которыми им приходилось сталкиваться.
Каким образом люди, незнакомые с трудами Варрона и Квинтилиана, могли достичь такого уровня риторического мастерства? Отвечая на этот вопрос, иезуиты почти всегда отмечали ту открытость, с которой в племенах решались общественные вопросы. Так, отец Ле Жён, глава канадской иезуитской миссии в 1630-е годы, писал: «Среди них практически нет тех, кто не был бы способен вести разговор и рассуждать на очень высоком уровне, притом доброжелательно, касаясь тех вопросов, в которых они сведущи. В деревнях почти каждый день проходят советы практически по всем возможным вопросам, что повышает их разговорные навыки». А Лаллеман признавал: «Я могу честно сказать, что в том, что касается интеллекта, они ни в чем не уступают европейцам и жителям Франции. Я бы ни за что не поверил, что без обучения природа могла бы наделить людей более развитым и живым красноречием, которое меня восхищает во многих гуронах; или большей проницательностью в общественных вопросах, или большей осмотрительностью в привычных им делах» [25]. Некоторые иезуиты пошли дальше, заметив — не без тени разочарования,— что дикари Нового Света в целом кажутся им более умными, чем люди, с которыми они привыкли иметь дело дома (например, «почти все из них демонстрируют более острый ум в деловых вопросах, речах, любезностях, общении, хитростях и тонкостях, чем самые проницательные граждане и купцы во Франции» [26]).
Таким образом, иезуиты четко осознавали неразрывную связь между неприятием произвольной власти, открытой политической дискуссией и вкусом к аргументированным доводам. Это правда, что политические лидеры коренных американцев, которые в большинстве случаев не имели возможности заставить соплеменников поступать против их воли, славились риторическими способностями. Даже черствые европейские генералы, ответственные за геноцид коренных народов, часто сообщали, что красноречие американцев доводило их до слез. Однако убеждение необязательно должно принимать форму логической аргументации; с таким же успехом оно может взывать к чувствам, нагнетать страсти, использовать поэтические метафоры, обращаться к мифу или мудрости пословиц, использовать иронию и уклончивость, юмор, оскорбления, обращаться к пророчеству или откровению; выбор приемов зависит от риторической традиции, к которой принадлежит оратор, и от предполагаемых нравов его аудитории.
В основном именно носители ирокезских языков, такие как вендат или пять племен хауденосауни, проживавшие к югу от них, придавали особое значение аргументированной дискуссии, порою даже считая ее приятным развлечением. Уже один этот факт имел серьезные исторические последствия: именно такая форма дебатов — рациональная, скептическая, эмпирическая, разговорная по тону — в скором времени стала отождествляться с европейским Просвещением. Подобно иезуитам, мыслители эпохи Просвещения и демократические революционеры рассматривали ее как неразрывно связанную с неприятием произвольной власти, особенно той, которую долгое время присваивало себе духовенство.
Соберем вместе все нити наших рассуждений.
К середине XVII века правовые и политические мыслители Европы начали заигрывать с идеей эгалитарного естественного состояния; по крайней мере, в смысле первоначального состояния, в котором могли пребывать общества, где, по их мнению, отсутствовали правительство, письменность, религия, частная собственность и другие вещи, создающие различия между людьми. Такие понятия, как «равенство» и «неравенство», только входили в обиход в интеллектуальных кругах — примерно тогда же, когда первые французские миссионеры начали обращать в христианство жителей территорий, известных сейчас как Новая Шотландия и Квебек [27]. Европейская читающая публика всё больше интересовалась тем, как выглядели подобные первобытные общества. Но не была особенно предрасположена к тому, чтобы представлять себе мужчин и женщин, живущих в «естественном состоянии», как чрезвычайно «благородных» и уж тем более — как рациональных скептиков и сторонников индивидуальной свободы [28]. Это последнее представление сложилось в результате диалога, развернувшегося между европейцами и коренными американцами.
Как мы увидели, поначалу обеим сторонам — и прибывшим в Новую Францию колонистам, и их собеседникам из числа коренных жителей — нечего было сказать о «равенстве». Скорее, они дискутировали о вольности (liberty) и взаимопомощи или о том, что лучше назвать свободой (freedom) и коммунизмом. Поясним, что именно мы подразумеваем под последним термином. С начала XIX века ведутся оживленные споры о том, существовала ли когда-нибудь такая вещь, которую можно было бы с полным правом назвать «первобытным коммунизмом». В центре этих дискуссий почти неизменно оказывались общества коренных жителей Северо-Восточного Вудленда — с тех пор как Фридрих Энгельс использовал ирокезов в качестве примера первобытного коммунизма в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884). В данном контексте «коммунизм» означает наличие общественной собственности, прежде всего на средства производства. Как мы уже отмечали, в этом отношении многие американские общества находились в несколько двусмысленном положении: женщины обрабатывали землю, которая находилась в их личной собственности, но при этом совместно хранили продукты земледелия и распоряжались ими; орудия труда и оружие находились в личной собственности мужчин, но при этом они обычно делили между собой охотничью добычу и трофеи.
Однако есть и другой способ использовать слово «коммунизм»: не как режим собственности, а в первоначальном смысле — «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Во всех обществах присутствует определенный минимальный, «базовый» коммунизм; представление, что если потребности того или иного человека достаточно велики (скажем, он тонет) и вам не слишком сложно их удовлетворить (скажем, он просит кинуть веревку), то любой порядочный человек, разумеется, пойдет навстречу. Такой базовый коммунизм можно даже считать основой человеческой социальности, поскольку в подобной ситуации мы бы не стали помогать только своему злейшему врагу. Но представление о том, насколько далеко, по общему мнению, должен заходить этот базовый коммунизм, в разных обществах отличается.
Во многих обществах — и американские общества того времени, похоже, в их числе — было совершенно немыслимо отказать в просьбе о пище. Для французов XVII века в Северной Америке это было явно не так: их диапазон базового коммунизма, по-видимому, был весьма ограничен и не распространялся на еду и кров — именно это вызывало возмущение американцев. Но аналогично тому, как ранее мы наблюдали противостояние двух очень разных концепций равенства, здесь мы в конечном итоге наблюдаем столкновение очень разных концепций индивидуализма. Европейцы постоянно боролись друг с другом за преимущества; общества Северо-Восточного Вудленда, напротив, гарантировали своим членам всё необходимое для автономного существования — или, по меньшей мере, делали так, чтобы ни один мужчина или женщина не находились в чьем-либо подчинении. В той мере, в какой мы можем говорить о коммунизме, он существовал не как противоположность индивидуальной свободы, а как ее фундамент.
То же самое можно сказать и о политических системах коренных народов, с которыми европейцы столкнулись на большей части края Великих озер. Всё делалось для того, чтобы никто не должен был подчиняться чужой воле. Лишь со временем, когда американцы узнали больше о Европе, а европейцы начали задумываться о том, как можно было бы воплотить американские идеалы индивидуальной свободы в их собственных обществах, термин «равенство» начал приобретать значение в диалоге между ними.
Раздел, в котором мы представляем Кондиаронка — философа и политического лидера общества вендат — и объясняем, как его взгляды на человеческую природу и общество обрели новую жизнь в европейских салонах эпохи Просвещения (и делаем небольшое отступление, посвященное концепции «схизмогенеза»)
Для того чтобы понять, как развивалась индигенная критика — последовательная моральная и интеллектуальная атака на европейское общество, которую активно озвучивали коренные американцы начиная с XVII века,— и увидеть ее полное влияние на европейское мышление, нам сначала нужно разобраться о том, какую роль играли двое мужчин: обедневший французский аристократ по имени Луи Арман де Лом д’Арс, барон де ла Онтан, и выдающийся политический деятель вендат по имени Кондиаронк.
В 1683 году Лаонтан (под этим именем он стал известен впоследствии), которому тогда было семнадцать лет, вступил во французскую армию и был командирован в Канаду. На протяжении следующего десятилетия он принял участие в ряде кампаний, исследовательских экспедиций и в итоге дослужился до звания заместителя генерал-губернатора графа де Фронтенака. За это время он научился свободно говорить на алгонкинских языках и языке вендат и — по крайней мере, по его собственным словам — подружился с несколькими политическими деятелями из числа коренного населения. Впоследствии Лаонтан утверждал, что, поскольку он довольно скептически относился к религии и был политическим противником иезуитов, собеседники готовы были поведать ему то, что они на самом деле думали о христианском учении. Одним из этих собеседников был Кондиаронк.
Главный стратег Конфедерации вендат, коалиции четырех народов, говоривших на ирокезских языках, Кондиаронк (его имя буквально переводится как «ондатр», а французы часто называли его просто Le Rat (франц. крыса) в то время был вовлечен в сложную геополитическую игру, пытаясь стравить между собой англичан, французов и пять племен хауденосауни. Изначальной целью Кондиаронка было предотвратить нападение хауденосауни на вендат, грозившее обернуться катастрофой, но в долгосрочной перспективе он стремился создать широкий альянс коренных племен, способный задержать продвижение поселенцев [29]. Каждый, кто встречался с ним, друг или враг, признавал, что он был действительно выдающейся личностью: храбрым воином, блестящим оратором и необычайно искусным политиком. Кроме того, до конца жизни Кондиаронк был ярым противником христианства [30].
Карьера Лаонтана в итоге сложилась неудачно. Несмотря на то, что ему удалось защитить Новую Шотландию от английского флота, он не поладил с губернатором провинции и был вынужден покинуть французскую территорию. Заочно осужденный за неподчинение, он прожил бо́льшую часть следующего десятилетия в изгнании, скитаясь по Европе и безуспешно пытаясь договориться о возвращении в родную Францию. К 1702 году Лаонтан жил в Амстердаме, и удача его покинула: те, кто с ним встречались, описывали его как бродягу без гроша в кармане и как наемного шпиона. Всё это вскоре изменится, когда он опубликует серию книг о своих приключениях в Канаде.
Две из них были мемуарами о его американских приключениях. Третья, озаглавленная «Любопытные диалоги с рассудительным дикарем-путешественником» (1703), включала в себя четыре беседы Лаонтана и Кондиаронка. В них вендатский мудрец делился своими мнениями, основанными на его собственных этнографических наблюдениях в Монреале, Нью-Йорке и Париже. Он предлагал чрезвычайно критический взгляд на европейские нравы и представления о религии, политике, здоровье и сексуальной жизни. Эти книги обрели широкую аудиторию, и вскоре Лаонтан стал своего рода местной знаменитостью. Он поселился при дворе в Ганновере, как и Лейбниц, который подружился с Лаонтаном и поддерживал его вплоть до 1715 года, когда тот заболел и умер.
Большинство критиков работы Лаонтана просто принимают как само собой разумеющееся, что диалоги выдуманы и взгляды, приписываемые «Адарио» (имя, данное там Кондиаронку), принадлежат самому Лаонтану [31]. В определенном смысле этот вывод неудивителен. Адарио не только утверждает, что посетил Францию, но и высказывает свое мнение по всем актуальным вопросам — от монастырской политики до юридических дел. В дебатах о религии он часто звучит как сторонник деизма, согласно которому духовную истину следует искать в разуме, а не в откровении, принимая именно тот вид рационального скептицизма, который становился популярным в более смелых интеллектуальных кругах Европы того времени. Верно и то, что стиль диалогов Лаонтана был отчасти вдохновлен древнегреческими сочинениями сатирика Луциана; а учитывая силу церковной цензуры во Франции тех лет, возможно, самым простым способом опубликовать работу, содержавшую открытый выпад против христианства, для вольнодумца было придумать диалог, в котором он якобы защищает веру от нападок воображаемого чужеземного скептика, а затем проигрывает во всех спорах.
Однако в последние десятилетия исследователи из числа коренных американцев вновь обратились к этому материалу, рассмотрели его в свете того, что нам известно о самом Кондиаронке, и пришли к совершенно иным выводам [32]. Настоящий Адарио был известен не только своим красноречием, но и тем, что участвовал с европейцами в дискуссиях — таких же, что нашли отражение в книге Лаонтана. Как отмечает Барбара Элис Манн, несмотря на почти единодушный хор европейских исследователей, утверждающих, что диалоги были выдуманы Лаонтаном, «есть веские причины считать их подлинными». Во-первых, у нас есть сведения из первых уст об ораторском мастерстве и ослепительном остроумии Кондиаронка. Отец Пьер де Шарлевуа описывал Кондиаронка как «красноречивого от природы», которого «никто, возможно, никогда не превосходил <…> в умственных способностях». Прекрасно выступая на советах, «он не менее блестяще проявлял себя в частных беседах, и [советники и участники переговоров] часто специально провоцировали его, чтобы услышать его реплики, всегда оживленные, полные остроумия и, как правило, безответные. Он был единственным человеком в Канаде, способным сравниться с [губернатором] графом де Фонтенаком, который часто приглашал его к себе за стол, чтобы доставить удовольствие своим офицерам» [33].
Иными словами, в 1690-е годы проживавший в Монреале губернатор и его офицеры (вероятно, среди них был и его прежний заместитель Лаонтан) устраивали протопросвещенческий салон, в который они приглашали Кондиаронка для обсуждения именно тех вопросов, которые фигурировали в «Диалогах», и в котором именно Кондиаронк занял позицию рационального скептика.
Более того, у нас есть все основания считать, что Кондиаронк действительно посещал Францию; мы знаем, что Конфедерация вендат в 1691 году отправляла посла ко двору Людовика XIV, и в то время именно Кондиаронк был спикером совета, так что послать его во Францию было бы логичным решением. Хотя глубокое знание европейских дел и понимание европейской психологии, приписываемое Адарио, может показаться неправдоподобным, Кондиаронк был человеком, который годами вел переговоры с европейцами и регулярно обводил их вокруг пальца, предугадывая их логику, интересы, слепые пятна и реакции. Наконец, многие критические замечания в адрес христианства и вообще европейского образа жизни, приписываемые Адарио, почти в точности соответствуют документально подтвержденной критике со стороны других носителей ирокезских языков примерно того же времени [34].
Сам Лаонтан утверждал, что в основу «Диалогов» легли записи, сделанные во время или после различных бесед, которые он вел с Кондиаронком в форте Мичилимакинак, расположенном в проливе между озером Гурон и Мичиганом. Он впоследствии заново привел эти записи в порядок при содействии губернатора и дополнил их воспоминаниями обоих о подобных дебатах за обеденным столом Фонтенака. В процессе работы текст, несомненно, был дополнен, приукрашен и, вероятно, еще раз подправлен, когда Лаонтан подготовил окончательное издание в Амстердаме. Однако у нас есть все основания полагать, что ключевые аргументы принадлежат Кондиаронку.
Лаонтан предвосхищает некоторые из этих аргументов в своих «Мемуарах», когда он отмечает, что американцы, которые действительно побывали в Европе — здесь он, скорее всего, имел в виду в первую очередь самого Кондиаронка, а также ряд бывших пленников, которые, будучи рабами, трудились на галерах,— вернулись обратно с презрением к претензиям европейцев на культурное превосходство. Он писал, что побывавшие во Франции коренные американцы
…постоянно дразнили нас недостатками и неурядицами, которые они наблюдали в наших городах, указывая, что в их основе лежат деньги. Бесполезно пытаться им возражать, доказывая, как полезно разграничение собственности для общества: они посмеются над всем, что вы скажете на эту тему. Короче говоря, они не ссорятся и не бранятся, не клевещут друг на друга; наши искусства и науки вызывают у них лишь насмешку, и они потешаются над иерархией чинов, которую они наблюдают среди нас. Они клеймят нас рабами и называют нас жалкими душами, чьи жизни не стоят того, чтобы их прожить, и утверждают, что мы унижаем себя, подчиняясь одному человеку [королю], который обладает всей полнотой власти и не ограничен никаким законом, кроме своей собственной воли.
Иными словами, мы находим здесь все хорошо знакомые критические замечания в адрес европейского общества, с которыми приходилось полемизировать первым миссионерам: склоки, отсутствие взаимопомощи, слепое подчинение властям,— но с добавлением нового элемента: организация частной собственности. Лаонтан продолжает: «Для них — уму непостижимо, что один человек имеет больше другого и что богатые пользуются большим уважением, чем бедные. Короче говоря, по их словам, слово „дикари“, которым мы их называем, больше подходит нам самим, поскольку в наших действиях нет ничего разумного».
Коренные американцы, имевшие возможность наблюдать французское общество с близкого расстояния, обнаружили одно ключевое отличие от своего собственного, которое, возможно, в противном случае могло бы и не проявиться. Если в их собственных обществах не было очевидного способа превратить богатство во власть над другими (вследствие чего различия в богатстве мало влияли на свободу личности), то во Франции дело обстояло совершенно иначе. Власть над имуществом можно было напрямую превратить во власть над другими людьми.
Но предоставим слово самому Кондиаронку. Первый из «Диалогов» посвящен религиозным вопросам, в нем Лаонтан предоставляет своему оппоненту возможность спокойно разобрать логические противоречия и непоследовательность христианских доктрин первородного греха и искупления, обращая особое внимание на концепцию ада. Помимо того, что Кондиаронк ставит под сомнение достоверность Священного Писания, он постоянно подчеркивает тот факт, что христиане разделены на бесконечные секты, каждая из которых убеждена в своей полной правоте, как и в том, что всех остальных ждет преисподняя. Приведем фрагмент, чтобы дать представление о колорите текста:
Кондиаронк: Успокойся, брат. Не хватайся за оружие <…> Для христиан вполне естественно верить в Священное Писание, ведь они так много слышали о нем с самого младенчества. Для тех же, кто как вендат рос без таких предрассудков, было бы разумно изучить вопрос более тщательно.
Однако, долго и упорно размышляя в течение десяти лет над тем, что иезуиты рассказали нам о жизни и смерти сына Великого Духа, любой вендат мог бы назвать вам двадцать аргументов против этой идеи. Я же сам всегда думал, что, если бы Бог счел возможным понизить свои стандарты настолько, чтобы спуститься на землю, он бы сделал это на глазах у всех, триумфально и величественно снизошел бы к людям, осыпаемый почестями, при как можно большем скоплении людей <…> Он бы шел от одного народа к другому, совершая великие чудеса, и таким образом дал бы всем одинаковые законы. В результате у всех была бы одна религия, которая распространилась бы по всем четырем сторонам света и была бы одинаково известна всем, а наши потомки, с тех самых времен и на десять тысяч лет вперед, знали бы истину этой религии. Вместо этого существует пять или шесть сотен религий, каждая из которых отличается от другой, из которых, по вашему мнению, только религия французов является благой, священной и истинной [35].
Последний отрывок отражает, возможно, самое показательное замечание Кондиаронка: он отмечает чрезвычайную самонадеянность иезуитов, которые были убеждены, что всезнающее и всемогущее существо добровольно решит облечь себя в плоть и претерпеть ужасные страдания, и всё это ради единственного вида, созданного несовершенным, лишь некоторые представители которого в итоге спасутся от вечных мук [36].
Следующая глава посвящена праву: в ней Кондиаронк доказывает, что необходимость карательного права европейского образца, как и религиозной доктрины вечного проклятия, вызвана не врожденной порочностью человеческой природы, а скорее формой социальной организации, которая поощряет эгоистичное и алчное поведение. Лаонтан возражает — действительно, все люди одинаково наделены разумом, но само существование судей и наказания демонстрирует, что не все способны следовать его велениям:
Лаонтан: Вот почему злые люди должны нести наказание, а добрые — получать вознаграждение. Иначе убийства, грабежи и клевета распространились бы повсюду, и, словом, мы стали бы самыми несчастными людьми на свете.
Кондиаронк: Со своей стороны, мне трудно представить, как вы можете быть еще более несчастными, чем вы есть сейчас. Что за люди, что за создания европейцы, что их приходится принуждать творить добро и что не совершать зло они могут лишь из-за страха наказания?
Ты видел, что у нас нет судей. Почему? Ну, потому что мы не судимся друг с другом. А почему мы никогда не судимся? Потому что мы решили не принимать и не использовать деньги. А почему мы не позволяем деньгам проникнуть в наше общество? Причина в следующем: мы решили не иметь законов — потому что испокон веков наши предки спокойно жили без них.
Учитывая, что у вендат абсолютно точно существовал свод законов, может показаться, что Кондиаронк лукавит. Однако очевидно, что под «законами» он понимает законы, имеющие принудительный и карательный характер. Далее он препарирует недостатки французской правовой системы, особенно акцентируя внимание на судебном преследовании, ложных показаниях, пытках, обвинениях в колдовстве и неравенстве бедных и богатых перед законом. В заключение Кондиаронк возвращается к своему первоначальному наблюдению: весь аппарат принуждения людей к хорошему поведению был бы ненужным, если бы Франция не поддерживала противоположный аппарат, который поощряет плохое поведение. Этот аппарат основывается на деньгах, праве собственности и вытекающем из этого стремления к материальной выгоде:
Кондиаронк: Шесть лет я размышлял о положении дел в европейском обществе, и я по-прежнему не могу назвать ни одного аспекта, в котором ваше поведение не было бы бесчеловечным. Я правда считаю, что так будет продолжаться до тех пор, пока вы будете держаться за деление на «свое» и «чужое». Я утверждаю, что то, что вы зовете деньгами, — это сущий дьявол; это тиран, властвующий над французами, источник всех зол; отрава для души и мясорубка всего живого. Представить, что можно жить в стране денег и сохранить свою душу,— всё равно что представить, что можно сохранить свою жизнь на дне озера. Деньги порождают роскошь, распутство, интриги, мошенничество, ложь, предательство, лицемерие — всё худшее в мире. Отцы продают своих детей, мужья — своих жен, жены предают своих мужей, братья убивают братьев, друзья отворачиваются от друзей, и всё это из-за денег. После всего этого ты скажешь, что мы, народ вендат, неправы, когда отказываемся не только прикасаться к серебру, но и смотреть на него?
Для европейцев в 1703 году это звучало лихо.
Бо́льшая часть последующего диалога представляет собой попытки француза убедить собеседника в преимуществах принятия европейской цивилизации и ответы Кондиаронка, который утверждает, что это французам следовало бы перенять образ жизни вендат. Вы серьезно считаете, говорит он, что я буду счастлив, если стану жить, как обитатели Парижа, тратить каждое утро по два часа на то, чтобы надеть рубашку и накраситься, а затем кланяться и расшаркиваться перед каждым встречным проходимцем, которого угораздило получить наследство? Вы серьезно считаете, что я носил бы кошелек с кучей монет и не отдал бы их тут же голодающим; что я носил бы с собой шпагу и не направил бы ее тут же против банды головорезов, устраивающих облавы на бедняков, чтобы отправить их служить на флот? С другой стороны, если бы Лаонтан принял американский образ жизни, говорит Кондиаронк, то ему бы, возможно, потребовалось некоторое время на адаптацию — но в конце концов он стал бы гораздо счастливее. (Как мы увидели в предыдущей главе, Кондиаронк был прав; поселенцы, принятые в общества коренных американцев, почти никогда не хотели вернуться назад.)
Кондиаронк даже утверждает, что Европа выиграла бы от полного демонтажа своей общественной системы:
Лаонтан: Попробуй хоть раз в жизни послушать. Мой дорогой друг, разве ты не понимаешь, что народы Европы не смогли бы прожить без золота и серебра — или каких-либо подобных драгоценных символов? Без них знать, священники, купцы и многие другие, у кого недостает сил, чтобы обрабатывать землю, просто умерли бы от голода. Наши короли не были бы королями; откуда бы у нас были солдаты? Кто бы работал на короля или на кого-то еще? <…> Это бы ввергло Европу в хаос и создало бы самую ужасную неразбериху, какую только можно себе представить.
Кондиаронк: Ты всерьез думаешь переубедить меня, взывая к нуждам знати, купцов и священников? Если бы вы отказались от представления о своем и чужом, то да, такого рода различия между людьми попросту бы исчезли; среди вас установилось бы равенство, как у вендат. Действительно, в первые тридцать лет после отказа от корысти вы, несомненно, будете наблюдать некоторое опустошение, поскольку те, кто способен только есть, пить, спать и получать удовольствие, станут влачить жалкое существование и умирать. Но их потомки приспособятся к нашему образу жизни. Снова и снова я говорю о качествах, которые, как мы, вендат, считаем, определяют человека: мудрость, разум, справедливость и так далее,— и показываю, что существование индивидуальных материальных интересов ставит на всех них крест. Человек, движимый выгодой, не может быть разумным.
Здесь, наконец, «равенство» сознательно упоминается как идеал — но лишь в результате длительной конфронтации между американскими и европейскими институтами и ценностями и как продуманная провокация, обращающая европейский цивилизационный дискурс против него самого.
Одна из причин, по которой современные комментаторы с такой легкостью сбрасывают Кондиаронка со счетов, называя его «благородным дикарем» (и, следовательно, всего лишь проекцией европейских фантазий), заключается в том, что многие из его утверждений, очевидно, преувеличены. Это неправда, что у вендат и других американских обществ не было законов, что они никогда не ссорились и не знали имущественного неравенства. В то же время мы увидели — основная линия аргументации Кондиаронка полностью соответствует тому, что французские миссионеры и поселенцы в Северной Америке слышали от других коренных американцев. Утверждать, что, поскольку «Диалоги» романтизированы, они не могут отражать того, что сказал Кондиаронк, значит считать, будто люди сами по себе, в своей собственной речи не способны к романтизации, хотя именно этим, скорее всего, и будет заниматься любой искусный оратор в подобных обстоятельствах, а все источники сходятся на том, что Кондиаронк был, возможно, самым искусным из всех, кого они когда-либо встречали.
В 1930-е годы антрополог Грегори Бейтсон предложил термин «схизмогенез» для описания склонности людей определять себя через противопоставление друг другу [37]. Представьте, что два человека вступают в спор о каких-то незначительных политических разногласиях. А спустя час они занимают уже настолько непримиримые позиции, что оказываются по совершенно противоположные стороны идеологической пропасти, даже отстаивают крайние идеи, которые никогда не стали бы поддерживать в обычных обстоятельствах, — и всё для того, чтобы показать, насколько сильно они отвергают точку зрения оппонента. Они начинают умеренными социал-демократами немного разных сортов; не проходит и нескольких часов жаркой дискуссии, как один из них оказывается ленинистом, а второй — защитником идей Милтона Фридмана. Мы знаем, что такое случается в ходе споров. По утверждению Бейтсона, подобные процессы могут происходить и закрепляться и на культурном уровне. Каким образом, спрашивал он, получилось так, что мальчики и девочки в Папуа — Новой Гвинее начинают вести себя настолько по-разному несмотря на то, что никто прямо не говорит, как должны вести себя представители того или иного пола? Дело не только в подражании старшим, но и в том, что мальчики и девочки учатся считать поведение противоположного пола неприятным и стараются как можно меньше походить друг на друга. Незначительные выученные различия преувеличиваются; в конечном счете женщины начинают считать себя полной противоположностью мужчин и действительно всё больше становятся ею. И, разумеется, то же самое делают мужчины в отношении женщин.
Бейтсона интересовали психологические процессы внутри общества, но есть все основания полагать, что нечто похожее происходит и между обществами. Люди начинают определять себя по отношению к своим соседям. Горожане становятся еще бо́льшими горожанами, а варвары — еще бо́льшими варварами. Если действительно можно говорить о существовании «национального характера», то только как о результате такого схизмогенетического процесса: англичане пытаются быть максимально непохожими на французов, французы — на немцев и так далее. Как минимум в спорах между собой они определенно будут преувеличивать свои различия.
Можно ожидать, что в исторической встрече цивилизаций вроде той, что происходила на восточном побережье Северной Америки в XVII веке, мы увидим два противоположных процесса. С одной стороны, логично, что представители противоположных сторон будут учиться друг у друга, перенимая идеи, привычки и технологии. (Американцы начали использовать европейские мушкеты; европейские поселенцы начали перенимать более мягкий американский подход к воспитанию детей.) В то же время они почти всегда будут делать и обратное — выбирать отличительные черты и преувеличивать или идеализировать их — в конечном счете пытаться в некоторых отношениях как можно меньше походить на своих новых соседей.
То, что Кондиаронк делает акцент на деньгах, — это типичное поведение в подобной ситуации. И по сей день коренные общества, включенные в глобальную экономику, от Боливии до Тайваня, почти всегда формируют свои традиции, по выражению Маршалла Салинза, противопоставляя их жизни белого человека, «живущего по правилам денег» [38].
Всё это было бы не слишком важно, если бы книги Лаонтана не имели такого успеха; но им суждено было оказать огромное влияние на настроения европейцев. Рассуждения Кондиаронка были переведены на немецкий, английский, голландский и итальянский языки. На протяжении более сотни лет его книги переиздавались в разных редакциях. Любой уважающий себя интеллектуал XVIII века почти наверняка их читал. Работы Лаонтана также спровоцировали целый поток подражаний. В 1721 году парижские театралы стекались на комедию Делиля де ла Древитьера «Дикий арлекин»: историю мужчины из племени вендат, привезенного во Францию молодым морским капитаном. Пьеса включала в себя серию продолжительных возмущенных монологов героя, в которых он «связывает беды [французского] общества с частной собственностью, деньгами и в особенности с чудовищным неравенством, которые делает бедняков рабами богачей» [39]. Пьесу ставили почти каждый год на протяжении двух последующих десятилетий [40].
Что еще более удивительно, почти все крупные деятели французского Просвещения пробовали силы в критике своего общества в духе Лаонтана, то есть с позиций воображаемого чужака. Монтескьё избрал для этих целей перса; маркиз д’Аржан — китайца; Дидро — таитянина; Шатобриан — натчеза; «Простодушный» Вольтера был наполовину вендат, наполовину француз [41]. Все они рассматривали и развивали темы и аргументы, позаимствованные непосредственно у Кондиаронка, дополняя их высказываниями других «критиков-дикарей» из описаний путешественников [42]. Более того, можно утверждать, что реальные истоки «западного взгляда» — этого рационального и предположительно объективного способа рассмотрения странных и экзотических культур, который впоследствии стал характерен для европейской антропологии, — лежат не в рассказах путешественников, а в сочинениях европейцев о таких вымышленных аборигенах-скептиках: нахмурив брови, те смотрели «внутрь», разглядывая экзотические диковинки самой Европы.
Возможно, самой популярной работой в этом жанре стала книга выдающейся хозяйки салона мадам де Графиньи. В «Письмах перуанки», опубликованных в 1747 году, французское общество рассматривалось с точки зрения вымышленной инкской принцессы, похищенной европейцами. Книга считается важной вехой в истории феминистской литературы — возможно, это первый европейский роман о женщине, который не заканчивается браком или смертью протагонистки. Инкская героиня «Писем» по имени Зилия критикует как тщету и абсурдность европейского общества, так и патриархат. К XIX веку этот роман считался в некоторых кругах первой работой, представившей широкой публике концепцию государственного социализма. Зилию удивляло, что французский король, взимающий всевозможные — и столь высокие — налоги, не может просто перераспределить богатство подобно тому, как это делал Сапа Инка [43].
В 1751 году, во время подготовки второй редакции «Писем перуанки», мадам де Графиньи интересовалась в переписке со своими друзьями, что стоит изменить в книге. Одним из ее собеседников был двадцатитрехлетний семинарист и начинающий экономист Анн Робер Жак Тюрго. Он написал длинный и крайне критичный (хоть и конструктивный) ответ — до нас дошла его копия. Едва ли можно переоценить значение текста Тюрго: то был ключевой момент его интеллектуального развития, момент, когда Тюрго начал превращать свою идею материального экономического прогресса (впоследствии оказавшуюся его самым долговечным вкладом в человеческую мысль) в общую теорию истории.
Раздел, в котором мы объясняем демиургическую силу Анна Робера Жака Тюрго и рассказываем, как он перевернул индигенную критику европейской цивилизации с ног на голову, заложив основу для большинства современных концепций социальной эволюции (или Как дискуссия о «свободе» стала дискуссией о «равенстве»)
Империю инков едва ли можно назвать «эгалитарной» — на то она и империя, — но мадам де Графиньи изображает ее как доброжелательную деспотию, в которой все равны перед королем. Как и другие вымышленные чужаки, принадлежавшие к традиции Кондиаронка, Залия в своих критических замечаниях о Франции акцентирует внимание на отсутствии личной свободы во французском обществе и на его жестоком неравенстве [44]. Но Тюрго находил подобные рассуждения тревожными и даже опасными.
Да, признавал Тюрго, «всем нам нравится идея свободы и равенства» — в теории. Но мы должны учитывать более широкий контекст. В действительности, рассуждал он, свобода и равенство дикарей — это не признак их превосходства; это признак их ущербности, поскольку такие свобода и равенство возможны только в обществе, где каждое домохозяйство в значительной степени самодостаточно и, следовательно, все одинаково бедны. По мере развития общества, продолжал Тюрго, технологии совершенствуются. Естественные различия в талантах и способностях между людьми (которые существовали всегда) становятся более значительными, и в итоге они закладывают основу для всё более сложного разделения труда. Мы прошли путь от простых обществ, подобных обществу вендат, до нашей сложной «коммерческой цивилизации», в которой бедность и лишения некоторых — как бы это ни было прискорбно — являются тем не менее необходимым условием для процветания всего общества.
Такое неравенство неизбежно, заключает Тюрго в своем ответе мадам де Графиньи. По его мнению, единственной альтернативой было бы масштабное государственное вмешательство в духе империи инков для того, чтобы уравнять социальные условия: такое навязанное силой равенство может лишь уничтожить любую инициативу и, следовательно, привести к экономической и социальной катастрофе. В свете всего этого Тюрго предложил мадам де Графиньи переписать свой роман таким образом, чтобы Залия осознала эти ужасные последствия в конце книги.
Неудивительно, что Графиньи проигнорировала его совет.
Несколько лет спустя Тюрго изложил эти идеи в серии лекций по всемирной истории. К тому моменту он уже на протяжении нескольких лет доказывал верховенство технического прогресса как движущей силы общественного прогресса вообще. В своих лекциях он развил этот аргумент в теорию стадий экономического развития: социальная эволюция, рассуждал Тюрго, всегда начинается с охотников, затем следует стадия скотоводства, после нее — земледелие, и только потом мы наконец приходим к современной стадии городской коммерческой цивилизации [45]. Тех, кто по-прежнему находится на стадии охотников, пастухов или земледельцев, вернее всего рассматривать как пережитки предыдущих стадий социального развития.
Именно так в Европе была впервые сформулирована теория социальной эволюции, ставшая сейчас настолько привычной, что мы редко задумываемся о ее происхождении — как прямой ответ на вызов индигенной критики. Несколько лет спустя предложенное Тюрго деление всех обществ на четыре стадии появилось в лекциях его друга и единомышленника Адама Смита, а коллеги Смита (такие как лорд Кеймс, Адам Фергюсон и Джон Миллар) разработали на основании этой концепции общую теорию человеческой истории. Вскоре эта новая парадигма начала оказывать глубокое влияние на то, как европейские мыслители и европейская общественность в целом представляли себе коренных жителей.
Авторы, которые до этого не уделяли серьезного внимания способам жизнеобеспечения и разделению труда в североамериканских обществах, теперь стали считать, что это единственный вопрос, заслуживающий внимания. Все общества начали располагать на одной большой эволюционной лестнице в зависимости от того, какой у них основной способ добывания пищи. «Эгалитарные» общества были отброшены на самую низшую ступень лестницы, откуда они могли в лучшем случае рассказать нам о том, как, быть может, жили наши далекие предки. Но, конечно, их уже нельзя было представить себе в качестве равноправных участников диалога о том, как стоит поступать жителям богатых и могущественных обществ в наши дни.
Остановимся ненадолго, чтобы подвести итоги. Как мы увидели, в период с 1703 по 1751 год критика европейского общества со стороны коренных жителей Америки оказала огромное влияние на европейскую мысль. Если сначала американцы, впервые столкнувшись с европейскими нравами, высказывали возмущение и неприязнь, то со временем, по прошествии многих тысяч дискуссий, которые велись на десятках языков от португальского до русского, всё это превратилось в спор о природе власти, добропорядочности, социальной ответственности и, прежде всего, свободе. Французы узнали, что для большинства коренных американцев личная независимость и свобода действий были высшими ценностями — они организовывали свою жизнь так, чтобы свести к минимуму вероятность того, что кому-либо придется подчиняться воле другого человека, и потому французское общество казалось им, в сущности, обществом вздорных рабов. Это вызвало самые разные реакции среди самих французов.
Некоторые, подобно иезуитам, прямо осудили принцип свободы. Другие: поселенцы, интеллектуалы и европейская читающая публика — увидели в нем вызывающее и привлекательное социальное предложение. (При этом их мнение по данному вопросу не имело особенного отношения к тому, как они воспринимали самих коренных жителей, истребление которых зачастую приветствовали, — хотя, справедливости ради, нужно отметить, что по обе стороны интеллектуального раскола встречались люди, которые решительно выступали против агрессии в отношении чужеземных народов.) На самом деле, критика европейских институтов со стороны коренного населения считалась настолько мощным оружием, что к нему прибегали почти все, кто выступали против существующего интеллектуального и социального порядка: как мы узнали, в эту игру играл чуть ли не каждый великий философ эпохи Просвещения.
В процессе — и мы видели, как это происходило уже с Лаонтаном и Кондиаронком, — спор о свободе также всё больше превращался в спор о равенстве. Однако обращение к мудрости «дикарей» прежде всего оставалось способом бросить вызов самонадеянности существующих авторитетов, средневековой уверенности, что суждения церкви и властных институтов, которые она поддерживала, воплощали собой истинную версию христианства и как следствие стояли выше суждений всех остальных людей.
Случай Тюрго показывает, что такие понятия, как цивилизация, эволюция и прогресс — которые мы считаем ключевыми для мысли Просвещения, — на самом деле являются довольно поздним дополнением к этой критической традиции. Самое главное, что данный случай показывает, — разработка этих концепций стала непосредственной реакцией на вызов, брошенный индигенной критикой. Потребовались огромные усилия для спасения того самого чувства европейского превосходства, которое мыслители эпохи Просвещения стремились расшатать, опрокинуть, лишить центрального значения. Конечно, в течение следующего столетия и позднее такие идеи стали удивительно успешной стратегией для достижения этой цели. Но они также породили множество противоречий: например, тот удивительный факт, что европейские колониальные империи, в отличие от почти всех остальных существовавших когда-либо империй, были вынуждены подчеркивать свою собственную эфемерность, утверждая, что они лишь выполняют временную роль, ускоряя движение своих подданных к цивилизации — по крайней мере тех подданных, кого в отличие от вендат они еще не успели стереть с лица земли.
Сделав полный круг, мы возвращаемся к Руссо.
Как Жан-Жак Руссо, выиграв один престижный конкурс сочинений, затем проиграл другой (превысив допустимый лимит слов), но в итоге покорил всю человеческую историю
Диалог между мадам де Графиньи и Тюрго дает нам представление об интеллектуальных дискуссиях во Франции в начале 1750-х годов; по крайней мере, если говорить о салонных кругах, с которыми был хорошо знаком Руссо. Свобода и равенство — это универсальные ценности? Или же они — по крайней мере, в своем чистом виде — несовместимы с системой, основанной на частной собственности? Способствует ли прогресс в области искусства и науки более глубокому пониманию мира и, следовательно, также прогрессу в области морали? Или же критика коренного населения верна и богатство и могущество Франции — лишь порочный побочный эффект неестественного, даже патологического общественного устройства? В то время эти вопросы были на устах у всех спорщиков и полемистов.
Если мы что-то и знаем об этих дискуссиях сейчас, то в основном благодаря тому влиянию, которое они оказали на эссе, которое написал Руссо. «Рассуждение о происхождении неравенства» с тех пор было изучено, обсуждено и разобрано в тысячах аудиторий, что весьма странно, учитывая, что это крайне эксцентричное сочинение даже по меркам своего времени.
В ранние годы Руссо знали в основном как начинающего композитора. Известным социальным мыслителем он стал позднее. Всё началось в 1750 году, когда Руссо принял участие в конкурсе сочинений, организованном тем же научным обществом, Дижонской академией. Тема звучала следующим образом: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» [46] Руссо получил первый приз и прославился на всю страну, написав эссе, в котором он увлеченно доказывал, что это не так. Он утверждал, что наши элементарные моральные интуиции в основе своей достойны и разумны; цивилизация лишь развращает нас, побуждая ценить форму больше содержания. Почти все примеры в «Рассуждении о науках и искусствах» взяты из классических греческих и римских текстов, но в сносках Руссо намекает и на другие источники вдохновения:
Я не осмеливаюсь говорить здесь о счастливых народах, не ведающих даже названий тех пороков, с которыми нам так трудно справляться, об этих дикарях Америки, чей простой и естественный уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона, но и всему тому, еще более совершенному, что философия когда-либо сможет изобрести для управления народами. Он приводит тому множество ярчайших примеров — для тех, кто способен их оценить. Да что там, говорит он, они не носят коротких штанов! [47]
Победа Руссо спровоцировала скандал. Казалось по меньшей мере странным, что академия, занимающаяся развитием искусств и наук, удостоила высшей награды эссе, в котором утверждалось, что искусства и науки вредны. Что касается Руссо, то на протяжении следующих нескольких лет он в основном публиковал популярные ответы критикам своего эссе (а также воспользовался новообретенной славой, чтобы поставить комедийную оперу «Деревенский колдун», ставшую популярной при французском дворе). Когда в 1754 году Дижонская академия объявила новый конкурс, посвященный вопросу происхождения социального неравенства, это явно было сделано с целью поставить выскочку на место.
Руссо клюнул на приманку. Он представил еще более замысловатый трактат, явно рассчитывая на то, что его содержание шокирует читателей и приведет их в замешательство. Он не только проиграл конкурс (приз получило очень традиционалистское эссе представителя духовенства, аббата Тальбера: тот связал современное неравенство с первородным грехом), судьи также заявили, что они даже не дочитали работу Руссо до конца, поскольку он превысил допустимый лимит слов.
Эссе Руссо, несомненно, странное. Кроме того, его содержание часто неправильно понимают. На самом деле он не утверждает, что человеческое общество начинается с состояния идиллической невинности. Первые люди были добрыми по своей природе, пишет Руссо, но тем не менее (почему-то) систематически избегали друг друга, опасаясь насилия. Как следствие, в естественном состоянии люди были одиночками. Это позволяет Руссо утверждать, что само «общество» — то есть любая форма постоянного объединения людей — неизбежно ограничивает человеческую свободу. Даже появление языка было компромиссом. Но свою действительно новаторскую идею Руссо излагает, когда пишет о «грехопадении» человечества, спровоцированном возникновением имущественных отношений.
Предложенная Руссо модель человеческого общества — которую, как он неоднократно подчеркивает, следует воспринимать не буквально, а как мысленный эксперимент — предполагает три стадии: полностью вымышленное естественное состояние, в котором индивиды живут в изоляции друг от друга; каменный век и стадия дикости, которая наступает после изобретения языка (по мнению Руссо, на этой стадии находится большинство современных жителей Северной Америки того времени и других известных ему «дикарей»); затем, наконец, стадия цивилизации, которая наступает после изобретения сельского хозяйства и металлургии. Каждая стадия знаменует собой всё больший упадок нравов. Но, как специально замечает Руссо, он написал свою притчу для того, чтобы понять, что же позволило человеческим существам принять саму идею частной собственности:
Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!» Но очень похоже на т
