автордың кітабын онлайн тегін оқу В тени королей:экономическая анатомия демократического представительства
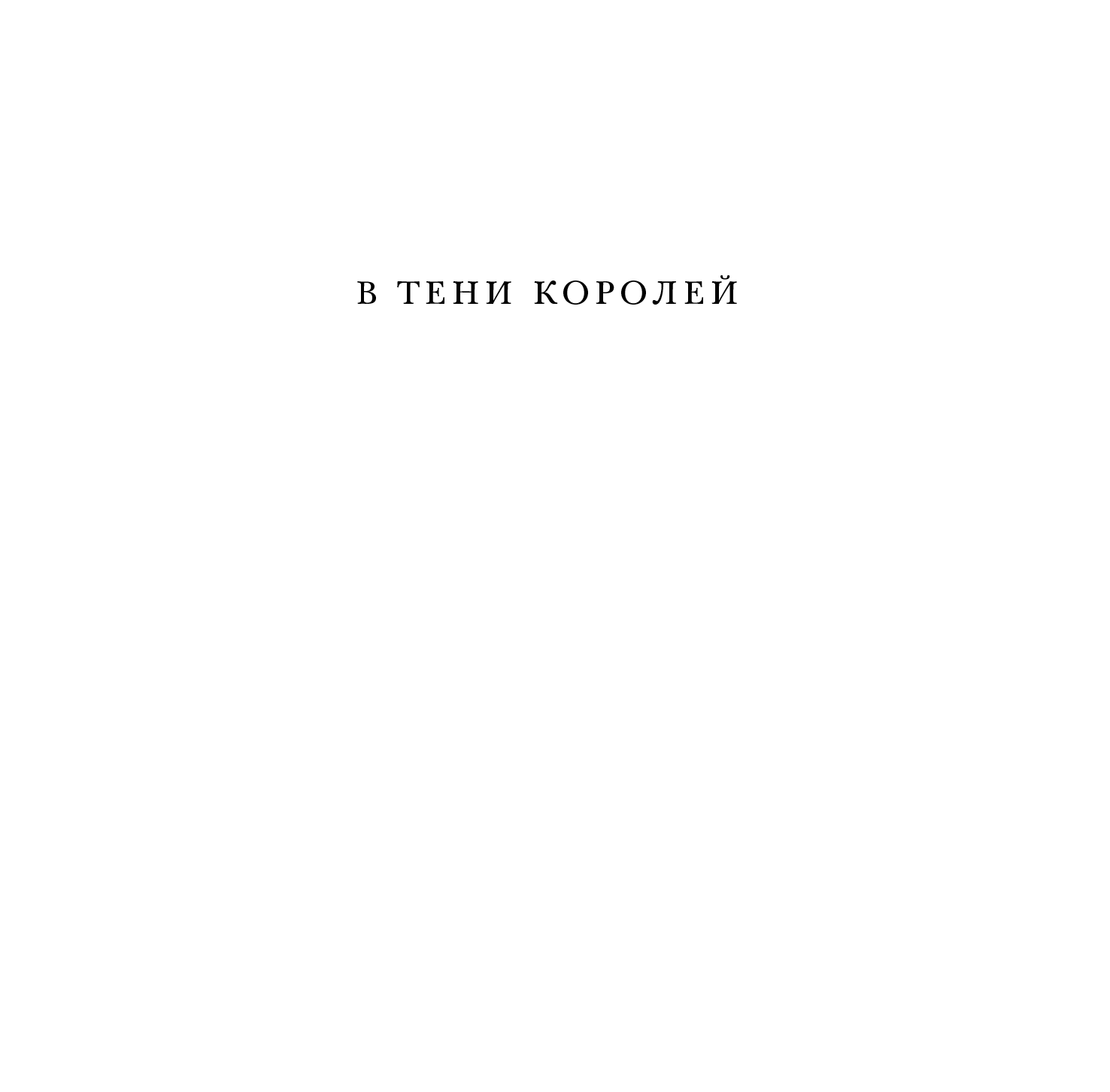

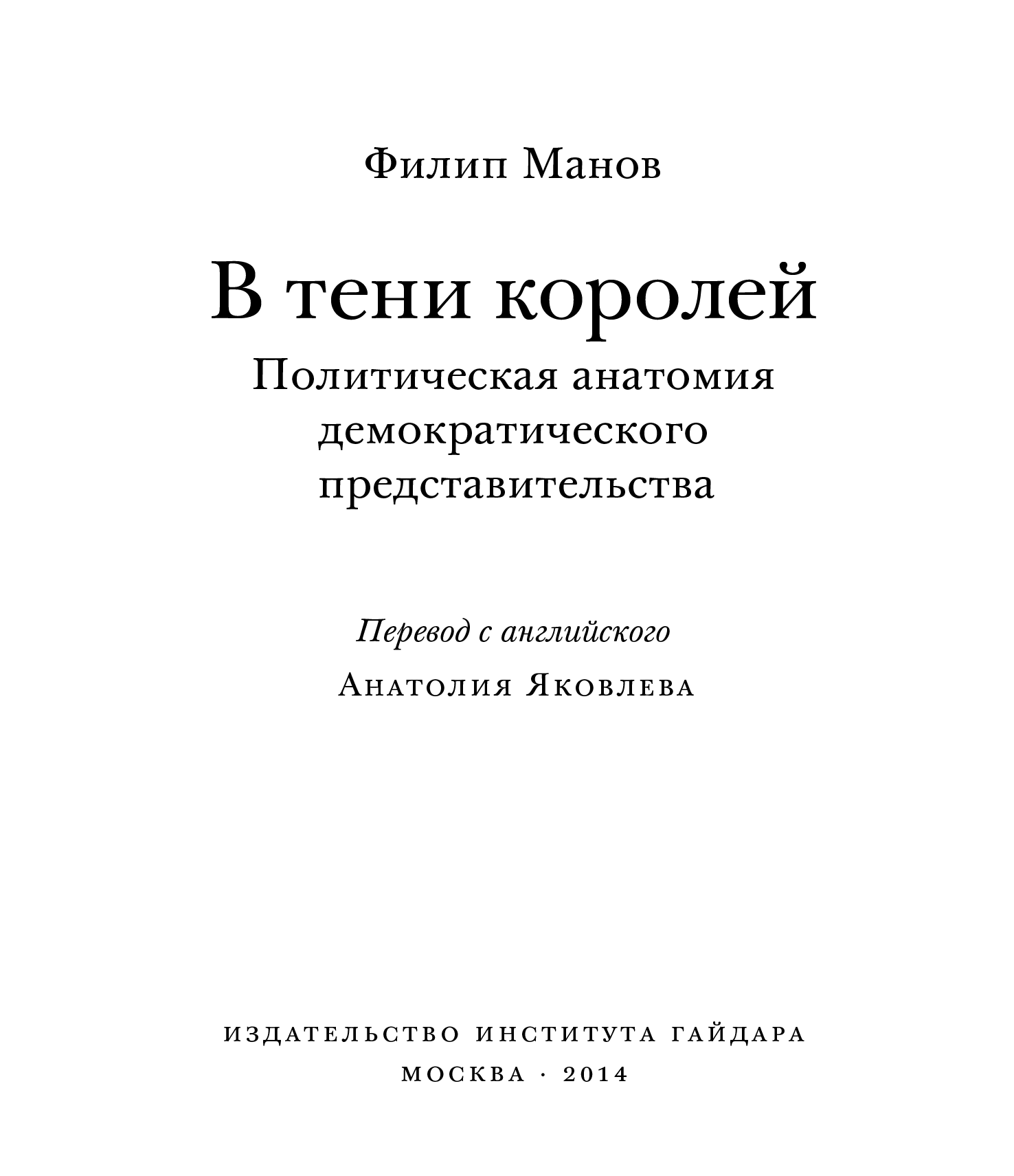
1
Есть ли у республики тело?
Rex est populus (король есть народ) — так в годы Английской гражданской войны Томас Гоббс резюмировал свою теорию политического представительства. Концепция короля как народа, «поскольку народ проявляет себя как целое посредством единой королевской воли» (Duso 2006: 24), была направлена против парламентариев, которые в своих полемических сочинениях настаивали на том, что функция «представительства всего королевства» должна принадлежать не королю, а парламенту (Skinner 2005: 163). Английская революция завершилась конституционным компромиссом, оставившим за королем — и палатой лордов — функцию верховного представительства. Однако в ходе Французской революции идея исключительно парламентского представительства нового суверена, народа, одержала триумфальную победу над принципом (полного или частичного) монархического представительства. Теперь «конвент есть народ» (цит. по: Heurtin 2005: 768): т. е. народ проявляет (и конституирует) себя как политическое единство благодаря народной воле, которую выражает парламент (см. ниже раздел 3.2 главы 3). И хотя идее парламентского представительства суверенного народа не удалось избежать критики, она продолжает доминировать в мире наших демократических фантазмов. В 1962 г., в речи во французском Национальном собрании, Поль Рейно разъяснял: «Во всех цивилизованных странах парламент считается представителем нации. Когда избранные депутаты дискутируют и голосуют, они делают это, обладая особым качеством представителей нации. Для нас, республиканцев, Франция существует здесь и нигде более». Эти слова не остались в Собрании без ответа. Депутат Руллан возразил: «Она [Франция] не только на вашей стороне», а Гийон заявил, что «Франция существует в народе» (все цитаты по: Mopin 1998: 159).
Согласно преобладающим в демократических обществах представлениям о самих себе, переход суверенитета от монарха к народу и его парламентскому выражению в основном положил конец церемониальной, зрелищной, театральной стороне правления, столь характерной для ancien régime, а колдовские чары монархических образов уступили место демократическим рациональности и трезвости. Современная демократия по сути своей «постметафизична» (Habermas 1992a), она является наследием не-метафорического рационального права и, следовательно, носит по преимуществу иконоборческий характер. Быть может, наиболее ясным тому свидетельством является судьба пред-современной теории двух тел короля — смертного физического тела и вечного политического тела, — теории, занимавшей центральное место в конституционном строе ancien régime и часто находившей выражение в пышных сценографиях королевского правления. Теория двух тел поражает нас сегодня своей странностью и нелепостью и, по мнению некоторых авторов, не имеет аналогов в демократии. Даже Фуко, непримиримый критик Просвещения, лучше других чувствовавший социально-политическую роль тела, приходил к выводу: «она [Республика] никогда не функционировала так, как действовало тело короля при монархии. У Республики нет тела» (Foucault 1978: 28; 1980: 55; Фуко 2002: 161).
Республика состоит из индивидов, которые в демократическом голосовании становятся числами (Rosanvallon 2006; Gueniffey 1993; Crook 2002). Но есть ли у республики тело? Нередко утверждают, что именно отказ от идеи политического тела знаменует переход от режима личного правления к современной представительной демократии, а демократия начинается тогда, когда наступает «конец всех „механизмов воплощения“» (Charim 2006: 16), или сопровождает «развоплощение (disembodiment) власти» (Lefort 1988: 17), или «устанавливается как общество без тела» (ibid.: 18; Лефор 1999: 26).
В последующих главах мы попытаемся показать, что политическое тело, хотя его часто и объявляют умершим, продолжает жить в демократии, или, по крайней мере, ведет в ней свое посмертное существование. Во многих отношениях идея народного суверенитета является интеллектуальной копией идеи монархического суверенитета (ср. Kielmansegg 1977) и потому не может избавиться от ее влияния. Бертран де Жувенель удачно сформулировал эту мысль, когда писал, что король вовсе не исчез в результате Французской революции (ср.: Schmitt 1969: 195, n. 119; Schmitt 1971). Согласно конституционной доктрине ancien régime, задача правителя — representatio in toto (представительство целого): он «символизирует единство общества и воплощает способность государства к действию» (Schmitt 1969: 189–190). Функция парламента, с другой стороны, заключается в представительстве интересов сословий (representatio singulariter, представительство отдельного) перед лицом короля. В результате революции король исчез как институт, но не как функция, поскольку функцию representatio in toto взял на себя парламент. «Король не исчез: его преемником стал законодатель как представитель национального интереса. Но что действительно исчезло, так это представительство индивидуальных общественных интересов» (Schmitt 1969: 195, n. 119). И это отразилось на возможных символических формах парламентского представительства in toto, которое, как мы увидим, имитирует многие формы королевского представительства. Так что в последующих главах речь пойдет главным образом о следах монархии, оставленных в демократических практиках, и, следовательно, о преддемократических понятиях, сохраняющихся в теории демократии. Это особенно хорошо видно на примере идеи политического тела и ее семантической трансформации в демократической политии.
Обычно народный суверенитет понимают негативно, как критическое противоположение абсолютистскому суверенитету (ср.: Raynaud 2001: 869). Но это означает, что данное понятие сохраняет тесную связь с тем, критикой чего оно выступает, в том числе на уровне публичного церемониала и форм, в которых понятие народа репрезентируется в качестве нового суверена в демократии. В этих формах часто находит выражение идея правления через политическое тело народа. Строго говоря, образ народа как единого политического деятеля — ничуть не меньший фантазм, чем образ двойного тела короля, но его многократная сценическая демонстрация приводит к тому, что он начинает рассматриваться не как продукт ритуальной церемонии, но как естественная, самоочевидная часть практики демократического правления, подобно тому, как в рамках ancien régime королевское lit de justice (заседание парламента с участием короля) рассматривалось не просто как церемония, но как неотъемлемая часть монархической системы правления.
«Идея некоего общественного тела, которое якобы создается совокупностью воль», и в этом мы можем согласиться с Фуко, является «самым большим фантазмом» демократии (Foucault 1980: 55; Фуко 2002: 161). Однако, как будет показано ниже, фантазм единого демократического тела можно найти главным образом в демонстрации единства, достоинства и священного характера политического представительства, которое, в свою очередь, заимствовано из образов политического суверенитета ancien régime. Ниже мы приведем несколько примеров в подкрепление тезиса о том, что политическое тело продолжает жить в демократии. Основное внимание будет обращено на физическую репрезентацию, или образный ряд демократического правления, и на то, что из этого следует для теорий демократического представительства. Наши вопросы могут показаться второстепенными. Например, почему после Французской революции доминирующим планом расположения депутатских мест в парламенте стал полукруг? Почему Англии понадобилось гораздо больше времени, чем Франции, на то, чтобы парламентские дебаты стали публичными? Как на самом деле появился и упрочился принцип парламентского иммунитета? Чем объясняется идея, что парламент и demos должны находиться в отношении пропорционального соответствия? Почему мы думаем, что парламент должен как можно точнее отражать разнообразие, существующее в обществе? Как мы отмечаем начало и конец парламентского срока, когда парламенту предоставляются полномочия представлять народ и когда эти полномочия отзываются? Почему в конце одного парламентского срока законодательный процесс прерывается, а в начале следующего срока начинается заново?
Какими бы второстепенными ни показались эти вопросы, их выбор не случаен. На примере некоторых практик, плохо согласующихся с новым порядком, особенно хорошо видно, что демократия вышла из формы правления, которая ей предшествовала. Человеческие существа проявляют редкую изобретательность, когда приводят a posteriori новые доводы в пользу старой практики и придают новый смысл тому, что стало бессмысленным. На периферии парламентской демократии закоснелые практики были преобразованы лишь частично, и именно поэтому они легко поддаются нашей «герменевтике подозрения».
В последующих главах мы рассмотрим не только новое двойное тело (т. е. народ и его парламентский образ), но и тела некоторых современных политиков в сопровождении их медийной драматургии. В поле нашего внимания окажутся также свойства, присущие представительному парламентскому телу, такие, например, как его притязание на высокое достоинство и неприкосновенность. Политическая харизма все еще сопровождается образами политического дара благодати, «избранности», подтверждаемой задним числом в демократическом ритуале выборов.
Итак, центральный тезис этой книги состоит в том, что современная демократия не постметафизична, а, так сказать, неометафизична. Всякая политическая власть — и демократия в том числе — нуждается в политической мифологии и продуцирует ее: «Полностью расколдованный мир является полностью деполитизированным миром» (Geertz 1985: 30). Любая форма политического правления оперирует в контексте символического ряда, который ее легитимирует («Не бывает власти без показухи», Lefort and Gauchet 1971: 98) [1] и освящает. Во все времена «господство и спасение (Herrschaft and Heil)» (Assmann 2002) тесно связаны друг с другом. «Сила власти зиждется не только на реальных средствах, которые находятся в ее распоряжении, но и в неменьшей степени на постоянном насаждении привычных образов и фикций; ей необходимы рациональное признание и магия влияния; она должна оперировать […] зримыми инструментами и править из непостижимого вышнего мира» (Жак Неккер, цит. по: Gablentz 1965: 193).
Один из предрассудков нашего «просвещенного» века состоит в том, что это якобы относится к иным временам и странам. Однако расколдовывание старого порядка, сопровождавшее демократическую революцию, приводит к новому колдовству, которое производит новый демократический порядок. Карл Шмитт полагал, что каждая эпоха имеет политический строй, соответствующий ее мифологии (Schmitt 1985a; Шмитт 2000б). Материал, который приводится нами ниже, свидетельствует в пользу противоположного и, на мой взгляд, более правдоподобного тезиса, а именно, что каждая эпоха имеет мифологию, соответствующую ее политическому строю. Если в этом контексте применимо понятие политической теологии, то она означает не секуляризацию в политике исходно религиозных понятий, как считал Шмитт, но скорее — как полагают Ян Ассман (Assmann 2002) или Якоб Таубес (Taubes 1983), — придание религиозного смысла изначально секулярно-политическим понятиям.
Данная книга представляет собой перевод, исправленный и дополненный, моей книги «Im Schatten des Königs», вышедшей в 2008 г. в издательстве «Suhrkamp». Немецкое издание было основано на результатах двух продолжительных исследований, опубликованных в 2004 и 2006 гг. журналом «Leviathan» [2], одно из которых посвящено планам расположения парламентских мест, а другое — парламенту как политическому телу. Мне бы хотелось выразить благодарность редакции журнала за разрешение воспроизвести эти тексты в моей книге.
Помощью в подготовке книги к печати, моральной поддержкой и критикой я обязан многим людям. Среди них: Анника Шульте, Доминик Хайнц, Ингеборг Стромейер, Бодо фон Грейф и Ханне Херкоммер, Вольфганг Стреек, Альбрехт Кошорке (замечательное исследование которого о «фиктивном государстве» — Koschorke et al. 2007, к сожалению, я смог лишь частично учесть в книге), Хорст Бредекамп, Ульрих Глассман, Андре Кайзер, Юрген Каубе, Марион Мюллер, Томас Циттель, Патрик Камиллер и Сара Ламберт. Разумеется, сколь бы весомой ни была их помощь, я один несу ответственность за все ошибки, которые остались неисправленными.
Philip Manow, «Der demokratische Leviathan — eine kurze Geschichte parlamentarischer Sitzanordnungen seit der Französischen Revolution», Leviathan 32 (2) (2004): 319–347; Philip Manow, «Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation», Leviathan 34 (2) (2006): 149–181.
Для Лефора и Гоше (Lefort and Gauchet 1971: 98) символические или «демонстративные» элементы власти включают особый способ употребления языка, трепетное отношение к престижу и апелляцию к легендарному прошлому. Ср. также: «Господство […] не существует как отдельная политическая сущность, вне ее самопровозглашения» (Rolf 2006: 46).
2
Парламент как политическое тело — планы расположения мест в палате
2.1
Действительно ли демократия лишена образного ряда?
Если судить по количеству работ, опубликованных в последнее время, парламентская архитектура привлекает к себе все больший интерес [3]. Однако, что поразительно, в них в лучшем случае мельком затрагивается , а то и вовсе не рассматривается один из важнейших элементов архитектурной формы, а именно план расположения парламентских мест. Насколько мне известно, в научной литературе этот вопрос специально затрагивался в работах двух авторов — Гудселла (Goodsell 1988) и Дёринга (Döring 1995а) [4]. Оба придерживаются мнения, что схемы парламентских мест не могут быть объяснены чисто функциональными причинами — тем, например, что они позволяют лучше слышать или видеть выступающих, — но являются также, и даже главным образом, выражением политической культуры, формированию которой сами отчасти способствуют. К примеру, тот факт, что «скамьи», занимаемые правительством и оппозицией в британской палате общин, расположены напротив друг друга, рассматривается как выражение концепции «состязательных» демократических политических дебатов (ср.: Interparliamentary Union 1976: 258), в то время как в системах, более склонных к консенсусу, более подходящим выражением пропорционального представительства всех политических сил считается полукруг (ср.: Döring 1995a). В какой-то мере здесь применяется аргумент, противоположный тезису «форма следует за культурой», а именно, что сама архитектурная форма оказывает влияние на парламентскую и политическую культуру. Сколь бы убедительными или неубедительными ни были аргументы Гудселла, Дёринга и других авторов, совершенно непонятно, почему центральный локус политического правления в современных западных обществах — «важнейший институт в системе демократического разделения властей» (Beyme 1992: 33) — столь мало изучался с точки зрения его символико-репрезентативной формы. Конечно, вместе с растущим объемом всей литературы по парламентской архитектуре в целом появились исследования, посвященные парламентской символике (Palzelt 2001) и иконологии (Reiche 1988), парламентским ритуалам и церемониям (Müller 2003; Mergel 2002). Однако форма самого зала для заседаний и особенно расположение мест до сих пор изучались крайне поверхностно.
Это наблюдение в общем и целом относится также к подходам, отталкивающимся от истории искусства или иконологии. В них рассматривается вопрос, претерпела ли изменения в процессе перехода от монархического абсолютизма к демократическому обществу широкая программа легитимации и репрезентации политической власти, реализуемая при помощи картин, садов, замков или салютов, а также других публичных спектаклей, таких как театральные представления и церемонии (Burke 1993). Что перешло в сегодняшний день из пышных представлений прошлого? Какие графические образы прошлого связаны с «помпой и политикой» (Paulmann 2000) в современных демократиях? Что появляется на месте короля и его двора, когда они, в прямом смысле слова, перестают служить воплощением политической власти (Kantorowicz 1957 [1998]; Канторович 2014)? Или на их месте ничего не появляется?
В ответ обычно говорят, что демократия просто-напросто лишена образного ряда. После разрыва с «традиционными способами репрезентации единства и объединения в обществе», присущими позднему абсолютизму, современные демократические системы столкнулись с трудной дилеммой — «невозможностью и в то же время необходимостью символической репрезентации» (Klinger 2002: 224); перед ними встала неразрешимая проблема «визуализации народной власти» (Falkenhausen 1993: 1019). В демократии «место власти оказывается необозначенным» (Lefort 1988: 17; Лефор 2000: 26); оказывается, что это «пустое место» (ср.: de Mazza 2003). Проблемы с метафорической репрезентацией считаются «характерной чертой демократии» (Koschorke et al. 2007: 251); демократическое правление сосредоточено вокруг пустого центра, «имагинативного вакуума», «пространства без образов» (ibid.). Поэтому, делают вывод в первую очередь скептики, демократиям «трудно стать видимыми» (Arndt 1992: 58). Считается также, что, по сути дела, неспособность договориться о единой программе образов есть выражение плюрализма современных демократических обществ (Beyme 1996: 31). В результате их «образ самих себя» оказывается по необходимости «скромным» (Beyme 1992: 45). Неприятие «мощных, эстетически ярких образов» — странный «недостаток» и сбивающая с толку «слабость» демократии (Grasskamp 1992: 7, 9). Но почему тогда, учитывая все эти резко негативные суждения, никогда не проводился сколько-нибудь тщательный анализ образов центрального локуса современного политического правления — демократически избираемой палаты депутатов?
Более внимательный анализ планов расположения мест в парламенте покажет, что суждение об отсутствии образного ряда в современном демократическом правлении является необоснованным. Наш главный аргумент состоит в том, что именно в такого рода схемах проявляется «посмертная жизнь» политической теории и теологии, главное место в которых занимает (священное) политическое тело. Если этот тезис верен, то из него следуют важные выводы, позволяющие лучше понять функциональные предпосылки современных демократий, а также их культурные корни, которые будут кратко рассмотрены нами в конце главы.
Данная глава имеет следующую структуру. Начинается она с того, что, как следует из перечня парламентских планов расположения мест в развитых демократиях, имеются две базовые формы (и две главные вариации). Первая хорошо известна по британской палате общин: скамьи правительства и скамьи оппозиции расположены напротив друг друга, а трибуна спикера — в центре торцевой стены. Этот план содержит черты, напоминающие представительство средневековых сословий, которые доминировали в классических европейских парламентах в период до Французской революции (ср.: Myers 1975), хотя в случае с Британией столь прямая родословная и отсутствует. Второй «современной» формой является французский полукруг, который в конце концов был принят в большинстве западных демократий после 1789 года.
Третий раздел посвящен рассмотрению различных гипотез, выдвигавшихся вплоть до сегодняшнего дня для объяснения того, почему та или иная нация избрала ту или иную форму. В четвертом разделе рассматривается долгое время игнорировавшаяся преемственность образов и символики в полусферической форме, которая подсказывает новое объяснение существующих вариаций. Наконец, завершает главу краткий обзор основных выводов моей аргументации для теории демократии.
2.2
Базовые планы расположения мест в парламенте, и как они возникли
Чтобы сделать понятным эмпирический феномен, о котором идет речь, приведем перечень существующих планов и посмотрим, чем они отличаются друг от друга. Для этого нам также потребуется как можно более точная реконструкция развития этих форм во времени.
Начнем с соображения общего характера. До 1789 г. доминировала модель парламента в форме прямоугольника, в одном торце которого восседал монарх (как «точка притяжения внимания», Goodsell 1988: 293), а первое и второе сословия (духовенство, знать) занимали скамьи вдоль стен слева и справа от него. В некоторых случаях представители третьего сословия (по большей части городские сановники, иногда крупные землевладельцы) сидели напротив монарха [5]. После Французской революции доминирующей схемой стал полукруг [6]. Это говорит о том, что перед нами — систематический временно́й сдвиг, требующий столь же систематического объяснения. Схемы расположения мест появились не случайно, они сопровождали фундаментальный разрыв с прежней традицией политической легитимации. И разрыв этот произошел во время Французской революции.
Британская и французская схемы расположения мест в парламенте встречаются в других странах в слегка модифицированном виде. Наиболее важной вариацией «вестминстерской модели» является «соединение» двух рядов скамей в форму U-образной подковы, обращенной к трибуне спикера. Мы встречаем ее, например, в Австралии, Новой Зеландии, Индии и Ирландии, хотя в каждом случае полукруг разрезан проходом, выдающим британские корни. Аналогичные изменения предлагались при реконструкции Вестминстерского дворца после опустошительного пожара 1834 г. и бомбежек Второй мировой войны (Port 1976: 20–52), однако эти предложения так и не были реализованы. Тот факт, что форма подковы была принята главным образом в странах Содружества или в бывших британских колониях, пусть даже прямо и не следовавших британскому образцу, доказывает, что это не независимый тип и не простое «продолжение» французской полусферы (ср.: Döring 1995a: 283, Table 1), но скорее попытка сблизиться с уже занявшей доминирующие позиции полусферической формой [7].
ТАБЛИЦА 2.1. Базовые типы расположения мест в парламенте
| Базовая форма |
(Классический) пример |
Страны |
|
| I |
«архаическая» форма: прямоугольная; скамьи правительства и оппозиции расположены вдоль стен друг напротив друга |
палата общин |
Британия, Канада, Сингапур |
| Ia |
вариация: подкова |
Палата парламента, Австралия |
Австралия, Индия, Ирландия, Новая Зеландия |
| II |
«современная» форма: полукруг |
Бурбонский дворец |
Франция, Бельгия, Дания, Норвегия, США |
| IIa |
вариация: полукруговая, скамьи правительства обращены к парламенту; иногда треть или две трети круга |
немецкий бундестаг; Палаццо Монтечиторио |
Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Япония |
Незначительным отходом от французского оригинала является смешанная полукруговая форма, встречающаяся в немецком, австрийском или итальянском парламентах, где ряды правительственных скамей (как и некоторые скамьи других представителей исполнительной власти или спикера) обращены к собранию. Такие правительственные скамьи могут располагаться справа и слева от пюпитра, или простираться подобно радуге (как в Германии, Австрии и Японии), или же находиться прямо перед пюпитром или кафедрой спикера (как в Италии). В исходной французской полусфере таких отдельных скамей не существует: члены правительства сидят в первом ряду депутатов Национального собрания, как и в бельгийском и британском парламентах. Британские парламентарии, включая министров правительства, выступают со своих мест, в то время как в полукруговых палатах они обычно подходят к центральному пюпитру, поставленному на основание той или иной высоты (известными исключениями служат американский Сенат и Палаццо Монтечиторио в Риме, члены которых выступают со своих индивидуальных пюпитров). Во Франции депутаты сидят на своих местах, когда обсуждают законопроекты, в то время как докладчик и министры выступают в поддержку предложений правительства, подходя к пюпитру (см. таблицу 2.2). В принципе, депутаты во Франции могут сами выбирать, где они желают выступать [8]. Не всегда строго соблюдается и принцип полукруга. Иногда форма может напоминать, скорее, треть круга или, как в новом немецком бундестаге, две трети круга.
