автордың кітабын онлайн тегін оқу Однажды Аргентина
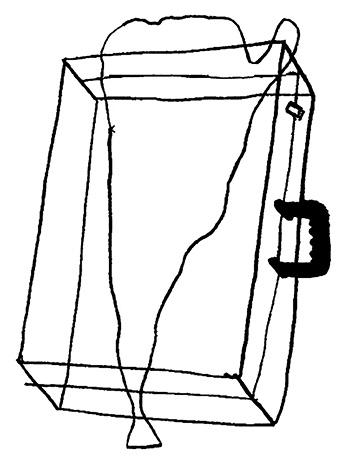
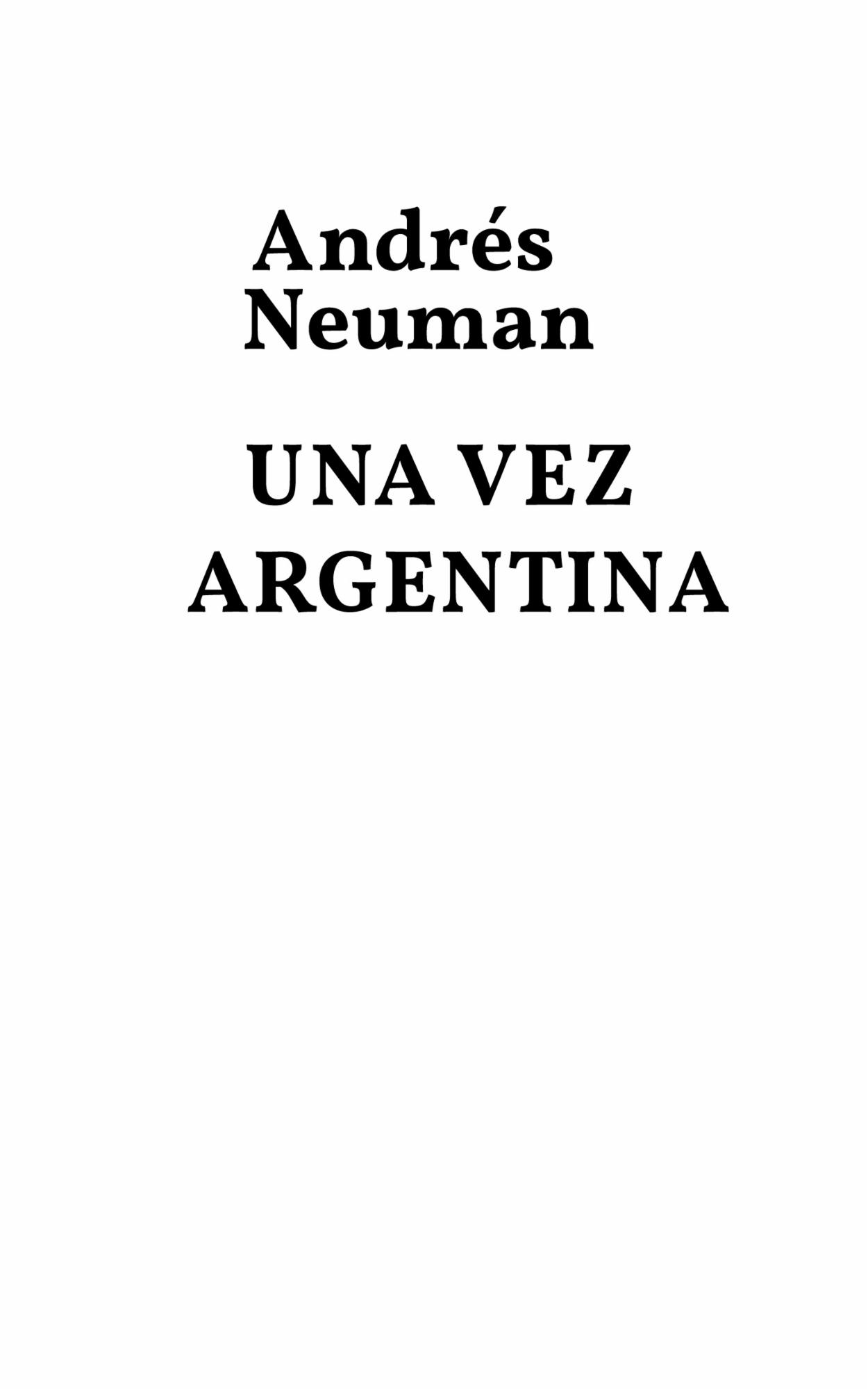
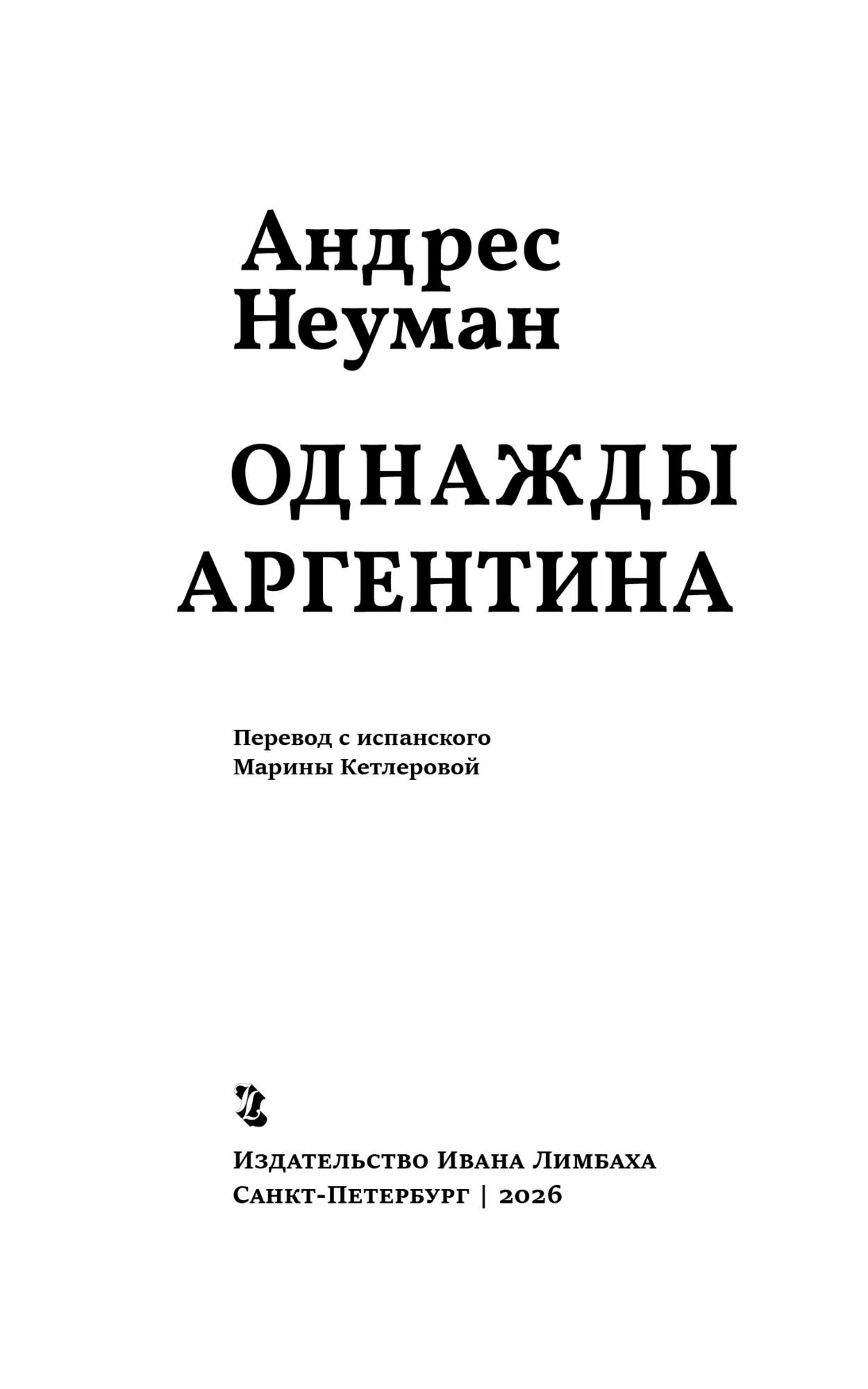
Моей матери и ее четырем струнам
Мне сказали, что сюда каждый может прийти и рассказать свою историю.Мигель Брианте
То, что я только что рассказал сам себе, — воспоминание.Альбер Коэн
У твоей матери есть мать.Страна слов.
Махмуд Дарвиш
1
Воспоминания болят, когда возвращаются? Или же, вернувшись, начинают заживать, и тогда мы осознаем, как давно они причиняют нам боль? Мы путешествуем внутри них. Мы их пассажиры.
При мне — письмо и неуемная память. Письмо от моей бабушки Бланки, с немного выцветшими строчками. Память — моя собственная, хоть и принадлежит не мне одному. С вечным ее страхом — исчезнуть прежде, чем получится заговорить.
Я отправляюсь в путешествие в обратном направлении.
2
Когда я только родился, глаза у меня были широко распахнуты, и по незнанию протокола я не заплакал. Врач пристально осмотрел меня на свету, словно плотный лист бумаги. Я в ответ посмотрел на него, должно быть, полным любопытства взглядом. Врач спросил у мамы, как меня собираются назвать.
Андрес, ответила она, что-то не так, доктор Рикельме? Не знаю, сказал врач, немного испуганно разглядывая меня, этот ребенок не плачет, а только смотрит. Это очень плохо, доктор? Вроде того, сеньора; скажем, если ребенок привыкнет так пристально смотреть, он хочешь не хочешь научится плакать.
Стоял январский полдень тысяча девятьсот семьдесят седьмого года. Доктор Рикельме посчитал, что я чересчур спокоен. Ему не хотелось применять силу, так что он принялся проникновенно нашептывать: Андрес, Андресито, ты чего это не плачешь, а? Ну же, давай, хоть немножечко. Чуток. Ну, давай же, плачь. Мама растроганно следила за нами: вне сомнения, то был мой первый мужской разговор.
Сеньора, объявил врач, ребенок срочно должен заплакать, понимаете? это необходимо для его легких. Что же делать? — разволновалась мама. Рикельме подал знак акушерке и поднял меня так, что наши с ним лица оказались вровень. Увидел напротив два круглых растерянных глаза. Я упорно продолжал хранить молчание. Тогда доктору Рикельме ничего не оставалось, кроме как прикрикнуть: Да плачь же ты наконец, черт тебя подери, сукин сын!
В тот же миг мои глаза подслеповатого котенка наполнились слезами.
Акушерка, стоявшая возле маминых раздвинутых ног, заявила:
— Ну вот, делов-то. Этому парню нужна твердая рука!
3
Никто точно не знал, было ли это делом его рук или дело рук его отца, а может, и деда. Но фамилия прадеда Хакобо — моя фамилия — появилась на свет в результате обмана. Может статься, жив еще где-нибудь наш дальний родственник, помнящий, как именно все произошло. Сам я предпочитаю придерживаться той версии, которую услышал в детстве: истории о своевременном предательстве и находчивой трусости.
Мой прадед Хакобо (или его отец, а может, дед) проживал на территории царской России. Молодых парней из бедных, особенно из еврейских семей сплошь и рядом обязывали два года отслужить в Сибири. Ужас перед призывом был столь велик, а вероятность выжить столь ничтожна, что многие предпочитали изувечить себя, лишь бы сделаться непригодными. Среди соседей Хакобо (или его отца, а может, деда) недоставало кому уха, кому руки, а кому глаза.
Однако Хакобо (остановимся на нем: он этого заслуживает) чрезвычайно дорожил всеми частями своего тела. Поэтому разработал план, позволивший бы ему сохранить их в целости и в то же время избежать призыва. Обратился ли он за помощью к кому-нибудь из дальних родственников? Дал ли взятку на российской таможне? Или же знакомый воришка (однажды мне изложили такую версию, и мне ужасно захотелось в нее поверить) выкрал для него паспорт немецкого солдата по фамилии Неуман?
Единственное, о чем известно наверняка, так это о том, что, когда разразилась Первая мировая война, Хакобо, обзаведшийся подходящей фамилией, находился уже далеко от города Каменец, расположенного на территории современной Украины. Да не просто далеко, а прямо-таки в другом мире: в моем родном Буэнос-Айресе — городе, где меня самого уже нет, но где я все еще остаюсь. Прадед спасся, сменив личность и сделавшись иностранцем. Иными словами — став вымышленным персонажем.
Девушка, которую судьба уготовила ему в жены согласно обычаям той эпохи (в наши дни перешедшим в категорию табу), приходилась Хакобо двоюродной сестрой. Прабабушка Лидия родилась на юге Литвы, но, по любопытному стечению обстоятельств, со своим украинским кузеном познакомилась уже в Буэнос-Айресе. Прочие составляющие ее имени пропали без вести в ухе какого-то портового работника. Там, у стойки «Отеля для иммигрантов», кто-то записал: «Хасатска». Думаю, девичьей фамилией Лидии могла быть Касацкая или Хазацкая. Так в биографии прадеда и прабабки факты, случай и выдумка смешались, как и в моих собственных воспоминаниях.
Сапфироглазая баба Лидия, как мы называли ее на русский манер, была так худа, словно прошлое пожирало ее настоящее. Две ее сестры погибли во время погромов в Литве, но Лидия никогда об этом не говорила. Ее детство представляло собой бесконечный голод, помноженный на страх. Сколько раз ей случалось проводить зимнее утро в очереди за хлебом, который заканчивался еще до рассвета. На ожидание уходило немало сил, а от ночного воздуха тело коченело, так что однажды, когда булочная наконец открылась и оттуда резко пахнуло свежим хлебом, Лидия рухнула в обморок. Придя в себя, она обнаружила, что хлеб расхватали, а все ее платье выпачкано и истоптано толпой. Когда Лидия подросла, ее родители решили попытать счастья в Аргентине — стране, где у всех уже были (или появлялись) родственники. Вскоре родители Лидии, не спросив, подозреваю, мнения дочери, условились о ее свадьбе с кузеном Хакобо.
В первые годы брака Хакобо обеспечивал семью за счет шляпной лавки, которую они открыли в том же доме, где поселились. В одной из двух комнат спали и ели, а в другой Хакобо изготавливал шляпы. Судя по всему, в Аргентине той эпохи не так-то просто было оказаться с непокрытой головой. Прадед, отказавшийся на несколько лет от отпуска и ненужных расходов, разбогател так, что занялся импортом текстиля. Что оказалось куда прибыльнее шляпного дела, да и не так изнурительно, поскольку торговал он оптом. Именно благодаря торговле, судя по рассказам, прадед и сколотил свое состояние. Ты не обидишься, зейде [1] Хакобо, если я скажу, что мне не особо верится в такую удачу?
Несбывшейся мечтой прадеда было инженерное дело. Он увлеченно наблюдал за стройками, любовался тем, как здания постепенно растут и меняются. Может быть, он видел в этом отражение собственной судьбы: так терпеливо возводится капитал из материалов, откровенно говоря, весьма сомнительного происхождения. Хоть из-за отсутствия профессиональных навыков Хакобо не смог посвятить себя делу мечты, он все же вложил имевшиеся у него знания в разные строительные проекты, которые вел совместно с какими-то таинственными напарниками. Их-то его близкие и винили во всех грехах, стоило какому-нибудь из предприятий провалиться. Он без устали задаривал всех щедрыми подарками, вплоть до недвижимости, которую поделил между родственниками, даже не догадывавшимися о масштабах наследства, как жители какой-либо страны не осознают масштабов своего наследия. Также зейде вложился в строительство здания, где спустя несколько лет поселились дедушка Марио и бабушка Дорита. Ничто из упомянутой недвижимости ему самому никогда не принадлежало. Как заявлял сам прадед, он хотел поделить наследство еще при жизни.
С тридцатых годов детство дедушки Марио проходило в комфорте, какого не ведали его родители, выросшие в крайне стесненных условиях. Одно время семейство проживало в благополучном районе Вилья-дель-Парке в доме с прислугой, садом и теннисным кортом. Кроме того, у них была машина, а поговаривали, что и личный шофер. Впрочем, прадед Хакобо прослыл самым медленным водителем во всем Буэнос-Айресе: он редко ездил быстрее двадцати километров в час. Потихоньку, потихоньку, бормотал он, сидя за рулем и улыбаясь неизменной широкой улыбкой, приводившей в отчаяние пассажиров. Столь медленная езда в столь быстрой машине как будто прекрасно иллюстрирует противоречивое отношение прадеда и прабабки к материальным благам: они жаждали их и одновременно стыдились.
В те же годы семейство пополнилось малышкой Лией, которая привнесла в их жизнь размеренную рутину и неусыпную бдительность.
Когда мой папа был маленьким, прабабушка Лидия и прадедушка Хакобо жили на улице Пенья, недалеко от перекрестка улиц Лас-Эрас и Пуэйрредон. Тогда папа учился в еврейской светской школе имени Шолом-Алейхема, среди основателей которой числился второй мой прадед — Хонас. После уроков папа часто заходил в гости к Лидии и Хакобо. Зал с пианино и раздвижные двери (движущиеся стены!) поражали его воображение. Комнаты прислуги выходили во внутренний двор, из-за чего вся та часть дома казалась тайной и мрачной, как классовая борьба. Там хлопотала Магда, старая кухарка из Центральной Европы. В ее еле слышном бормотании худо-бедно удавалось различить испанские слова. Хотя все утверждали, что Магда великолепно стряпала, в действительности она редко этим занималась: прабабка Лидия почти не подпускала кухарку к плите, демонстрируя свою власть таким парадоксальным способом. Словно по-прежнему опасаясь, что толпа может задавить ее и обобрать, Лидия хранила все самое ценное в маленьких пакетиках, которые она прятала в коробки, которые убирала в другие пакеты.
Помимо того, что прабабка взяла готовку на себя, освободив от этой обязанности кухарку, бóльшую часть сил она вкладывала в покупку картин и починку электропроводки. В отличие от супруга, неспособного как следует вбить гвоздь, прабабка была настоящей мастерицей по части ремонтных работ. Женщине полагается твердо стоять на ногах, частенько повторяла она дочери Лие, которая, как и ее брат Марио, впоследствии посвятит себя медицине. С раннего детства Лию учили водить машину (только потихоньку, дочка, потихоньку), говорить по-английски и играть на пианино. Мой отец умело пользовался слабостью бабы Лидии к музыке, так что она то и дело брала его в театр «Колон». Из-за этих ночных концертов он стал частенько опаздывать на занятия в Национальном колледже Буэнос-Айреса и зевал на уроках. В те времена правительство президента Артуро Ильиа порционно выдавало свободу, улицы стали открытым пространством, а газеты заговорили во весь голос. Такими — хоть и ненадолго — мой отец застал шестидесятые годы.
Картины Лидии попадали в каталоги и на национальные выставки. Но, наверное, куда примечательнее было то, как она их покупала. Поскольку ни бюджет, ни природная бережливость не позволяли ей тратиться на произведения именитых художников, прабабка Лидия взяла привычку заглядывать к начинающим. Нахмурившись, она входила, допустим, в мастерскую молодого Карлоса Алонсо. Рассеянным васильковым взглядом обводила холсты. Задерживалась на одном-двух. Казалось, мысленно она витает где-то далеко, вдыхает запах хлеба. И вдруг изрекала: вот эта. И договаривалась о цене. Таким образом прабабушка обзавелась, например, одним из немногих котов, которых маэстро Алонсо создал за всю свою жизнь. Этот затаившийся кот, написанный крупными яростными мазками, охранял меня в детстве. Позже Лидия подселила в свой импровизированный бестиарий курицу кисти Рауля Сольди. Через несколько лет он распишет купол театра «Колон» — тот самый купол, который я любил разглядывать, когда мне становилось скучно.
Однажды Лидия посетила молодого художника Спилимберго, когда он только-только уволился из почтово-телеграфной службы. Поскольку художнику срочно требовались деньги, он продал прабабушке странный автопортрет, где правой рукой подпирает непропорционально большую щеку. Картину у нас в семье прозвали «Зубной болью», и сейчас она висит у меня дома. С Эухенио Данери, оказавшимся в нужде, прабабушка Лидия заключила необычную сделку: она назначила ему месячное жалованье в обмен на то, чтобы он каждое утро приходил поработать у нее на балконе. Так и представляю себе ошеломленного Данери: он, перегнувшись через перила, здоровается с Магдой, чьих слов не может разобрать. Так и вижу прабабушку: она вырывает у Магды поднос с кофе. И воображаю Данери «узником» акварельно-парящего балкона, сонно бормочущим благодарности в попытках пробиться сквозь этиловые сумерки сознания к утренней ясности ума.
В коллекции прабабушки имелась написанная маслом картина Ракель Форнер из серии о Гражданской войне в Испании. Я хорошо помню ту картину: змеи пожирают остатки полуразложившегося тела, а в торчащих из его головы ветвях птицы вьют гнезда. Возможно, это аллегория борьбы, раздирающей изнутри испанский народ, и его несгибаемого свободомыслия. Как раз в то время Мануэль Фреско, фашистский губернатор провинции Буэнос-Айрес, разражался тирадами против «коммунистической угрозы» и формировал собственную военизированную полицию в духе Муссолини. А когда картиной заинтересовался мой отец, президент Ильиа уже косо поглядывал на генерала Онганиа, ставшего главнокомандующим после разгрома «колорадос» [2] и впоследствии совершившего военный переворот. Сюжет некоторых историй не меняется, меняются лишь очевидцы.
У Лидии и Хакобо было три летних дома. Первый — в провинции Кордова; там папе с сестрами бывать почти не довелось. Второй — в Мороне, где папа, перепрыгивая как-то раз через забор, раскроил себе лоб. От раны остался шрам; спустя много лет похожий будет красоваться и у меня на лбу. Третий дом находился в Мирамаре, и там царила своя атмосфера: пляж, друзья, велосипеды. В Мирамаре моему отцу в кои-то веки удавалось провести время со своим отцом: только там дедушка Марио, который редко нежничал и имел обыкновение ускользать, наконец-то мог расслабиться и с изумлением подмечал, как выросли дети.
Одним таким летом дедушка Марио наказал моему отцу приглядывать за Хакобо. Зейде болел, и ему запрещалось курить больше трех сигарет в день. Отцовская задача состояла в том, чтобы порционно выдавать прадеду табак, и он ответственно его припрятывал, а каждое утро перепроверял запасы. Только после приемов пищи или ожесточенного спора Хакобо разрешалось выкурить сигаретку. Тогда отец вставал, шел к своему тайнику и возвращался, страшно гордясь тем, как отлично справляется с возложенной на него миссией. Он не скоро узнал, что зейде, кроме положенных трех сигарет, которые тот принимал с насупленным видом, выкуривал по целой пачке всякий раз, когда выходил на прогулку: подожди-ка меня тут, голубчик, сейчас вернусь, вкусненького не хочешь? уверен? проси что угодно, ингеле [3], мы же на каникулах!
Хакобо, с напомаженными волосами и вечной улыбкой, был таким дедушкой, какого заслуживает любой ребенок. Можно сказать, вторым истинным призванием прадеда, наряду с предпринимательством, было нянчить внуков, а самым большим для него наслаждением — подкармливать их и смотреть, как те едят. Он подговаривал внуков выбрать самый большой десерт и завороженно наблюдал, как они уписывают сладкое за обе щеки. Гулять с прадедушкой Хакобо было все равно что гулять с седым мальчишкой. Хакобо хотел абсолютно все, и все это он хотел дарить. Он был голоден до насыщения других. Может, в том и заключался его девиз: раздать наследство еще при жизни.
Несмотря на крайнюю, чуть ли не изуверскую худобу прабабушки Лидии, со временем у нее стала обвисать кожа на руках. Поначалу, не меняя сурового выражения лица, Лидия сопротивлялась мольбам моего папы, восклицала «тш! тш!», но в конце концов уступала. Тогда они приступали к ритуалу утонченного каннибализма: она закатывала рукава, чтобы он мог подергать ее за кожу. Уже будучи женатым мужчиной, папа все равно просил ее закатать рукава, а она все так же сопротивлялась, хоть и знала, что в итоге все равно поддастся. Во время визитов Лидия с моей мамой обсуждали скрипки. Прабабку интересовало, чем мама чистит смычок, где хранит его, как меняет струны. В доме у бабы, кроме отказа от еды, существовало одно-единственное табу: ругать Аргентину. Моя литовская прабабушка превратилась в ярую патриотку. Стоило отцу начать критиковать ситуацию в стране или, вторя своим родителям-иригойенистам [4], горевать по поводу неизбежного возвращения Перона, Лидия хмурилась, за стеклами ее очков вспыхивали синие искры, и она принималась возмущаться: тш! тш! эй, не смей мне катить бочку на Аргентину, послушай-ка внимательно, это богатая и щедрая страна, так что попридержи язык, не смей мне катить бочку на Аргентину.
У зейде Хакобо политика вызывала скуку и недоумение. А второй мой еврейский прадед, Хонас, был, напротив, заядлым политическим активистом. Хотя оба тепло относились друг к другу, общего у них было мало, только иммигрантское прошлое. Так что, за неимением подходящих тем для разговора, они обменивались осторожными колкостями.
Хакобо восклицал: вус тисте [5], Хонас, ну и тощий же ты стал, тебе стоит поменьше читать да побольше есть!
Хонас отвечал: фрайнт [6] Хакобо, уж чья бы корова мычала, старая ты развалина! Меня-то хоть сделали не в прошлом веке!
Прадед Хакобо, предполагаемый дезертир российской армии, действительно родился в 1898 году. В том самом году, когда Толстой пожертвовал весь гонорар с «Воскресения» секте духоборов, преследуемых за отказ от военной службы.
Жизнь прадеда Хакобо угасала вместе с Пероновой, в то время как министр Лопес Рега разрывался между астрологическими прогнозами [7] и подготовкой государственного переворота. В день, когда Перон произнес свою последнюю речь и отрекся от «Монтонерос» [8], прадеда увезли на скорой. Он умер в больнице, на строительство которой пожертвовал средства, а дедушка Марио присутствовал при его предсмертной агонии. Хакобо умер от рака, и утверждают, что прадед не знал о своей болезни: настоящий диагноз от него скрывали до последнего приступа. И все же, учитывая одержимость прадеда маленькими радостями, подозреваю, он с самого начала все знал.
[5] Как поживаешь? (идиш)
[6] Дружище (идиш).
[3] Мальчик (идиш).
[4] Иполито Иригойен (1850–1933) — государственный деятель и президент, один из основателей «Гражданского радикального союза».
[1] Дедушка (идиш). Здесь и далее примечания переводчика.
[2] Конфликт, произошедший в 1862 году между двумя группировками военных — «асулес» (синие, более либерально настроенные военные и ВВС) и «колорадос» (красные, консервативно настроенные военные и бóльшая часть флота).
[8] Партизанская организация, ведущая вооруженную борьбу против диктатуры.
[7] В 1962 году Хосе Лопес Рега издал книгу «Эзотерическая астрология».
4
Сама того не ведая — но будто что-то предчувствуя — бабушка Бланка вручила мне наследство. Невесомое, но тяжкое: историю своей жизни. Когда-то я предложил ей записать воспоминания, чтобы они не пропали. И вскоре сам об этом забыл. А она не забыла и передала мне однажды несколько исписанных, сложенных вдвое листков: сейчас, терзаясь сомнениями, я держу их в руках. Слова на страницах одновременно пафосны и по-детски наивны, а такого почерка уже не встретишь — в нем считывается пульс иной эпо-хи. Строки шепотом рассказывают правду. Это письмо изменило мою жизнь — или, по крайней мере, мои представления об обязательствах. Теперь я должен отблагодарить бабушку Бланку, продолжив его.
«Я постараюсь порадовать моих дорогих внуков и расскажу им свою маленькую историю». Так, словно выступая перед слушателями, бабушка Бланка начинает свой рассказ; она знает, что как минимум два читателя у нее есть. Буквы кривятся, но тут же упрямо выпрямляются, как старая балерина, пытающаяся держать осанку, несмотря на боль в спине. «Я постараюсь порадовать моих дорогих внуков и расскажу им свою маленькую историю. Я знала обеих своих бабушек: одна из них была креолкой, другая — француженкой». Так начинается ее короткая семейная сага, которая теперь странствует внутри моей.
Персонажи, выдумывающие воспоминания и вспоминающие выдуманное. Где правда? Где ложь? Не в этом суть.
5
Тетя Сильвия и ее немецкий муж Петер владели маленькой книжной лавкой на улице Аскуэнага, на углу с Санта-Фе. Посетители заглядывали к ним, разговаривали с дядей и тетей о книгах, пили кофе. Незадолго до событий, о которых пойдет речь, в подсобке сожгли кое-какие издания, запрещенные Министерством образования и культуры: от Фрейда до Фромма, от Паулу Фрейре до Сент-Экзюпери, включая Родольфо Уолша, Гризельду Гамбаро и Мануэля Пуига. Огонь оказался надежнее мусорных баков, ведь портье — народ наблюдательный, и мусор в конце концов мог обрести новых хозяев. Удивительно, но лавка тети с дядей называлась «Шах книге». Эта неуклюжая метафора оказалась весьма ироничной.
После государственного переворота 76-го года генерал Видéла объявил террористами не только тех, кто закладывал бомбы, но и тех, кто распространял идеи, чуждые западной христианской цивилизации. Поэтому приходилось сжигать книги, а затем смачивать пепел и хорошенько перемешивать: написанное стирается с трудом. Рассказывали, что по ночам какие-то типы на «Форде Фалкон» обыскивают книжные магазины. Причем марксистскими изданиями они не ограничивались и вполне могли прихватить эссе о кубизме за вероятную апологию режима Кастро или классику вроде «Красного и черного» за возможные анархистские посылы. Забрать могли и самих владельцев магазина. Многие были наслышаны о подобных случаях. Но подробностей никто не знал, да и, в конце концов, почему с нами что-то должно случиться, мы же ничего такого не сделали. Да только вот некоторые постоянные посетители внезапно переставали появляться.
Тетя Сильвия, совмещавшая работу в книжном с непостоянными архитектурными проектами, только-только забеременела. Мама (им с папой тоже пришлось уничтожить кое-какие книги и брошюры у нас дома на улице Фицрой) только-только родила меня. А в Кордове, ровно за девять меся-цев до моего рождения, Третий армейский корпус устроил коллективное сожжение изъятых книг: полыхали во всей славе Пруст, Гарсиа Маркес, Неруда и прочие возмутители спокойствия. И в самый разгар государственного переворота мои родители и дядя с тетей решили завести детей. Не знаю, можно ли назвать это парадоксом. Родятся новые жизни и все станет лучше. Им в это верилось. Им необходимо было в это верить. Пока «Форд Фалкон» не припарковался у дома тети с дядей.
На следующий день трубку они не взяли. Двери «Шаха книге» остались закрыты. Тетя Понни, придя к сестре домой, обнаружила квартиру в полнейшем раздрае. На полу валялись ящики и книжные шкафы, кресла были перевернуты вверх тормашками. Дедушка Марио и бабушка Дорита отды-хали тогда в Барилоче. Уговаривая их побыстрее вернуться, родители соврали, что у тети Сильвии проблемы с беременностью. Дедушка Марио, как полагается хорошему отцу, притворился, что верит, но как хороший врач не поверил ни на секунду. Они с бабушкой Доритой первым же рейсом прилетели в Буэнос-Айрес. О дочери все еще не было никаких вестей.
У бабушки Дориты случился нервный срыв. Дедушка Марио несколько часов просидел на диване как истукан. Отец все звонил и звонил по телефону. Мама ходила на репетиции, меняла мне пеленки и прокуривала себе все нервы. Я, как обычно, не плакал.
Объехали больницы и полицейские участки. День пролетел быстро. Они отказывались верить. На следующее утро все шло своим чередом. На репетициях в театре «Колон» звучали симфонии и легкие шаги балерин. В больнице у Марио принимали больных и отпускали здоровых, а в казармах дела обстояли ровно наоборот.
На следующий день мой папа и дедушка Марио встретились с немецким консулом, чтобы попросить того походатайствовать и справиться о дяде. Его фамилия Шульце, Петер Шульце, твердили они консулу, словно какую-то мантру. Консул, как и любой на его месте, обещал попытаться. Мама ходила на репетиции и прокуривала себе все нервы. Дядя с тетей указали наш адрес как место прописки, поскольку постоянного места жительства у них пока не было. Но ведь к нам прийти не могут. Или могут? У меня ни с того ни с сего начался понос. Когда мама позвонила рассказать о происходящем дедушке Хасинто и бабушке Бланке, те никак не могли взять в толк. Но разве они в чем-то замешаны? — допытывались дедушка с бабушкой. Многие задавали тот же вопрос.
Отец вместе со своей второй сестрой, тетей Понни, изучили все оставшиеся контакты. В записной книжке у дяди и тети обнаружился номер некой экс-депутатки, жившей неподалеку от книжного, на улице Ареналес. Cеньора экс-депутатка обладала тремя выдающимися качествами. Она была племянницей полковника ВС, соратника генерала Виолы. Вероятно, входила, извиняюсь за оксюморон, в число светлых умов диктатуры. А также являлась постоянной покупательницей «Шаха книге». Она обожала покупать там книжки с картинками для своих дочерей, и те читали, растянувшись на полу прямо в магазине. Папа с тетей Понни только пару раз видели ее лично, но терять было нечего. Они позвонили и договорились о встрече.
Пугающе накрашенная сеньора экс-депутатка приняла гостей как нельзя более радушно. Так они же день-деньской торчат в магазине! удивилась она, что же они могли натворить! Отец и тетя Понни ей поддакивали. А они, случайно, ни в чем подозрительном не замешаны? вдруг предположила экс-депутатка. Отец и тетя Понни отрицательно замотали головами. Она поспрашивала еще. Хотела вызнать кое-какие детали. Принялась размышлять вслух. Тетя Сильвия еврейка по происхождению, кхм, ясно; в семье имеются социалисты и даже не один; но она замужем за немцем, так что это может быть на руку. Выпив кофе с печеньем и не выходя из комнаты, добросовестная экс-депутатка сняла трубку, по памяти набрала номер и попросила позвать полковника. Дожидаясь ответа, она ободряюще улыбнулась гостям. А затем произнесла:
— Дядя, это я. Ты не можешь проверить, нет ли у вас там Сильвии Неуман и Петера Шульце? С одной «н». Нет, через «ц». Ты прелесть, спасибо.
Прикрыв трубку ладонью, хозяйка бросила на них последний предупреждающий взгляд:
— Точно они ни в чем не замешаны, вы уверены?
Отец и тетя Понни распрощались с ней чрезвычайно учтиво, ощущая во рту тошнотворный привкус. Кофе был великолепен. В знак благодарности они пообещали принести цветы. Розы, конечно, розы.
Спустя пару дней тетя Сильвия и дядя Петер объявились с завязанными глазами в Палермских лесах.
Их привезли в фургоне с другими восемью-девятью людьми. Приказали досчитать до пятисот и только потом разрешили снять с глаз повязку. Лежа лицом вниз посреди рощи, десять полуголых незнакомцев шепотом считали до пятисот, вздрагивая от любого звука. Они знали, что их могут пристрелить еще до окончания этого бесконечного счета. Закончив ждать, они медленно постягивали повязки с глаз. Попытались сфокусировать взгляд. Переглянулись. И молча разошлись кто куда.
Судя по маршруту, проделанному туда и обратно, тетя Сильвия и дядя Петер пришли к выводу, что их держали в Рехимьенто-де-Патрисьос, одной из тайных тюрем. То есть они «исчезли» всего лишь в трех минутах от нашего дома.
Хотя во время учебы на архитектурном факультете тетя Сильвия какое-то время состояла в «Революционной коммунистической партии», похитителей явно интересовало что-то другое. Во время допросов они беспрестанно называли имена совершенно ей незнакомых людей, связанных с «Монтонерос». Может, данные Сильвии они обнаружили в записной книжке кого-то, кто имел к ним какое-то отношение.
Моя тетя-архитектор большую часть времени отчаянно страдала от острой потребности и гнетущей невозможности сориентироваться в череде камер, пахнущих мокрым цементом. То была неощутимая пытка, чуть ли не единственная, которую оказалось невозможно предвидеть заранее. Ее держали с завязанными глазами и кандалами на ногах, из еды — только вода и прогорклый рис. Иногда она слышала — или ей казалось — как Петер ее зовет.
Во время пыток Сильвия узнала о своем теле много такого, чего предпочла бы не знать. Из главных неожиданностей — способность причинить себе боль: не всегда удары электродубинки оказывались болезненнее, чем удары головой или спиной о поверхность, к которой ее приковали. В какой-то момент это показалось ей откровением, хотя она толком не поняла почему.
В перерывах между попытками подремать на полу она неустанно отслеживала через крошеч-ные прорези в повязке состояние своего нижнего белья, проверяла, нет ли крови. Как-то тете показалось, что она видит кровь, и она потребовала пустить к ней врача. Кандалы так и не сняли, вместо этого ее повели на звук приятного голоса. Голос задал ей несколько вопросов, ощупал и предложил таблетки. Почувствовав на ладони таблетки, тетя засомневалась. А вы точно врач? спросила она. Тогда мужчина схватил ее руку и потянул вниз. Сильвия пыталась сопротивляться, но он оказался сильнее. Она нащупала чьи-то лодыжки и такие же кандалы, как у нее самой. Да, дочка, вздохнул голос, я врач.
Пока тетю пытали, дядю заставляли смотреть. И не переставая спрашивали, какого черта немец умудрился заделать ребенка еврейке. Те типы вряд ли были в курсе, что баварский Кобург, родной город дяди Петера, стал к тому же первым местом во всей Германии, где к власти пришел мэр-фашист.
Прежде чем их отпустить, похитители посоветовали дяде с тетей далеко не уезжать, не общаться с определенными людьми и много чего другого, о чем дядя с тетей не захотели мне рассказывать. Сильвия и Петер так больше и не переступили порог своего дома. Они остановились у друзей. Пытаясь избегать многолюдных сборищ, они тайком принимали в гостях только самых близких. Дедушка Марио оказал им первую помощь. Он прослушал Сильвию и убедился, что его будущий внук твердо намерен родиться. Для более тщательного осмотра он отправил ее на прием к коллеге-гинекологу.
Гинеколог не заметил никаких отклонений, но признался, что не знает, как пытки могут сказаться на беременности. Подобные ситуации не входили в сферу его компетенций. На всякий случай он предложил тете сделать аборт. Та медленно ощупала живот, словно пытаясь прочесть его наподобие шрифта Брайля: какие сигналы успел уловить плод, сколько всего услышал, как глубоко добрались электрические разряды?
Доверившись интуиции, с замиранием сердца — точнее, уже двух сердец, тетя Сильвия решила рискнуть: они не могли полностью сковать ее, не могли украсть у нее хотя бы это.
Они с дядей в срочном порядке сделали паспорта и купили билеты на самолет. Собирая скудный багаж, Сильвия оставила любимое серебряное колье в подарок сеньоре экс-депутатке. Стал ли для тети тот мрачный жест благодарности спасительнице, соратнице их палача, повторным унижением? Или же, напротив, проявлением свободы?
Машина немецкого консульства отвезла дядю с тетей в аэропорт; другим семидесяти двум исчезнувшим немецким гражданам повезло гораздо меньше. Из соображений безопасности провожать никто не поехал. Билеты взяли туда и обратно. Дядя с тетей решили объехать латиноамериканские столицы, где у них были родственники и знакомые, посмотреть, чтó встретится на пути. Решать приходилось быстро: тетин живот был вместо календаря.
Сначала они съездили в Лиму, где Сильвия чуть не нашла работу в архитектурной сфере и где они ужасно устали от постоянно моросящего дождя. Через несколько недель они съездили в Кито, где жил кузен Уго и где они решили было остаться. Затем съездили в Боготу, но их хорошие друзья как раз собирались оттуда уезжать. После этого — на несколько дней в Сан-Хосе, где знакомый Петера работал пианистом в отеле на площади Демократии. Они ждали случая, знака, чтобы решить, где остаться. Сомневались, стоит ли пересекать Атлантический океан; может, предчувствовали, что оттуда возвращаются редко. Беременность шла своим чередом. Родись мальчик, его бы назвали Пабло, если девочка — Маленой. В итоге тетя с дядей обменяли билеты: может, лучше им уехать как можно дальше.
В Буэнос-Айресе вестей от них не было. На всякий случай общение стоило свести к минимуму. Бабушка Дорита, мой отец и несколько его друзей ликвидировали склад «Шаха книге». Тут в лавку потянулись бывшие посетители. Одни изумлялись. Другие строили догадки.
Одним прекрасным майским днем 77-го года наша семья получила открытки из Мадрида: Сильвия и Петер добрались до Испании. Оставалось всего несколько недель до первых выборов после смерти Франко. Там, на исторической родине прадедушки Хуана Хасинто и бабушки Исабель, начали разрабатывать Конституцию. В Аргентине в то время ее даже не читали. Поэтому мой кузен Пабло родился в Мадриде. И поэтому он тоже по-своему аргентинец.
