автордың кітабын онлайн тегін оқу Укоренение: Введение в Декларацию обязанностей по отношению к человеку
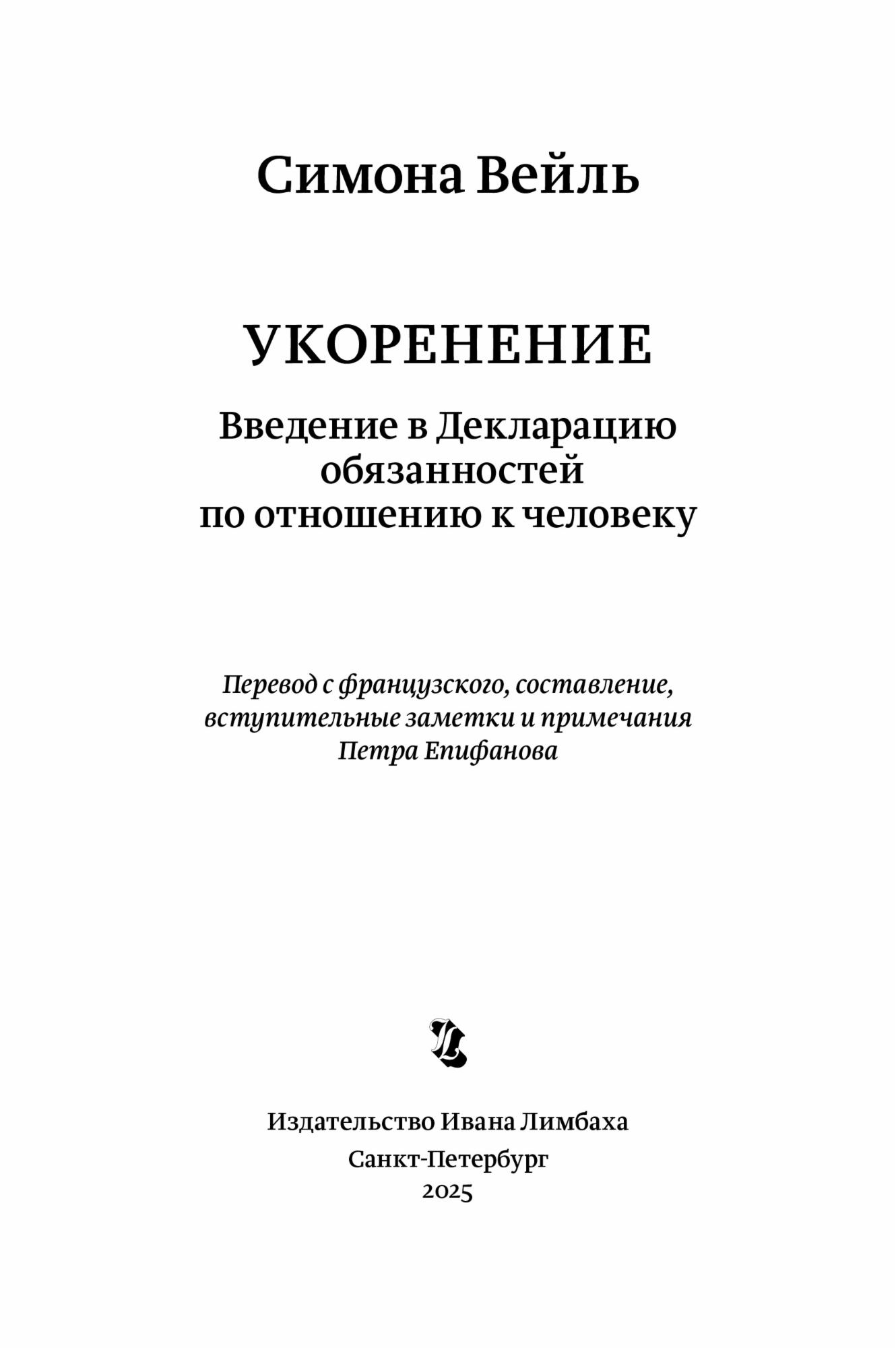
От переводчика
В декабре 2023 года поэт Антон Азаренков обратился ко мне с вопросом, читал ли Иосиф Бродский Симону Вейль, и если да, то высказывался ли как-либо по этому поводу. К вопросу побудили некоторые мотивы в стихах Бродского, написанных в первые годы после отъезда в США: нечто в них показалось Антону близким религиозным воззрениям Симоны. Я и сам еще в первом издании книги своих переводов из Вейль отмечал удививший меня момент переклички с ней в «Сретении» Бродского (1972) [1]. Тем не менее я ответил Антону, что о действительном знакомстве Бродского с наследием Симоны ничего не знаю. Но после получасового поиска в интернете я набрел на свидетельство Дженнифер К. Дик, в 1989–1993 годах слушавшей лекции Бродского в Маунт Холиок Колледже (штат Массачусетс) [2]. Она приводит по памяти список важных книг, которые поэт настоятельно рекомендовал к прочтению своим студенткам (в Маунт Холиок учатся только девушки). Под первым номером в списке значится «Укоренение», последняя большая работа Симоны Вейль [3]. Для меня это было настоящим сюрпризом, о котором я тут же сообщил Антону. Я никогда не думал прежде, что взгляды Симоны Вейль в целом могли вызывать у Бродского интерес и симпатию; в особенности трудно было предположить такой интерес к «Укоренению», чьи идеи сильнейшим образом расходятся со многими базовыми принципами современного западного общества, да и по форме и способу изложения книге «очень не для всех», как говорит еще один мой добрый знакомый, многолетний член «Ассоциации друзей Симоны Вейль», Жан Пьер Видаль [4]. И однако — вот живой факт, который, как мне кажется, может сообщить нечто не совсем очевидное и о самом Бродском.
Среди высоко оценивших эту книгу и оставивших о ней сочувственные отзывы есть и другие, отнюдь не менее известные, имена.
Альбер Камю, сделавший в конце 1940-х — начале 1950-х годов чрезвычайно много для публикации наследия Симоны Вейль, в посвященной ей статье назвал «Укоренение» «одной из самых ясных, возвышенных, прекрасных книг, написанных за весьма продолжительное время о нашей цивилизации», добавляя, что «эта суровая книга, написанная с подчас пугающей отвагой, безжалостная и в то же время удивительно взвешенная, книга подлинного и очень чистого христианства, преподает урок, подчас горький, но редкостно высокий по мысли» [5]. В тексте его предисловия к первому изданию (впрочем, так и не напечатанного) читаем:
«В „Укоренение“ вошли многие ключевые мысли, без которых не понять Симону Вейль. Но эта книга — по-моему, одна из самых важных среди вышедших после войны книг — еще и проливает яркий свет на то забытье, в котором тонет послевоенная Европа. Вероятно, был нужен разгром, последовавший за ним маразм и молчаливое раздумье, которому в те сумрачные годы предались все, чтобы до такой степени несвоевременные мысли, суждения, опрокидывающие столько общих мест и не желающие знать о стольких предрассудках, смогли зазвучать среди нас в полную силу. <...> Я не могу представить себе возрождение Европы без отклика на запросы, сформулированные Симоной Вейль в „Укоренении“. В этом — значимость ее книги. И если говорить о ее посвященном справедливости труде всю правду, то некая тайная справедливость рано или поздно поставит эту книгу в первый ряд, от чего ее автор упорно всю жизнь отказывался. <…> Величие силой чести, величие без отчаяния — вот в чем достоинство этого автора. И в том же опять-таки его одиночество. Но на этот раз — одиночество предтеч, исполненное надежды» [6].
Томас С. Элиот, один из наиболее значительных европейских поэтов ХХ века, в своем предисловии к английскому переводу «Укоренения» писал:
<После прочтения этой книги> «я увидел, что должен попытаться понять личность автора; и что перечесть и раз, и два ее работу с начала до конца необходимо для этого медленного движения к пониманию. В попытке понять ее не следует отвлекаться — как это очень часто бывает при первом прочтении — на мысли о том, в какой степени и в каких пунктах мы с ней согласны или нет. Мы должны просто раскрыться перед личностью женщины гениальной, близкой к той гениальности, что свойственна святым. <…> Я не могу представить себе кого-то, кто согласился бы со всеми ее воззрениями или не восстал бы с жаром против некоторых из них. Но согласие и отвержение — второстепенны; важно найти контакт с этой великой душой. Симона Вейль была из людей, способных стать святыми. Как иные из достигших этого состояния, она должна была преодолеть бóльшие препятствия и обладать бóльшей силой для их преодоления, чем прочие люди. Потенциальный святой может быть очень нелегким человеком; подозреваю, что временами Симона Вейль бывала невыносимой. То тут, то там в книге нас поражает контраст между почти сверхчеловеческим смирением и тем, что выглядит как почти возмутительное высокомерие. <…> Но вероятнее, что ее мысль столь интенсивно проживалась ею, что отказ от какого-то мнения требовал изменений во всем ее существе: процесс, который не мог проходить безболезненно <…>. И особенно в молодых и в таких, кто, как Симона Вейль, кажутся лишенными чувства юмора, самомнение и самоотречение могут иметь между собой столь близкое сходство, что мы рискуем ошибочно принять одно за другое».
Это — о личности автора, а завершая обзор самого сочинения, Элиот резюмирует:
«Эта книга принадлежит к той категории пролегоменов к политике, которые редко читают политики, а большинство из них навряд ли поймет или сумеет применить. Такие книги не оказывают влияния на актуальное течение дел; до мужчин и женщин, уже вовлеченных в политическую карьеру и уже приучивших себя к жаргону базарной площади, они всегда доходят слишком поздно. Это одна из книг, которые следует изучать молодым, прежде чем они утратят досуг, а их способность к мышлению будет уничтожена в суете избирательных кампаний и законодательных ассамблей; одна из книг, чье влияние — как мы можем лишь надеяться — сделается видимым в состоянии умов уже другого поколения» [7].
В сочувственных, а иногда и восторженных отзывах на книгу, как правило, отмечался живой христианский дух и явственно различимое веяние того, что многие, подобно Элиоту, не колебались называть святостью. Да, послевоенная эпоха после всех пережитых ужасов нуждалась в вере, в облегчении совести, в живых примерах верности правде, чистоты и святости. Cреди писавших о Симоне в столь возвышенном тоне преобладали авторы, годившиеся ей в отцы: философы Ален (наст. имя Эмиль Шартье, 1868–1951), Габриэль Марсель (1889–1973) и Мишель Александр (1888–1952), уже упомянутый Томас С. Элиот (1888–1965), нобелевский пауреат Андре Жид (1869–1951) и другие. Образ молодой самоотверженной чтительницы Истины, идущей своей одинокой тропой, не преклоняя слуха к оглушительным лозунгам противоборствующих партий и пальбе военных лагерей, давал этим много видевшим и много передумавшим людям надежду на будущее. У нашего времени, одержимого тотальным плюрализмом (я говорю, конечно, о западном мире), такие слова, как «истина» и «святость», скорее способны вызвать отторжение, а слово «нежность», одно из важнейших в словаре Симоны, сегодня с трудом представимо даже в лирической поэзии. Еще на рубеже восьмидесятых и девяностых Бродский, сам отнюдь не любитель подобных слов, рекомендуя Вейль американским студенткам, до некоторой степени рисковал своим авторитетом.
Текст, подводящий итог жизненного и философского, деятельного и созерцательного пути Симоны Вейль, писался в феврале — апреле 1943 года на фоне быстрого разрушения ее здоровья. Еще в январе начальник медслужбы «Сражающейся Франции» [8] при осмотре заподозрил у нее туберкулез легких и настоятельно порекомендовал более тщательное обследование — совет, которым Симона пренебрегла, видимо предчувствуя, что это обследование похоронит ее надежды на отправку во Францию в составе диверсионно-разведывательной группы. В ее случае такая отправка означала верную смерть, но… именно это представлялось ей ее шансом.
Я испытываю терзания, все более и более тягостные, в уме и одновременно глубоко в сердце, из-за своей неспособности помыслить вместе, в истине, несчастье людей, совершенство Бога и связь между тем и другим. У меня есть внутренняя уверенность, что, если эта истина и будет дарована мне, это произойдет только в момент, когда я сама физически окажусь в несчастье, в одной из крайних форм нынешнего несчастья. Меня страшит, что со мной этого не случится. Даже в детстве, считая себя атеисткой и материалисткой, я всегда боялась упустить не свою жизнь, а свою смерть [9].
Так писала Симона в феврале 1943 года Морису Шуману, самому близкому ей человеку в окружении де Голля [10].
Характерно, что в этом письме, главной целью которого было добиться содействия Шумана в отправке на фактически смертельное задание, ничего не сказано о желании послужить освобождению родины. Эта цель подразумевается, но она безусловно подчинена главной цели, которую Симона ставила для своей жизни и мысли, — единению с истиной и абсолютным благом.
Упоминается вскользь в письме и работа над «Укоренением»:
Ф<илип> [11] взял меня к себе, видимо предполагая, что я смогу снабжать его полезными идеями. Если то, что я пишу в настоящее время, не заставит его переменить свое мнение, когда он это прочтет, — что вполне может случиться, — тогда он должен послать меня в единственное место, где такому уму, как мой, возможно вырабатывать идеи, — в соприкосновении с объектом изучения [12].
Практически не выходя в течение рабочего дня из кабине-та, предоставленного в ее распоряжение в офисе Комиссариата по внутренним делам и труду «Сражающейся Франции» на Хилл-стрит, засиживаясь допоздна, чтобы успеть на последний поезд метро, а нередко и оставаясь на ночь, Симона корпела, не разгибая спины, над рукописью, никому в ее окружении не нужной. Франсис Луи Клозон, ее непосредственный начальник, посвятив Симоне в своих мемуарах 70-х годов несколько ску-пых абзацев, охарактеризовал ее поведение в организации как «невключенность», то есть отсутствие интереса к повседневной совместной деятельности [13]. Очевидно, вся громадная работа Симоны в эти месяцы, забравшая остаток ее физических и душевных сил, по его мнению, в счет не шла. Чтобы сделать такой вывод, Клозону надо было либо за тридцать лет так и не удосужиться прочесть «Укоренение», написанное буквально в паре шагов от его собственного кабинета, либо отказать сочинению Симоны в какой-либо реальной ценности по одной лишь причине, что она написала не то, что хотелось видеть начальству. Ни слова не говорит об «Укоренении» ветеран и историограф «Свободной Франции» Ж.-Л. Кремье-Брилак в своей двухтомной истории организации. (Симоне там отведена лишь пара иронических строчек [14].) От «серьезных людей», «людей настоящего дела» внимания к своему сочинению Симоне явно было не дождаться. Но ведь она-то писала с надеждой, что кто-то из них возьмет на себя труд задуматься над ним. Ведь именно об этом сигнализируют пестрящие буквально на каждой странице страстные призывы к действию:
«Эта проблема построения действительно новых условий труда является кричащей; рассматривать ее нужно безотлагательно. Направление усилий должно быть определено прямо сейчас». «После победы эта возможность исчезнет, и мирное время не предоставит ничего ей равноценного», и т. п.
В одном из своих аспектов, самом очевидном, «Укоренение» — конкретный, хотя и очень смелый, общественно-политический проект. Проект пересоздания французской цивилизации, ни больше ни меньше. Симона анализирует причины катастрофы 1940 года, когда страна сдалась врагу после нескольких недель борьбы, после чего бóльшая часть национальной элиты пошла на соглашение с захватчиком, а немалая — и на прямое служение ему. Но крушение довоенной Франции она рассматривает как возможность переосмыслить и пересоздать страну на новых началах. И показать путь другим странам мира. Амбиция, достойная верной чтительницы Платона с его «Государством» и «Политиком», каковой и оставалась Симона до своего последнего вздоха.
«Укоренение» написано Симоной в ясном сознании, что земные дни ее сочтены. Пусть по тону авторской речи книга не похожа на завещание, но, едва расписавшись, Симона уже не думает о стройности и систематичности изложения. Вся ее забота лишь о том, чтобы успеть сказать как можно больше из важного и наболевшего, касаясь едва ли не всех волнующих ее тем. Иногда кажется, что Симоне трудно закруглить любую мысль; она будто плывет из одного моря в другое, еще более обширное, не задумываясь о порте назначения. Имеющаяся практически чистовая рукопись не окончена. Переписывать работу набело, еще не зная, чем ее завершить, — странный способ, не так ли? Это не особенно вдохновляет читателя, если он не расположен заранее к доверию автору, и делает работу Симоны хорошей мишенью для пристрастных критиков, в каковых у нее никогда не было недостатка. Она не уверена, что ей хватит времени довести мысль до конца, надо ее просто зафиксировать. Перед нами практическое воплощение слов Сократа в передаче Платона: «…те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью» [15]. Но стратегия Симоны отвечает и той устремленности к абсолютному благу, которой требует она от мыслителя и от политика как главного необходимого условия мысли и практической деятельности. Абсолютное благо не есть что-то конечное и ограниченное, и мысль, обращенная к нему, не имеет точки, где могла бы остановиться. Мы смотрим на «Укоренение» как на книгу, композиционно не выстроенную; но Симона не пишет «книгу», то есть нечто завершенное, замкнутое в себе: она совершенно не озабочена тем, будет ли написанное ею когда-либо напечатано, попадет ли на глаза широкому читателю и как будет в этих глазах выглядеть; она ведет мысленный разговор с воображаемым, точнее, чаемым собеседником. Этому собеседнику Симона доверяет, как близкому другу или даже члену семьи, зная, что его не смутят недосказанности, отступления, длинноты, повторы, что перед ним не надо слишком заботиться о последовательности и стиле. Переводя «Укоренение», я часто вспоминал слова из написанного Симоной годом раньше в Марселе загадочного «Пролога»:
Он обещал мне учение, но так ничему и не научил. Мы просто говорили обо всем на свете, перескакивая с одного на другое, как водится между старыми друзьями[16].
Жан Пьер, несомненно, прав: Симона пишет «очень не для всех». Тот, для кого она пишет, не обязан с ней во всем соглашаться; она предполагает, что он разделяет ее устремленность и готов идти рядом с ней — и дальше нее. Говоря о «неотложности» тех или иных предлагаемых ею мер, она не сильно смущается тем, что эти меры не будут приняты и даже как-то серьезно оценены. Она готова ждать гораздо дольше, чем продлится ее земной век.
…Я чувствую какую-то растущую внутреннюю уверенность, что есть во мне что-то вроде золотого запаса, который надо передать. Но только и опыт, и наблюдение за моими современниками все более убеждают меня в том, что никто не хочет его принять.
Это цельный слиток. То, что прибавляется к нему, сливается с остальным. По мере того как слиток растет, он становится всё компактнее. Я не могу раздать его по кусочкам.
Чтобы его воспринять, требуется усилие. А усилие — это ведь так утомительно!
Некоторые смутно чувствуют: «в этом что-то есть». Но им кажется достаточным наградить мой интеллект парой-тройкой хвалебных эпитетов, и на этом их совесть успокаивается. И затем, слушая меня или читая написанное мной, с тем же поспешным вниманием, с которым они относятся ко всему на свете, и внутренне сразу все для себя решая окончательно, реагируют на каждый клочок мысли, по мере того как он является: «с этим я согласен», «а вот с этим не согласен», «это потрясающе», «а вот это полная чушь» (последняя антитеза принадлежит моему начальнику). И, подведя черту: «все это чрезвычайно интересно», переходят к другой теме. Они не утомились.
Чего тут ждать? Я уверена, что и самые горячие христиане среди них не больше концентрируют внимание, когда молятся или читают Евангелие.
С чего мне предполагать, что в другом кругу было бы лучше? Я уже знакома с некоторыми из этих других кругов.
Что до потомства, то ко времени, когда народится поколение, наделенное мускулами и мыслью, печатные труды и рукописи нашей эпохи уже, несомненно, исчезнут материально.
Это меня ничуть не огорчает. Золотая жила неисчерпаема.
Что же до практической неэффективности моих письменных усилий, с тех пор как мне не доверили задачу, которой я желала бы [17], — это или что-либо другое... (я, впрочем, не представляю себе возможности чего-либо другого) [18].
Так пишет Симона матери 18 июля 1943 года, за месяц до смерти, вполне сознавая и свой скорый конец, и полную ненужность своих советов людям, взявшим на себя ответственность за освобождение и послевоенное восстановление родины. На больничной койке она продолжает, сколько хватает сил, дополнять и редактировать рукопись «Укоренения». Таким образом, работая во имя сегодняшнего и завтрашнего дня, она пишет одновременно и для неопределенно-далекого будущего, вполне допуская, что, когда это будущее придет, написанное ею «уже исчезнет материально».
Одним словом, Симона обращается к нам — ко мне и к тебе, читатель. Даже если мы отвергнем написанное или забудем вскоре после прочтения. С золотой жилой ничего не случится. Значит, ее отроют еще век или тысячелетие спустя.
Засесть за работу Симону побудило прямое поручение руководства «Сражающейся Франции» в лице Андре Филипа, комиссара по внутренним делам и труду, и Рене Кассена, комиссара юстиции в аппарате де Голля. В целях идеологического обоснования антинацистской борьбы, а также в качестве направления будущего государственного строительства и социальной политики в освобожденной стране, «Сражающейся Франции» требовался проект новой Декларации прав человека, которая должна была прийти на смену Декларации прав человека и гражданина 1789 года, отразив исторический опыт ХХ века — века мировых войн, тоталитарных режимов и средств массового уничтожения людей. Эта задача была поставлена перед группой юристов-профессионалов с известными именами. Симона среди них выглядела лишь умной чудачкой; не имея ни докторской степени, ни опыта преподавания в вузах, она все же обладала ценным в глазах коллег багажом: опытом участия в профсоюзной деятельности тридцатых годов. По мысли одного из ведущих законоведов «Сражающейся Франции» Феликса Гуэна, текст новой редакции «Декларации прав человека» предполагалось дополнить «декларацией обязанностей». Среди тех, кого подключили к работе над этим разделом, была и Симона. Ее участие продлилось недолго: 9 января 1943 года она была принята в состав «секции реформы государства», а после 20 февраля ее имя уже не встречается в протоколах заседаний. Либо ее перестали приглашать, либо она перестала приходить на них сама, а коллеги, с облегчением вздохнув, молчаливо согласились с ее отсутствием. То, что законоведы «Сражающейся Франции» во главе с Рене Кассеном в конечном счете (уже без участия Вейль) выработали, вылилось впоследствии, уже после окончания войны, в документ, выходящий далеко за пределы национальной проблематики. Речь идет, ни много ни мало, о Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Международный коллектив юристов, трудившийся над ее подготовкой, возглавил все тот же Рене Кассен. Наработки, легшие в основу этого международного документа, немалой частью были сделаны именно там, в лондонском офисе на Хилл-стрит, в 1943–1944 годах. Можно сказать, что в лице Кассена и его помощников Франция, как впервые в XVIII веке, претендовала исполнить свое осознанное еще тогда призвание: «долг мыслить за весь мир, определяя для него, что есть справедливость» [19]. Но Симона понимала то, в чем заключается этот долг, решительно не так, как ее коллеги. Она представила альтернативный взгляд на проблему в целом, практически исключавший какие-либо операции с понятием «прав человека».
Понятие прав связано с понятиями раздела, обмена, количества, — писала она. — В нем есть что-то от сферы торговли. Само по себе оно заставляет вспомнить судебный процесс, иск. Права заявляют себя не иначе как тоном претензии; и как только этот тон усваивают, тут же рядом, прямо за ним, встает и готовая их подкрепить сила, — иначе они будут лишь предметом насмешки. Есть некоторое количество понятий — все они относятся к одной и той же категории, — которые сами по себе полностью чужды сверхъестественному, находясь при этом немного выше грубой силы. Говоря языком Платона, все они связаны с повадками коллективного Зверя, сохраняющего кое-какие следы укрощения, произведенного сверхъестественным действием благодати. Когда эти следы не возобновляются постоянно через возобновление этого действия, когда они — лишь пережитки, то по необходимости зависят от капризов Зверя. Понятия прав, личности, демократии принадлежат именно к этой категории [20].
Ни понятие обязанности, ни понятие права неприложимы к Богу, причем для понятия права это еще бесконечно менее приемлемо, чем для понятия обязанности, — ибо понятие права бесконечно дальше отстоит от чистого блага. Оно смешано из блага и зла, ибо обладание правом подразумевает возможность воспользоваться им как во благо, так и во зло. Напротив, выполнение обязанности всегда, безусловно, есть благо во всех отношениях. Вот почему люди 1789 года совершили поистине катастрофическую ошибку, выбрав в качестве вдохновляющего принципа понятие права [21].
Такая позиция не оставляла надежд на возможность плодотворного сотрудничества с членами комиссии. Противоречие усугублялось тем, что позиция Симоны с самого начала была заявлена в полемическом тоне. Она покушалась на признанные авторитеты. Главным из этих авторитетов был известный католический философ Жак Маритен, чью теорию прав человека Андре Филип предполагал положить в основание своей законотворческой инициативы. Незадолго до того вышедшая в Нью-Йорке книга Маритена «Права человека и естественный закон» была воспринята Филипом, верующим-протестантом, как ясное, концентрированное, вписанное в европейскую традицию и отвечающее современным запросам выражение христианского взгляда на эту тему. Совсем не так отнеслась к мысли Маритена Симона Вейль. На вопросы о том, что считать христианским взглядом, что считать европейской традицией и что считать современными запросами, она отвечала решительно иначе. О сути непримиримого различия в подходах обоих читатель может осведомиться в сопроводительной статье к переводу «Лондонской записной книжки» Симоны в четвертом томе ее «Тетрадей». (Там же имеется более подробный рассказ об обстоятельствах пребывания Симоны в Лондоне, который повторять здесь представляется излишним.)
Вместо «прав» Симона предложила обсуждать «потребности человека» и «обязанности по отношению к человеку», набросав их примерный перечень. По ее мысли, их следовало закрепить в документе, который носил бы название «Декларация обязанностей по отношению к человеку». От этого она переходила к главной, по ее мнению, потребности, как бы суммирующей остальные:
Более всего человеческая душа нуждается в укоренении во многих естественных средах, и через них в общении с мирозданием [22].
Этой теме Симона и посвятит начатый ею в феврале трактат.
Именно отрыв от корней (в том смысле, в котором используется ею понятие «корни») Симона объявляет главной причиной и главным содержанием национальной катастрофы 1940 года. Его же считает она и определяющей тенденцией исторического развития страны, ни много ни мало, с XIII века. Соответственно, новая Франция после освобождения должна проделать обратное движение — «укорениться»; более того, первые шаги укоренения представляются Симоне неотрывными от самого процесса освобождения и в определенном смысле его условиями. Закончив относительно небольшой проект «Декларации обязанностей по отношению к человеку», Симона тут же берется за пространный трактат, который так и будет называться — «Укоренение».
Мне уже приходилось констатировать, что Симона Вейль, о чем бы она ни писала, всегда является мыслителем политическим [23]. По мере работы над переводом «Тетрадей» Симоны, занявшим более семи лет, во мне все более укреплялась мысль, что «Тетради» 1940–1943 годов, лишь крайне редко и осторожно касаясь политических тем, особенно современных, в сущности представляют собой духовно-мыслительный тренинг для будущего политика — такого, каким хочет видеть его Симона. Интересно было представить момент перехода от этих, самых общих, оснований к конкретным политическим задачам, чтобы увидеть, не подвергнутся ли на новом этапе принципы, заложенные в «Тетрадях», интеллектуальному снижению. Изучая «Укоренение» вслед за марсельскими и нью-йоркскими «Тетрадями», за лондонскими статьями зимы–весны 1943 года, я вижу в нем конденсацию всего мыслительного опыта предшествующих лет. Эта мысль устремлена, как пишет Симона, к абсолютному Благу, «живущему вне этого мира»; при этом Симона исповедует, что лишь дела человека в земном мире делают стремление к Благу реальностью. Политика для нее есть взгляд, обращенный на себе подобных, в поиске абсолютного Блага.
Абсолютное благо — не только лучшее из всех благ (тогда оно было бы относительным благом), но и единственное, всецелое благо, в высшей степени заключающее в себе все блага, в том числе и те, которых ищут люди, которые от него отвращаются.
Любое чистое благо, исходящее из него напрямую, обладает аналогичным свойством [24].
Сообразно такому пониманию, пытаясь мыслить «чистое благо» на самых разных уровнях, Симона ведет свое исследование сразу по нескольким линиям. Прояснение христианской вести — как понимает его она — неразделимо для нее с прояснением этических основ цивилизации, и из того и другого кристаллизуются конкретные предложения социально-политических реформ. Такую целостность подхода к устроению жизни легко принять за дилетантское смешение совсем разных вещей, но для Симоны они не являются разными.
Мыслимый Симоной политик, адресат и невидимый герой ее трудов — не мудрец, сидящий на троне или удостоенный права советовать сильным мира. Не философ из «Государства» Платона, поручающий воплощение своих высоких предначертаний кастам исполнителей. Он пахарь и строитель, мыслитель и поэт, воин в момент опасности. Он сочетает в себе евангельское «кто хочет между вами быть бóльшим, да будет вам слугою» [25] с рыцарской верностью и честью, греческое благоговение перед мерой во всех вещах с индуистским «отречением от плодов действия» [26]. Он любит до сострадательной боли жизнь и всё живое, как любит женщина, одаренная сильным материнским инстинктом [27], и как любит творец-художник, подобный Моцарту или Пушкину.
И не должно удивлять, что размышления о политических и социальных проблемах непринужденно перетекают у Симоны в рассуждения теологические или эстетические, что в ее политический словарь входят — и занимают в нем важнейшее место — такие непривычные для этой области термины, как «благодать», «любовь», «красота», «поэзия» и «нежность».
Любовь к земной реальности, озаренная светом реальности высшей, — вот чем хочет вооружить Симона своего политика по контрасту с теми вершителями людских судеб, кого она называет сновидцами, силой и обманом навязывающими народам собственные грезы [28].
Но как найдется в человеческой истории — такой, какой мы знаем ее со времен фараонов до сего дня, — место для действия людей, которых ждет Симона? В 1943 году ей дал надежду на это тонкий момент между началом пробуждения самосознания народа в порабощенной стране и ее военным освобождением. Надежда не сбылась, и сегодняшняя Франция, конечно, намного дальше от самых минимальных шагов в сторону «укоренения», чем та, межвоенная, к которой Симона обращает так много горьких слов. Придет ли когда-либо новый такой момент, — или же ее труду предстоит остаться собранием зорких наблюдений, оригинально-глубоких, а порой и очень спорных оценок и неприложимых к жизни проектов?
Представляется принципиально важным рассматривать «Укоренение» в тесной связи с «Тетрадями» и статьями 1940–1943 годов — прежде всего, посмертно включенными в сборник «Ожидание Бога» [29]. Не осмыслив характера этой связи, трудно понять, почему, например, Симона посвящает завершающую часть работы (памятуя о незаконченности трактата, мы можем назвать ее завершающей только условно) полемике с «римским» понятием о Божественном Провидении. Статья Симоны «Формы неявной любви к Богу» [30] и ее пространное письмо к о. Мари-Алену Кутюрье [31] кое-что проясняют, — а именно то, что все ее общественно-политические, цивилизационные проекты по сути религиозны. Пересоздание европейской цивилизации она считает возможным не иначе как только в связи с новым прочтением христианской вести. Предлагаемый ею способ изложен достаточно подробно в статьях и записях 1941–1942 годов; остаются непроясненными лишь конкретные формы религиозной жизни, в которые может это прочтение отлиться. Именно поэтому последние полтора года жизни Вейль так упрямо стучалась в двери католической церкви. Она была уверена во всемирной важности того, что ей открылось, и хотела донести это до мира через единственную Церковь, сохранившую, как она считала, при всех огромных недостатках и даже пороках, сознание всемирной природы своей миссии.
Таким образом, в том, чтобы «укоренение» начало становиться реальностью, решающее значение принадлежит религиозной идее, овладевающей сердцами.
Болезнь потери корней, чрезвычайно углубившаяся за восемь десятилетий, сегодня лежит в основе бедственных, кровоточащих, подчас кажущихся неразрешимыми ситуаций в самых разных концах мира: в центре Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке, практически во всей Африке… Та же болезнь, со множеством застарелых и новых осложнений, представляется мне основным диагнозом моей родной страны. В каждом из этих случаев указать пути выхода той или иной цивилизации из тупиков на новый уровень, как полагаю я вслед за Симоной Вейль, способно только обновленное религиозное вдохновение. Ради того, чтобы и мои соотечественники могли задуматься над такой постановкой вопроса и найти, каждый в собственном сердце, на него ответ, и предпринят этот скромный труд переводчика.
Повторю еще раз неоднократно сказанное в сопроводительных статьях к более ранним публикациям, а также в ряде бесед и интервью для СМИ: я занимаюсь наследием Симоны Вейль вот уже скоро два десятилетия, будучи твердо убежден не только в моральной, но и в методологической ценности ее подходов для анализа социально-политических реалий и для выстраивания актуальных политических программ и проектов (естественно, в духе творческой свободы, которой требует усвоение наследия Вейль восемь десятилетий спустя после ее смерти, в чрезвычайно изменившемся мире). Подстрочные комментарии в ряде случаев представляют собой попытку экстраполировать ее суждения на те или иные ситуации из прошлого и настоящего. Пусть такой стиль работы с текстом покажется кому-то не вполне академичным, но это именно то активное чтение, которого, несомненно, и желала Симона для своих трудов.
Хочу заключить эту небольшую статью словами глубочайшей признательности той, чья бескорыстная и сердечная помощь сопутствует мне на протяжении всех восемнадцати лет занятий переводами из Симоны Вейль — Флоранс де Люсси, научной сотруднице Национальной библиотеки Франции. Именно при ее определяющем участии выполнен колоссальный труд подготовки к печати Полного собрания сочинений Симоны Вейль. Еще находясь в самой гуще этой работы, постоянно сталкиваясь с необходимостью привлекать к ней большое количество специалистов, от математиков и физиков до антиковедов и санскритологов, и при этом огромную часть работы делая сама, Флоранс изыскивала время и средства для помощи в работе никому не известному человеку из России. И даже теперь, в преклонном возрасте, давно на пенсии, овдовев, сменив парижскую квартиру на домик в горном селении в Савойе, Флоранс продолжает поддерживать меня посылкой недоступных мне книг и ксерокопий. В своем переводе и комментировании «Укоренения» я постоянно опирался на ее весьма информативную сопроводительную статью к последнему изданию этой книги: Weil S. L’Enracinement ou Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain / Ed. par Florence de Lussy. Paris: Flammarion, 2014. Пусть же предлагаемый вниманию читателя перевод будет даром признательности ее человеческой доброте и научному подвижничеству.
Петр Епифанов
Москва — Пущино-на-Оке, октябрь 2024 — июль 2025
[1] Вейль С. Формы неявной любви к Богу. СПб.: Свое издательство, 2012. С. 286.
[2] Дженнифер К. Дик (р. 1970) — американская поэтесса, переводчица, литературный критик и культуртрегер. Организатор резиденций для поэтов из разных стран мира и их поэтических перформансов во Франции.
[3] См.: https://bookhaven.stanford.edu/2013/11/joseph-brodskys-reading-list-to-have-a-basic-conversation-plus-the-shorter-one-he-gave-to-me/
[4] Жан Пьер Видаль (р. 1952) — французский поэт и эссеист.
[5] Camus A. Simone Weil // Bulletin de la NRF, juin 1949.
[6] Камю А. «Укоренение» Симоны Вейль. Набросок предисловия к книге. Пер. Б. Дубина // Иностранная литература. 2014. № 1.
[7] Цит. по: Weil S. The Need for Roots. Prelude to a Declaration of Duties towards Mankind / Translated by A. Wills. With a preface by T. S. Eliot. London — New York: Routledge, 2002. P. XIII.
[8] 13 июля 1942 г. организация «Свободная Франция» была переименована в «Сражающуюся Францию». Соответственно, в статье и в комментариях к тексту, когда речь идет о событиях до этой даты или же о всем периоде действия организации (18 июля 1940 г. — 3 июня 1943 г.), употребляется первое название, а если о событиях между 13 июля 1942 г. и 3 июня 1943 г. — второе.
[9] Т4, с. 441.
[10] Морис Шуман (1911–1998) — сын текстильного фабриканта еврейского происхождения и католички, выпускник Сорбонны, куда поступил из лицея Генриха IV, в котором училась и Симона. С 1940 по 1943 г. пресс-секретарь «Свободной Франции»; регулярно выступал от лица организации по лондонскому радио. В 1942 г. принял католическое крещение. В 1944 г. участвовал в Нормандской операции союзников. Вскоре после освобождения страны принял активное участие в образовании Народно-республиканского движения, партии христианско-демократического типа. В 1960-е гг. последовательно возглавлял министерства территорий, научных исследований и социальной политики; в 1969–1973 гг. министр иностранных дел. В июле 1942 г. Симона обратилась к нему с письмом из Нью-Йорка с просьбой о принятии в ряды «Сражающейся Франции»; именно с помощью Шумана она получила въездную визу в Англию. Первоначально в Лондоне Симону связывали с ним самые теплые дружеские отношения, но в марте произошла размолвка: насколько известно, С. В. упрекала Шумана в этикетной лести Сталину в радиовыступлениях; кроме того, ее возмущали интриги деголлевского окружения против генерала Жиро, в которых принимал участие и Шуман. Дружба была нарушена. Во время предсмертной болезни Симоны Шуман навестил ее (июль 1943), но за всё время его визита Симона не произнесла ни слова. Будучи одним из семи человек, провожавших Симону до могилы, Шуман читал заупокойную молитву над ее гробом.
[11] Андре Филип (1902–1970) — политик и публицист. Выходец из окситанской протестантской семьи, получил философское образование. С 18 лет стал активистом социалистической партии, исповедуя при этом идеи христианского социализма; в 1930-е гг. был одним из создателей Фронта христиан-революционеров. С 1936 г. депутат парламента. Был, как и С. В., членом Комитета бдительности интеллектуалов-антифашистов и членом редакции журнала «Nouveaux Cahiers» (о журнале и работе Симоны в нем см. СВ 2023, с. 20–21, 91–92). В июне 1940 г. — один из 24 депутатов, проголосовавших против предоставления диктаторских полномочий маршалу Петену. После петеновского «перемирия» участвовал в движении Сопротивления, возглавляя тайную организацию «Либерасьон — Сюд». В июле 1942 г. ему удалось покинуть Францию и присоединиться к организации де Голля, в руководстве которой он вскоре получил пост комиссара по внутренним делам и труду. В этом качестве курировал многочисленные законодательные проекты, которые предполагалось осуществить по окончании войны. В 1945–1946 гг. председатель комиссии по выработке новой конституции страны. Сохранявший полную лояльность де Голлю в военные годы, даже в случаях морального несогласия с отдельными его поступками, в последующее время чаще выступал его критиком. Продолжая занимать в ряде кабинетов министерские посты, был активным участником создания Совета Европы (1949). В 1950-е гг. протестовал против политики Франции в Алжире, из-за чего в 1957 г. покинул правящую социалистическую партию. В 1960-е гг. член руководства Протестантской федерации Франции; участвовал в работе Всемирного совета церквей.
[12] То есть во Францию.
[13] Closon F. L. Le temps des passions: De Jean Moulin à la Libération 1943–1944. Paris: Le Félin, 1998. P. 30. Франсис Луи Клозон (1910–1998) — уроженец Марселя; в юности принимал участие в движениях христианско-демократической направленности. В 1940 г. присоединился к «Свободной Франции», занимался, в частности, связью организации с движением Сопротивления внутри страны. В июле 1944 г. был назначен комиссаром республики по Северу и Па-де-Кале. В 1946–1961 гг. директор Национального института статистики.
[14] Crémieux-Brilhac J.-L. La France Libre. Vol. 2, Paris: Gallimard, 2014.
[15] Платон. Федон, 64 а–b (пер. С. Маркиша).
[16] Т3, с. 355.
[17] «Задачей, которой она желала бы», Симона называет отправку во Францию для непосредственного участия в борьбе с оккупантами.
[18] СВ 2023, с. 508–509.
[19] С. 190 наст. изд.
[20] Вейль С. Личность и священное. СПб.: Jaromír Hladík press, 2019. С. 32–33. Пер. П. Епифанова.
[21] См. с. 287 наст. изд.
[22] См. с. 37 наст. изд.
[23] СВ 2023, с. 5–14.
[24] С. 218 наст. изд.
[25] Мф 20:26.
[26] Этой максиме, подробно раскрываемой в «Бхагавад-Гите», посвящены многие страницы в «Тетрадях» 1941 г. (Т2, passim).
[27] Ср. у русской духовной сестры Симоны, Елены Гуро, в «Небесных верблюжатах» (изд. 1914): «А тёплыми словами потому касаюсь жизни, что как же иначе касаться раненого? <…> Видите ли, у меня нет детей, — вот, может, почему я так нестерпимо люблю всё живое. Мне иногда кажется, что я мать всему».
[28] Спасенная Венеция. Действие 2, явление 6: «Люди действия, люди больших начинаний — всегда сновидцы; они предпочитают реальности грёзу. Но силой оружия они заставляют и других видеть свои сны. Победитель смотрит свой сон; побежденный смотрит чужой сон. <…> Ваши желания, ваши фантазии, ваши грезы — ваши, их господина! — неизбежно станут для них единственной реальностью. Вы будете одним из тех людей, грезами которых принуждены жить народы» (речь Рено) // Т2, с. 378, 379.
[29] Почти все они переведены мной для сборника СВ 2023.
[30] СВ 2023, с. 210–291.
[31] Там же, с. 452–506.
[13] Closon F. L. Le temps des passions: De Jean Moulin à la Libération 1943–1944. Paris: Le Félin, 1998. P. 30. Франсис Луи Клозон (1910–1998) — уроженец Марселя; в юности принимал участие в движениях христианско-демократической направленности. В 1940 г. присоединился к «Свободной Франции», занимался, в частности, связью организации с движением Сопротивления внутри страны. В июле 1944 г. был назначен комиссаром республики по Северу и Па-де-Кале. В 1946–1961 гг. директор Национального института статистики.
[14] Crémieux-Brilhac J.-L. La France Libre. Vol. 2, Paris: Gallimard, 2014.
[11] Андре Филип (1902–1970) — политик и публицист. Выходец из окситанской протестантской семьи, получил философское образование. С 18 лет стал активистом социалистической партии, исповедуя при этом идеи христианского социализма; в 1930-е гг. был одним из создателей Фронта христиан-революционеров. С 1936 г. депутат парламента. Был, как и С. В., членом Комитета бдительности интеллектуалов-антифашистов и членом редакции журнала «Nouveaux Cahiers» (о журнале и работе Симоны в нем см. СВ 2023, с. 20–21, 91–92). В июне 1940 г. — один из 24 депутатов, проголосовавших против предоставления диктаторских полномочий маршалу Петену. После петеновского «перемирия» участвовал в движении Сопротивления, возглавляя тайную организацию «Либерасьон — Сюд». В июле 1942 г. ему удалось покинуть Францию и присоединиться к организации де Голля, в руководстве которой он вскоре получил пост комиссара по внутренним делам и труду. В этом качестве курировал многочисленные законодательные проекты, которые предполагалось осуществить по окончании войны. В 1945–1946 гг. председатель комиссии по выработке новой конституции страны. Сохранявший полную лояльность де Голлю в военные годы, даже в случаях морального несогласия с отдельными его поступками, в последующее время чаще выступал его критиком. Продолжая занимать в ряде кабинетов министерские посты, был активным участником создания Совета Европы (1949). В 1950-е гг. протестовал против политики Франции в Алжире, из-за чего в 1957 г. покинул правящую социалистическую партию. В 1960-е гг. член руководства Протестантской федерации Франции; участвовал в работе Всемирного совета церквей.
[12] То есть во Францию.
[9] Т4, с. 441.
[10] Морис Шуман (1911–1998) — сын текстильного фабриканта еврейского происхождения и католички, выпускник Сорбонны, куда поступил из лицея Генриха IV, в котором училась и Симона. С 1940 по 1943 г. пресс-секретарь «Свободной Франции»; регулярно выступал от лица организации по лондонскому радио. В 1942 г. принял католическое крещение. В 1944 г. участвовал в Нормандской операции союзников. Вскоре после освобождения страны принял активное участие в образовании Народно-республиканского движения, партии христианско-демократического типа. В 1960-е гг. последовательно возглавлял министерства территорий, научных исследований и социальной политики; в 1969–1973 гг. министр иностранных дел. В июле 1942 г. Симона обратилась к нему с письмом из Нью-Йорка с просьбой о принятии в ряды «Сражающейся Франции»; именно с помощью Шумана она получила въездную визу в Англию. Первоначально в Лондоне Симону связывали с ним самые теплые дружеские отношения, но в марте произошла размолвка: насколько известно, С. В. упрекала Шумана в этикетной лести Сталину в радиовыступлениях; кроме того, ее возмущали интриги деголлевского окружения против генерала Жиро, в которых принимал участие и Шуман. Дружба была нарушена. Во время предсмертной болезни Симоны Шуман навестил ее (июль 1943), но за всё время его визита Симона не произнесла ни слова. Будучи одним из семи человек, провожавших Симону до могилы, Шуман читал заупокойную молитву над ее гробом.
[7] Цит. по: Weil S. The Need for Roots. Prelude to a Declaration of Duties towards Mankind / Translated by A. Wills. With a preface by T. S. Eliot. London — New York: Routledge, 2002. P. XIII.
[8] 13 июля 1942 г. организация «Свободная Франция» была переименована в «Сражающуюся Францию». Соответственно, в статье и в комментариях к тексту, когда речь идет о событиях до этой даты или же о всем периоде действия организации (18 июля 1940 г. — 3 июня 1943 г.), употребляется первое название, а если о событиях между 13 июля 1942 г. и 3 июня 1943 г. — второе.
[5] Camus A. Simone Weil // Bulletin de la NRF, juin 1949.
[6] Камю А. «Укоренение» Симоны Вейль. Набросок предисловия к книге. Пер. Б. Дубина // Иностранная литература. 2014. № 1.
[24] С. 218 наст. изд.
[22] См. с. 37 наст. изд.
[23] СВ 2023, с. 5–14.
[20] Вейль С. Личность и священное. СПб.: Jaromír Hladík press, 2019. С. 32–33. Пер. П. Епифанова.
[21] См. с. 287 наст. изд.
[18] СВ 2023, с. 508–509.
[19] С. 190 наст. изд.
[16] Т3, с. 355.
[17] «Задачей, которой она желала бы», Симона называет отправку во Францию для непосредственного участия в борьбе с оккупантами.
[15] Платон. Федон, 64 а–b (пер. С. Маркиша).
[4] Жан Пьер Видаль (р. 1952) — французский поэт и эссеист.
[2] Дженнифер К. Дик (р. 1970) — американская поэтесса, переводчица, литературный критик и культуртрегер. Организатор резиденций для поэтов из разных стран мира и их поэтических перформансов во Франции.
[3] См.: https://bookhaven.stanford.edu/2013/11/joseph-brodskys-reading-list-to-have-a-basic-conversation-plus-the-shorter-one-he-gave-to-me/
[1] Вейль С. Формы неявной любви к Богу. СПб.: Свое издательство, 2012. С. 286.
[31] Там же, с. 452–506.
[29] Почти все они переведены мной для сборника СВ 2023.
[30] СВ 2023, с. 210–291.
[27] Ср. у русской духовной сестры Симоны, Елены Гуро, в «Небесных верблюжатах» (изд. 1914): «А тёплыми словами потому касаюсь жизни, что как же иначе касаться раненого? <…> Видите ли, у меня нет детей, — вот, может, почему я так нестерпимо люблю всё живое. Мне иногда кажется, что я мать всему».
[28] Спасенная Венеция. Действие 2, явление 6: «Люди действия, люди больших начинаний — всегда сновидцы; они предпочитают реальности грёзу. Но силой оружия они заставляют и других видеть свои сны. Победитель смотрит свой сон; побежденный смотрит чужой сон. <…> Ваши желания, ваши фантазии, ваши грезы — ваши, их господина! — неизбежно станут для них единственной реальностью. Вы будете одним из тех людей, грезами которых принуждены жить народы» (речь Рено) // Т2, с. 378, 379.
[25] Мф 20:26.
[26] Этой максиме, подробно раскрываемой в «Бхагавад-Гите», посвящены многие страницы в «Тетрадях» 1941 г. (Т2, passim).
Список сокращений
Быт — Первая книга Моисеева: Бытие
Пс — Псалтырь. Нумерация псалмов дается двойная: 1) по греческому переводу Семидесяти толковников, церковнославянскому (разных редакций) и Синодальному русскому переводу, и 2) по каноническому для иудаизма Масоретскому тексту Библии и сделанным с него переводам на новоевропейские языки; этой нумерации придерживалась и Симона Вейль)
Мф — Евангелие от Матфея
Мк — Евангелие от Марка
Лк — Евангелие от Луки
Ин — Евангелие от Иоанна
1 Ин — Первое послание апостола Иоанна Богослова
Рим — Послание апостола Павла к Римлянам
1 Кор — Первое послание апостола Павла к Коринфянам
Гал — Послание апостола Павла к Галатам
Флп — Послание апостола Павла к Филиппийцам
Кол — Послание апостола Павла к Колоссянам
Евр — Послание апостола Павла к Евреям
Откр — Откровение апостола Иоанна Богослова
СП — Синодальный перевод Библии на русский язык (изд. 1876 и переиздания)
BRF — La Bible. Traduite du texte original par les membres du Rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn. Paris: A. Durlacher, Vol. 1, 1899; vol. 2, 1906
CSW — Cahiers Simone Weil. Ежеквартальное издание, посвященное исследованию жизни, трудов и идей Симоны Вейль; выходит во Франции с 1978 г.
DK — Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. Herausgegeben von Walther Kranz. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1910
NRF — La Nouvelle Revue française, французский литературно-критический журнал, выходящий с 1908 г.
Т1 — Вейль, Симона. Тетради 1933–1942 гг. Т. I / Пер. с фр., сост. и примеч. П. Епифанова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016
Т2 — Вейль, Симона. Тетради 1933–1942 гг. Т. II / Пер. с фр., сост. и примеч. П. Епифанова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016
Т3 — Вейль, Симона. Тетради 1933–1942 гг. Т. III / Пер. с фр., сост. и примеч. П. Епифанова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019
T4 — Вейль, Симона. Тетради. Т. IV. Июль 1942 — август 1943 / Пер. с фр., сост. и примеч. П. Епифанова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022
СВ 2023 — Вейль, Симона. Статьи и письма 1934–1943 годов / Пер. с фр., сост., вступит. заметки и примеч. Петра Епифанова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023
Пролог
«Пролог» написан в апреле 1942 г. в Марселе.
В «Тетрадях» он сопровождался примечанием:
«Начало книги (книги, в которую вошли бы эти и многие другие мысли). <…> За этим будет следовать масса фрагментов без какого-либо порядка». Составить такую книгу Симоне не было суждено. В последующий период жизни единственным ее сочинением, принявшим форму книги, оказалось «Укоренение», которое вобрало в себя и развило в практическом ключе многие мысли, намеченные в «Тетрадях». Представляется оправданным поместить здесь «Пролог» в качестве авторского предисловия, способного задать читателю верный тон для диалога с мыслью Симоны Вейль. «Пролог» впервые был опубликован на русском языке без указания имени переводчика в кн.: Крогман А. Симона Вейль, свидетельствующая о себе. Челябинск: Аркаим, 2003. С. 151–152, а позднее в моем переводе, в сборнике: Вейль С. Формы неявной любви к Богу. СПб.: Свое издательство, 2012. С. 141–142, и в Т3, с. 355–356.
Он вошел в мою комнату и сказал: «Жалкий, ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Пойдем со мной, я научу тебя вещам, о которых ты и не думал». Я последовал за ним.
Он привел меня в церковь. Она была новой и безобразной. Он подвел меня к алтарю и сказал: «Преклони колени». Я ответил: «Я не крещен». Он сказал: «Пади на колени перед этим местом, с любовью, как перед местом, где обитает истина». Я повиновался.
Он вывел меня и отвел в какую-то мансарду, откуда в открытое окно был виден весь город, какие-то строительные леса, река, где разгружались баржи. В мансарде был только стол и пара стульев. Он велел мне сесть.
Мы были одни. Он заговорил. Иногда кто-то входил, присоединялся к разговору, потом уходил.
Уже была не зима. Еще была не весна. Ветки деревьев были голыми, без почек, воздух холоден и полон солнца.
День начинался, сиял, угасал, и снова звезды и луна смотрели в окно. И опять занималась заря.
Временами он умолкал, доставал из шкафа хлеб, и мы делили его. У этого хлеба был настоящий вкус хлеба. Мне никогда больше не встречался такой вкус.
Он наливал мне и себе вина; оно имело вкус солнца и земли, на которой был построен этот город.
Иногда мы растягивались на полу мансарды, и сладость сна сходила на меня. Потом я просыпался и пил солнечный свет.
Он обещал мне учение, но так ничему и не научил. Мы просто говорили обо всем на свете, перескакивая с одного на другое, как водится между старыми друзьями.
Однажды он сказал мне: «Теперь уходи». Я упал на колени, я обнимал его ноги, умоляя не прогонять меня. Но он выставил меня на лестницу. Я сошел вниз, ничего не понимая; сердце было словно разбито на части. Ходил по улицам. Потом осознал, что совсем не помню, где находился тот дом.
Я ни разу не пытался его найти. Мне было понятно, что он приходил за мной по ошибке. Мое место не в той мансарде. Оно — где угодно: в тюремной камере, в одной из буржуазных гостиных, полных безделушек и красного плюша, в зале ожидания вокзала. Где угодно — только не в той мансарде.
Я не могу не повторять иногда про себя, со страхом и стыдом, некоторые слова из тех, что он мне говорил. Но откуда мне знать, точно ли я их запомнил? Его здесь нет, чтобы сказать мне об этом.
Я точно знаю, что он меня не любит. Да и с какой стати ему любить меня?
И все равно, что-то на самом дне моей души, какая-то точка меня не может не думать, трепеща от страха, что, может быть, несмотря ни на что, он любит меня.
Набросок Декларации обязанностей по отношению к человеку
«Набросок» сохранился среди лондонских рукописей Симоны Вейль и может быть предположительно датирован февралем или мартом 1943 года. Он не включен в состав «Укоренения» и обычно публикуется отдельно от него, но сам авторский замысел «Укоренения» как «введения в Декларацию обязанностей по отношению к человеку» не оставляет сомнений в том, что перед нами части единого незавершенного труда. Настоящий перевод впервые опубликован в Т4, с. 361–371.
Общие принципы
Есть реальность, находящаяся вне мира, то есть вне пространства и времени, вне духовного мира человека, вне всякой сферы, доступной для человеческих возможностей.
Этой реальности соответствует в сердце человека требование абсолютного блага, живущее в нем всегда и не находящее для себя никакого предмета в этом мире.
Она также проявляется в этом мире через нелепости, через неразрешимые противоречия, с которыми сталкивается человеческая мысль всегда, когда вращается только внутри этого мира.
Подобно тому как реальность этого мира является единственным основанием фактов, так другая реальность есть единственное основание блага.
Только от нее нисходит в этот мир всякое благо, способное в нем существовать, всякая красота, всякая истина, всякая справедливость, всякая законность, всякий порядок, всякое подчинение человеческого поведения обязанностям.
Единственным посредством, через которое благо может, покинув свое жилище, сойти в среду людей, являются такие люди, чьи внимание и любовь постоянно обращены к этой другой реальности.
Хотя она и недосягаема для всех человеческих способностей, человек имеет власть обращать к ней свое внимание и свою любовь.
Ничто не дает никому права предполагать относительно любого человека, что он лишен этой власти.
Эта власть бывает чем-то реальным в этом мире, только когда она осуществляется. Единственным условием для того, чтобы она осуществлялась, является согласие.
Это согласие может быть сформулировано. А может не быть сформулировано, даже внутренне, может ясно не осознаваться, но при этом фактически иметь место в душе. Часто оно фактически не имеет там места, хотя выражено в речи. Сформулировано оно или нет, единственным и достаточным условием для него является то, чтобы оно имело место на самом деле.
Каждому, кто на деле согласен направить свое внимание и любовь вне мира, к реальности, находящейся за пределами человеческих возможностей, дано достичь в этом успеха. В таком случае рано или поздно на него сходит благо, освещающее через него то, что его окружает.
Требование абсолютного блага, живущее в самом сердце человека, и власть, пусть и потенциальная, направить внимание и любовь вне этого мира и получать оттуда благо составляют вместе связь, соединяющую с иной реальностью любого человека без исключения.
Всякий признающий эту иную реальность, признаёт также и эту связь. Именно по этой причине любой человек без исключения относится к тому, к чему принято относиться почтительно, как к чему-то священному.
Нет другого возможного мотива для уважения, общего для всех людей. Какова бы ни была формула веры или неверия, которую угодно выбрать человеку, тот, чье сердце склонно оказывать это уважение, признаёт на деле иную реальность, чем реальность этого мира. Кому это уважение чуждо, тому чужда и иная реальность.
Реальность этого мира состоит из различий. В нем неравные предметы привлекают неравное внимание. Определенное стечение обстоятельств или некая привлекательность притягивает внимание к личности некоторых людей. Вследствие других обстоятельств и недостатка привлекательности другие люди остаются безымянными. Они лишены внимания, или же, если внимание направлено на них, то различает лишь элементы, свойственные тому или иному коллективу.
Внимание, всецело ограниченное этим миром, всецело подвержено и воздействию этих неравенств, и то, что оно не различает этого воздействия, не избавляет от него.
Среди фактических неравенств, уважение может быть равным ко всем, только если относится к чему-то такому, что в них тождественно. Люди различны во всех, без исключения, отношениях, которые связывают их с вещами этого мира. Тождественным в них является наличие связи с другой реальностью.
Все человеческие существа абсолютно тождественны в той мере, в какой они могут быть мыслимы в качестве центрального требования блага, вокруг которого располагается психическая и плотская материя.
Только внимание, действительно направленное вовне этого мира, имеет действительный контакт с этой основной структурой человеческой природы. Только оно обладает всегда тождественной способностью проецировать свет на любое человеческое существо.
Любой, у кого есть эта способность, обладает также и вниманием, действительно направленным вовне мира, независимо от того, сознает он это сам или нет.
Связь, соединяющая человека с другой реальностью, так же как и сама эта реальность, недоступна для человеческих способностей. Невозможно даже засвидетельствовать ей то уважение, которое она внушает, когда о ней узнаёшь.
Это уважение никоим образом не может быть выражено в нашем мире напрямую. Но если его не выражают, оно и не существует. Для него имеется возможность непрямого выражения.
Уважение, которое внушает связь человека с реальностью, чуждой этому миру, мы адресуем той части человека, которая находится в реальности этого мира.
Реальность этого мира — необходимость. Та часть человека, что находится в этом мире, оставлена на волю необходимости и подчинена игу потребностей.
Для уважения, которое мы испытываем по отношению к человеческому существу, существует единственная возможность непрямого выражения; ее предоставляют потребности людей в этом мире, земные потребности души и тела.
Эта возможность основана на связи в человеческой природе между требованием блага, которое (требование. — П. Е.) есть самая сущность человека, и его чувствами. Ничто не дает права думать о каком-либо человеке, что в нем этой связи не существует.
В силу этой связи, когда, вследствие поступков или упущений других людей, жизнь человека оказывается разрушена или искалечена раной или душевными и физическими лишениями, наносится удар не только по его чувствам, но и по его стремлению к благу. В тот момент совершается преступление против всего святого, что имеет в себе человек.
Напротив, когда человек испытывает лишение или получает рану только под действием сил природы или когда он сознает, что люди, нанесшие ему эту рану, были далеки от желания причинить ему хотя бы малейшее зло, а повиновались одной только необходимости, которую он и сам осознаёт как таковую, — в этих случаях в нем может быть затронута лишь чувственная сфера.
В основе обязанности лежит возможность непрямого выражения почтения к человеку. Обязанность имеет предметом земные душевные и телесные потребности любого человека. Каждой потребности соответствует обязанность. Каждой обязанности соответствует потребность. Другого рода обязанностей по отношению к человеческим существам нет.
Если нам кажется, что мы нашли другие обязанности, то они или ложны, или не включены в этот разряд только по ошибке.
Всякий, чьи внимание и любовь обращены к надмирной реальности, тем самым признает, что в его общественной и частной жизни на нем лежит единственная и постоянная обязанность: на уровне его ответственности и в меру его власти помогать любому человеку во всех душевных и телесных лишениях, способных разрушить или искалечить его земную жизнь.
В том, что касается сферы власти и порядка ответственности, говорить о пределе законно, только если сделано все возможное, чтобы донести необходимость, налагающую эту обязанность, до сознания тех, кого коснутся ее последствия, безо всякой лжи, и так, чтобы они могли согласиться ее признать.
Никакое стечение обстоятельств никогда никого не освобождает от этой всеобщей обязанности. Обстоятельства, которые на первый взгляд кажутся освобождающими от нее по отношению к какому-либо человеку или к определенной категории людей, лишь более властно ее накладывают.
Мысль об этой обязанности вращается среди людей в очень разных формах и с очень разной степенью ясности. Люди бывают более или менее склонны принимать или отвергать ее в качестве правила своего поведения.
К согласию чаще всего бывает подмешана ложь. Когда оно свободно от лжи, практика не обходится без недостатков. Отказ толкает на преступление.
Пропорция добра и зла в обществе зависит, с одной стороны, от пропорции между согласием и отказом, с другой — от распределения власти между теми, кто соглашается, и теми, кто отказывается.
Всякая, любого рода, власть, оказавшаяся в руках человека, не изъявляющего осознанного, полного и нелживого согласия с этой обязанностью, попала в плохие руки.
Со стороны человека, выбравшего отказ, обладание большой или малой, публичной или частной должностью, вверяющей в его руки людские судьбы, уже само по себе является преступной деятельностью. Соучастники в ней — все те, кто, зная о его мысли, выдвинул его на эту должность.
Государство, вся официальная доктрина которого провоцирует на это преступление, само целиком вовлечено в преступление. В нем не остается ни следа законности.
Государство, не опирающееся на доктрину, направленную в первую очередь против всех форм этого преступления, не обладает полнотой законности.
В системе законов, где не предусмотрено ничего, чтобы помешать этому преступлению, отсутствует сама сущность закона. Система законов, предусматривающая меры против определенных форм этого преступления, но не против других, лишь отчасти имеет характер закона.
Правительство, члены которого совершают это преступление или дозволяют его нижестоящим, есть предатель своего долга.
Любой коллектив, институция, коллективный образ жизни, поддержание которых подразумевает систематическую практику этого преступления или ведет к ней, поражены беззаконием и нуждаются или в реформировании, или в роспуске.
Человек соучаствует в этом преступлении, если, принимая большое, малое или даже минимальное участие в ориентации общественного мнения, воздерживается обличать это преступление всякий раз, когда узнает о нем или если подчас отказывается о нем знать, чтобы не чувствовать обязанности его обличать. Страна не является невиновной в этом преступлении, если общественное мнение, имея свободу выражать себя, не осуждает его обыденную практику или если, при отсутствии свободы выражения, циркулирующие в этой стране подпольно мнения не содержат такого осуждения.
Цель публичной политики состоит в том, чтобы отдавать, в максимально возможной мере, власть в руки тех, кто знает об обязанности, лежащей на каждом человеке по отношению ко всем человеческим существам, и согласен на деле взять ее на себя.
Закон есть совокупность постоянных распоряжений, способных оказывать это воздействие.
Знание обязанности — двояко. Оно включает в себя знание самого ее принципа и знание того, как ее применять.
Поскольку область применения составляют человеческие потребности в этом мире, на интеллекте лежит долг осмысливать понятие потребности и распознавать, различать и перечислять со всей точностью, на какую он только способен, земные потребности души и тела.
Это исследование должно постоянно обновляться.
Изложение обязанностей
Чтобы конкретно понимать долг по отношению к людям и подразделять его на отдельные обязанности, достаточно осмыслить земные потребности тела и души человека. Каждая потребность есть предмет некоторой обязанности.
Потребности человеческого существа священны. Их удовлетворение не может быть подчинено ни государственным соображениям, ни соображениям, касающимся денег, национальности, расы, цвета, ни моральной или другой ценности, приписываемой соответствующему лицу, ни какому-либо другому условию.
Единственным законным пределом удовлетворения потребностей одного человека являются необходимость и потребности других людей. Предел законен только в том случае, если потребностям всех человеческих существ уделяется одна и та же степень внимания.
Фундаментальная обязанность перед человеческими существами подразделяется на множество конкретных обязанностей путем перечисления основных потребностей человека. Каждая потребность есть предмет отдельной обязанности. Каждая обязанность имеет своим предметом одну потребность.
Речь идет только о потребностях земных, ибо человек может удовлетворить только их, — о потребностях души в той же мере, как и о потребностях тела. Душа имеет свои потребности, и, когда они не удовлетворяются, она находится в состоянии, подобном состоянию истощенного голодом и искалеченного тела.
Человеческое тело в первую очередь нуждается в питании, в тепле, во сне, в гигиене, в отдыхе, в упражнении, в чистом воздухе.
Потребности души большей частью могут быть разделены на пары противоположностей, уравновешивающих и дополняющих друг друга.
Человеческая душа нуждается в равенстве и в иерархии.
Равенство есть публичное, выраженное действенно в институциях и нравах, признание принципа, что потребностям всех человеческих существ полагается равная степень внимания. Иерархия есть лестница степеней ответственности. Так как внимание склонно обращаться кверху и задерживаться там, необходимы специальные положения, чтобы сделать совместимыми на практике равенство и иерархию.
Человеческая душа нуждается в послушании по согласию и в свободе.
Послушание по согласию есть такое послушание, которое оказывают некоему авторитету, поскольку считают его законным. Оно невозможно ни по отношению к власти политической, установленной через завоевание или государственный переворот, ни к власти экономической, основанной на деньгах. Свобода есть власть выбора в промежутке, который оставляют нам непосредственное воздействие сил природы и авторитет, принимаемый в качестве законного. Промежуток должен быть достаточно широк, чтобы свобода не была фикцией, но в нем должны находиться только вещи, не противоречащие закону, чтобы не сделать позволительными какие-то виды преступлений.
Человеческая душа нуждается в истине и в свободе выражения.
Потребность в истине требует, чтобы все имели доступ к культуре ума, не принуждаясь для этого ни к физической, ни к моральной пересадке. Она требует, чтобы в области мысли не осуществлялось никакого материального или морального давления, продиктованного какой-либо заботой, кроме одной лишь заботы об истине; это предполагает абсолютный запрет всякой пропаганды без исключения. Она требует защиты от заблуждения и лжи, от того, что преобразует в наказуемую вину всякую материальную ошибочность, которой можно избежать, объявив о ней публично. Она требует публичной защиты от ядов в сфере мысли.
Но интеллект для своего упражнения нуждается в возможности выражать себя так, чтобы никакой авторитет его не ограничивал. Нужна, следовательно, область чистого интеллектуального исследования — четко очерченная, но доступная всем, куда не вмешивается никакой авторитет.
Человеческая душа нуждается одной своей частью в уединении и приватности, другой частью — в жизни общественной.
Человеческая душа нуждается в личной и коллективной собственности.
Личная собственность отнюдь не заключается в обладании некой суммой денег, но в присвоении конкретных предметов, таких как дом, поле, мебель, орудия труда, — того, что душа рассматривает как продолжение себя самой и тела. Справедливость требует, чтобы так понимаемая личная собственность была неотчуждаема, как и свобода.
Коллективная собственность определяется не на юридическом основании, но по чувству человеческой среды, рассматривающей определенные материальные объекты как продолжение и выражение себя самой. Такое чувство делают возможным лишь определенные объективные условия.
Наличие какого-то социального класса, определяемого через отсутствие личной и коллективной собственности, столь же постыдно, как и рабство.
Человеческая душа нуждается в наказании и в оказании чести.
Всякий человек, которого <совершенное им> преступление поставило вне блага, нуждается в восстановлении во благе посредством скорби. Скорбь должно наносить с целью подвести душу к свободному признанию того факта, что она причинена справедливо. Это восстановление во благе есть наказание. Всякий невиновный человек или тот, кто уже завершил искупление, нуждается в том, чтобы достоинство честного человека признавалось за ним в мере, равной достоинству всякого другого.
Человеческая душа нуждается в дисциплинированном участии в решении общих задач, касающихся общественной пользы, и в личной инициативе в рамках этого участия.
Человеческая душа нуждается в безопасности и в риске. Страх насилия, голода или всякого другого крайнего зла есть болезнь души. Скука, вызванная отсутствием всякого риска, также является болезнью души.
Более всего человеческая душа нуждается в укоренении во многих естественных средах и через них в общении с мирозданием.
Родина, среды, определяемые языком, культурой, историческим прошлым, профессией, местностью, — все это примеры естественных сред.
Преступным является все то, что имеет целью лишить человека корней или препятствовать его укоренению.
Критерий, позволяющий узнать, что где-то человеческие потребности удовлетворяются, — это расширение братства, радости, красоты и счастья. Где царят разобщенность, печаль и некрасота, там есть лишения, которые следует восполнить.
Практическое применение
Первое условие того, чтобы эта Декларация на практике оказала вдохновляющее воздействие на жизнь страны: она должна быть принята народом именно с таким намерением.
Второе условие: всякий, кто осуществляет или желает осуществлять власть любого рода — политическую, административную, судебную, экономическую, техническую, духовную или иную, — должен давать обещание принять ее в качестве практического правила своего поведения.
При этом равный и всеобщий характер обязанности несколько варьируется в зависимости от видов ответственности, которые включает в себя та или иная отрасль власти. Поэтому к формуле обещания нужно добавлять: «…уделяя специальное внимание потребностям зависящих от меня людей».
Нарушение такого обещания словом или делом в принципе всегда должно быть наказуемо. Но появление институций и нравов, позволяющих за него наказывать в большинстве случаев, потребует смены нескольких поколений.
Согласие с этой Декларацией предполагает постоянный труд, направленный на то, чтобы эти институции и нравы возникли как возможно скорее.
Укоренение
Введение в Декларацию обязанностей по отношению к человеку[1]
Понятие обязанности первично по отношению к понятию права. Понятие права подчинено понятию обязанности и связано с ним. Любое право действенно не само по себе, но только в силу обязанности, которой оно соответствует; практическое исполнение права исходит не от того, кто им обладает, но от других людей, которые признают себя обязанными чем-либо перед ним. Обязанность действенна с того момента, когда человек ее признает. Однако если какая-то обязанность не будет признана никем, она не потеряет ничего от полноты своего содержания. Право же, если оно никем не признается, не является чем-то существенным{1}.
Это не означает, что люди имеют, с одной стороны, права, с другой — обязанности. Эти слова выражают всего лишь различия в точке зрения. Отношение между ними — это отношение между объектом и субъектом. Отдельный человек, рассматриваемый сам в себе, имеет только обязанности, среди которых находится некоторое число обязанностей по отношению к самому себе. Другие, если рассматривать их с его точки зрения, имеют только права. Он, в свою очередь, имеет права, когда рассматривается с точки зрения других, признающих определенные обязанности перед ним. Если бы какой-то человек был единственным обитателем вселенной, у него не было бы ни единого права, но были бы обязанности.
Понятие права, имея объективный характер, неотделимо от понятий существования и реальности. Оно появляется, когда обязанность нисходит в область фактов; следовательно, оно заключает в себе в определенной мере рассмотрение фактических состояний и частных ситуаций. Только обязанность может быть безусловной. Она находится в области, которая выше всяческих условий, ибо это область выше земного мира{2}.
Люди 1789 года{3} не признавали эту область реально существующей. Они признавали лишь область человеческого. Поэтому и начали с понятия права. В то же время они пожелали выдвинуть абсолютные принципы. Это противоречие повлекло их к путанице языка и идей, многое из которой сохраняется и в сегодняшней социально-политической путанице{4}. Область вечного, всеобщего и безусловного отличается от области фактических условий, и к ней принадлежат иные понятия, связанные с самой таинственной частью человеческой души.
Обязанность связывает между собой только человеческие существа. Не существует обязанностей для коллективов как таковых. Но они существуют для всех человеческих существ, составляющих некую коллективную общность, служащих ей, управляющих ею, представляющих ее в той части их жизни, которая связана с коллективом, так же как и в той части, которая остается независимой от него.
Все человеческие существа связаны одними и теми же обязанностями, хотя этим обязанностям соответствуют различные поступки, смотря по ситуациям. Любой человек, кем бы он ни был, в каких бы то ни было обстоятельствах, не может устраниться от них, не совершив тем самым преступления, — исключая случаи, когда две реальные обязанности в фактическом исполнении оказываются несовместимы и человек бывает вынужден оставить одну из них без исполнения.
Степень несовершенства того или иного общественного строя измеряется количеством ситуаций подобного рода, которые заключает в себе этот строй.
Но даже и в этом случае имеет место преступление, если обязанность, которую пришлось оставить без исполнения, не только не исполняется на деле, но еще и отрицается.
Объектом обязанности в области человеческих дел всегда является человеческое существо как таковое. Мы несем обязанность по отношению ко всякому человеческому существу на основании лишь того факта, что оно является человеческим существом, не примешивая к этому никакого другого условия, и даже в том случае, если само это человеческое существо ни одной из таких обязанностей не признает.
Эта обязанность не основывается ни на какой-либо фактической ситуации, ни на законодательстве, ни на обычаях, ни на социальной структуре, ни на отношениях силы, ни на наследии прошлого, ни на предполагаемых исторических перспективах. Ибо никакая фактическая ситуация не может породить обязанность.
Эта обязанность не основывается ни на каком соглашении. Ибо все соглашения изменяемы по воле договаривающихся, тогда как в обязанности никакое изменение воли людей ничего изменить не может.
Эта обязанность вечна. Она отвечает вечному предназначению человеческого существа. Только человеческое существо имеет вечное предназначение. Человеческие коллективы его не имеют. Также и по отношению к ним не существует обязанностей, которые были бы вечны. Вечен лишь долг по отношению к человеческому существу как таковому.
Эта обязанность безусловна. Если она основана на чем-то, это что-то не принадлежит нашему миру. В нашем мире она не основана ни на чем. Это единственная обязанность относительно человеческих вещей, которая не подчинена никаким условиям.
Не имея определенного основания, эта обязанность имеет подтверждение в согласии совести каждого из людей. Она выражена в ряде наиболее древних письменных текстов, дошедших до нас. Она признается всеми, во всех частных случаях, когда против нее не восстают чьи-либо интересы или пристрастия. Именно отношением к ней измеряют прогресс.
Признание этой обязанности выражается — смутно и несовершенно (более или менее несовершенно в зависимости от случая) — в том, что называют «позитивным правом». В той мере, в какой позитивное право (той или иной страны или эпохи) находится в противоречии с нею, — именно в этой мере оно повреждено беззаконием.
Хотя эта вечная обязанность отвечает вечному предназначению человеческого существа, она не имеет это назначение своим непосредственным предметом. Вечное предназначение человеческого существа не может быть предметом никакой обязанности, ибо не подчинено внешним действиям.
То, что у человеческого существа есть вечное предназначение, налагает только одну обязанность: уважение. Эта обязанность исполняется только тогда, когда уважение выражается на деле, реально, а не фиктивно; а это нельзя произвести иначе, как посредством участия в земных потребностях человека.
Человеческая совесть никогда не разногласила на этот счет. Тысячи лет назад египтяне полагали, что душа не может быть оправдана после смерти, если не может сказать: «Я никого не оставил страдать от голода»{5}. Все христиане знают, что однажды им предстоит услышать из уст самого Христа: «Я был голоден, и ты не дал мне есть»{6}. Все представляют себе прогресс как прежде всего переход к такому состоянию человеческого общества, при котором люди не будут страдать от голода. Если, не конкретизируя, спросить любого, никто не назовет неповинным человека, который, имея в достатке пищу и увидев перед дверью своего дома другого человека, полумертвого от голода, пройдет мимо, ничего ему не подав.
Итак, существует вечная обязанность по отношению к человеческому существу: не оставлять его страдать от голода, когда есть возможность ему помочь. Поскольку эта обязанность наиболее очевидна, она должна служить образцом для составления перечня вечных обязанностей по отношению к каждому человеческому существу. Чтобы быть установленным во всей строгости, этот перечень должен следовать этому первому примеру путем аналогии.
Итак, перечень обязанностей по отношению к человеческому существу должен соответствовать перечню человеческих потребностей, которые являются жизненно важными, аналогично потребности в пище.
Среди этих потребностей одни являются физическими, как собственно голод. Их не трудно перечислить. Они включают в себя защиту от насилия, жилье, одежду, тепло, гигиену, уход в случае болезни.
Другие из этих потребностей относятся не к жизни физической, но к жизни нравственной. Впрочем, подобно первым, они тоже являются земными и не имеют прямой связи, доступной нашему разумению, с вечным назначением человека. Как и физические потребности, они относятся к жизни в этом мире. Иначе говоря, если они не удовлетворяются, человек постепенно впадает в состояние, более или менее аналогичное смерти, более или менее близкое к жизни чисто растительной.
Их гораздо труднее признать и перечислить, чем потребности тела. Но всеми признается, что они существуют. Все жестокости, которым завоеватель может подвергнуть покоренные народы, — убийства, раны, организованный голод, порабощение, массовые выселения из родных мест — общепринято рассматривать как деяния одного ряда, хотя ни свобода, ни родина не являются физическими потребностями. Все сознают, что существуют жестокости, калечащие жизнь человека, не повреждая при этом его тела. Это жестокости, которые лишают человека некой пищи, необходимой для жизни души.
Обязанности по отношению к условиям человеческой жизни — безусловные или относительные, вечные или меняющиеся, прямые или непрямые — все без исключения проистекают из жизненных потребностей человеческого существа. Те из них, которые не затрагивают прямо одного, другого или третьего из людей, по отношению к людям вообще имеют значение, аналогичное пище.
Мы должны уважать пшеничное поле не ради пшеницы самой по себе, но потому, что она служит пищей для людей.
Аналогичным образом мы должны уважать и коллективные общности любого рода — отечество, семью, или любую другую общность — не ради их самих, но как пищу для определенного числа человеческих душ.
Эта обязанность на практике предполагает различные манеры поведения, различные поступки в различных ситуациях. Но рассматриваемая сама по себе, она для всех остается одной и той же.
В частности, она является абсолютно одинаковой для всех, кто находится вне рассматриваемой коллективной общности.
Степень уважения к человеческим коллективным общностям должна быть весьма высокой — по ряду причин.
Прежде всего, каждая из них уникальна, и в случае ее разрушения не может быть заменена иной. Один мешок пшеницы всегда можно заменить другим мешком пшеницы. Но пища, которую некая общность дает душе своих членов, не имеет ничего равноценного во всем мире.
Кроме того, фактом длительности своего существования коллективная общность уже проникает в будущее. Она содержит в себе пищу не только для душ живущих, но и для душ еще не рожденных людей, которые придут в мир в следующие века.
Наконец, фактом все той же длительности коллективная общность укоренена в прошлом. Она является единственным органом хранения духовных сокровищ, накопленных умершими, единственным органом передачи, посредством которого умершие могут говорить с живыми. А единственной земной вещью, имеющей прямую связь с вечным предназначением человека, является влияние тех, кто сумел овладеть совершенным познанием этого предназначения, передаваемое из рода в род.
По причине всего сказанного, может случиться, что обязанность перед коллективной общностью, которой грозит опасность, дойдет до полного самопожертвования. Но из этого не следует, что коллективная общность выше человеческого существа. Случается, что обязанность помочь человеку, находящемуся в беде, тоже требует полного самопожертвования, но это не подразумевает никакого верховенства со стороны того, кому помогают.
Бывает, что крестьянин, возделывая свое поле, в определенных обстоятельствах вынужден терпеть изнурение, болезнь или даже смерть. Но в уме он держит всегда только хлеб.
Аналогичным образом, даже в момент полного самопожертвования человек никогда не обязан никакой коллективной общности ничем другим, кроме уважения, аналогичного тому, которое подобает пище.
Очень часто бывает, что роли переворачиваются. Некоторые коллективные общности, вместо того чтобы предоставлять пищу, напротив, поедают души. В подобном случае имеет место социальная болезнь, и первостепенная обязанность — попытаться ее лечить; в определенных обстоятельствах, возможно, бывает необходимым обратиться к хирургическим методам.
В этом случае обязанность по отношению к коллективной общности идентична как для тех, кто находится внутри нее, так и для находящихся вовне.
Бывает также, что некая коллективная общность предлагает своим членам недостаточную пищу. В таком случае ее следует улучшить.
Наконец, бывают общности отмершие, которые, не пожирая душ, уже не могут их и питать. Если совершенно ясно, что они именно мертвы, что речь не идет о временной летаргии, — и только в этом случае — следует их уничтожать.
Первыми требуют изучения те потребности, которые для жизни души суть то же, что для жизни тела — потребности в пище, сне и тепле. Попытаемся их перечислить и определить.
Отнюдь не следует смешивать их с желаниями, прихотями, фантазиями, порочными пристрастиями. Следует также различать существенное и случайное. Человек имеет необходимость не в рисе или картофеле, но в питании; не в дровах или угле, но в обогреве. Точно так же и с потребностями души: следует учитывать то, что имеются разные, но равноценные способы удовлетворения, отвечающие одним и тем же потребностям. Следует также отличать от родов пищи для души яды, которые подчас могут создавать иллюзию ее питания.
Отсутствие такого изучения заставляет правительства, когда они имеют добрые намерения, действовать наугад.
Вот некоторые соображения.
I. Первая потребность души, наиболее близкая к ее вечному предназначению, это порядок, то есть такая ткань общественных отношений, когда никого не принуждают нарушать строгие обязанности, чтобы исполнить другие обязанности. Душа испытывает духовное насилие со стороны внешних обстоятельств лишь в последнем случае. Ибо тот, кого останавливает в исполнении такой-то обязанности угроза смерти или страдания, может не подчиниться ей и пострадает за это только телом. Но тот, для кого обстоятельства делают несовместимыми поступки, предписываемые несколькими строгими обязанностями, терпит ущерб в своей любви ко благу.
В наше время беспорядок и несовместимость между обязанностями достигают очень высоко
