автордың кітабын онлайн тегін оқу Нежили-небыли
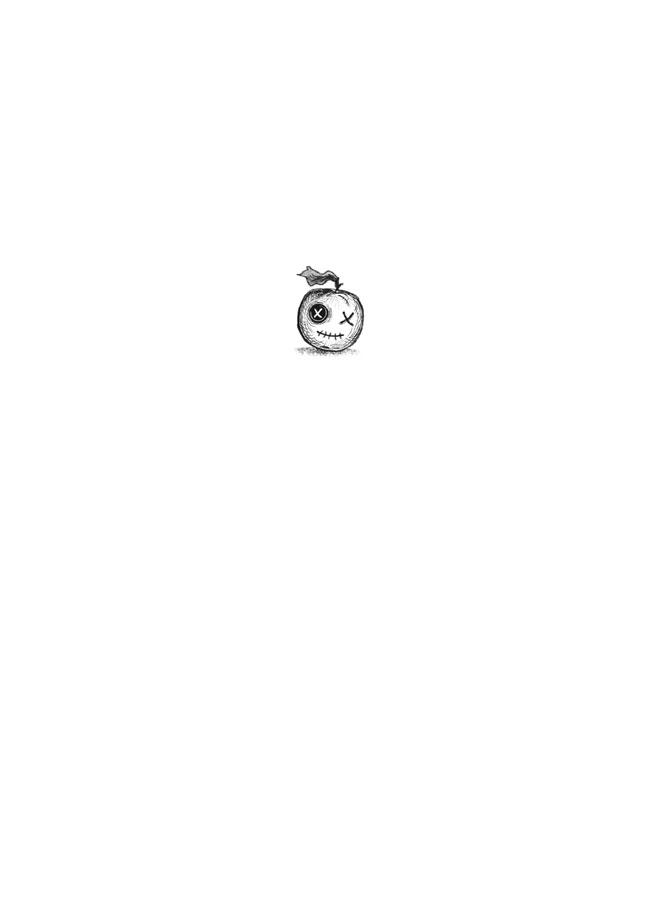

МОСКВА
РОСМЭН
2025
Под крышечкой две куколки играют.
(Глаза)
Русская загадка
ПРОЛОГ
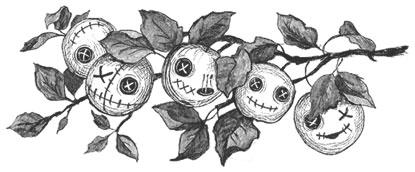
Мне всегда кажется, что я могу отличить реальность от вымысла. Это и вправду так, только происходит слишком поздно, когда шанс все исправить очень мал.
Но он есть.
Очень настойчивый тип, чьи намерения я сначала приняла на свой счет — вообразила, что поразила его своей неземной красотой, — на самом деле выпытывал у меня подробности моего прошлого вовсе не из-за моих красивых глаз, а потому что был повернут на коммунальных квартирах. Точнее сказать, на странностях коммунальных квартир. Потусторонних странностях.
Ну да, ну да:
— Видите ли вы то, что не видят другие?
— Частенько. Мои сны пока никто, кроме меня, не видел.
Откуда только узнал? Я ведь вроде так хорошо маскируюсь, так фильтрую при посторонних эмоции и переживания.
Я его отшила, когда узнала разочаровавшую правду. Сказала: «Теперь-то я в отдельной квартире живу, оставьте меня в покое».
Но знаете, все всегда сваливается одновременно, не случайно и будто бы преднамеренно.
На самом-то деле ни я, ни мои родители, ни бабушка в коммунальных квартирах никогда не жили. Разве что в квартире с соседями, но меньше всего мне хотелось бы, чтобы об этом знал кто-то, хоть чуть-чуть способный воспользоваться полученной информацией. Он может мне помешать.
Пока меня не было дома, мама, чтобы провести обряд очищения моей квартиры от злых духов, притащила якобы экстрасенса, какую-то знакомую, даже не свою, а своей сколькитоюродной сестры, — эти дальние родственники вечно появляются из ниоткуда со странными идеями. Эта знакомая, якобы экстрасенс, как переступила порог, так сразу и сказала: вижу, мол, вашу бабушку, она ходит за мной следом, корчит рожи, высовывает язык. Слышите, сказала, как трещит свечка? Это дух беснуется, никак не успокоится. С бабушкой надо что-то делать!
Хорошо, хоть квартиру не спалили со своим очищением. А я-то даже не заметила, что кто-то без меня приходил в мой дом, посягнул на мое личное пространство. Вот такая я внимательная, настолько стараюсь ни на что странное и неправильное не реагировать, что пропускаю реальное и важное. Мне кажется, залезь ко мне воры, и то не сразу позволила бы себе это осознать.
Когда оставляла ключи родителям на всякий случай, даже в голову не могло прийти, что этим воспользуются не из-за чрезвычайной ситуации (я представляла это в следующем порядке по степени ужасности: пожар, наводнение, меня парализовало). Вообще-то я в первую очередь рассчитывала на папу, как на самого, прямо скажем, адекватного и ответственного. Уверена, что мама утаила экстрасенсорный визит и от него тоже.
Она же ненароком проговорилась, скрывала от меня до последнего.
«Я так и знала, что ты так отреагируешь!» — драматично воскликнула мама, когда я сразу спросила, проверила ли она после посещения этой «целительницы» сохранность денег и драгоценностей.
На самом деле спрашивать об этом смешно. Мама тоже не знает, где у меня что лежит. Второй вопрос был даже не о вменяемости обеих моих родственниц, а упрек: неужели они обе вправду думали, что бабушка, наша бабушка, после смерти превратилась в нечистую силу? Почему именно наша бабушка? Других подходящих кандидатур не нашлось?
Мама отвела глаза и промолчала, даже оправдываться особо не пыталась, чем только вывела меня из себя.
Не обчистили, но ничего и не очистили.
И вроде бы ничего и никого лишнего у меня не появилось. Я знаю, о чем говорю.
Но почему бабушка?
Мне очень хотелось бы обозвать эту экстрасенсорную знакомую шарлатанкой, но именно из-за бабушки. Как можно было заявить, что это наша бабушка?
Я никогда не жаловалась, что в квартире есть злые духи. Не жаловалась, хотя могла бы.
Только это вовсе не бабушка. Надеюсь, после смерти она обрела покой, но уж точно не зависла между тем и этим светом, чтобы глумиться над родственниками и их гостями. Как все другие…
Я говорю себе: этого не было, потому что не могло быть.
Не могло, но смогло.
Бабушка жила в квартире с соседями, которых никогда в этой квартире не существовало.
Я теперь тоже живу в такой же квартире. Возможно, я сама и есть та самая потусторонняя странность.

ГЛАВА 1
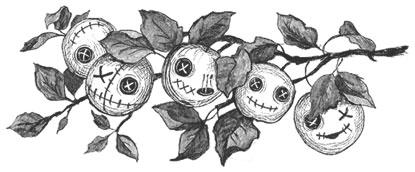
Бабушке надо было звонить два раза. Так было написано на табличке рядом со звонком, слева от входной двери: «Назарова — 2 зв.». Эта табличка висела с незапамятных времен, во всяком случае, появилась задолго до моего рождения. Откуда она взялась и зачем — никто с уверенностью сказать не мог. Просто была и была. А привычка нажимать на кнопку звонка дважды сохранилась у всех нас даже после переезда бабушки в другую квартиру. Звонок был пронзительный, с первого раза мертвого поднимет, даже с других этажей, и какой смысл поднимать всех во второй раз — неведомо.
Бабушкина комната была довольно большой, с двумя окнами, что позволило разгородить ее платяным шкафом и сервантом на две половины. «Два в одном», как говорил мой папа про такие помещения. На задние стенки шкафа и серванта повесили гобелены. На одном — неизменные олени на водопое. На другом — непонятно почему популярный в народе сюжет, где стая тощих волков в зимнем лесу нападает на бешено несущуюся тройку. Лошади выпучили глаза от ужаса, ямщик в тулупе отчаянно хлещет их, а за его спиной вскинул ружье мужик: целится, но боится промазать и зря потратить драгоценный патрон.
Кто решил, что такая полная безысходности и смерти картина подходит для уютной квартиры обычного советского человека? Да любого обычного человека.
Чем дольше я ее в детстве рассматривала, тем жутче становилось, тем больше обнаруживалось ужасных деталей, которые, может, существовали только в моем воображении: лица людей искажены предчувствием скорой смерти и патронов уже почти не осталось. И лошади в пене, уже практически без сил, готовы смириться с неизбежным, но одновременно обезумели от невозможности скинуть проклятое ярмо в виде саней с ездоками, вырваться, спастись самим. И волки — злые, голодные, нечувствительные к выстрелам, чующие пир со сладкой кровью, жарким свежим мясом. Может, и не волки вовсе, а оборотни.
Зато на настоящих стенах висели всем привычные восточные шерстяные ковры с психоделическими узорами; в цветах и завитушках можно было увидеть что угодно, а над столом, за которым я обычно делала уроки, красовалась репродукция с загадочно улыбающейся Моной Лизой. Возможно, она смотрела на ковер с волками и радовалась, что не останутся зверушки голодными этой суровой зимой.
Но это я уже накручиваю. На самом деле бабушкина комната была уютной, теплой и безопасной, и сюда хотелось возвращаться.
В действительности комнат в квартире было две, просто одна проходная, и дверь между ними давным-давно отсутствовала.
Точно так же, вопреки реальности, я много лет считала бабушкину квартиру коммуналкой, хотя бабушка при мне никогда не называла ее так, только «квартира с соседями». Так странно, что квартира казалась мне огромной, и действительность отлично уживалась с моими (и бабушкиными) представлениями: соседи, правила…
Пространство раскладывается, вытягивается, удлиняется, как подзорная труба, и начинаешь видеть через эту трубу больше нужного, то, чего ты никак видеть не должен.
Некоторое время я предпочитала считать это ложными воспоминаниями: когда тебе только кажется, что так было, пусть даже во всех мельчайших подробностях, но факты говорят совсем о другом.
Дело в том, что в какой-то период меня долго не отправляли к бабушке и выходило, что не мы к ней, а она сама приезжала к нам на праздники, в выходные, как это всегда было до болезни моего младшего брата Илюшки.
И когда я снова приехала к бабушке, то вот тут-то и обнаружила, что квартира у нее совершенно другая, нежели была. Дом тот же, в том же дворе, подъезд и этаж вроде бы те же, даже табличка рядом с дверным звонком с теми же следами времени на ней.
Но внутри оказалась совершенно другая квартира, хотя обстановка осталась та же, что я помнила. У меня даже мелькнула совершенно глупая мысль: может, бабушка переехала, а мне просто не сообщили, не посчитали нужным рассказать? Ведь теперь у бабушки была отдельная квартира без каких бы то ни было соседей!
Это было настолько неожиданно, что я даже не уточнила ни у бабушки, ни у родителей. Наверное, испугалась услышать правду, ту самую, которую совсем не хочется знать. Хотя нет ничего ужаснее, чем потерять рассудок и внезапно это осознать, я понимала, что это не сумасшествие. Но поскольку, кроме бабушкиной квартиры, ничего больше в моей жизни не поменялось, я постаралась не задумываться об этом и уж тем более не выяснять, а что это со мной такое случилось.
Я надеялась, что все из-за того, что я выросла, а взрослые, как, например, папа, ничего не видели.
Потом из этой будто бы новой квартиры бабушка переехала в ту, которая позже досталась мне. Так странно…
Ведь в бабушкиной двухкомнатной квартире, по моим воспоминаниям, всегда было пять комнат (плюс маленькая комнатка, которую папа упорно называл чуланом). Иногда четыре, иногда три. Сейчас меня изумляет то, что никогда не удивляло тогда, то, что так поразило, когда все стало по-настоящему... Мне даже не становилось страшно, когда я понимала, что своя квартира не может быть с соседями. Страшно мне теперь, когда я с этим один на один, когда уже не могу, как в детстве, при первом же ощущении дискомфорта из-за нарушения логики попросту игнорировать реальное положение вещей: ведь пространство не может растягиваться, а живые не могут быть одновременно мертвыми, и наоборот.
Я где-то читала, что шизофреник способен настолько убедить в своих бредовых идеях близкое окружение, что ему начинают безоговорочно верить даже совершенно разумные, адекватные люди. Но то идеи, они не могут быть овеществлены. Одно дело верить в инопланетян и тайный заговор, и совсем другое — проживать в двухкомнатной квартире с несколькими соседями, каждый из которых обитал в своей собственной комнате. Если у бабушки была шизофрения, то почему же мы с ней видели и слышали одинаково?
Во время переезда бабушка сидела посреди проходной комнаты на табуретке и плакала: «Я еду помирать!»
А мы в это время собирали вещи и таскали мебель, чтобы не задерживать грузчиков и не платить лишнего.
Потом рядом с плачущей и причитающей бабушкой присела мама, стала ее утешать и уговаривать. Оставшийся без маминого контроля папа принялся безжалостно сортировать бабушкино имущество и всякий ненужный, по его мнению, хлам сразу таскал на помойку.
Я застукала его с подозрительно объемным пакетом и потребовала показать содержимое. Я сильно сомневалась, что у бабушки такое огромное количество лишнего барахла.
«Тебе ведь уже не нужны старые игрушки?» — сделал невинное лицо папа.
Я закричала, что нужны, вырвала пакет, заодно узнав из папиного бормотания, что какие-то тряпичные куклы он уже выкинул. У меня не было никаких тряпичных кукол, и я не имела ни малейшего понятия, откуда они появились у бабушки. На помойке, куда я из любопытства немедленно смоталась, пакетов с бабушкиным «мусором» уже, конечно, не оказалось, что только подтвердило мои подозрения насчет папиных способностей отделять нужные вещи от ненужных. В спасенном мною пакете, кстати, кроме моих игрушек нашлись виниловые пластинки и какие-то памятные безделушки, и все это до сих пор со мной.
Илюшкиных игрушек там не было. Ну просто с Илюшкой все сложно. Он, конечно, тоже приезжал к бабушке, но ему было скучно, некомфортно, и игрушки свои он никогда у нее не оставлял даже в самом детском детстве.
Когда бабушка с гордостью говорила о внуке и при этом выяснялось, что он — мой брат, многие удивлялись. Илюшка нормально общался на своей, скажем так, территории, и когда бабушка приезжала к нам, все было в порядке.
Илюша вовсе не псих, не с отклонениями, просто оно вот так, и мы привыкли. Не всегда он был такой, в конце концов…
После известных событий он постепенно стал нелюдимым, легко мог в обморок упасть, так что я его старалась не трогать лишний раз, хотя для старшей сестры задирать младшего брата — в порядке вещей.
Поэтому и во время переезда Илюша сидел дома: то ли готовился к каким-то там контрольным, то ли еще что — я уже не помню. Мы к нему не приставали, чтобы лишний раз не устраивать нервотрепку. Тяжести ему нельзя таскать из-за глаза, а сидеть утешать бабушку — еще неизвестно, кого бы в итоге пришлось реанимировать. Илюшка вполне мог заявить с проникновенным видом: «Ну что ты, ба, ведь неизвестно, кто из нас первым умрет!»
Так что Илюшины игрушки папа не мог выкинуть, потому что их в принципе не было у бабушки, только якобы мои тряпичные куклы, о реальном предназначении которых я совершенно случайно узнала несколько лет спустя и за тогдашнее избавление от которых мысленно не раз благодарила папу. Мысленно — потому что он бы не понял.
Перекладывая бабушкину одежду с полок в чемодан, я наткнулась тогда на целлофановый пакет с незнакомым мне розовым платьем и куском шелковой ткани. Там же лежал листок бумаги, на котором бабушкиным почерком было крупно написано: «меня покрывать» и «меня одевать». Тогда эти слова мне ничего не сказали, и я, решив, что это кому-то припрятан подарок, просто сунула пакет в чемодан с одеждой и забыла.
Только много позже, перед бабушкиными похоронами, выполняя печальное мамино поручение — приготовить одежду для морга (сама мама была просто не в состоянии ничего делать, только плакала), в бабушкином шкафу я снова обнаружила этот пакет, и написанные бабушкиным почерком аккуратные записочки «меня покрывать» и «меня одевать» стали совершенно понятны, остро, до боли. Я развернула розовое платье с кокетливыми белыми пуговками, которое ни разу не видела на бабушке, шелковый белый платок с кружевом, тонкую простынку и ревела над этим пакетом в голос. В тот момент я была готова мириться с любыми бабушкиными закидонами и придирками, лишь бы она была жива. Предложи мне в этот момент каким-то образом повернуть время вспять, хотя бы на недельку, я, возможно, даже согласилась бы. Но, к счастью, со мной никого рядом не было, и свое пожелание я никогда никому не проговаривала вслух.
Помню, как в последний раз стоя в прихожей и окидывая взглядом пустой коридор, пустоту за распахнутыми настежь дверями в комнаты, я опять испытала неприятное ощущение чего-то неправильного — не хватало дверей, не хватало знакомого пространства.
Отлично же помню бабушкину квартиру с соседями, и соседи жили в своих комнатах, и каждого соседа я знала по имени. Здесь, здесь, где никак этого быть не могло.
Бабушка познакомила меня со своими «соседями по квартире» задолго до того, как я практически переехала к ней жить, еще даже до рождения Илюшки. Их состав не всегда был одинаков, по крайней мере, я точно знала двух ушедших, и есть вероятность, что был кто-то еще, кого я не застала. Родители бабушкиных соседей никогда не обсуждали, и я думала, что разговаривать про них неинтересно, поэтому если у меня возникали какие-то вопросы, то проговаривали мы их исключительно с бабушкой один на один. Или, как мне казалось, я подслушивала соседские разговоры, случайно или нет. На самом-то деле никаких соседских разговоров не было, это ложное воспоминание, как я себя благополучно убедила, но откуда оно пришло — объяснить, вероятно, невозможно.
«Они меня немножечко подъедают, — признавалась мне бабушка. — Совсем чуть-чуть, но каждый. Они иначе не могут, им жить-то хочется, а сил брать неоткуда. Но тебя они не тронут, пока я с тобой».
Но она не могла быть со мной всегда.

ГЛАВА 2
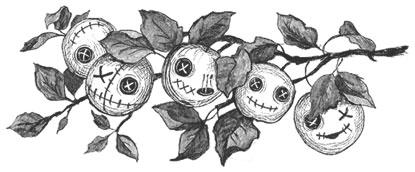
— Будешь еще раз подсматривать, я тебе глаза выдавлю, — без всякого выражения пообещал он, бесцеремонно отодвинул меня от бабушкиного комода и открыл жестяную коробку из-под печенья, в которой испокон веков у всех хранились катушки ниток и разномастные пуговицы.
Поковырялся в нитках, достал свернутые в трубочку денежные купюры, перехваченные аптекарской резинкой, распотрошил, пересчитал, слюня нечистый палец, потом точно так же свернул деньги, запихнул их себе в задний карман, закрыл жестяную коробку, потряс ею, как маракасом, поставил на место и вышел из комнаты, нарочно оттолкнув меня бедром, так что я впечаталась в комод.
На пороге обернулся, соорудил из двух пальцев вилку и изобразил, что тычет ею мне в глаза.
— Выдавлю!
Я все еще стояла, прижавшись спиной к комоду, когда он снова заглянул в комнату и добавил, опять без всякого выражения, буднично:
— А болтать будешь, так язык вырву.
И окончательно ушел, скрылся из моего поля зрения. Не в коридор, конечно, — дверь мне была отлично видна с моего места. Спустя время, с сильно колотящимся сердцем, я на цыпочках подкралась и заглянула за шкаф, который, по моим тогдашним представлениям, делил одну большую бабушкину комнату на две половины. Там никого не было. Он действительно ушел.
Я ждала, когда бабушка хватится денег, и боялась этого. Но время шло, и будто бы ничего не происходило. Проверить, не показалось ли мне, на месте ли деньги, я отчаянно трусила.
Думала, что по закону подлости именно в момент проверки зайдет бабушка и у нее возникнут вполне резонные вопросы.
А потом бабушка внезапно, как-то даже демонстративно, не купила мне обычную булочку к чаю. Я удивилась, но привычка не обсуждать действия взрослых взяла верх, и я ни о чем не спросила. Потом бабушка отказалась покупать мне мороженое без объяснения причин и будто бы была недовольна моим вопросительным видом.
Только когда мама спросила, знаю ли я, где бабушка хранит свои деньги, что-то начало у меня складываться. Лучше бы сразу обвинили в том, что я воровка, сразу, честно, без тайного недоверия и долгих проверок. Тогда бы я расплакалась, стала доказывать свою невиновность, но пружина страха несправедливого обвинения разжалась бы и больше не тревожила.
Оказывается, бабушка, обнаружив пропажу заначки, начала следить за мной: не изменилось ли мое поведение, не трачу ли я больше карманных денег, не появляются ли у меня новые игрушки. Ничего, разумеется, не менялось. На игрушки я вообще не тратилась, та же бабушка всегда на все дни рождения дарила мне довольно дорогих магазинных кукол, которых я теперь даже не уносила в родительскую квартиру. Потом, когда я подросла, этих кукол, хороших безопасных кукол, раздали дочерям родительских знакомых и друзей, даже не поинтересовавшись моим мнением.
Тогда бабушка пошла со своими подозрениями к моей маме, но та все с негодованием отвергла. Папа вообще сразу разъярился и обвинил бабушку в надвигающемся склерозе, а ее соседей по дому обозвал уголовниками.
— Моя дочь никогда так не поступит! Лучше бы следили за своими шаромыжниками по соседству! Пускаете кого ни попадя, всех привечаете!
И все же мама решила уточнить, знаю ли я, где хранятся бабушкины сбережения, на что я, разумеется, ответила утвердительно. Я знала, где лежат деньги, документы и важные лекарства. Ничего из этого я не трогала, поскольку все это меня не интересовало. Но четко перечислила маме, что где лежит. Про заначку, которую украл бабушкин племянник, я узнала только от него, так что тоже промолчала. Мне не хотелось, чтобы у меня вырвали язык.
Бабушка точно знала, что соседи по дому не виноваты — она никого, вопреки папиным обвинениям, не пускала. «Соседи по квартире»? Они не заходили в комнаты. Логично, что подозревать можно было только меня.
Я плакала и отказывалась жить у бабушки, раз уж все считают меня воровкой (я сама сказала это страшное слово, но никто не стал протестовать). Затем опять был небольшой скандал: мама, никому не сказав, на всякий случай перепрятала их с папой заначку, а когда тому — разумеется, срочно — понадобилось взять оттуда некую сумму, никаких денег на привычном месте не оказалось, и — надо же! — я как раз жила не у бабушки, а дома с родителями.
Папа не церемонился. У меня случилась истерика, я собралась уходить из дома куда глаза глядят. Признание, что виновата не я, а давно ушедший бабушкин племянник, однозначно повлекло бы последствия в виде психиатра, как мне думалось, и я все еще помнила, что мне грозило за болтовню.
И даже не столько от племянника бабушки, сколько от родителей. Как бы я повторила угрозу про выдавленные глаза, когда у братика такая беда? Взрослые и так считали, что я пытаюсь привлечь к себе внимание, но этот способ, вообще любое упоминание о проблемах с глазами еще и у меня было бы непростительным. Проклятый бабушкин племянник знал, чем пригрозить.
«Лучше уж бродяжничать, — думала я. — Всем будет легче, освобожу родителей и сама освобожусь». Ну как обычно в детстве воображают себе уход из дома, не задумываясь о последствиях. Я лелеяла свою обиду, собирая в школьный рюкзак вместе с колготками и кофтами еще и учебники (нельзя же не ходить в школу). У меня даже подруг-то близких не было, у кого можно переночевать.
Но тут вернулась мама, и папа примирительно сказал, что на самом деле ничего из того, что наговорил, он никогда про меня не думал.
«Ты ведь ничего не восприняла всерьез, да? А я ничего такого и не говорил», — оправдывался он.
А спустя день бабушка нашла свою заначку — всю пропавшую сумму, — засунутой в зимний сапог в коробке на антресолях, когда эта самая коробка внезапно свалилась ей на голову. Шуточка как раз в духе ее соседа дяди Гриши, только вот он никогда в бабушкину комнату не заходил.
А я лишний раз убедилась, что лучше помалкивать, молчать до тех пор, пока все не разрешится само собой.
Я смотрю старые фотографии, черно-белые, цветные, пожелтевшие, с загнутыми, обтрепанными или вообще оборванными уголками. Согнутые пополам, подклеенные скотчем или пергаментной бумагой. И у меня подводит живот из-за иррационального страха перед прошедшим временем. Нет в живых большинства людей, радостно позирующих на фотокарточках, принаряженных по случаю дня рождения или свадьбы, на фоне ковров, свежекупленной техники — то есть с магнитофонами-автомобилями-телевизорами — и с детьми на руках. Уж этих детей-то тоже многих нет в живых. Юные девушки постарели, подтянутые усатые парни сморщились и обрюзгли. Любимые, родные, они все ушли, растворились во времени и больше никогда не вернутся. И места, где были сделаны снимки, изменились, пропали, сгинули. Дома разрушены, перестроены, квартиры проданы. Хочется уцепиться, удержать что-то постоянно ускользающее, чтобы сохранилось так, как есть сейчас, и больше не изменялось.
Но только не бабушкин племянник. Не сосед, а родственник. Пусть он никогда больше не появляется. Лучше бы, чтобы он и раньше никогда не появлялся, может ограничившись только упоминанием на словах, если невозможно совсем стереть его существование. Но нельзя.
Много чего нельзя.

ГЛАВА 3
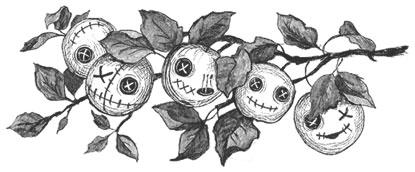
«Ты же уже взрослая девочка!»
Эта фраза никогда не бывает похвалой и не подтверждает твои достижения. После слов «ты уже большая девочка» немедленно следует что-то неприятное, какое-то невыгодное, обременяющее, ущемляющее, тяготящее тебя поручение. Ты сразу что-то должна: понимать, перестать, принять, потерпеть, забыть, отдать.
Меня отправляли к бабушке на квартиру, потому что я — большая девочка, а Илюша — маленький. Поэтому Илюшка жил с мамой и папой, а я — у бабушки, эдакий воскресный ребенок.
Теперь-то я понимаю, что мама просто не справлялась с ситуацией, в чем не хотела признаться ни тогда, ни сейчас даже самой себе. Она чувствовала себя плохой матерью, которая не может вылечить больного ребенка, которую утомляют бесполезные поездки по врачам, по клиникам, на нее давил груз ответственности, который не на кого было переложить, это вызывало неизбежные эмоциональные срывы на близких, страх развода… А тут еще старший ребенок…
Но меня с моими детскими претензиями, какими-то школьными проблемами, которые по сравнению с Илюшкиными глазами вообще являлись ерундистикой, можно было безо всяких осуждений со стороны общества и собственной совести сбагрить (нехорошее слово, и я уверена, что мама никогда в таком ключе не думала, в отличие от меня самой).
А ведь родители, наоборот, постарались избавить меня от возникших проблем, никогда не заставляли ухаживать, присматривать за младшим братом.
К тому же жизнь вне дома для меня практически не менялась, потому что бабушка жила с нами в одном районе, мне даже до школы не сильно далеко было идти, хоть и приходилось вставать на полчаса раньше. Да и бабушка с удовольствием посещала родительские собрания вместо мамы.
Спала я на диване, в спинку которого очень удобно убиралось постельное белье, в шкафу бабушка выделила мне специальную полку и отдельные плечики для платьев, у меня была своя кружка и тарелка с зайцами — только мои — и целый ящик с игрушками, тоже моими собственными.
И еще можно было смотреть телевизор хоть с утра до вечера вместе с бабушкой. Дома его практически не включали, чтобы не напрягать Илюшины глаза. И мои заодно. Но никаких указаний насчет телевизора во время моего пребывания у бабушки мама не давала и бабушку не предупреждала, чтобы берегла мои глаза. Опасность для глаз телевизионного излучения вне нашего дома как бы исчезала для меня вместе со мной. Но это, если честно, был тот самый плюс проживания у бабушки. Причем когда я выросла и переехала от родителей, то вообще редко включала телик — наверное, отсутствие запрета обесценило его привлекательность.
А тогда я волей-неволей смотрела вместе с бабушкой все сериалы, новостные программы и всевозможные передачи. Когда бабушка куда-то уходила из дома или шла готовить на кухню, телевизор выключался, а мне в голову не приходило попросить оставить его включенным для меня.
Родители, папа или мама (мама, конечно, чаще), звонили каждый вечер узнать про мои дела и пожелать спокойной ночи. Иногда трубку передавали Илюшке, но он сразу говорил, что скучает, и мы начинали вдвоем плакать, будто нас разделяли километры и непреодолимые преграды, так что бабушка ловко переключала разговор на себя.
Потом я возвращалась домой, жизнь шла своим чередом, но ощущение, что это ненадолго, не покидало меня.
Конечно, когда я заболевала, а происходило это исключительно в нашей родительской квартире, то оставалась дома. Болеть мне не нравилось, а вот оставаться дома, конечно, было замечательно: не ходишь в школу, все вокруг с тобой цацкаются, даже братик старается что-то приятное сделать.
Но однажды…
— Как не вовремя, — сказала мама папе.
Это было сказано не для моих ушей, но я услышала и очень обиделась. Мама ухаживала за мной, как обычно, когда кто-то из нас болел, но это «не вовремя» терзало меня, и непроизвольно болезнь затягивалась. К бабушке мне сразу расхотелось перебираться, и в то же время из-за затаенной обиды я готова была переехать к ней прямо сейчас.
Мы с бабушкой ладили, особенно в те времена.
С бабушкой стало труднее, когда ее старый дом расселили и каждый из жильцов получил по квартире. Особенно повезло жителям настоящих коммуналок — наконец-то пожить без со
...