автордың кітабын онлайн тегін оқу Ленин
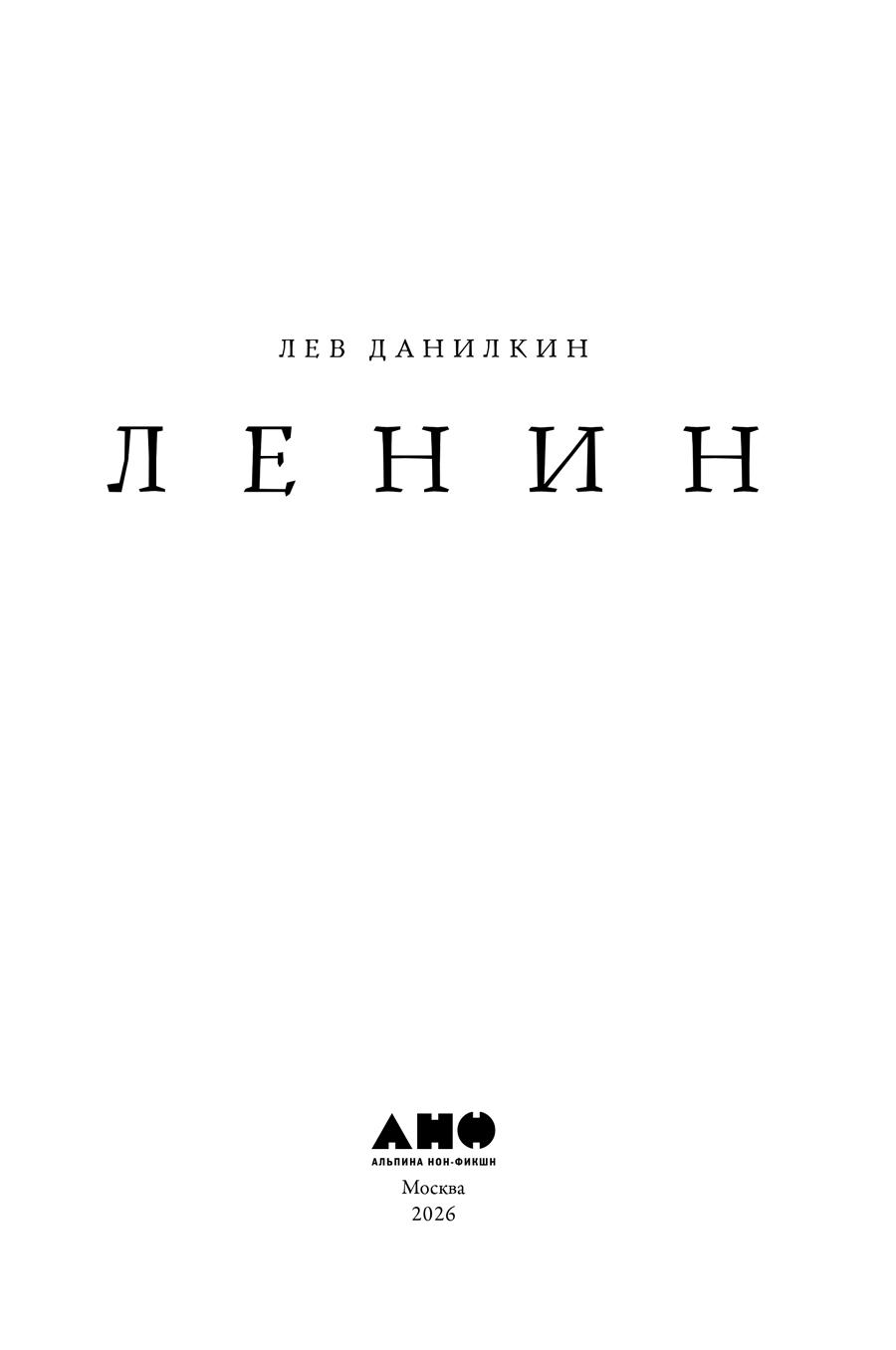

[Несколькими годами позже]
У прокоммунистического датского художника Бидструпа была карикатура: скамейка в парке, заполненная людьми, все с прямыми спинами и каменными лицами, один курит, другой позевывает, женщина перебирает содержимое сумочки, мужчина посередине читает книгу. На втором стрипе тот, который с книжкой, уже смеется — видимо, в книге оказалось что-то забавное, а его соседи поглядывают на него с раздраженным недоумением. На третьем читатель, забывшись, где он, буквально помирает со смеху — ну и соседи тоже, сами не понимая с чего, тоже начинают улыбаться — уж больно заразительно смеется. Самое интересное, однако ж, происходит дальше: соседи — мужчины и женщины, все скопом, — надрываются от хохота: хлопают себя по ляжкам, вытирают слезы, держатся за животы и только что не падают со скамейки; а вот «нулевой пациент», уже без тени улыбки, смотрит на них, подняв бровь, едва ли не с ужасом.
Нечто похожее ощущает и автор этой биографии Ленина, которую неожиданным образом прочли несколько десятков тысяч человек — и, судя по тому, что издательство намерено продолжить рискованные эксперименты, прогнозируется, что на ту же скамейку собирается присесть кто-то еще — видимо, замешкавшийся по какой-то причине. Глубоко озадаченный этими цифрами и, что существеннее, глядя на свое сочинение с возрастающим скепсисом, автор находит уместным поделиться кое-какими соображениями в жанре «предисловия к новому изданию».
Одержимый идеей реконструировать подлинный образ Ленина, автор полагал, что его соответствующая уникально многогранной личности героя цель — отследить и запихнуть в свою книжку как можно больше разных «лениных»: Ленина — создателя партии нового типа, Ленина — литературного критика, Ленина-туриста, Ленина-философа, Ленина-шахматиста, Ленина-диктатора и так далее. А уж дальше «факты будут говорить сами за себя», и читатель сам найдет «самого главного», «подлинного», «химически чистого» Ленина, того, кто обладает «ключевым качеством», которое «всё объясняет». Предполагалось, что, самостоятельно подбирая для такого «противоречивого» главного героя книги место на моральной шкале, — автор в этот момент демонстративно насвистывал «Мурку» и разглядывал потолок, — читатель проигнорирует тех «лениных», которые показались ему «несущественными», — и сдвинет Ленина, который глянулся ему больше прочих, в сторону, которая кажется более приемлемой, — к «плюсу» или «минусу».
Такого рода подход, при всей его интуитивной привлекательности, однако ж, идет абсолютно вразрез с научной методикой диалектического анализа, которую сам Ленин популярно объяснил однажды в споре с Н. Бухариным — и которая вошла в историю как лекция о «диалектике стакана»: да, один и тот же объект — да вот пусть хоть стакан: почему бы не попытаться познать его? — можно описывать по-разному: он стеклянный, он цилиндр, из него можно пить, его можно использовать как предмет, которым можно швырнуть в оппонента, — или как помещение для пойманной бабочки, ну и так далее. Проблема в том, что количество свойств и функций стакана на самом деле стремится к бесконечности, и, перечисляя их, мы никуда не продвигаемся — и не сможем обрести истины таким образом. Потому как абстрактной истины нет, истина всегда конкретна, и на изучаемый предмет следует смотреть, устанавливая его связи с окружающим миром; важно не что такое «стакан вообще», а стакан — для кого? для чего? в каком контексте?
Автор, однако ж, завороженный многофункциональностью доставшегося ему стакана — и нахлебавшись оттуда разного рода энергетических жидкостей, — вопрос о связи материального объекта с окружающим миром проигнорировал — и решительно отмежевался, ради идолов «истории» и «литературы», от вульгарной «публицистики», не уразумев, что «просто биографий», хотя бы и написанных неканоническим языком, не бывает, что книга о Ленине опубликована не в стерильном вакууме, а в конкретный исторический момент, в политически заряженной среде, в обществе, которое готовится к империалистической войне, — и раз так, любые декларации «аполитичности», любые претензии на «абсолютную объективность», по сути, подразумевают, что автор льет воду на мельницу того самого контрреволюционного государства, которое, доминируя в идеологическом поле, отчаянно желает вынуть из Ленина взрыватель, скрыть его актуальность — поскольку выстраивает свою идентичность на отмене и попирании ленинских идей.
«Множество разных Лениных», представленных в этой книге (которую сам Ленин наверняка охарактеризовал бы как эклектичную — то есть, конечно, он выразился бы посильнее), напоминает магриттовскую «Голконду» — картину, где изображен дождь из разного размера похожих друг на друга мужчин, каждый в плаще и котелке, — которые на фоне городского пейзажа, крыш домов то ли падают, то ли поднимаются, то ли висят в воздухе: дурная бесконечность в чистом виде. Набор вроде как разных мужчин — «лениных» — не имеет ни начала, ни конца, и даже если движение есть, оно мнимо — потому что заведомо не позволяет достичь цели. Недостижимость цели есть, по Гегелю, признак ложного бытия. Истинно то, что достижимо. По сути, коллекционировать «лениных» в надежде, что рано или поздно тебе попадется тот самый, самый-самый Ленин, — это как ожидание революции: всё время ждешь, когда реализуется комбинация идеальных условий, когда все условия будут соблюдены… результатом, как известно, становится не революция, а очевидность ее бесконечной недостижимости.
Задача хорошего биографа Ленина — некоторые вещи, увы, приходят в голову только задним числом — преодолеть эту дурную бесконечность, и для этого, конечно, следовало не гоняться за неким «абсолютным Лениным», а выявить Ленина, актуального для здесь и сейчас, Ленина, который может объяснить, как быть с тем, что происходит вот тут, в конкретном, сегодняшнем обществе. Не «что такое Ленин?», а — «Ленин — здесь — для кого?», «Ленин — сейчас — для чего?», «Ленин — с какой целью?», «Ленин — в каких именно проявлениях?».
Еще хуже, чем выбор неверной, ведущей к дурной бесконечности стратегии, было то, что автор опрометчиво демонстрировал намерение «транслировать взгляд на Ленина именно из сегодняшнего дня», а не «вообще», «с точки зрения вечности» — и наивно полагал, что такого рода трюк можно осуществить посредством ревизии мемориальных мест, связанных с Лениным. Ложная ревизия есть вредная, компрометирующая самого главного героя затея; фальшивая, декоративная псевдоактуальность только искажает подлинное положение дел — и, по сути, является ширмой для пропасти, разверзшейся между идеями и проектами Ленина — и тем, во что они трансформировались в стране, которой он дал опыт успешной революции.
Именно эту ошибку — среди прочих — автору хотелось бы исправить этим предисловием — и предложить читателю, раз уж тот почувствовал дефицит в своем организме какого-то вещества, которое можно экстрагировать только из биографии эталонного революционера, фокусироваться в первую очередь на идеях, которые выглядят актуальными: к примеру, на ленинских взглядах, касающихся государства как подлежащей уничтожению машины насилия, на ленинской критике национализма угнетающей нации и на его пророчестве о том, что бюрократия, если оставить ей возможность выбора, будет стремиться опереться на великодержавный шовинизм. В этом смысле, например, «биографическая» интрига, связанная с «политическим завещанием» Ленина — а был ли Ленин подлинным автором статьи 1922 года об автономизации? — при всей своей скандальности не так уж существенна; важно, что изложенные в том тексте идеи ассоциируются именно с Лениным и что выглядят они — сейчас — очень «ленинскими».
Автору хотелось бы, чтобы эту книгу читали не только как материал для байопика, биографию удивительного существа, феерично распорядившегося своей жизнью; «Ленин» — это пространство, инструмент и среда для политического диссидентства, неисчерпаемый источник образов, прецедентов, альтернатив, утопических идей и прагматичных практик. Тому, кто воспринимает политическую действительность как пространство, требующее безотлагательного преобразования, ленинский опыт, идеи и деятельность могут дать код к интерпретации сегодняшнего окружающего мира — и доступ к возможностям его демонтажа.
Словосочетание «актуальность Ленина» подразумевает, однако ж, и существование другой, гораздо менее привлекательной стороны, а именно вопроса о подлинной роли Ленина в том, как — в столетней перспективе — реализовался и претерпел удивительные метаморфозы его проект революции: созданная с его благословения ЧК, несмотря на объявленное окончание Гражданской войны, опираясь на тезис об обострении классовой борьбы, продолжила вести себя как оккупационный режим и превратилась в машину превентивных массовых убийств и принудительных удержаний в тюрьмах, а через несколько десятков лет перехватила власть у исповедовавшей пролетарский интернационализм партии и оказалась флагманом контрреволюции, чтобы стать идеологическим, стремящимся к установлению монополии на историю прошлого центром восстановленной — с сословным обществом и культом императора, замаскированным под культ государства, — Российской империи, которая строит свою идентичность — и проводит соответствующую политику насильственного поглощения «окраин» — на идее духовного превосходства титульной нации над всеми прочими, особенно малыми и находящимися в пределах досягаемости артиллерии.
Вопрос этот меж тем проигнорирован в книге — и напрасно, потому как, размышляя над тем, чем в итоге обернулась Октябрьская революция, у нас достаточно оснований предположить, что затея построения социализма в отдельно взятой стране — с расстрелами заложников из буржуазии, с концлагерями для классовых врагов, расстрелом Кронштадта, катастрофическим «щупаньем штыком» Польши, голодом в Поволжье и Казахстане, принудительной коллективизацией, 1937 годом, Новочеркасском и так далее, и так далее, и так далее — есть не фатальная, ужаснувшая (бы) его самого, ошибка главного конструктора, не следствие форс-мажорных обстоятельств, не «извращение ленинской идеи», не результат совершенного вождем рокового выдвижения Сталина на позицию, позволившую тому перехватить власть, — а методичная реализация ленинского экспериментального проекта, осознанная и намеренная; что Ленин знал об этом «побочном ущербе», осознавал его риски и последствия — и готов был платить эту цену.
Любопытно, что это предположение (приемлемое в предисловии, но неуместное в самой книге — потому что подтвердить или опровергнуть его документально можно было бы только в том случае, если бы Ленин оставил мемуары, где проговорил бы свои сокровенные мысли), которое много кому приходит в голову, как правило, подразумевает также истолкование известных событий жизни Ленина в особом ключе.
Чтобы у читателя, интересующегося историей ленинских идей — обстоятельствами, в которых они рождались и прорастали, — была возможность более осознанного выбора между принятием и отторжением, автор, испытывая отвращение к попыткам любой статусной группы жрецов ленинского культа монополизировать ленинскую биографию и игнорируя опасность шокировать воспитанных на романтической лениниане читателей, полагает полезным, не откладывая в долгий ящик, воспроизвести хотя бы базовые представления тех биографов, которые расшифровали жизнь Ленина с помощью кода, альтернативного тому, которым пользовался автор этой книги; те мнения, которые автор не разделяет или разделяет лишь отчасти — но которые имеют фактическую подоплеку, а не за здорово живешь сфабрикованы мотивированной политической ненавистью пропагандой.
Так, среди некоторых исследователей ленинской биографии [1] распространено мнение, что, например, относительная успешность Ленина в качестве политика до 1917 года связана с его завязавшимся еще в середине 1890-х сотрудничеством с иностранными (японскими, немецкими и австро-венгерскими) спецслужбами, которым деятельность по разрушению государственных институтов царской России и большевистская критика империалистических войн (а конкретнее, пораженчество) представлялись крайне полезными, — особенно в связи со сначала надвигающейся, а затем уже идущей войной, — и которые всерьез, методично ставили на вождя большевиков, чьи настойчивые требования самоопределения/автономизации угнетенных (Россией) наций были в первую очередь ответной услугой его партнерам.
Что бесспорно имевшая место инфильтрация, на протяжении десятилетий, ленинского окружения агентами охранки могла не только смущать Ленина, но навести его на мысль цинично использовать это обстоятельство — как опытные яхтсмены используют разные виды парусов, чтобы продвигаться вперед даже при встречном ветре: скармливая полиции дозированную и неполную информацию, а также чересчур амбициозных коллег-конкурентов, он мог извлекать выгоду из фирменной стратегии раскалывать свою партию — и наслаждаться как статусом «отмороженного», готового к любым, самым радикальным сменам тактики революционера, так и определенным иммунитетом, поскольку полиция заинтересована в деятельности того, кого она контролирует и кто препятствует объединению ее противников.
Что Ленин, да, был фанатиком марксистской идеи — но при этом использовал идеологическое оснащение как инструмент для упрочения личной власти и устранения соперников в борьбе за власть: так было и в полемике о народничестве, и в «Материализме и эмпириокритицизме», и на Пражской конференции, и в дискуссии о профсоюзах; всегда.
Что не надо быть патентованным ленинофобом, вроде Милюкова или Солоухина, чтобы связать именно с деятельностью Ленина декриминализацию и романтизацию (революционного) насилия; что выражение «революционные практики Ленина» можно перевести и как «опыт организации узаконенных убийств» и что, не исключено, ужасная правда о Ленине состоит в том, что он готов был чистить страну от нелояльных новой власти «буржуев» всех мастей до полного истребления.
Что даже такие вроде бы абсолютно бесспорно ленинские темы, как самоопределение и автономизация, — если рассматривать, как они разыгрывались в конкретных сценариях, — оставляют возможность квалифицировать их как род демагогии, позволявшей Ленину в дореволюционные годы использовать энергию национальных политических движений для антиимперской деятельности, а в послереволюционные — удерживать эти ресурсы при Москве, компенсируя дефицит силовых возможностей за счет пропаганды. Что пресловутая Украина — за независимость которой Ленин публично переживал с такой интенсивностью — в тот момент, когда он сам, в качестве субъекта власти, оказался в состоянии дотянуться до нее, оказалась именно что завоеванной, отвоеванной, пристегнутой; разумеется, у этой реконкисты может быть сколько угодно объяснений — политических, диалектических, экономических, идеологических, гуманитарных, но факт остается фактом: меньшая нация, вследствие решений, принятых правительством Ленина, вновь надолго оказалась зависимой от большей. Что декларации Ленина о самоопределении и автономизации — да, «ядро ленинизма», но по сути деятельность Ленина в этом плане ничем не отличалась от сталинской, постсталинской и российской постсоветской: никого не выпускать под разными предлогами идеологического характера, выпустив — стремиться вернуть и при малейшей возможности — прихватывать все что плохо лежит.
Что иконический, запечатленный на картине с ходоками образ Ленина как защитника крестьян имеет больше отношения к пропаганде, чем к реальности: при всем разрекламированном «открытии» нового союзника пролетариата, при «знании крестьянской России», при всем своем «заступничестве за народ», при «земля — крестьянам!» в топ-3 лозунгов Октября — Ленин, по сути, на протяжении всей своей политической карьеры искал технологии, чтобы применить доставшийся ему вследствие сложившейся в России начала ХХ века демографической ситуации огромный ресурс — как материал для будущей индустриализации, как механизм, снабжающий политический организм бесплатными калориями.
Констатируя, отчасти с горечью, что вышеизложенная комбинация фактов и недостаточно подкрепленных доказательствами мнений активно циркулирует в коллективном представлении о Ленине, и осознавая, что выбор неверной методологии фатален, автор — слезами горю не поможешь — все же позволяет себе надеяться, что сознательный читатель окажется в состоянии скорректировать и хотя бы отчасти преодолеть неизбывный «эклектицизм» этого текста, осознáет, ближе к финалу, что простота и ясность тезисов из предисловия обманчива, — и обнаружит, на дне стакана, другой образ Ленина: неподкупного русского интеллигента, сформированного литературой демократических авторов — и движимого не столько инстинктом «абсолютная личная власть любой ценой», сколько прежде всего искренним отвращением к монструозному государству — и желанием использовать свет открывшегося ему научного знания для того, чтобы быстро, не дожидаясь эволюционного результата, используя энергию накопившегося социального протеста, преодолеть исторически сложившуюся пропасть между привилегированными группами и «народом» и создать машину управления, альтернативную основанной на социальной несправедливости и сословных привилегиях.
Никоим образом не желая выдавать Ленина, человека с далеко не самым лучшим на свете характером и пугающе широкими представлениями о границах дозволенного в политике, за кого-то вроде Розы Люксембург или Альберта Швейцера — воплощение честности, нравственной чистоты и благородства, автор полагает, что жесткость, безжалостность, изворотливость и «трикстерство» Ленина — не абстрактные, а рассмотренные в связи с окружающим миром — суть профессиональные качества инженера, который стремится как можно скорее увидеть результаты работы спроектированного им механизма [2].
* * *
Эта книга сочинялась во времена, которые представлялись — по скудоумию — благополучными и когда привилегированным социальным группам казалось, будто и все остальные тоже не имеют оснований для недовольства: нет хлеба — ну пусть едят пирожные. Собственно, эта книга и была попыткой соорудить такой шоколадный эклер: именно так — задним числом — выглядят декларации кондитера про «рассказать историю Ленина “объективно”», от лица «неангажированного» рассказчика, деавтоматизировать «чересчур искаженное идеологиями» восприятие главного героя, найти «такой язык, которым раньше для его описания не пользовались». Ага: побольше крема.
С тех пор стало ясно — точнее, жизнь, как говорится, показала: «историческая объективность» за счет деполитизации — плохой обмен.
Простой хлеб был бы уместнее.
В «благополучные» времена — когда классовый антагонизм сглажен, смазан, амортизирован, ленинские политические практики, чреватые большими рисками и гуманитарными издержками, — скорее объект буржуазного скепсиса и либеральной критики; длинная история большевистского террора и превращение постленинского коммунизма в нелепую религию дают для такого отношения много материала.
Однако во времена острых кризисов, когда государства либо становятся несостоятельными, либо, обернувшись правой диктатурой, в открытую демонстрируют свой репрессивный характер и осуществляют террор против не способных оказать сопротивление инакомыслящих социальных групп, — вот тут «Ленин» оказывается лучшим союзником жертв, насущной фигурой, дающей волю к сопротивлению и технику; а ленинская революционная Республика — таким же вдохновляющим прецедентом сопротивления машине насилия и несправедливости, как Парижская коммуна. И даже части буржуазии нет-нет да и доводится — испытав на своей шкуре упругость полицейской дубинки — признать, что просто сидеть на моральном заборе, «над схваткой», свешивая ноги то в одну, то в другую сторону, — мало, что ленинское искусство восстания — не блажь. Что сопротивление империи, требование политического суверенитета для угнетаемых малых наций и гендерное равенство — не фанаберии, а жизненная необходимость: потому что, после того как насилию подвергают одно слабое меньшинство, приходит очередь другого, уже покрупнее. Что игнорирование ленинских технологий сопротивления и отказ от идеи вооруженного восстания заканчивается гибелью диссидентских движений, какими бы прекрасными и романтическими они ни были; особенно самых прекрасных. Что создание гибкой, способной совмещать легальную и подпольную деятельность оргструктуры, методичное избавление от оппортунистов и попутчиков в собственной среде, обязательный выбор в пользу прагматики, а не красивого жеста, — весь этот «ленинский пакет» технологий работает уже второе столетие подряд — и, похоже, остается непревзойденным способом перехватить власть в момент кризиса.
Насилие с самого начала было важнейшим компонентом и ленинизма — и многочисленные политические ошибки Ленина вызывают гнев и отвращение у людей, которые не понаслышке знают, что такое большевистский террор. Но, несмотря на сходство с «заповедями тертого пятака», замечание о том, что не следует судить о христианстве по инквизации, — точное. Ленинизм в своей ранней стадии был прежде всего ответом на угнетение, насилие и принуждение слабых сильными; да и дальнейшая его история не отменяет сути и мощи первоначального импульса Ленина и не сводится к перерождению в сталинщину; чудовищные диктатуры ХХ–XXI веков в странах мировой периферии и полупериферии напоминают нам о том, как выглядит альтернатива ленинизму: правые националистические режимы, самым ужасным образом пожирающие всё, что не может защитить себя.
Ленин был и остается тотемом угнетаемых.
[2] Впрочем, и описание Ленина как всего лишь «машины модерна», своего рода политического терминатора, лишенного национальной идентичности, исторической памяти и способности к состраданию и эмпатии — то есть, в сочетании, «души», страдает заведомой неполнотой: в этом смысле заметка героя этой книги о «роли пыли (в солнечном луче) в древней философии» — «О душе пифагорейцы думали “die Seele sei: die Sonnenstäubchen”, “душа есть солнечные пылинки” — в конспектах Гегеля есть не только поиск «намека на строение материи», не только любопытство к истории осознания философией законов «отношения субъективного к объективному», но и косвенное доказательство того, что «душа» — некая нематериальная сущность человека, которая корректирует его социальное поведение, — также была для сугубого прагматика, «политического животного» и (воинствующего) материалиста Ленина релевантной. Не в обычном, «христианском» смысле. Солнечные пылинки (=душа) суть одновременно свет и — материя: пыль, грязь, не-свет; волны — и частицы; странное мерцание истины и лжи, света и тьмы, духа и материи — и, пожалуй, метафора диалектики: единство и борьба противоположностей; тот момент, когда материя переходит в свою противоположность.
Эсхиловский Прометей называет свет одним из величайших даров, посредством которого происходит превращение дикаря, чья естественная среда — пыль и грязь, в человека: обитателя светлого жилища.
Свет в «ленинском марксизме» — социалистическая истина, очищающая наемного раба от капиталистической грязи и превращающая его в господина; это свет «из электричества», управляемая легко транспортируемая энергия; это суть модернистского проекта — с его культом просвещения и научных технологий, преобразующих мир; но еще и свет ослепляющий, свет-террор, акт насильственной экспроприации экспроприаторов, революционное движение, трансформирующее сегодняшнее солнце в тьму — ради света завтрашнего.
[1] Особенно яркий, эталонный в плане методичности и последовательности — и рекомендуемый в качестве антидота от инерционного следования «советской» исторической традиции — образчик такого рода подхода — книга 2017 года немецкого историка Евы Ингерборг Фляйшхауэр, см.: Фляйшхауэр Е. И. Русская революция: Ленин и Людендорф (1905–1917). М.: РОССПЭН, 2020. — Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.
Симбирск
1870–1887
Надежда Константиновна Ульянова, сама умевшая изобразить кого угодно, божилась, что муж ее «никак и никогда ничего не рисовал»; тем более таинственным и многообещающим выглядит плотно зататуированный пиктограммами и снабженный инскриптом берестяной прямоугольник.
14 легко читающихся кириллических букв настраивают на легкую победу; гипотетический Шерлок Холмс, впрочем, заметил бы, что нейтральнее было бы не «ПИСЬМО ТОТЕМАМИ», как тут, а «ТОТЕМНОЕ ПИСЬМО». Пожалуй, это нечастый в русской речи гендиадис: два существительных вместо существительного с прилагательным; фигура, характерная для латыни.
Центральная серия рисунков напоминает древнеегипетские росписи на стенах гробниц, другая, с геометрическими фигурами охотников, — наскальную живопись, третья — лубочные картинки из азбуки.
Цветные иконки — Самовар, Рак, Аист, Змейка, Лягушка, Свинья — прорисованы с впечатляющей аккуратностью, но без лишних анатомических подробностей; возможно, иллюстрации скопированы с некоего оригинала.
Автором этого кодекса был 12-летний гимназист, криптограф и любитель мертвых языков; уж конечно, он знал про фигуру «hen dia dyoin» («одно посредством двух»): в мае 1887-го этот самый гендиадис даже попадется ему в билете на выпускном экзамене.
Документ, хранившийся в архиве документов Ленина в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под номером 1, не включали ни в собрания сочинений, ни в «Ленинские сборники» и опубликовали лишь в 1958 году; возможно, кому-то казались неподобающими ассоциации письма со словом «вождь» («вождь краснокожих», «вождь красных»); скорее всего, дело в том, что «Письмо тотемами» так и не расшифровано: версия, будто это стилизованный отчет о проведенном лете, неубедительна.
Адресат письма — Борис Фармаковский, ровесник и приятель Владимира Ильича; он станет археологом и будет раскапывать греческую колонию Ольвию. В начале 1880-х он с родителями переехал из Симбирска в Оренбург, и в январе 1882-го — самый подходящий момент, чтоб отчитаться о лете, — Илья Николаевич Ульянов привез ему послание от сына-третьеклассника. Ответил ли Фармаковский — и если да, то как, — неизвестно.
Письмо квалифицируется как «индейское»: его элементы имитируют графическую манеру и смысловое содержание известного «прошения индейских племен Конгрессу Соединенных Штатов». Вместо названий племен там нарисованы их тотемы — животные; в тело каждого вживлено сердечко, от которого — так же как в послании ВИ — вьется веревочка к президенту: разреши нам переселение.
О чем Аист или Самовар могут просить Бородатого Купальщика?
И что за индейцы с самоварами? Может ли быть, например, Самовар — рифмованным, как в кокни, искажением названия племени «делавары»? Известно, что ВИ и его сестра Ольга, начитавшись Купера и Майн Рида, тайно от родителей соорудили вигвам из хвороста с полом, устланным травой; пока Ольга у игрушечного костра приглядывала за хозяйством, ВИ с луком уходил на охоту, откуда приносил «убитую» корягу и рассказывал, как белые люди мешали ему и сами едва не поймали его арканом.
Число «шесть» присутствует сразу в нескольких сериях, и можно предположить, что речь идет о младшем поколении Ульяновых: Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария.
Тогда кто из них — ВИ? Какой объект — тотем Ленина? Какое свойство в Ленине — главное? Кусачий, как рак? Пузатый? Склизкий? Ядовитый? Всеядный?
Если читать шестичленную криптограмму слева направо, «третьим ребенком» окажется Аист. Cимвол Гермеса, покровитель путешественников.
Если справа налево — Змейка; символ хтонических сил земли.
Аист пожирает лягушек.
Лягушек часто потрошил в ходе своих опытов Александр; лягушка, как и Бородатый, живет в озере; в одноименной пьесе Аристофана они обитают в одном из водоемов Аида. Подполье? Партия заговорщиков?
Шифрованное приглашение вступить в тайное общество?
Карта с маршрутом к сокровищу?
Молитва, адресованная духу страны вечной охоты?
Сюрреалистический Спящий Человек в правом верхнем углу выглядит пророческим автопортретом, изображающим Ленина в 1915-м — который, вернувшись после Циммервальдской конференции, полез на гору Ротхорн и, добравшись до вершины, вдруг рухнул на землю, прямо на снег, чтобы заснуть — как убитый.
Ленинская береста — античные символы, серии двойников — обескураживает биографа: поле щедро усеяно ключами — но ни один из них ничего не открывает; Фестский диск — и то понятнее.
Документ Номер Один отбрасывает длинную тень на все прочие — и служит предостережением: «очевидность» любой связанной с Лениным бумаги — мнимая. Ленин, полжизни проживший по фальшивым паспортам, был профессиональным шифровальщиком.
Мемуаристы приписывали ему умение незаметно перемещаться, быстро исчезать и другие «индейские» следопытские способности. Есть апокрифические рассказы, как он ориентировался в лесу по звездам, а в лугах — по маршрутам полета пчел. Да что там в лесу — он даже и по комнате-то, сочиняя статьи, вышагивал, как индейцы у Фенимора Купера — бесшумно, не наступая на пятки. Засечь — и сцапать его в кулак: попался! — не получится.
Но так было не всегда.
При ходьбе «голова его перевешивала» туловище; раз за разом, падая, он ударялся головой, «возбуждая в родителях опасения, что это отразится на его умственных способностях». «Треск раздавался такой основательный», — Анна Ильинична Ульянова описывает едва вставшего на ноги младшего брата с некоторым ироническим изумлением, будто ей довелось оказаться сестрой механической человекоподобной куклы, — что «я боялась, что он совсем дурачком будет». Соседи снизу, так и не сумевшие привыкнуть к жизни под этой дорожкой для боулинга, тоже сочли нужным высказать свою озабоченность: «либо очень умный, либо очень глупый он у них выйдет!» Способность брата использовать голову на манер тарана или молота вызывает у Анны Ильиничны нечто вроде гордости: «Эти частые падения и очень болезненные удары не делали Володю осторожнее» — «он бросался вперед всё с той же стремительностью».
В четыре года Карлик Нос превращается в очаровательного аморетто «с золотистыми кудерками и бойкими, веселыми, карими глазами», а затем, сезон за сезоном, утрачивает «ульяновские» припухлости и обретает «ленинскую» монументальность, которая так чувствуется практически на всех поздних фотографиях, где «харизма» вождя полностью компенсирует физиологические изъяны: рост ниже среднего, всегдашние мешки под глазами, дистрофичные волосы по бокам очага алопеции. Что касается промежуточных лет, то многие мемуаристы, даже из адептов большевизма, не считали нужным фокусироваться исключительно на ангелических параметрах ленинской внешности. Сильвин, знакомый с Ульяновым с середины 1890-х, назвал его наружность «некрасивой»; одноклассник ВИ, Наумов, вспоминает «неправильные — я бы сказал некрасивые — черты лица» и «рот, с желтыми, редко расставленными, зубами»; в вину также ставится — на всех не угодишь, — что юный ВИ был «совершенно безбровый, покрытый сплошь веснушками». Другие отмечали «калмыцкие глаза со скулами, торчащие уши, бедную рыжую растительность», сутулость, «неинтеллигентную физиономию и вид не то приказчика, не то волостного писарька»; «малопрезентабельный», «определенно похож на среднего петербургского мещанина». Странным образом, очевидная ахиллесова пята по этой части — лысина — если и провоцировала подтрунивания, то необидные; так, издательница Калмыкова в письмах именовала Ленина «наш златокудрый Аполлон». Рабочим в марксистских кружках, которые вел «Николай Петрович», плешь казалась признаком ума: так много думает, что аж волосы вылезли. Сам Ленин, похоже, склонен был разделять это мнение. Оставленный однажды приглядывать за пятилетней дочкой Лепешинского, он устроил для нее в тазу озеро, запустил кораблики из ореховых скорлупок, но надолго это не сработало; девочка заскучала и принялась изучать наружность своего бебиситтера — он вынужден был отвечать на каверзный вопрос: «Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица?» — «Оттого, — ответил, «погмыкав», озадаченный ВИ, — что я очень много думаю».
Луначарский находил, что у Ленина сократовский череп — «действительно восхитительный»; в «контуре колоссального купола лба» нельзя не заметить «какое-то физическое излучение света от его поверхности…».
Строением черепа — это видно по фотографиям, и младшая сестра об этом пишет — ВИ весьма походил на отца; и не только черепа. Рост, конституция, форма и размер лба, «несколько монгольский разрез глаз», картавость, смешение холерического с сангвиническим темпераментов, «заразительный, часто до слез» смех, предрасположенность к инсультам; оба умерли примерно от одной и той же болезни практически в одном возрасте.
На момент рождения ВИ Илье Николаевичу было 39 лет.
Для сына портного ему удалось сделать феноменальную карьеру; брат, астраханский мещанин, устроил его в гимназию, где он показал себя с лучшей стороны: окончил курс с серебряной медалью и поступил в Казанский университет. Учился у математика Лобачевского; о cклонности ИН увязывать академическую науку с реальной жизнью можно судить по тому, что в дипломной работе он описал способы расчета параболической траектории C/1853 L1 — кометы Клинкерфюса, которая впервые появилась у Земли лишь в прошлом, 1853 году. Помимо исследований апериодичных небесных тел, ИН несколько лет в Пензе и Нижнем вел систематические метеорологические наблюдения и разразился научной работой «О грозе и громоотводах». Обратив взоры на землю, он женился и, за год до рождения второго сына, перешел с должности преподавателя физики и математики на административную работу, сделавшись сначала инспектором, а через пять лет и директором народных училищ. Карьерный взлет сопровождался боковым смещением — из Нижнего в гораздо более провинциальный Симбирск, незнакомый для недавно созданной семьи город, столицу губернии размером со Швейцарию, где ИН предстояло руководить всеми народными училищами.
Больше прочих его интересовали три области: просвещение малых народов, литература и шахматы. Бешеный путешественник (в его ведении находилось более 430 народных училищ; младшие Ульяновы даже в крокет будут играть, оперируя отцовскими «командировочными» терминами: «шар отправился в уезд», «угнать этот шар подальше в губернию»), ИН воспринимал должность как «хождение в народ» — и посвящал огромную часть своего времени летучим ревизиям, целью которых было распространение начального образования (желательно в земских, народных, а не церковно-приходских школах) и спасение детей от розги и зубрежки. Прогрессивному директору народных училищ, одержимому идеей духовной модернизации общества, деятельность внутри системы просвещения представлялась бесконечной битвой с реакционным левиафаном; известна его ироническая жалоба на то, что вместо народного просвещения государство занимается «затемнением». Возможно, антагонизм ИН и государства обычно преувеличивается: пореформенная крестьянская Россия объективно нуждалась в грамотных «новых людях», способных управлять машинами — и в индустрии, и в сельском хозяйстве; и администраторы, способные вырастить это новое поколение, ценились и активно вовлекались в государственную деятельность.
Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у ИН была некоторая склонность к острословию (сохранилась его шутка про то, что «немец идет к немцу, а русский к Рузскому» — при выборе, в какую отправиться купальню), которую ему удавалось реализовать в небольшом клубе интеллигентных зануд, любителей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова. Одноклассник Ленина запомнил ИН как «старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой, седенькой, жиденькой бородкой, в вицмундире Министерства народного просвещения с Владимиром на шее…». Одержимость своим делом принесла ему в 1878 году чин действительного статского советника, в 1882-м — упомянутый орден, 3-й степени, и потомственное дворянство.
Д. Е. Галковский, проницательный читатель Ленина, подметил, что «в опубликованной переписке нет упоминаний об отце и старшем брате Александре»: возможно, «Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины». Это не такое уж голословное предположение: дело в том, что смерть отца совпадает с моментом вступления ВИ в переходный возраст — и изменения в его характере фиксируют многие свидетели.
Жизнеописания симбирского периода строятся по известному агиографическому канону: будущий духовный лидер обретался в сладкой неге, любви и семейном согласии; с головой погруженный в литературу, философию, шахматную игру, спорт, алгебру, древние и иностранные языки, он обгонял сверстников в развитии; в этом смысле слово «Преуспевающему», вытравленное на золотой медали Ульянова, кажется не столько намеком на «из латыни пять, из греческого пять», сколько переведенным на русский именем «Сиддхартха» в дательном падеже.
Сестре ВИ ребенок запомнился декламирующим «Где гнутся над омутом лозы» А. К. Толстого: про мальчика, у которого заснула на берегу водоема мать и которого вот-вот увлекут на дно обещающие блаженство полета стрекозы с бирюзовыми спинками. Эта романтическая — или даже буддистская — баллада как нельзя лучше описывает ту нарушаемую лишь согласным гуденьем насекомых нирвану, в которой можно пренебречь всеми намеками на смерть, старость, болезнь, насилие и страдание — и оставаться под материнской опекой.
С пятнадцати-шестнадцати лет, однако, принц Гаутама преображается в мантикору со скорпионьим жалом и чьей-то откушенной рукой в зубастой пасти. У ВИ появляется привычка высмеивать собеседников, отвечать «резко и зло»; раньше просто «бойкий и самоуверенный», теперь он становится «задирчив» и «заносчив»; и даже мать делается мишенью для его насмешливости. Двоюродный брат обратил внимание на то, что если раньше ВИ добродушно иронизировал над собеседником, сморозившим глупость или трюизм («Вот если бы все согласились не придавать значения золоту, так и лучше было бы жить!» — «А если бы все зрители в театре чихнули враз, то, пожалуй, и стены рухнули бы! Но как это сделать?»), то теперь он, прищурившись, процеживал: «Правильное суждение вы в мыслях своих иметь изволите». Старший брат, которому выпала возможность несколько месяцев наблюдать за ним после смерти отца, на вопрос сестры о нем ответил: «Мы с ним не сходимся» [3].
Возможно (хотя и крайне маловероятно), что 15-летний ВИ испытывал к отцу что-то вроде подросткового презрения: для него обладатель генеральского чина, титуловавшийся «ваше превосходительство», мог казаться представителем государственной машины насилия, бюрократии, аппарата, того самого, который Ленин впоследствии так будет жаждать «разбить».
Анна Ильинична упоминает о «некоторой вспыльчивости отца», унаследованной его средним сыном; она также отмечает, что оба ее «родителя были скромны и застенчивы, мать даже жаловалась, что это вредило ей в жизни» — и единственным, по ее словам, исключением из семейной несклонности к выказыванию чувств и нарушению общественного спокойствия был как раз ВИ: тот кричал, когда считал нужным. Когда во время поездки на пароходе мать поставила ему на вид излишнюю шумность: «На пароходе нельзя так громко», — он резонно заметил — точнее, заорал: «А пароход-то ведь сам громко кричит!»
Профессиональный педагог, ИН точно не был домашним деспотом, детей не лупил и позволял себе лишь самые безобидные эксперименты в сфере стимулирующих наказаний: провинившихся в семье Ульяновых сажали на черное «клеенчатое кресло».
ВИ был там завсегдатаем.
Наиболее темпераментный из всех шестерых младших Ульяновых и до поры до времени лишенный возможности преобразовать свою энергию в какую-то полезную деятельность, ВИ представлял собой грозную силу, с которой не в состоянии были справиться родители и которая вызывала у его братьев и сестер приступы отчаяния. Его манера при любой возможности швыряться калошами по живым мишеням запомнилась жертвам на десятилетия. Идея, дождавшись, пока родители в темное время суток уйдут из дому, изображать «брыкаску» — закутываться с головой в меховой тулуп, прятаться под диваном в темной комнате и хватать за ноги, кусать и щипать всех, кто попадется, а затем еще и выползать из тьмы на четвереньках с диким рычанием — доводила напуганных братьев и сестер скорее до заикания, чем до смеха. Список детских грехов ВИ столь велик, что их не откупить никакими индульгенциями: помимо склонности к обувному терроризму, в верхних строчках значатся украденная со стола яблочная шелуха (которую запрещено было есть — но он все же съел ее, в кустах), измывательства над младшим братом (который не мог сдержать слез, когда слышал финал песенки про «Жил-был у бабушки серенький козлик», — но вынужден был по нескольку раз выслушивать крики «рожки да ножки», сопровождающиеся сатанинским хохотом); демонстрация вырванных с корнем растений перед старшей сестрой (которая, как подметил ВИ, страдает от некой фобии, связанной с подвергшейся такому обращению флорой); разодранная в клочья и растоптанная коллекция театральных афиш (которые годами собирал старший брат); издевательства над средней сестрой (которая отказывалась вовремя ложиться спать и драматически выла, резко выворачивая ручку настройки громкости вправо в те моменты, когда ее передразнивали); наконец, манера тотчас крушить все сколько-нибудь сложно устроенные игрушки: на то, чтобы отломать все ноги от полученной в подарок тройки лошадей, уходили считаные минуты.
Характер происходившего в доме Ульяновых можно уяснить, косвенно, по свидетельствам родителей, чьим детям время от времени составлял компанию уже взрослый ВИ. Практически все отмечали, что, согласившись сыграть во что-либо, Ленин превращался в сущего берсерка, переворачивал все в доме вверх дном, выполнял любые прихоти детей и отказывался соблюдать даже разумные ограничения, налагаемые родителями. В доме у своей сестры весной 1917-го вместе с ее приемным сыном он устраивал погони в духе «Тома и Джерри» — и однажды опрокинул обеденный стол с графином. В Швейцарии с зиновьевским сыном Степой проводил непосредственно в квартире футбольные матчи. В Париже с сыном Семашко — шуточные боксерские поединки: «Ну, Сергей, засучивай рукава, давай драться». С пятилетней дочкой своих знакомых Чеботаревых в середине 1890-х ВИ имел обыкновение заваливаться на кушетку, предварительно затащив на нее с пола ковер, а затем с криком «поворотишься, на пол скотишься!» скатываться, обнявшись, на пол.
О педагогических талантах самого Ленина обычно судят по неуклюжему апокрифу Бонч-Бруевича «Общество чистых тарелок», где Ленин угрожает перекрыть детям, систематически отказывающимся от предложенной пищи, возможность попасть в мистическое Общество. Учитывая интересы Бонч-Бруевича, речь идет скорее о секте; заинтересовавшись членством, дети, по совету Ленина, пишут заявления о вступлении — и тот, исправив ошибки, ставит резолюцию: «Надо принять»; рассказ больше похож на притчу о перспективах загробного существования и опасностях спиритуальных диет.
Несколько более приземленным выглядит анекдот о том, как в Париже Ленин наткнулся на улице на плачущую четырехлетнюю девочку, познакомился с ней — и, к изумлению своих товарищей, добился того, что уже через пять минут ребенок пел и танцевал; подоспевшая мамаша, узнав, что педагогом оказался русский революционер, едва не принялась плясать карманьолу и на прощание сказала ВИ: «Вы великолепны!» «Я не выдержал и рассмеялся, — рассказывал потом Луначарскому Ленин. — Думаю: вот бы услышали ее меньшевики, то-то была б для них радость! Какой визг и вой подняли бы они о том, что Ленин, подобно средневековому тирану из династии Медичи, Лоренцо Великолепному, решил и себе присвоить титул — “великолепный”».
С годами, впрочем, педагогические методы Ленина претерпели некоторые изменения, о характере которых красноречиво свидетельствует записка, полученная 3 июня 1918 года его секретарем Фотиевой: «Если Вы и Горбунов будете болтать на заседании, я вас поставлю в угол обоих».
Хотя Ленин и провел в симбирском углу почти треть жизни, больше чем во всей эмиграции, он никогда не выстраивал свою идентичность — даже иронически, как Плеханов: «тамбовский дворянин», — через отсылку к месту рождения. Да и чувств особых к Симбирску не выказывал — разве что на сентябрьскую телеграмму 1918 года о том, что, мол, город ваш отбит у белых, вежливо ответил: мол, лучшая повязка на мою рану. Когда в 1922 году Крупская показала мужу снимки оформления сцены симбирского театра, где давали «Павла I» и «Юлия Цезаря», Ленин, поворчав насчет недостаточной революционности репертуара, принялся припоминать, как в детстве ходил туда — и даже «прибавил, что, как только ему станет лучше, они выберут свободную минутку и обязательно съездят в Симбирск». Возможно, решение отложить визит на неопределенное будущее имело свои резоны: Симбирская губерния стала одним из эпицентров голода 1921 года, и для того, кто захотел бы связать эту отчасти искусственного происхождения социальную катастрофу с политической деятельностью ВИ, открылись бы довольно широкие возможности.
Симбирск не был родовым гнездом ни Ульяновых, ни Бланков; до того обе семьи скорее дрейфовали вдоль оси Нижний Новгород — Казань — Самара — Астрахань; Симбирск подвернулся родителям ВИ в нагрузку к должности.
Всего за 200 лет до рождения Ленина, в допетровской России, Симбирск был окраиной, гарнизонным городком в Большой Засечной черте — насыпи от Днепра до Волги, отделявшей коренную Россию от дикой Степи, как Адрианов вал — Англию от Шотландии. Благодаря своему господствующему географическому положению — берег там был выше, чем в других волжских городах, — Симбирск сделался важной крепостью, на манер, опять же, Ньюкасла или Карлайла. Идем, по пословице, семь дён — Симбирск видён. (Сейчас бы эти идущие, надо полагать, уперлись взглядом в 23-этажную гостиницу «Венец», плюнули и больше бы не оглядывались.)
Пограничный статус города вынуждал государство демонстрировать здесь свою силу в полном объеме, щедро расставляя знаки своего присутствия. В детстве ВИ здесь доминировала духовная архитектура: массивные, помпезные, напоминающие Казанский и Исаакиевский, без особых скидок на провинциальные масштабы соборы, стертые с лица земли в 1930-е.
За два века существования, растеряв военное значение, город сумел поразительно быстро «облагородиться» — успешно конкурируя в качестве «волжских Афин» если не с Казанью и Саратовом, то с Астраханью и Самарой: обзавелся собственного стиля зодчеством и слоем интеллигенции — достаточно плотным, чтобы родить, вскормить и экспортировать в петербургско-московские эмпиреи целую плеяду выдающихся личностей: Карамзина, Языкова, Гончарова — и Ленина, Керенского, Протопопова (последний министр внутренних дел царской России; как раз его нерешительность не сумела остановить февраль 17-го).
Для Ленина-экономиста, исследовавшего капиталистические перспективы разных местностей, Симбирск не представлял чего-то особенного — типичная отсталая по части капитализма губерния: крупных предприятий нет, «феодальные» классы явно преобладают над буржуазией; три тысячи потомственных дворян, чуть меньше личных, 13 тысяч духовенства; потенциал роста населения исчерпан; железной дороги нет; навигация с апреля по октябрь, зимой экономическая жизнь замирает; ближайшая ж. д. станция — Сызрань, полтораста километров. Сонное царство — в этом смысле водруженный на центральной площади Ульяновска нелепый «обломовский диван» выглядит уместно, как скамейка запасных Российской империи; впрочем, даже и при своих размерах он вряд ли смог бы вместить всех здешних тюрюков и байбаков. Ленин, несомненно, предпочел бы поставить памятник Штольцу — однако деятельность этого персонажа явно противоречит как житейскому, так и историческому опыту большинства жителей Симбирска и Ульяновска. Раннего ВИ, кажется, тоже — его сон был так глубок, что, похоже, окончательно стряхнуть его удалось лишь со второго звонка будильника — смерти брата.
Тем не менее в конце 1870-х город уже наслаждался всеми преимуществами недавно принявшихся на культурной ниве институций — и еще не стал деградировать из-за эффекта отсутствия железной дороги. Особи, склонные к активному пользованию «социальными лифтами», чувствовали, что могут позволить себе устроить здесь на несколько лет передышку. Интеллигентная семья, благословленная талантливыми детьми, могла прожить здесь пару десятков лет, не задыхаясь от провинциальной духоты и обеспечив потомству основательное классическое образование; среда при этом оставалась достаточно провинциальной, чтобы «прогрессивные» идеи усваивались почти как религиозные, с некоторой долей экзальтации и без столичного ироничного скепсиса по отношению к ним: в семье Ульяновых словосочетание «революционный демократ» произносили без привставаний на носки и рисования пальцами знаков «кавычек».
Нынешний Ульяновск не слишком похож на Симбирск — однако посреди города, между улицами Железной Дивизии, Льва Толстого, 12 Сентября и Энгельса, — можно с головой провалиться в архаический слой: полторы сотни заботливо пересыпанных нафталином деревянных строений, сквозь которые не смог пробиться ни единый росток современности. Через центр этого пожароопасного прямоугольника пролегает улица Понятно Кого; на ней и стоит Дом Ульяновых. «Симбирск, Московская улица, собственный дом», как писал Александр Ульянов на адресованных родителям конвертах. Дом, которым Ульяновы владели с 1878 года на протяжении почти десятилетия, был реквизирован и национализирован еще при жизни Ленина, в 1923-м, и послужил закладным камнем будущего заповедника; по-настоящему «в опричнину», со всеми прилегающими пейзажами, район был выделен к столетию ВИ, в 1970-м.
Дом Ульяновых, с определенным артиклем, — городской коттедж средних размеров — «конспиративно» устроен: чтобы оказаться внутри, нужно пройти из соседнего здания через подземную галерею; с улицы строение кажется одноэтажным, зато со двора в нем появляется уютная антресоль — где располагались как раз три детские комнатки с огорчительно низкими потолками. Из экспонатов — рояль, гардины, наволочки с вышивками, географические карты, лампы, зеркала, сундук няни, переплетенные литературные журналы и собрания сочинений «революционных демократов».
Было бы любопытно совершить экскурсию на чердак, где Ульяновы прятались друг от друга и играли в индейцев, или в подпол, где сохранялись припасы, но эта часть дома исключена из маршрута осмотра.
В семье, похоже, разговаривали цитатами из Писарева, Добролюбова, Некрасова и Щедрина — как сто лет спустя из «Двенадцати стульев» и «Бриллиантовой руки»; например, когда няня начинала бубнить интенсивнее обычного, дети отмахивались: «Смолкни ты, няня, созданье ворчливое. Не надрывай мое сердце пугливое…» и т.п. Кем-то вроде тогдашнего Пелевина — всеобщим увлечением, образчиком остроумия и автором книг-которые-всё-объясняют — был для поколения 1870–1880-х Чернышевский.
Мария Александровна пользовалась в семье репутацией «хорошей музыкантши» — и пыталась научить играть на рояле ВИ. Тот поиграл, но до сонат Бетховена не дошел и, поступив в гимназию, бросил; зато в 14 лет освоил подаренную младшему брату гармошку — и сам подбирал на ней мелодии тогдашних шлягеров, вроде «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой».
Игра в четыре руки и слушание музыки, видимо, были объединяющими, очищающими и целительными ритуалами, духовно цементировавшими семью.
Наиболее диковинным экспонатом кажется пустая шуба в стеклянном кубе, пародийно напоминающем мавзолейный саркофаг, — подлинная, отцовская, вдоволь нагулявшаяся по горам и по долам; именно она самая приехала к Ленину в Шушенское и провела с ним три года.
Сзади ко двору с хозяйственными постройками (своего выезда у Ульяновых не было, отцу полагались казенные лошади — и в каретном сарае ВИ с Ольгой пытались ходить по натянутому канату, а Александр Ильич оборудовал, «чтобы не отравлять воздух домашним», химическую лабораторию; ВИ иногда принимал в опытах с реактивами посильное участие) примыкает тянувшийся аж до следующей, Покровской, улицы фруктовый сад, скрытый от внешнего мира домом; здесь мать выращивала яблони, малину, клубнику и крыжовник. Несмотря на то что стихийное поглощение урожая воспрещалось, «в этих ягодных кустах», припоминает младшая сестра, «мелькала иногда фигура Владимира Ильича. Помню и чаепития в беседке посреди сада, куда собиралась после обеда вся семья». Летом дети спали прямо там, на матрасах.
В целом дом Ульяновых совсем не похож на «чертово гнездо» — зато очень напоминает воплотившуюся мечту любой буржуазной семьи второй половины XIX века; и есть определенная ирония в том, что дом у этой «шайки революционеров» купил (за шесть тысяч рублей) не кто-нибудь, а полицеймейстер.
Судя по тому, что, как только глава семейства скоропостижно скончался, Ульяновы тотчас вывесили объявление о продаже дома, они не слишком глубоко ушли корнями в тамошнюю почву; видимо, в городе их удерживала прежде всего работа ИН.
Есть, по сути, лишь одна категория нынешних жителей Симбирска, которые по-прежнему испытывают к этой семье по-настоящему теплые чувства. Для отца Ленина Симбирск был еще и факторией, где русские взаимодействовали с чувашами, и поэтому он всячески опекал чувашские школы; он приятельствовал с чувашским просветителем Иваном Яковлевым, который основал учительскую школу.
Весной 1918-го Ленин улучил момент осведомиться телеграммой относительно судьбы отцовского коллеги, который «50 лет работал над национальным подъемом чуваш и претерпел ряд гонений от царизма» — с рекомендацией: «Яковлева надо не отрывать от дела его жизни». В ответной телеграмме Симбирский совдеп сухо уведомил ВИ, что кандидатура Яковлева на пост председателя Чувашской учительской семинарии не прошла, и он остался всего лишь председателем женских курсов.
Особое внимание, которое ИН уделял именно «национальному» аспекту своей деятельности, произвело на ВИ такое впечатление, что в седьмом классе он в течение года бесплатно работал репетитором одного взрослого и стесненного в средствах чуваша, который собирался поступать в университет.
После революции Ленин с недоумением наблюдал за тем, как руководство советского Симбирска — точнее, чуваши Симбирской губернии месяц за месяцем упускали возможность выгородить себе автономию, как это сделали татары в Казани и башкиры в Уфе; в июне 1920-го политбюро само приняло резолюцию о создании автономии, но тогда дело забуксовало, а после смерти Ленина и вовсе заглохло: Симбирск — потенциальная столица Чувашии — в состав республики не вошел.
До Свияги от Дома — километр, десять минут пешком; до Волги — два километра. Обе эти реки протекали через город, но — в противоположные стороны, как бы для запасного выхода; удобство, всегда являвшееся для Ленина-арендатора огромным плюсом при выборе недвижимости. Интересное свойство двух рек позволяло ВИ и его братьям устраивать на лодочках-пирогах небольшие «кругосветки»: сначала спуститься по Свияге, а потом вернуться обратно домой по Волге. Такие лодки назывались «душегубки». Несколько раз ВИ под присмотром старшего брата участвовал в сплавах по Волге: в складчину приобреталась лодка с парусом и веслами; ночевали в стогах. Через неделю лодку продавали — и возвращались назад на пароходе.
Троцкий, несколько преувеличивая в 1918 году успехи Красной армии, обещал, что, после того как от белых очистят Сызрань и Самару, «Волга станет тем, чем ей полагается быть, — честной советской рекой». Все течет, все изменяется, и вот уже мэр Ульяновска требует «смыть с берегов» Волги большевистскую фамилию — надеяcь на превращение реки теперь уже в «честную антисоветскую». Пока, однако ж, ключевую позицию в городе занимает здание на высоком правом берегу; именно на него возложена функция представлять Симбирск советским Вифлеемом — и не похоже, что в ближайшее время найдется стихия, которая окажется в состоянии уничтожить эту твердыню на Волге-Иордане. Ленинский мемориал, ради которого снесли «надволжскую» улицу Стрелецкую, где родился ВИ, представляет собой плод запретной любви Чаушеску и Фидия: на выстеленной скользкими мраморными плитами площадке приподнят на колоннах-сваях сплющенный сверху и снизу бетонно-мраморный куб с квадратными навершиями. Вдвое-втрое больше храма Зевса в Олимпии, мемориал должен внушать величие и трепет, как городская доминанта. Многие уродливые здания со временем приобретают статус «иконических», но у мемориала, эрзац-купола которого выглядят особенно безобразно, едва ли есть шансы попасть в их разряд, даже если все остальные постройки на планете будут разрушены атомной бомбардировкой; да и в качестве памятника позднесоветскому маразму и творческому бесплодию он слишком компромиссный и эклектично-обыденный: так может выглядеть и АЭС, и Дом пионеров, и НИИ, и Дворец съездов правящей партии, и увеличенная заправочная станция.
Для нас интересно, что под ним — буквально как под дамокловым мечом: рухнет на них этот бетонный слон или нет — и рядом с ним запаркованы несколько «старинных» мещанских домиков, оставшихся от улицы Стрелецкая; один из них — «пещера рождества», где родился ВИ, в двух других Ульяновы жили какое-то время после его рождения; никаких особенных причин задерживаться внутри хотя бы одной из этих «ненамоленных», пустоватых коробок не обнаруживается. Какие сны видела Мать перед Рождением Сына? Нет, здесь этого точно не поймешь.
По правде сказать, сохранившихся «домов Ульяновых» в городе так много — три здесь, еще несколько в заповеднике, — что поневоле вспоминаются сказки про помеченные крестиком, чтобы сбить преступников с толку, дома. Действительно, в первые восемь лет жизни ВИ Ульяновы постоянно меняли квартиры, словно бежали от какого-то Ирода, гнавшегося за их младенцами. Этой скачке есть рациональное объяснение — после пожара 1864 года в Симбирске осталось мало сдающихся в аренду квартир, где могла бы разместиться большая семья с шестью маленькими детьми, поэтому методом проб и ошибок приходилось выискивать что-нибудь приемлемое. Видимо, в связи с этим всем Ульяновым — и ВИ в первую очередь — было свойственно номадическое сознание, привычка легко переезжать с места на место, не задумываться о приобретении недвижимости и мыкаться по обставленным чужими людьми квартирам; «невлипание», способность легко переносить вечную неприкаянность.
Внутри мемориала неуютно, как в крематории: помимо дежурной диорамы Стрелецкой улицы, здесь покоится электрифицированная карта «Триумфальное шествие советской власти», созданная из кусочков того же рубинового стекла, что и звезды кремлевских башен.
Строчка «выпускник классической гимназии» в анкете несколько компрометировала Ленина в глазах пролетарских историков: для человека, чья гвардия «рвала на портянки гобелены Зимнего дворца», у него чересчур много познаний в «культуре мертвых эпох».
Именно поэтому в «официальной» литературе о Ленине принято было представлять «царскую гимназию» чем-то вроде аракчеевских военных поселений, где систематически нарушались все права ребенка, а годы, проведенные там Лениным, — чем-то вроде первого тюремного срока.
Сохранившее внешний аристократизм здание Симбирской гимназии — в классическом духе, в высоких два этажа — построено в XVIII веке и реконструировано в 1840 году по проекту деда одноклассника Ленина М. Коринфского. Музеефицированное лишь частично — нетронутыми остались актовый зал, физический кабинет, классная комната и «шинельная», — оно выглядит нарядно и обихоженно; там полно детей, куча родителей и ни одной сонной мухи; даже если дух Ленина ассоциируется у вас исключительно с запахом серы, конкретно это место выглядит достаточно привлекательным — историческим и современным разом, чтобы можно было послать сюда учиться своего ребенка, не тревожась, что из обломова здесь начнут лепить штольца, а из штольца — обломова.
Живи ВИ в городе покрупнее, у него был бы выбор — пойти учиться в классическую гимназию или реальное училище; в программе первых было больше древних языков, вторых — задач на учет векселей и схем строения дождевых червей. И там и там надо было платить за обучение и являться на занятия в форме; таким образом отсекались представители низших каст (из 368 человек, учившихся в гимназии в 1879 году, примерно 40 процентов — дворянского происхождения). Классическая гимназия давала доступ в университет; однако, чтобы окончить восемь классов и получить диплом, следовало попотеть; в следующий класс обычно переходила лишь половина учеников, а остальные оставались на второй год или вообще отсеивались. Из 55 мальчиков, поступивших с ВИ в 1879/80-м, сдавали выпускные экзамены восемь; остальную часть класса составляли великовозрастные дылды.
«Храбрость наших воинов внушает неприятелю страх»; «Никто, если бы не любил отечества, не обрекал бы себя на смерть ради спасения его»; «Никого не ставлю я выше моего друга по честности, твердости, величию духа, по любви к отечеству»; «Отечество дороже жизни для хороших граждан»; «Часто Марсом пощаженный погибает от друзей»; «Сам ли ты, Федон, находился при Сократе в тот день, в который он выпил яд, или ты слышал о его смерти от кого-нибудь другого?»; «У ленивых всегда праздник»; «Я считаю погибшим того, у кого погиб стыд» — за всеми этими многозначительными извещениями cтоял не только набор лингвистических правил, но и система ценностей, этическая задача: воспитание «нравственной осанки», подготовка яркой — нацеленной на интеграцию в разумно устроенное, стремящееся к четко обозначенным идеалам общество — личности, для которой пожертвовать собой на благо родины, товарищей, старших, коллектива, семьи — не только обязанность, но и привилегия. Сколько тысяч, десятков тысяч таких фраз перевел Ленин с латыни на русский и обратно?
На протяжении восьми лет его интеллект систематически (латинского и греческого было по шесть-семь уроков в неделю, в полтора раза больше, чем русского и математики) заставляли проделывать изощренную языковую гимнастику; формальный строй древних языков и стелющийся за соответствующим дискурсом идеологический шлейф, система ценностей оказались вшиты в сознание Ленина. Именно в гимназии Ленину была привита филологическая культура, умение комментировать тексты (а уж дальше вы сами решали, чей корпус вас привлекает — Гомера или Маркса), чувство языка, риторическая компетенция — способность отбирать из по-разному звучащих формулировок наиболее емкие, ритмически соответствующие внутреннему лингвистическому камертону варианты; подыскивать оптимальный баланс формы и содержания. Древние языки не вызывали у него ни скуки, ни отвращения — ни в гимназические, ни во взрослые годы; так же как коньки и шахматы, это доставляло ему удовольствие.
В гимназиях запрещалось пользоваться готовыми переводами — и таким образом поощрялась вовсе не «бессмысленная зубрежка», а творческий подход к овладению классикой. Латынь ВИ преподавали несколько учителей, среди которых одно время был даже его двоюродный брат, А. И. Веретенников. Один из главных латинистов, харизматичный учитель по фамилии Моржов, желая внушить своим ученикам понимание красоты латинских текстов, зачитывал кое-какие фрагменты «с выражением» — и поощрял в учениках театральность. Одноклассники запомнили, как после драматичной декламации Ульяновым речи Цицерона — «До каких пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» — потрясенный латинист подошел к нему и обнял с чувством: «Спасибо тебе, мальчик!»
Эйхенбаум полагал, что Ленин намеренно выстраивал фразу на латинский манер (хороший пример — ленинская contra против кадетов: «Вы зовете себя партией народной свободы? Подите вы! Вы — партия мещанского обмана народной свободы, партия мещанских иллюзий насчет народной свободы, ибо вы хотите подчинить свободу монарху и верхней, помещичьей палате» — действительно производит впечатление «цицероновской»). Степень сознательности и намеренности копирования Лениным синтаксических структур латинского языка остается под вопросом, и вряд ли можно сказать, что глубокое изучение древних наделило его способностью чеканить запоминающиеся лозунги и генерировать удачные названия; однако факт, что как литератор Ленин был сформирован в рамках «классической» матрицы — и именно поэтому многие лозунги или фрагменты «революционного дискурса» Ленина оказываются «криптолатинизмами» — все эти «Шаг вперед, два шага назад»; «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»; «Честность в политике есть результат силы, лицемерие — результат слабости»; «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», — появись эти фразы в учебнике латыни в качестве заданий для обратного перевода, они не показались бы особенно чужеродными; они рождены в недрах той же культуры, родственны ей, находятся в том же стилистическом регистре.
Классическое образование не только позволило Ленину изъясняться эффектными парафразами латинских фраз («Salus revolutionis suprema lex») и уснащать речь примерами из античной истории; оно организовало природный ум Ленина, включило в круг его повседневных интересов историю общества и философию: хорошо сформулированная «мысль» может быть использована как оружие — даже и в повседневной жизни; он осознал, что достаточно научиться подвергать феномены разностороннему анализу и обнаруживать присущие им противоречия, чтобы манипулировать ими в своих интересах.
В шестом классе 100 уроков посвящалось «Илиаде», в седьмом еще 100 — «Одиссее», и хороший гимназист по результатам этих масштабных археологических раскопок мог в деталях реконструировать любой фрагмент гомеровского мира и описать его эволюцию от более архаических форм в «Илиаде» к более современным в «Одиссее»; тема работы семиклассника могла звучать, например, как «Собака у Гомера». В топ-10 текстов, к которым обращались чаще прочего, входили «Анабасис», «Киропедия», «История Пелопоннесской войны», «Антигона» и «Эдип-царь». Ленин определенно лучше был знаком с историей, которая представлена в виде трагедии, — и испытывал неприязнь к повторению в виде фарса. Литература на всю жизнь осталась для него не менее адекватным способом «расшифровки» действительности, чем естественные науки; и если старший брат расколдовывал мир, исследуя под микроскопом повадки кольчатых червей, то младший изучал «теорию всего», копаясь в образах и символах сначала «Илиады» и «Одиссеи», а затем Чернышевского и Толстого; первые навыки обнаруживать в литературе накапливающиеся социальные противоречия и прогнозировать по ним политические кризисы ВИ получил именно в гимназии.
За курс обучения — рассчитанный на среднестатистического ученика и слишком затянутый для ВИ (сам он впоследствии говорил, что 80-месячный курс обучения, при «сознательности», можно пройти за два года) — гимназисты должны были представить около ста сочинений; старшеклассники сдавали домашние композиции раз в месяц, и судя по тому, что после 1917 года Ленин всегда указывал в анкетной графе «профессия» — «литератор», эта практика не казалась ему мучительной. Уроки литературы вел — по необъяснимому совпадению — отец будущего премьера Временного правительства России в 1917 году — Ф. Керенский, о котором Ленин «отзывался очень хорошо» (Н. Валентинов); вряд ли они обсуждали на уроках «Что делать?», но классику — Пушкина и окрестности, до Толстого — разбирали всерьез. Ни одного письменного школьного сочинения Ленина не сохранилось, но известно, что ему приходилось резюмировать свою жизнь в форме письма товарищу, размышлять о наводнениях, формах выражения любви детей к родителям, зимних вечерах, быте рыцарей и Волге в осеннюю пору; тестировать распространенные рекомендации вроде «не всякому слуху верь», «конь узнается при горе, а друг при беде» и «жалок тот, в ком совесть нечиста»; сравнивать зиму и старость, глушь и пустыню, птицу и рыбу, скупость и расточительность; поощрялось умение абстрагироваться от деталей и выйти на более широкие обобщения даже в сугубо «утилитарных» темах: польза ветра, польза гор, польза, приносимая человеку лошадью, польза путешествий, польза земледелия, польза изобретения письменности.
Сочинения о годах, проведенных в Симбирской гимназии под сенью великого одноклассника, оставили сразу несколько соучеников ВИ — и все характеризуют его как некоторым образом достопримечательность 1880-х годов: особенного типа, задававшего интеллектуальную планку для всех прочих учеников потока; иногда так и буквально — учитель латыни «обычно говорил в конце урока: “Ульянов, переведите дальше”», и что тот успевал перевести экспромтом, с листа, «то и было заданием всему классу». Культ первой скрипки, харизматичной личности — более упорной, прилежной, дисциплинированной, настойчивой, чем масса, — был знаком ВИ со школы; неудивительно, что на него такое впечатление произвело «Что делать?» и, в частности, фигура Рахметова — ведь сам он оказывался идеальным кандидатом на эту вакансию в реальной жизни.
Одноклассники рассказали о том, как ВИ, начитавшись «книги про жизнь насекомых», водил приятелей раскапывать норы навозных жуков — и устраивал мини-лекции о роли скарабеев в Древнем Египте; как, вооружившись запасом свечных огарков и веревок, посвятил несколько дней исследованиям подвалов под домом школьных воспитателей, где когда-то содержали пленного Пугачева, — в поисках подземного хода, выкопанного для побега; как лазил по деревьям за новыми экспонатами для своей коллекции птичьих яиц; как ходил на пристань и расспрашивал грузчиков из Персии о секретах разведения шелковичного червя; как ездил, под впечатлением от гончаровского «Обрыва», в Киндяковскую рощу, описанную в романе.
Среди одноклассников ВИ выделяются двое; оба оставили кое-какой след в отечественной истории: писатель, фольклорист и поэт Аполлон Коринфский (его дед, на самом деле Варенцов, был архитектором; увидев один из его проектов — здания Казанского университета, восхищенный Николай Первый воскликнул: да какой же это Варенцов, это какой-то Коринфский! Последовавшая смена фамилии вряд ли принесла счастье ее обладателям в Советской России, но в классической гимназии звучала как нельзя уместно) и последний министр земледелия николаевской России А. Наумов, у которого, в силу исторических обстоятельств, немного поводов вспоминать Ульянова добрым словом. Тем не менее Наумов уверенно квалифицирует ВИ как «центральную фигуру» в классе, признаёт, что при «невзрачной внешности» глаза у того были «удивительные, сверкавшие недюжинным умом и энергией», — и отмечает несколько «резких» отличий ВИ от всех прочих. Он не принимал участия в забавах и шалостях, все время что-то читая, записывая или играя в шахматы (всегда выигрывал, даже когда играл с несколькими противниками). Ни с кем не дружил — но со всеми поддерживал ровные отношения; со всеми на «вы». «Отличался… необычайной работоспособностью»; «я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного и исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Как только Ульянов появлялся в классе, тотчас же его обычно окружали со всех сторон товарищи, прося то перевести, то решить задачку. Ульянов охотно помогал всем, но, насколько мне тогда казалось, он всё же недолюбливал таких господ, норовивших жить и учиться за чужой труд и ум». Знал о своем интеллектуальном превосходстве над товарищами — но никогда не подчеркивал его. Принимал участие в гимназических благотворительных балах — но, редко имея охоту танцевать, брал на себя должность «распорядителя», организатора концерта.
Все это выглядит слишком хорошо, чтоб не вызывать подозрений: неужели он в самом деле все восемь лет был шелковым — и даже не попытался швырнуть пару раз в своих одноклассников калошами? Мемуаристы помалкивают; нам не известно ни одного серьезного конфликта — ни с учителями, ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с братьями-сестрами, ни с соседями, ни с какими-то женщинами. Разве что — состоявшийся то ли в 1885-м, то ли в 1886 году, еще при живом отце, отказ от религии (мы знаем об этом эпизоде в изложении Крупской). Во всем прочем — «сын чиновника», «добрые плоды домашнего воспитания», «особенное увлечение древними языками» — безупречный фундамент для успешного, готового к сотрудничеству члена общества. «Ни в гимназии, ни вне ее, — это уже Керенский, — не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал… непохвальное о себе мнение».
Анабасис в страну классической филологии подходил к концу, и ВИ уже тренировал голосовые связки, чтобы погромче выкрикнуть «Талатта, талатта!», но тут — в марте 1887-го — произошло нечто такое, что заставило его оторваться от античных текстов. Старший брат арестован в Петербурге; мать уезжает к нему, чтобы чем-то помочь; ВИ остается в семье за старшего; а в мае, ровно в момент выпускных экзаменов, оказалось, что попытки матери спасти брата от казни не увенчались результатом; он повешен.
Роль Керенского в судьбе ВИ обычно сводят к выдаче весьма похвальной характеристики (драматически контрастирующей как с той, которой он сподобится буквально через несколько месяцев, в университете: «скрытный, невнимательный, невежливый», так даже и с сестринской: «самоуверенный, резвый и проказливый мальчик») в тот момент, когда он оказался братом государственного преступника, в крайне слабой позиции. На деле роль эта еще больше.
Энергичный и добросовестный директор Керенский превратил Симбирскую гимназию из действующего десять месяцев в году фестиваля провинциальных эксцентриков в образцовое для своего времени, регулярно проветриваемое заведение, где состав преподавателей, атмосфера и оборудование (в физическом кабинете стояли дорогая «электрическая машина» и фонограф, впервые, надо полагать, записавший голос Ульянова) были на уровне столичных.
Несмотря на то что старший брат отсоветовал отдавать ВИ в подготовительный класс, чтобы тот не сразу угодил в лапы гимназических церберов, не похоже, что учеба и учителя как-либо досаждали ему. Некоторые, наоборот, вызывали восхищение — среди них «классный наставник», преподаватель физики Федотченко, который считался лучшим конькобежцем в Симбирске и зимой устраивал показательные выступления: выписывал на льду свою фамилию; присев на одной ноге, крутился волчком. «Ульянов искренне говорил, что ему завидует», — вспоминает один из одноклассников. Сам Керенский, которому чин действительного статского советника едва ли позволял проделывать столь же впечатляющие трюки, тем не менее оставил по себе самую добрую память, и даже советские историки вынуждены были зачехлить свои лупы, не обнаружив ничего такого, что можно было бы поставить на вид отцу премьера, которого Ленину придется выкуривать из Зимнего в октябре 1917-го; кроме разве что «четверки» по логике, которую тот влепил-таки ВИ, несколько подпортив ему диплом. Ленину, безусловно, повезло с Керенским — в своей гимназии он увидел, как государственный аппарат может действовать разумно, стремиться к самообновлению и приносить общественную пользу. Возможно, это ощущение стало антидотом от идеи устроить на него прямую террористическую атаку.
Большевизм, однако ж, предполагал не обязательно мгновенную, но все же тотальную ревизию всех основ старого режима, и инерция предпринятого осенью 1917-го движения влево подталкивала Ленина к идее, что «очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям» — как туманно заявил он Луначарскому, когда вводил его в круг обязанностей наркома просвещения, признавшись, правда, по ходу: «…не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просвещенском деле».
Разумеется, у Ленина было достаточно оснований полагать, что гимназия как институция представляет собой часть старого, буржуазного аппарата, оплот консерватизма и «реакции» в обществе. Никто в Симбирской классической и не собирался скрывать того, что идея посвящать изучению древних языков 40 процентов времени учащихся была связана со стремлением использовать античную систему ценностей как «средство против юношеского материализма, нигилизма». В той же функции — как страховка от антигосударственных ересей — использовалась религия, интегрированная и в собственно учебные дисциплины, и в повседневные ритуалы, вроде общих молитв и совместных литургий в праздничные дни. О том, до какой степени серьезной дисциплиной считался Закон Божий, можно понять по составу вопросов в билете ВИ на экзамене по богословию: «О пятом члене Символа веры», «О VI и VII Вселенских соборах», «Приготовление верующих к причащению. Причащение священнодействующих и мирян», «О шестом прошении Молитвы Господней», «Краткое объяснение Деяний Святых Апостолов»; чтобы внятно ответить сейчас хотя бы на один из этих вопросов, нужно быть выпускником семинарии.
Неудивительно, что после 1917-го Ленин задумался о превращении школы из «орудия классового господства буржуазии» «в орудие разрушения этого господства» — то есть в орудие диктатуры пролетариата. В переводе это означало, что в покое гимназии не оставят и изгнанием духовенства из зданий дело не ограничится.
Что касается именно «античной культуры», то тут личный опыт не мог подсказать ему однозначного решения. Да, Сократ, Солон и Фемистокл, несомненно, могли послужить достойными образцами и для пролетариев тоже; да, «пролетариат — наследник буржуазной культуры», и никто не позволит левакам вышвыривать из школ Гомера, Пушкина и Шекспира; но нужно ли пролетарию, пусть даже готовому принять все это блаженное наследство, заучивать наизусть отрывки из Корнелия Непота и различать супинум, герундий и герундив?
К шагам влево в этой области Ленина подталкивало и то, что он был женат на профессиональном педагоге, эксперте по истории педагогики, и эксперт этот полагал существовавшую до 1917 года систему образования никуда не годной. И если сам Ленин, возможно, и ограничился бы декретом о бесплатном и обязательном общем и политехническом образовании для детей до 16 лет, отменой школьной формы, внесением в список школьных табу, наряду с табаком и алкоголем, религии и смешиванием мальчиковых классов с девичьими, то участие НК в кабинете реформаторов привело к тому, что детям обещали, кроме букваря, еще и знакомство в теории и на практике «со всеми главными отраслями производства». Процесс обучения планировалось крепко увязать с «детским общественно-производительным трудом».
Надежда Константиновна впоследствии оказалась демонизирована интеллигенцией и преподносилась как образец горе-педагога, от которого надо держать своих детей подальше; меж тем среди ее учеников был, например, рабочий И. В. Бабушкин — продукт настолько безупречный, что о некомпетентности Крупской-учительницы лучше помалкивать. Можно не сомневаться, что, трансформируя школы в трудовые коммуны, эта тонкая, остроумная и совестливая женщина искренне желала добра и сама, будучи трудоголиком — и фетишизируя работу как таковую, — хотела привить это небесполезное свойство и детям [4].
Несмотря на отсутствие опыта общественно полезного труда в собственном детстве, Ленин, кажется, с сочувствием относился к идеям своей жены в сфере интеграции школьного и профессионального образования — и экспериментам не препятствовал: жизнь покажет, что сломать, а что оставить. При всем уважении к просветительству в целом и деятельности «народного учителя» в частности (Ленина чуть не стошнило, когда он узнал, что их, в духе начала 1920-х, называют «шкрабы» — школьные работники, и запретил эту практику; наставляя хозяйственника М. Владимирова, что органы власти должны сами зарабатывать, а не требовать деньги из бюджета, он заповедал: «Лишь для жалованья учителям не будьте скопидомом») Ленин верил и в «фабричный котел»; жизнь — среда, работа, невыносимые условия — учит быстрее и эффективнее, чем университеты; трудясь, пролетарии обретают как полезную информацию об устройстве окружающей материи, так и классовое самосознание. Все это привело к тому, что уже в 1918-м, порешив, что в изучении Античности нет особенной практической необходимости, большевики изгнали древние языки из школ в качестве обязательных предметов и в рамках пролетарской борьбы с буржуазной галиматьей трансформировали классические гимназии в заведения более общего профиля; латинистам было предложено посвятить освободившееся время ликвидации неграмотности.
Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка: лучащиеся оптимизмом родители шестерых детей — один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями; свой коттедж, собака, добрая няня; отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине, действительный статский советник; мать никуда не отлучается от детей; совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми. Глядя на них, другие семьи видели, чего могут добиться «обычные простые люди» в меритократическом обществе, имея талант и охоту к созидательному труду; это вызывало уважение, которое не смогли поколебать даже известия о том, что в семье обнаружился государственный преступник.
Духовное благополучие, однако, не сумело обручиться с материальным. Илья Николаевич был не тот человек, который вывозил семью за границу в парки аттракционов или в Гран-тур по Европе. «Помню, — пишет Анна Ильинична, — отец, большой домосед, говорил: “Зачем нам в театр ходить? У нас дома каждый день свой спектакль”». Домоседство объяснялось постоянной стесненностью в деньгах. На не бог весть какое жалованье (инспектором народных училищ ИН зарабатывал 83 рубля в месяц, директором: с 1874-го — 208 рублей, с 1880-го — 292) ИН содержал жену, шестерых детей, няню и прислугу. В 1878-м ВИ заболел малярией, доктора посоветовали вывезти его на лечение в Италию, но денег не хватало не то что на Италию или на Крым, но даже на вояж к теткам под Казань — надо было покупать дом, и семья осталась летом в городе. Даже и в 1880-е, когда ИН предложил однажды старшим детям свозить их в Москву на промышленную выставку, те, ощущая себя сознательными личностями, отказались, понимая, что их семейный бюджет не рассчитан на такого рода путешествия. Единственное туристическое направление, иногда остававшееся доступным для Ульяновых, — Казанская губерния.
Кокушкино (татарское название Янасалы), бывшее гнездо дворян Веригиных, было усадьбой словно из старинной беллетристики: с барским домом, флигелем, людской, конюшней, каретным сараем. Хозяйство — 500 гектаров «угодий» и при них четыре десятка взрослых крепостных душ мужского пола (женщин и детей, как помним из Гоголя, в счет не брали) — поменяло владельцев в середине XIX века; Александр Дмитриевич Бланк заплатил по 240 рублей за душу и управлял ими еще лет десять, сбросив это бремя в 1861-м. Чтобы обеспечивать дочерям приданое, помещику приходилось потихоньку распродавать отдельные куски территории; часть ушла крестьянам при Освобождении; к тому моменту под контролем Бланка осталось уже около 200 гектаров; эта земля — примерно как территория княжества Монако — продержалась в руках клана Бланков почти полстолетия.
Если верить ленинскому знакомому и биографу Валентинову, Ленин однажды принял его сторону в споре с Ольминским о ценности старорежимной помещичьей культуры: «Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я всё еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил: ел с грядок землянику (при всей своей цепкой памяти, Валентинов ошибается: Ленин никогда не ел землянику, была у него такая пищевая идиосинкразия. — Л. Д.) и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, не я доил коров».
Есть определенная политическая пикантность в том, что «директором» пролетариата и крестьянства стал потомственный — и по матери, и по отцу — дворянин, «помещичье дитя», никогда не занимавшееся физическим трудом и лишь наблюдавшее за своими подопечными в качестве журналиста, литератора, экономиста, социолога.
«Помещичье» детство могло внушить Ленину ощущение собственной исторической обреченности и, как следствие, необходимости в быстрой модернизации общества, потребность опереться на какую-то внешнюю силу, чтобы обеспечить собственное выживание.
Еще более жестокая ирония состоит в том, что «помещичье дитя» и окончило жизнь в помещичьей же усадьбе.
Видимо, в силу недостаточной компетентности Александра Дмитриевича в качестве агропромышленника экономическая сторона этого приобретения никогда не казалась блестящей — в качестве бесперебойного источника доходов имение работало плохо. На пахотной земле сеяли овес, горох и гречу, но много лучше в этом месте произрастали ученость и интеллигентность.
Для младшего поколения Ульяновых Кокушкино было территорией матери — которая прожила здесь с 12 до 28 лет. Мария Александровна, пожалуй, — наиболее загадочная в этой семье фигура: она выглядит «обыкновенной» интеллигентной женщиной и разве что в пожилом возрасте несколько напоминает иллюстрации к «Пиковой даме». Похоже, ее не слишком смущало, что из пятерых доживших до взрослого возраста детей один оказался без пяти минут цареубийцей, второй — вождем полулегальной политической партии и еще трое — профессиональными, готовыми к тюрьме революционерами. После смерти она была канонизирована советской историографией и демонизирована, за свою еврейскую кровь, — антисоветской; если верить Солоухину, именно она, МА, научила ВИ «ненавидеть все русское». Никаких подтверждений этому в письмах нет; наоборот, она много читает русских книг, ей нравится русская природа; наконец, несомненно в пользу МА свидетельствует тот факт, что однажды она «набрала несколько книг “Жизнь замечательных людей”, прочла их с удовольствием». Ленин называл ее за глаза «святой», в письмах — «дорогая мамочка», а на конвертах писал — «Ее превосходительству — М. А. Ульяновой»; судя по сохранившейся переписке (около 170 писем ВИ), мать была его кумиром, другом и в целом наиболее близким, видимо, за всю его жизнь человеком.
Она родилась в Петербурге еще при Пушкине, в 1835 году, в доме на Английской набережной, и прожила долгую жизнь, достигнув почти восьмидесятилетия. Ребенком она переехала с отцом, врачом, на Урал, затем много лет — отец не отпустил ее получить образование в Санкт-Петербурге — провела в Кокушкине, среди книг, в доме с большой библиотекой.
У нее было много сестер, все замужние, с большими семьями, — и довольно широкий круг общения. При посредничестве одной из сестер она познакомилась со своим будущим мужем, для которого оказалась интересной не только в финансовом, но и в культурном отношении партией.
За семь лет до рождения ВИ Мария Александровна сдала экстерном экзамены и получила лицензию на работу гувернанткой. До своего вдовства она никогда не выезжала за границу, и все ее перемещения совершались в околоволжском регионе: Пенза, Нижний, Казань, Самара, Ставрополь-Самарский, Симбирск. От своей матери, наполовину немки, наполовину шведки, МА унаследовала интерес к иностранным языкам и некоторые лингвистические таланты, позже подкрепленные домашним образованием. Представления о том, будто дом Ульяновых был чем-то вроде школы полиглотов, где все в свободной форме обсуждали повестку дня в понедельник по-английски, во вторник по-немецки, в среду по-французски и т.д., видимо, относятся к области мифологии; попав за границу, даже Ленин — с его значительным талантом к иностранным языкам и опытом перевода книг — поначалу плохо понимал собеседников и постоянно жаловался на это в письмах; то же и его сестры.
Мать шестерых детей, МА сумела организовать их жизнь таким образом, чтобы дом не превращался в бедлам и бардак. Крупская говорит, что талант организатора достался ее мужу именно от матери.
После продажи всей семейной недвижимости в ее руках аккумулировался капитал, который исследователи семьи Ульяновых оценивают примерно в 15 тысяч рублей. Она жила на пенсию от мужа и как рантье; к 1916-му, году ее смерти, запас этот практически исчерпался (и, соответственно, в начале 1917-го, когда Ленин принял рискованное решение вернуться в Россию, он был нищим без малейших перспектив восстановить финансовое благополучие за счет наследства). Что касается Кокушкина, то после смерти А. Д. Бланка собственность несколько раз делилась между его пятью дочерьми (доля каждой оценивалась в три тысячи рублей), их мужьями и детьми; уже заложенное-перезаложенное, на короткое время Кокушкино задержалось ненадолго в руках как раз Марии Александровны, пока в 1898-м не было продано местному крестьянину-кулаку (которому, как сказано в «письме крестьян деревни Кокушкино нашему односельчанину В. И. Ленину», в 1917-м «дали по шапке»).
Бросающимися в глаза особенностями истории Ульяновых являются, во-первых, удачливость в плане продвижения по сословной лестнице (за два поколения — путь от крепостных крестьян — к чину статского советника и потомственному дворянству); во-вторых, преждевременные смерти (двоюродного деда выбросили из окна, дядя покончил жизнь самоубийством, старшего брата повесили, младшая сестра умерла в 16 лет); в-третьих, выморочность рода. У деда Ленина было шестеро детей, а у самого ВИ — 33 двоюродных кузена и кузин: Веретенниковы, Ардашевы, Пономаревы, Лавровы, Залежские. Ульяновская ветка, однако, резко хиреет — причем именно в его, ВИ, поколении. Из четверых доживших до детородного возраста потомство было только у Дмитрия Ульянова. Возможно, ощущение принадлежности к вымирающему виду подстегивало ВИ — преобразовывать окружающий мир интенсивнее, чем «обычные революционеры».
Ленино-Кокушкино — странное чирикающее название; крестьяне сменили вывеску еще в 1922-м, о чем и уведомили бывшего соседа, с присовокуплением просьбы купить им лошадей: «Отныне деревня Кокушкино зовется твоим, тов. Ленин, именем». Туда из Казани ходит автобус — 40 верст, полтора часа. С указателями швах — не похоже, что усадьба Бланков представляет собой предмет особой гордости местных жителей. Если двинуть вбок от села, вдоль речки Ушни — еще одного водоема из ленинской «Книги воды», — после коттеджей и дачек наметится пустырь, потом не то сад, не то парк: березы, липы… Где-то неподалеку должны находиться Приток Зеленых Роз (куда устраивались ботанические экспедиции — разглядывать причудливые болотные растения), таинственная Магнитная Гора (курган из золы) и Черемышевский сосновый бор, формой напоминавший жителям усадьбы шляпу — круглую, с высокой тульей; он так и назывался: Шляпа. Там — зимой не пройти — находится место, где в 1870-е зверски убили лесника. Дети, любившие пить воду из тамошнего ключа, опасались привидения; ВИ, впрочем, отметал суеверия: «Гиль! Чего мертвого бояться?» «Гиль» — ерунда — якобы было его любимым словечком; оно заново войдет в его лексикон после октября 1917-го с совсем иного входа — странным образом так будут звать личного шофера Ленина, поляка: Степан Гиль, тот самый, который видел, как стреляла в Ленина Каплан, и, возможно, помешал ей добить его.
Среди лип («самое, самое любимое мною дерево», — признался Ленин однажды Валентинову) — бюстик Ульянова: курс правильный. Сюда приезжаешь, чтобы увидеть «материнский капитал» и «территорию детства» ВИ; должно быть, эти пейзажи больше других трогали его сердце: именно здесь венчались его родители, тут шутник дед подавал матери в день именин тарелку белого снега вместо обещанных взбитых сливок, здесь ВИ проводил летние месяцы в обществе своих кузин и кузенов: купания, костры на семейных пикниках, крокет… «Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях, да и то мало занимался этим, говоря, что в Кокушкине нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске».
Вокруг ни души, но снег расчищен, и даже если бы сюда явился сам Ленин, у него вряд ли нашелся бы повод для ворчания. Смотрительница любезно — будто сельский храм — показывает усадебку из нескольких зданий и небольшого парка. Главное здание — основной «бланковский» дом и пятикомнатный «ульяновский» флигель с балконом-террасой и мезонином восстали из пепла в конце 1930-х по мемуарам и чертежам Ульяновых, Веретенниковых и Ардашевых. Это едва ли не единственная условно уцелевшая дворянская усадьба в Татарстане; хорошая иллюстрация к интенсивности событий ХХ века в России.
Экспонатов, конечно, раз-два и обчелся: в основном доме одни портреты, а во флигеле стандартный ульяновский «алфавит с предметами»: Р — рояль, З — зеркало, Ш — шахматы.
Чего нет, так это знаменитого бильярдного стола; Александр Ильич в последний приезд развлекал здесь родственников тем, что одновременно играл с одним человеком в бильярд и с другим — в «воображаемые шахматы» — причем «с игроком, которому тогдашняя первая категория в Казани давала ладью вперед».
Дефицит реквизита, однако, не ощущается; никакого «хюгге», зато место «атмосферное», а если вы в детстве держали в руках классические воспоминания двоюродного брата ВИ — Н. Веретенникова — о Кокушкине, то почувствуете и «дух» этого персонального эдема Ленина, а возможно, и найдете в одной из здешних рощ родовое древо — или, пожалуй, тотемный столб — этой семьи.
Столб этот, надо сказать, представляет собой в высшей степени неординарное явление.
Среди его основных элементов обнаруживаются существа, не менее разномастные, чем Самовар, Рак и Лягушка, — и знаменующие собой экзотический союз племен, конфессий и рас.
Слухи о метисном происхождении Ленина появились только после его смерти, однако на протяжении всего советского периода тема упорно замалчивалась; и даже комментаторы «Ленинских сборников», которые при желании могли найти иголку в стоге сена, обнаруживая в письмах Ленина даже самое невинное указание вроде: «Пришлите адрес еврея» (в письме Алексинскому 1908 года), — тут же делали каменное лицо и устремляли взгляд вдаль с отсутствующим видом: «О ком идет речь, установить не удалось».
Первым, в ком учуяли крамолу, стал дед Ленина, владелец Кокушкина Александр Дмитриевич Бланк, который — как один за другим обнаруживали все те, кто протыкал носом нарисованный очаг, — до 1820 года звался Израиль Мойшевич Бланк (Александр — имя крестного отца, графа Апраксина, Дмитрий — имя второго восприемника, сенатора Баранова).
По правде сказать, сомнительно, что, проведя столько времени в Кокушкине, Ленин не знал о еврейском происхождении деда, умершего в год его рождения на исходе своего седьмого десятка; скорее всего, этническая принадлежность к инородцам просто не воспринималась ни как проблема, ни как сенсация — и в России в целом, и в Поволжском регионе всячески поощрялся переход представителей иных конфессий в православие, и после крещения неудобство, по сути, автоматически аннулировалось. До 1924 года принадлежность Ленина к великороссам не вызывала сомнения даже у самых отъявленных борцов за расовую чистоту — особенно на фоне «явных» евреев, поляков, латышей и кавказцев, которых действительно обреталось в его окружении немало: естественное следствие того, что в оппозиционную партию часто рекрутировались кадры из угнетаемых в империи народов.
«Проблемная» информация о том, что дед Ленина по матери был крещеным евреем, женившимся на полунемке-полушведке, а мать Ленина вышла замуж за мужчину, в жилах которого текла, с одной стороны, предположительно калмыцкая, а с другой — не то русская, не то чувашская, не то мордвинская кровь, после 1991 года не является ни тайной, ни сенсацией, ни платформой для каких-либо умозаключений. Однако «тревога» обывателей относительно происхождения Ленина сохраняется на стабильно высоком уровне: не является ли сам химический состав этнической смеси заведомо взрывоопасным? Дозволительно ли экспериментировать с общепринятой рецептурой смешивания кровей столь безответственно? Получается, что во главе России оказался «как-бы-иностранец»; экземпляр, в котором «слишком мало» генов титульной нации. Наиболее раздражающим фактором является, похоже, ономастика — имена «материнских» предков звучат «слишком» еврейскими: Мошке Ицкович, Израиль Мошкович; для расистов, полагающих еврейские гены по умолчанию «токсичными» и в любом случае опасными для руководителя такой страны, как Россия, это неприемлемо.
Безусловно, в самом наборе национальностей, слившихся в крови Ленина, чувствуется нечто пикантное, не столько снимающее или преодолевающее, сколько усугубляющее объективно существующий русско-еврейский антагонизм, отражающий конкуренцию за одни и те же ресурсы между склонными таки к доминированию народами; масла в огонь подливают несколько растиражированных бронебойных цитат из Ленина про «русский умник почти всегда еврей» и т.п. Исторически сложилось, что в русской революции участвовало очень много евреев, однако Ленин, потомственный дворянин и по отцу, и по матери, пусть и из недавних, пришел в протестное движение не по «национальной квоте», а по «научной», восприняв марксизм как учение о рациональном переустройстве общества.
Если наружность у самого Ленина — вполне русская, «славянско-монгольская», почему и в кино его так легко было играть разным русским актерам — в диапазоне от Смоктуновского до Сухорукова, то родственники его выглядят экзотичнее и колоритнее: фотографии безбородого Ильи Николаевича наводят на мысли о второстепенных персонажах викторианской литературной готики, младший брат, пожалуй, соответствует стереотипным представлениям о еврейской внешности, а в облике младшей сестры можно углядеть нечто заволжско-калмыцкое… Все это, разумеется, шарлатанская антропология, но, похоже, Ленин представляет собой наиболее счастливое, смешавшееся в удачных пропорциях сочетание всех этих разных кровей (и не уникальное для этой семьи — его рано умершая сестра Ольга была замечательно хороша собой). Заканчивая с псевдоантропологией, можно констатировать, что «дефицит» «титульной» крови оказался удачным фактором для политика в амплуа разрушителя (и созидателя) империи.
Наиболее колоритной фигурой из пантеона предков Ленина, несомненно, является прадед, Мойше Ицкович (с 1844-го — Дмитрий Иванович) Бланк, шинкарь, агропромышленник, торговец, сутяга и крамольник, в чьей биографии обнаруживаются многолетняя распря с соплеменниками из города Староконстантинова на Волыни (ныне Хмельницкая область Украины), обвинения в доносительстве, блудодеяниях и поджоге чужого имущества, юридически оформленный конфликт с кагалом, закончившаяся годовым пребыванием в тюрьме ссора с сыном, переход в другую конфессию и, на старости лет, авторство ряда наполненных свежими идеями писем на имя императора Николая I, в которых содержались призывы проводить христианизацию российских евреев с утроенной интенсивностью и предлагались конкретные рецепты. Этот джентльмен был склочным, как уличные юристы из романов Гришэма, мстительным, как граф Монте-Кристо, и предприимчивым, как Цукерберг, — хотя успел добиться в жизни меньше, чем мог бы обладатель такого букета достоинств. Дошедшая до нас информация о его длившихся десятилетиями ссорах с ближайшим окружением в самом деле наводит на мысль о том, что некоторые качества передаются по наследству через поколения — например, конфликтный характер, склонность к нарушению принятых в узком кругу норм и традиций, страсть к интриганству, расколам и крючкотворству; «вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ»: Ленин похож на Мойше Ицковича, как Стэплтон на Гуго Баскервиля.
Если происхождение Ленина представляет собой генеалогический детектив, то твидовый шлем, скрипка и шприц достаются блестящему исследователю М. Штейну (1933–2009), который словно бы изобрел микроскоп, позволяющий разглядывать историю рода Ленина в таких деталях, о которых раньше никто и помыслить не мог. В своей книге, поражающей плотностью изложения и густонаселенностью, он умудрился отследить, кажется, каждый листик, когда-либо выраставший на родословном древе Ленина; и то, что самому ВИ, видимо, казалось небольшим фикусом, в ходе штейновских изысканий превратилось в настоящий баобаб.
Упаковать этот крупномер в компактный цветочный горшок никак не получится; заметим лишь, что в разделе «дальние родственники» особенно впечатляюще выглядят немецкие ветки — где есть персонажи в диапазоне от археологов, откопавших храм Зевса в Олимпии, до президента Германии и от создателя и директора Египетского музея в Берлине до писателей Маннов; что до раздела «предки Ленина», то наиболее яркие истории обнаруживаются, судя по расследованиям М. Штейна, в шведском — материнском — сегменте. В рейтинге профессий верхние строчки здесь занимают шляпники, перчаточники и ювелиры; есть священник, который в детстве помогал отцу-шляпнику в работе, отравился парами ртути и заболел душевной болезнью с галлюцинациями; среди прочего, он вообразил себя внебрачным сыном короля Карла XII и выразил желание жениться на дочери Петра I императрице Елизавете Петровне. Другой шляпник, Карл Магнус, вынужден был сбежать из Швеции — на угнанной лошади и заложив наряды жены — после того, как соседи застали его в постели с тещей. В 1769-м он открыл в Петербурге шляпную мастерскую, а умер в 1805-м в Москве; в 1800-м крестным отцом одного из его сыновей — Густава Адольфа — стал посетивший с визитом Петербург шведский король Густав IV Адольф.
Механизм генетического наследования склонности к чему-либо до конца не изучен, но нельзя не обратить внимания на возможную связь между наличием в роду Ленина нескольких профессиональных шляпников и прослеживающимся на протяжении всей его карьеры обостренным интересом к головным уборам; не исключено, впрочем, что это связано с особенностями строения его черепа и дефицитом волосяного покрова. Так или эдак, ВИ активно экспериментирует в этой области — далеко не ограничиваясь хрестоматийной тиарой пролетарского вождя (которая, вопреки слухам о том, что он впервые приобрел нечто подобное в стокгольмском универмаге в апреле 1917-го перед въездом в Россию, появилась на его голове много раньше; Тыркова-Вильямс, подруга Крупской и затем деятельница кадетской партии, ненавидевшая Ленина и сподобившаяся его шутливого обещания вешать таких, как она, на фонарях, вспоминает, что однажды в 1904 году в Женеве он провожал ее к трамваю и перед выходом из дома надел потертую рабочую кепку). Видимо, пользуясь этим типом головного убора много лет, Ленин составил для себя некую таблицу уместности использования того или иного его подвида в разных ситуациях — и менял его в зависимости от конкретных обстоятельств, превратившись к концу жизни в виртуоза по этой части. Так, один из спутников Ленина на конгрессе III Интернационала обратил внимание, что, направляясь в Смольный, на выходе из подъезда Таврического дворца «В. И. быстро снял с головы черную кепку и одновременно вытащил из кармана — надел белую. Все это он проделал в один момент. Мало кто это и заметил. Тут я подумал, вот конспиратор».
В 1890-е в Петербурге, вспоминает неплохо знававший адвоката Ульянова Сильвин, тот обычно носил темную фетровую шляпу, но пару раз позволил увидеть себя в котелке (и, в пандан, — с тростью), раз — в меховой шапке. Рабочий Князев, занимавшийся у Ульянова — «Николая Петровича» — в подпольном кружке, описывает случай, когда, получив некое наследство, он отправился по совету знакомых в Большой Казачий переулок на квартиру к хорошему недорогому адвокату — каковым, к его удивлению, оказался «Николай Петрович». Князеву пришлось какое-то время подождать хозяина, и когда тот вошел, мемуарист даже не сразу узнал его, поскольку тот был в цилиндре (трогательное примечание составителей советского сборника воспоминаний о Ленине: «Конечно, для конспирации»). Другой социал-демократ, Шестернин, припоминает его «черную мерлушковую шапку на уши». Горев рассказывает, что в Лондоне Ленин отвел его в проверенный шляпный магазин и помог выбрать себе котелок и дорожную кепку. Т. Алексинская заявляет, что в 1906-м на каком-то митинге, когда толпа бросилась врассыпную от казаков, Ленин будто бы уронил свой «нелепый котелок» — такой же, по-видимому, какой виден на знаменитой каприйской фотографии, где Ленин — при полном параде, в темном костюме-тройке и шикарном головном уборе — играет в шахматы с простоволосым и затрапезно одетым Богдановым; попавшая в кадр группа наблюдателей (Горький, Базаров и др.) также выглядит экипированной гораздо менее формально, чем Ленин; пожалуй, последний казался окружающим несколько овердресс (что, возможно, объясняет зафиксированный Горьким интерес Ленина к книге «История костюма», которую ему нравилось проглядывать на отдыхе). Недоумение примерно того же свойства — и даже насмешки — Ленин вызвал в Польских Татрах, явившись на сбор компании альпинистов-любителей, одетых сугубо по-туристски, «в своем обычном городском костюме и… с зонтиком». Тогда он отшутился, что вот пойдет-де дождь и они все еще к нему сами запросятся. Видимо, имея время приглядеться к своим товарищам, носившим традиционные укороченные брюки, шерстяные гольфы и горные палки-посохи с железными набалдашниками и ручками в форме топорика, он является через некоторое время перед следующей партией зрителей преобразившимся: «На голове высокая соломенная панама, серый люстриновый пиджак, белая рубашка, вельветовые зеленоватые в рубчик штаны (гольфы) с застежкой под коленом, чулки и ботинки на гвоздях с большими головками… К раме велосипеда была привязана тросточка с топориком вместо рукоятки». Некое подобие гибрида панамы и банной войлочной шапки мы видим на известной фотографии «Ленин в Закопане». На социалистический конгресс в Копенгаген Ленин приехал из Германии в «панаме с невероятно широкими полями», объяснив выразившему свое недоумение Кобецкому, что оделся таким образом, «чтоб выглядеть незаметно»; по мнению Кобецкого — чья обеспокоенность вестиментарными практиками Ленина переросла в дурные предчувствия в тот момент, когда он увидел своего товарища не только облаченным в эту шляпу, но еще и с подвязанной щекой: «у него зубы разболелись», — наоборот, «эта панама должна была выделить его и привлечь сразу же внимание полиции». Ленина «в костюме странных сочетаний» застают и участники межпартийной социалистической конференции в Териоках, куда вождь большевиков явился «в каком-то потертом пиджаке горохового цвета, с короткими рукавами, в облезлой котиковой шапке… на шее у него был большой серый шарф, один конец которого свисал по груди, на ногах были большие резиновые ботики»; «и вот, говоря о близкой победе (пролетариата), он вдруг воскликнул, с едва заметной улыбкой:
— Вы посмотрите на меня! — и он юмористически сложил руки на груди. — Ну, разве я похож на победителя!».
После победы Октября интерес Ленина к экспериментам с головными уборами и вообще с гардеробом несколько остывает, и если раньше он время от времени казался своим знакомым одетым чересчур нарядно, то теперь скорее работает на аудиторию ценителей стиля «шебби-шик». Подсчет дыр на его подметках, костюмах и шубах становится распространенным хобби большевистских астрономов: чтобы заставить Ленина сшить себе новый костюм, приходится устраивать едва ли не тайную операцию с участием Дзержинского. Пик потертости приходится как раз на 1920-й, когда сразу несколько свидетелей описывают не просто отдельные стилистические эксцентриады Ленина, вроде манеры никогда не изменять фирменному галстуку в горошек и заправлять костюмные брючины в валенки, — но настоящие катастрофы по части туалета. На конгресс Коминтерна в Петроград — «а ведь дело-то было в июле, стояла жара» — Ленин прибывает в «старом, изношенном, разорванном около воротника и вдобавок ватном» пальто, которое «обращало, действительно, на себя внимание». В ноябре того же года он приезжает на открытие электростанции в Кашино «в простом меховом пальто и в разорванной галоше на правой ноге».
Никто, однако ж, никогда не видел Ленина в чем-то похожем на ермолку. Так в самом деле, было ли поведение Ленина-политика (и человека) в какой-то степени детерминировано национальной принадлежностью его предков? Нельзя ли обнаружить в его поступках манеры, свойственные — или по крайней мере приписываемые — представителям той или иной национальности?
На оба вопроса, надо полагать, можно ответить утвердительно, но при малейшей попытке конкретизировать эти корреспонденции мы спотыкаемся. Ленин — …как все евреи? Ленин — …как все шведы / немцы / калмыки? Но что — …? Прагматичный? Властолюбивый? Изворотливый? Космополитичный? Нецивилизованный? Черствый? Хитрый? И может быть, всё же не как все, а как многие? Или даже — некоторые?
Что, собственно, может быть «запрограммировано генами», национальной принадлежностью? Жестокость? Склонность к путешествиям? Пристрастие к тем или иным деликатесам? Мы точно знаем, что Ленину нравились балык, пиво и острые бифштексы — и, наверное, он не любил личинки, собачатину и тухлые яйца; «генная предрасположенность»?
Ленин был продукт смешения нескольких «рас», но сам себя не воспринимал таким образом; он говорил по-русски, считал себя русским, родился и умер в России, любил и хорошо чувствовал русскую природу и русскую культуру, с удовольствием общался с русскими людьми; его предки и он сам пытались сделать Россию лучше — в сущности, этого вполне достаточно, чтобы покончить с его «тайнами происхождения». Исчерпывающий диалог на эту тему есть в фильме «На одной планете», где к Ленину-Смоктуновскому на одном из выступлений, в конце 1917-го, начинает докапываться один контрреволюционно настроенный тип: «А вот тебе можно задать один вопрос? Ты православный?» Смоктуновский: «В каком смысле? Если вы хотите узнать, верующий ли я, то нет, я не верующий, я атеист». Тип (торжествует): «Слыхали?! Стало быть, ты не русский?» Смоктуновский (с вызовом): «Я русский. Хотя я не понимаю, какое это имеет значение. Я не православный, а русский! Вся моя семья была русская. Мой отец был инспектором русских училищ в Симбирской губернии. Мой брат Александр был казнен за революционную деятельность русским царем».
Анна Ильинична однажды устроила «анкету» — «в каком порядке каждый из нас любит друг друга». Выяснилось, что ВИ «больше всех любит Сашу и Маню». «Как Саша!» — отвечал, веселя домашних, ВИ уже лет в шесть-семь на все вопросы, касающиеся выбора.
Александр Ильич Ульянов на своих подростковых фотографиях похож на смышленого мальчика из «Ералаша» — взъерошенный, скуластый, с резкими чертами лица, излучающего доброжелательность даже полтора века спустя; у ВИ по сравнению с ним обычное, «расквашенное», без заострений лицо. Несколько лет братья проучились в Симбирской классической вместе: младший пошел в первый класс, старший — в пятый. Затем АИ уехал учиться в Петербургском университете (где, занимаясь экономическими штудиями, террористической деятельностью и просвещением рабочего класса, вращался в кругу, включающем в себя таких плохо представляемых в одном кадре лиц, как В. Вернадский, П. Столыпин и Б. Пилсудский (старший брат Юзефа)). Даже и там старший брат оставался для ВИ чем-то вроде ролевой модели; зная, что тот зачитывается Марксом, ВИ даже пытался с товарищем переводить первые страницы «Капитала»; оказалось сложновато. Узнав, однако, что темой диплома брата стало «Исследование строения сегментарных органов пресноводных Annulata (кольчатых червей)», ВИ, если верить Крупской, объявил с нотками разочарования в голосе, что революционера из исследователя кольчатых червей не выйдет. ВИ не знал, что среди объектов, интересовавших старшего брата, числились и хордовые позвоночные млекопитающие. Именно Александр, между прочим, первым в этой семье получил прозвище «Ильич» — возможно, сначала среди рабочих, для которых вел пропагандистские кружки; возможно, в среде товарищей из дружественных землячеств («у донцов и кубанцев была привычка называть друг друга по отчеству»). Приклеилась ли эта «кличка» к ВИ потому, что он был братом Александра, или он обзавелся ею независимо от того, или сам инициировал манеру называть себя таким образом, — неизвестно; мы знаем только, что такое обращение не казалось ему фамильярным и в сочетании с обращением на «вы» представлялось вполне приемлемым в товарищеской среде. Это имечко широко распространилось затем и «в народе» и впоследствии циркулировало даже в составе фразеологических единиц вроде «спасибо Ильичу — электричеством свечу».
Александр Ильич имел свойство вызывать к себе всеобщую искреннюю приязнь, и известие о том, что он собирался превратить первое лицо в государстве в груду кровавых ошметков, и последовавшая затем жестокая казнь стали для герметичного компактного Симбирска чем-то вроде смерти Лоры Палмер для Твин-Пикса: непостижимым, трагическим и глубоко потрясшим общество событием. Семья Ульяновых, как водится, начала набирать, что называется, количество просмотров — но не комментарии негативного характера; Марии Александровне скорее сочувствовали.
Единственный, кажется, кто отнесся к этому идеальному во всех отношениях юноше со злобным скепсисом, был царь, на которого АИ готовил покушение — вполне осознавая все опасности затеи («Я хотел убить человека, — значит, и меня могут убить», — пробурчал он матери на свидании). Александр III cам отклонил прошение АИ о помиловании; стиль этого обращения свидетельствует о благородстве пишущего: «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием». Это прошение похоже на «развилку русской истории»: если б ему был дан ход, возможно… Впрочем, не менее вероятно, что АИ и ВИ стали бы врагами и Ленину пришлось бы «перемолоть» придающего слишком много значения вопросам морали Ульянова. В целом сравнения этих двоих обычно были не в пользу младшего брата; у некоторых ВИ будет вызывать ненависть и отвращение как раз по контрасту.
Казнь старшего брата — безусловно, та психотравма, которая могла стать для ВИ причиной морального заикания на всю оставшуюся жизнь. Похоже, что май 1887-го — как раз и есть для ВИ то самое событие-которое-всё-объясняет, ключ ко всем его дальнейшим мотивировкам. И то, что сам он даже не подозревал, пока все не вскрылось, что брат участвовал в террористической организации, усугубило шок. Проблема в том, что документа, подтверждающего, что вся последующая деятельность Ленина — род «мести за Сашу», не существует.
Семья в значительной мере сформировала Ленина и на протяжении всей жизни оставалась его естественной средой, с наиболее приемлемой для него атмосферой. Единственные люди, имевшие пропуск в его Privatsache, «частную сферу», были мать, сестры, брат, жена, теща и Инесса Федоровна Арманд, с которой ВИ дружил как с сестрой и о которой заботился как о члене своей семьи.
В семье Ленину был привит культ просвещения и либеральных ценностей. Наличие брата-мученика гарантировало ему в революционных кругах уважение и обеспечивало иммунитет от подозрений в сотрудничестве с охранкой.
Однако не семья была двигателем его карьеры; он был сэлф-мэйд премьер-министром. Роль матери и сестер сводилась к тому, что они обеспечивали ему душевное спокойствие, бытовой комфорт и невеликую, но постоянную поддержку, даже в худшие годы не позволяя опускаться до нищенства, вполне естественного в эмигрантских обстоятельствах; по крайней мере со шляпами у Ленина — а ведь у других и штанов-то часто не оказывалось — никогда затруднений не возникало.
10 мая 1887 года Ленин генерирует свой первый мем: «Мы пойдем другим путем»; «преуспевший», подразумевается, наконец «проснулся» — и готов использовать всю накопленную энергию, чтобы выпрыгнуть и нанести сильнейший за 17 лет удар головой. Однако искусство и жизнь редко совпадают друг с другом. В оригинале — сестринских воспоминаниях — утешая мать, ВИ не столько вытягивает руку вперед, сколько качает головой и пощипывает себя за кончик носа: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти»; никакого конкретного маршрута у него пока нет — а кроме того, это совсем не те «мы», что на картине Белоусова.
Единственная карта, по которой он мог куда-то идти, выглядела как индейский набор символов. Единственное сообщество, к которому он в тот момент принадлежал, были семья, род, «мы, Ульяновы». Самовар, Рак, Аист, Змейка, Лягушка, Свинья. Шесть минус один.
[4] О том, что Ленин с женой сами не стали заводить детей сознательно — «чтоб не мешали работать» или «чтоб не увеличивать нагрузку на и так перенаселенную планету», — не может быть и речи; он всегда в открытую выступал против модного тогда мальтузианства, а НК много раз с горечью сетовала на бездетность. Т. Алексинская пересказывает свой разговор с матерью Крупской: «Если бы вы знали, как Наде хотелось иметь ребенка! Да вот не суждено, нет у них детей! Это не ее вина! Владимир Ильич много занят умственной работой. Ну, Надя себя утешает, когда-нибудь Россия будет свободной, тогда она будет заниматься народными детьми как своими…»
[3] В доме-музее в Ульяновске показывают странный артефакт, оставшийся от Александра Ульянова, — выпиленную им лобзиком круглую деревянную ажурную дощечку для хлеба. В центре — крупные литеры, составляющие слово BROD — «хлеб». Да, как в слове «бутерброд», но на самом деле ни в одном европейском языке «хлеб» так не пишется: по-немецки BROT, по-шведски и датски — с умляутом, «брёд». Ошибка выглядит слишком нарочитой, будто сигналом тревоги, зашифрованным завещанием, чтобы привлечь внимание к чему-то или кому-то? Брат?
Казань
1887–1889
Сетчатка глаз жителя бывшего СССР устроена таким образом, что, когда на нее проецируются монументальные образы, связанные с Лениным, фоторецепторы автоматически отключаются: даже если напарываешься на что-нибудь экзотическое — как в Казани на Карла Маркса, 40/60: «БУ ЙОРТТА ШАХМАТ КЛУБЫНДА 1888–1889 ЕЛЛАРЫНЫН КЫШЫНДА БЕРНИЧЭ ТАПКЫР ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) БУЛГАН», — не реагируешь; булган, не булган — фиолетово.
И хотя казанцы точно не выстраивают свою идентичность через связь с Лениным, Казань — место, где Владимир Ульянов совершил странный — не иррациональный, но крайне нерасчетливый — поступок, сломавший его жизнь. Там из обычного юноши он сделался врагом государства; возможно, просто умудрился оказаться в неправильном месте в неправильное время — но, возможно, то было запрограммированное судьбой «обращение» из Савла в Павла. И если поступки человека хоть сколько-нибудь детерминированы средой, то ключ к разгадке ленинского поведения следует искать в самом городе, история которого обусловлена диалектическим противоречием между интересами центра империи и этнически маркированной периферии. Казань дала Ульянову важный опыт, значение которого прояснится лишь после революции — когда ему придется столкнуться с необходимостью заново восстанавливать развалившуюся империю на новом идеологическом базисе.
18 июня 1887 года Мария Александровна Ульянова подала в Симбирский городской общественный банк заявление с просьбой выдать ей две тысячи рублей со счета покойного мужа. Странным образом, чтобы получить свои же деньги с депозита, требовалось объяснить, какие предполагаются траты; опекунша нескольких несовершеннолетних детей, она указала расходы на экипировку сына при поступлении в университет и переезд в Казань.
Из Симбирска до Казани — километров двести вверх по Волге. Не слишком обременительный, немного меньше суток плавания на пароходе и изобилующий живописными ландшафтами путь, хорошо знакомый Ульяновым: они проделывали его почти каждое лето по дороге в Кокушкино. Это было перемещение внутри «домашнего» — огромного, в девять губерний, в две с половиной Германии-Франции — Волжско-Камского региона; в конце XIX века в тамошних девяти губерниях обитали 20 миллионов человек.
Несмотря на перспективы, открывавшиеся для будущего студента, едва ли ВИ приехал в Казань в приподнятом настроении: семья потеряла обоих кормильцев; старшая сестра жила закупоренной в ссылке; деньги с материнского депозита и то не хотели выдавать на протяжении нескольких месяцев. Однако ж и эпизодом из нуар-романа — «появление чужака и отверженного в большом незнакомом городе» — въезд в Казань тоже не назовешь. В Казани остались связи — от отца, который учился тут в 1850-х в университете, а затем бывал по служебным делам: Нижний Новгород и Симбирск входили в Казанский учебный округ. Там жила семья старшей сестры Марии Александровны — А. А. Веретенниковой; в ее восьмикомнатной квартире, что в Профессорском переулке, поначалу Ульяновы и остановились. Профессорский переулок не поменял название, но сейчас это по сути двор-карман, примыкающий к улице Щапова, почти сразу перегороженный шлагбаумом. За последние 500 лет Казань лишь дважды становилась местом открытых боестолкновений (при Пугачеве в 1774-м и в Гражданскую в 1918-м); теоретически должно было сохраниться довольно много, но на практике старые деревянные дома сносят здесь кварталами, чтобы вкатить отделанные кирпичом, под викторианскую ленточную застройку, жилые комплексы. Из будки высовывается охранник: кого ищете? Не скажешь же: дом родственников Ленина, где восьмилетний ВИ разбил графин тетки и, побоявшись сразу признаться в содеянном, несколько месяцев мучился угрызениями совести, пока не добился, уже в Симбирске, чтобы мать написала сестре письмо с извинениями.
Возможности получить в России высшее образование были весьма ограниченны: Петербург, Москва, Дерпт («северные» университеты), Киев, Харьков, Одесса («южные»); в 1804 году Александр I учредил университет в Казани — с тем, чтобы он стал идеологическими, так сказать, воротами России в Азию.
Понятно, почему 17 из 28 одноклассников Ульянова оказались в Казани — не такой блестящей, как Петербург или Одесса, не такой стремительно индустриализующейся, как Киев и Харьков, не такой богатой, как Нижний Новгород. Зато это был единственный университетский город на востоке всей империи, «горло» для всей российской Азии; дальше хоть три года скачи, никаких цивилизационных центров, и уже поэтому в университете неизбежно должны были сконцентрироваться значительные интеллектуальные силы. Менее всего Казань воспринималась как провинциальный город для неудачников, которые почему-то не смогли попасть в Петербург.
Разлапистый, некомпактный, населенный 140 тысячами людей — достаточно, чтобы не привлекать лишнего внимания к родственнику только что повешенного, — город расположился вокруг впадения Казанки в Волгу. На холмах, поближе к Кремлю, соборам, университету и госучреждениям, селились аристократы или представители буржуазии — русской, реже мусульманской: владельцы мыловаренных, кожевенных и текстильных предприятий, с претензиями. Татарские слободы начинались ниже, за Проломной (теперешним казанским Арбатом — улицей Баумана) и особенно за городской протокой Булак и за озером Кабан. Там и сейчас ощущается ориентальный колорит: уютные, не чета Дубаю и Абу-Даби, мечети с минаретами; тамошние муллы принимают иноверцев с радушием, какое в Москве встретишь разве что в дорогом автосалоне.
К 1830-м в верхней части города возвели комплекс зданий в духе отечественного классицизма, с колоннадами и желтыми фасадами: главный корпус, библиотека, химическая лаборатория, анатомический театр, астрономическая обсерватория. Здесь была создана первая в России кафедра китайского языка, здесь работали Лобачевский, Бутлеров, Бехтерев, Лесгафт. Кембридж не Кембридж, но к 1887-му Казанский университет был заведением с традициями, лестницей, способной привести весьма высоко наверх не только ученых и карьеристов из аристократов, но и тянущихся к образованию людей из народа.
Почему юридический? Директор Симбирской гимназии Керенский-старший советовал Ульянову, при его способностях, подавать на ист-фил, но именно в Казани на этом факультете было чересчур много классической филологии: пожалуй, гимназических знаний ВИ было достаточно. Медицинский же и юридический факультеты в Казани пользовались безупречной репутацией. Двоюродный брат ВИ — Н. Веретенников — походя замечает, что на юридический «шли юноши, не имевшие влечения ни к какой отрасли наук»; и правда, на юрфак подавали десять одноклассников Ульянова, в том числе обладатель другой золотой медали Наумов; из них пятеро — в Казань. Сохранился, впрочем, ответ ВИ, который, обосновывая выбор факультета, туманно сослался на «времена, когда ценнее всего становится знание наук права и политической экономии». Он понимал, что на госслужбу ему путь закрыт из-за брата. Похоже, «план А» выглядел так: оказавшись после постигшего их несчастья в другом городе — близко к месту ссылки Анны Ильиничны, Ульяновы начинают новую жизнь. Владимир получает университетский диплом, порядочно экономя на обучении за счет предоставления официального свидетельства о бедности (семья без работающих мужчин), характеристики из гимназии и золотой медали, устраивается в адвокатуру или получает работу присяжным поверенным в частной конторе.
Жизнь, однако, распорядилась иначе. Вступительные экзамены Ульянову сдавать было не нужно, а вот прошение об освобождении от уплаты взноса за обучение не сработало: Петербург не дал добро. За брата пришлось платить и в буквальном смысле тоже: по 50 рублей в год за курс в целом плюс по рублю за каждое занятие иностранным языком.
На курсе Ульянова было 60 человек: самому старшему — 22 года, самому младшему — 17. Круг занятий Ульянова — он и был этим юниором — на протяжении казанского студенчества изучен плохо. Он занимался, конечно, но без особого рвения; в отчете о посещаемости за ноябрь 1887-го против фамилии Ульянова написано: «НЕЧАСТО»; далее следуют конкретные даты: хорошо, если дней десять за весь месяц набегало. То ли влюбился в кого-то и гулял; то ли пытался заработать себе на карманные расходы частными уроками, как брат; то ли — наиболее правдоподобная версия — полагал лекции тратой времени и исследовал недра библиотеки, больше симбирской; доступ к книжному изобилию всегда действовал на него как Монте-Карло на азартных игроков. Н. Валентинов в Женеве, нередко беседовавший с Лениным на спортивные темы, выцыганит у него воспоминание, будто тот «когда-то в Казани ходил в цирк специально, чтобы видеть атлетические номера, и потерял к ним всякое уважение, случайно узнав за кулисами цирка, что гири атлетов дутые, пустые и потому совсем не тяжелые». Часто бывал в принадлежавшей землячеству подпольной кухмистерской. Играл в шахматы — и запомнился однокурсникам тем, что мог вести партии одновременно с несколькими противниками, всегда с предсказуемым исходом [5].
Из-за того, что единственный аспект казанского быта Ульянова, который сколько-нибудь известен, — это политический, возникает впечатление, что центральным моментом в процессе обучения были не собственно лекционные курсы и семинары (записался он на лекции по богословию, истории русского права, римского права, энциклопедии права и — чуя, видимо, куда ветер дует, — на английский язык), а возможность инфицировать себя идеологическим вирусом. В 1880-х здесь обучалось под тысячу студентов — далеко не только дворян и далеко не только из Поволжья; в 80-е в Казань ссылали студентов за участие в революционных кружках в Петербурге, Москве, Варшаве, Киеве и Харькове. Университет давал некоторым образом лицензию на вольнодумство, и поэтому всякое покушение на права и свободы — даже если это всего лишь право гонять чаи в компании — воспринималось крайне болезненно. Что уж говорить об утверждении нового устава, случившемся как раз в год поступления Ульянова: в глазах студентов это событие приобрело апокалиптический масштаб.
Через два года после назначения профильным министром махрового реакционера И. Д. Делянова, который, по выражению писателя Короленко, лежал «гнилой колодой поперек дороги народного образования» (до того государство пыталось найти компромисс между своей необходимостью в квалифицированном персонале и стремлением студентов защитить свои свободы), в 1884-м, университеты были лишены автономии: от обучения отсекались «кухаркины дети», представители «недостаточных» (малоимущих) семей; запрещалось объединяться в землячества, устраивать читальни, кассы взаимопомощи и даже кухмистерские. Любые собрания неофициального характера пресекались; мания всё контролировать привела к тому, что идеологический облик студента интересовал начальство явно больше, чем его академический потенциал. Попытки воспрепятствовать распространению крамольных идей за счет отсечения подростков из бедных семей были заведомо неэффективными: известно, что очень многие народовольцы рекрутировались из дворян. Организация прекратила свое существование лишь в марте 1887-го, и в Казани в начале 1880-х она распространяла напечатанные в частных типографиях и на гектографе воззвания, брошюры, листки; до терактов не доходило, но университет был идеальным жерлом для выброса протестной магмы.
Фантомная ностальгия по «России-которую-мы-потеряли» и беллетристика превратили царскую Россию 1880-х в сознании современного обывателя едва ли не в утопию: «русское викторианство». На самом деле Россия после убийства Александра Второго представляла собой организм, страдающий от невроза после психотравмы 1861 года.
Процессы концентрации капитала и расслоение общества шли быстрее, чем когда-либо ранее; миллионы «освободившихся» крестьян разорялись — и, словно пылесосом, затягивались в фабрики, заинтересованные в дешевой (в Поволжье в особенности — за счет искусственной маргинализации нерусского населения) рабочей силе. Террор народовольцев был отложенной реакцией общества на слишком позднее по сравнению с Западной Европой и Америкой пришествие капитализма. Половинчатые реформы запустили процесс ферментации быстро растущей, романтически восприимчивой к чернышевско-писаревским либеральным ересям интеллигенции. Быстро распространялись новые технологии, менявшие привычный уклад, ускорявшие темп жизни: в той же Казани уже в 1882 году впервые зазвонил телефон, а в 1888-м, пока Ульянов маялся в Кокушкине, заработала целая телефонная сеть, по крайней мере в основных госучреждениях.
Посторонним гулять по кампусу Приволжского федерального университета не возбраняется. Здесь невольно возникает ощущение, что попал в Петербург; при желании казанским «декабристам» было, наверно, не слишком сложно соотнести это пространство с Сенатской площадью. Одно из самых примечательных зданий комплекса — анатомический театр с ротондой из восьми колонн. Светящаяся золотом на фризе зловещая надпись не сулит ничего хорошего: «Hiс locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae» — «Тут смерть рада помочь жизни». Мало кому известна история, раскопанная недавно казанской исследовательницей С. Ю. Малышевой: в январе 1850-го в распоряжении студентов-медиков оказался труп дяди Ленина, единственного сына А. Д. Бланка и брата Марии Александровны, который, будучи студентом второго курса юрфака, покончил с собой — отравился стрихнином. Конкретная причина самоубийства не названа, однако в отчете медфакультета было упомянуто, что студент Бланк страдал «болезненными припадками».
Площадка перед главным входом в Приволжский университет известна как «Сковородка»; здесь пасется молодняк, и здесь же стоит памятник молодому Ульянову — раритет: попробуйте-ка припомнить, где вы видели в бронзе или камне Ленина моложе пятидесяти. «Некрасивый сутуловатый юноша с рыжими вихрами и калмыцкими глазками»? Скульптор предпочел пропустить мимо ушей описание, сделанное однокурсником Ульянова; не Адонис, конечно, но когда студенты — хотя бы и иронически — называют своего Ленина «ди Каприо», не удивляешься.
Сегодняшние студенты в массе больше похожи на своих предшественников второй половины 1910-х годов, которые ненавидели «варварский» большевизм и устраивали наркому Луначарскому — который пытался революционизировать их — «химические обструкции» с банками сероводорода. И тем и другим вряд ли понятны мессианские настроения интеллигенции 1870–1880-х. Тогдашние студенты протестовали потому, что в обычной жизни они были нормальными взрослыми мужчинами — им разрешалось вступать в брак, командовать воинскими подразделениями; но вот в стенах университета они оказывались словно бы детьми, без прав. Им запрещалось все; любые формы организованного товарищества — в котором многие нуждались просто потому, что то был для них единственный способ выжить в годы учебы; то есть лишение студентов возможности помогать друг другу фактически означало для тех, кто попал в университет из низших сословий, запрет на учебу.
На 1887 год в Казанском университете насчитывалось двадцать нелегальных землячеств; то были не только клубы по интересам, обеспечивавшие неподцензурное общение участников, но и субъекты подпольной экономики: у землячества были свое имущество и свои механизмы добывания средств, прежде всего взносы участников в кассу взаимопомощи, а кроме того, они предполагали организацию разного рода полулегальных мероприятий, вроде вечеринок с танцами, подлинной целью которых был сбор средств для поддержки изгнанных, малоимущих или просто страдающих от конфликта с властями студентов; у кого следовало хранилась катакомбная библиотека — и даже гектограф, запасы желатина и сундуки со шрифтом.
Землячества могли серьезно осложнить жизнь как студентов, так и преподавателей. «Реакционных» профессоров засвистывали, «захлопывали» — начинали аплодировать в начале лекции и не давали говорить — или бойкотировали, сговорившись не являться на занятия; могли швырнуть в спину моченым яблоком; студентов-предателей подвергали подпольному студенческому суду, а затем стучали по ночам в дверь и лупили. Иуд, запасшихся берушами, выживали из университета другими способами.
Членство в этих организациях воспринималось очень серьезно — как самими «земляками», так и надзорными органами. При поступлении Ульянов подписал официальный документ: обязуюсь не состоять ни в каких сообществах; и, разумеется, первое, что он сделал в университете, — вступил в самарско-симбирское землячество. Не так уж удивительно, что он продержался в университете всего три месяца; а при том, что он был братом только что казненного последнего народовольца, товарищи, надо полагать, возлагали на него определенные надежды. В этом смысле старший брат запрограммировал судьбу младшего.
О приближении кризиса свидетельствовали события 5 ноября 1887-го. В эту дату традиционно проводился торжественный акт — формально собрание, посвященное дню основания Казанского университета; по сути — публичная демонстрация лояльности, присяга. Студенты договорились бойкотировать — из протеста против нового устава — как само мероприятие, так и текущие лекции: именно поэтому В. И. Ульянов так и не узнал от профессора Бердникова о «Форме заключения брака у европейских народов в ее историческом развитии». Тот напрасно надрывался с кафедры — даже те немногие, кто всё же явился к нему в аудиторию, время от времени свистели с галерки. Чтобы время не пропадало зря, «скубенты» шатались по городу, буянили в портерных (пивных), побили окна какому-то профессору, раздавали прохожим отгектографированные листовки и орали «Виват демократия!» — ничего такого, чтобы начальство слишком насторожилось. Отказавшись получать информацию о правовых нюансах бракосочетаний, Ульянов — предсказуемо — принял участие в студенческом танцевальном вечере, куда, среди прочих, были приглашены ученицы повивального института при университете. То была местная «фабрика невест»; не единственная — пару можно было подыскать и на Высших женских курсах, которые, кстати, прикрыли после декабрьских событий. Вместо — или по крайней мере помимо — танцев на этих вечерах произошли выступления соответствующей направленности; сохранилась ерническая «Ода русскому царю» одного из «вальсировавших» — Е. Чирикова: «Стреляй и вешай нигилистов, / Социалистов, атеистов… / Терзай безжалостно, пытай!.. / О царь! Врагам твоим кара: / Всем — петля, пуля — всем… Уррра!!!» Серия танцевальных вечеров продолжилась 22 ноября, когда в квартире вдовы Поповой слушательницы фельдшерских курсов А. Амбарова, Л. Балль и А. Блонова устроили суаре с участием студентов юрфака в пользу фельдшериц. (В той же «Оде» есть и «женская» часть — также сочащаяся иронией: «Чтобы наши будущие жены / Умели сшить нам панталоны, / Чтобы не с книгой и пером / Они сидели перед нами, / А с кочергой иль со штанами!!!»; неудивительно, что в 1920 году автор этих виршей получил от Ленина записку, в которой чувствуются не только политические, но и эстетические разногласия между бывшими однокурсниками: «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если Вы не уедете».)
В ноябре 1887-го Ульянов почти перестал посещать факультет: шел, выражаясь языком советских официальных биографий Ленина, процесс объединения революционных сил.
Однако по-настоящему сдетонировала Казань на Москву. Там все началось с того, что 22 ноября один студент Московского университета непосредственно в зале Московского дворянского собрания съездил по лицу инспектору Брызгалову. (Это становилось подобием традиции: в 1881-м так же врезали министру просвещения А. А. Сабурову в Петербургском университете — причем не какой-то психопат, а представитель студенческого совета, на которого указал добровольно брошенный жребий.) Атакующего арестовали; в его защиту принялись устраивать сходки, выходить на улицу митинговать; митинги превратились в открытый бунт; полиция и казаки разгоняли толпу шашками и нагайками; двое студентов получили смертельные ранения. Сам Брызгалов, потрясенный инцидентом, заболел, уволился и через три месяца умер.
Сходку — то есть акцию гражданского неповиновения — тщательно готовили. Само мероприятие должно было продлиться всего несколько часов — но, по сути, это было карьерное самоубийство; и камикадзе знали, что за эти несколько часов диск с их предшествовавшей жизнью будет отформатирован: либо тюрьма, либо ссылка и стопроцентно исключение с волчьим билетом (никуда больше не поступишь, на госслужбу не возьмут).
Позже их с горькой иронией стали называть «декабристами» — но у тех, 1825 года, декабристов шансы на успех были гораздо выше, чем у их казанских наследников. Как выглядел ульяновский «план Б», или «идеальный сценарий», в случае «успеха» выступления? Неизвестно. Похоже, никак.
Однако оставлять московские убийства без ответа было сочтено невозможным. Поэтому студенты заранее раздавали книги, прощались с приятелями и возлюбленными, позволяли себе «дембельские» поступки. Казанская сходка, а не казнь брата, — точка невозврата ульяновской карьеры. У Ульянова был выбор, абсолютно свободный, — и он выбрал.
Мог ли выбрать себе судьбу город, где все это происходило? Был ли шанс у Казани — где, в принципе, к началу ХХ века был нащупан баланс в отношениях богатых и бедных, великороссов и инородцев — остаться в годы смуты «тихой гаванью»? Сто лет назад, в первые послереволюционные годы, Казань представляла собой территорию хаоса — один в один карликовое княжество из сорокинской «Теллурии». Жители кварталов за городской протокой — территория меньше Ватикана — объявляют себя независимой «Забулачной республикой» и выходят из состава России; ликвидировать это государство пришлось морякам Балтфлота, присланным по указу Ленина; татарские националисты, заручившись силовой поддержкой чехословаков, штурмуют мечети, украшенные кумачовыми лозунгами «За советскую власть, за шариат!». После февраля 1917-го губерния сделала то, что и должна была, — заявила об интересе к суверенитету и желании проводить независимую политику на основе местного конфессионального уклада.
В ноябре 1917-го большевики, готовые на любые меры ради нейтрализации враждебных сил и сохранения ресурсных плацдармов здесь и сейчас, санкционировали наделение малых наций политическим суверенитетом: подписанное Лениным ноябрьское «Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» объясняет, что при царизме страна была тюрьмой народов, мечети разрушались, а теперь «ваши верования и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными», а «ваши права… охраняются всей мощью революции и ее органов». Ленин, который в повседневной речи нередко использовал выражение «это только аллах ведает» в смысле «информации нет и быть не может», знал, тем не менее, сколь ценятся на Востоке символические жесты, и приказал вернуть — «выдать немедленно»! — верующим хранившийся в Публичной библиотеке Коран Османа — бесценную, одну из древнейших в мире рукопись Корана, добытую русскими войсками при оккупации Самарканда.
В Казани — также в знак уважения к богобоязненным трудящимся Востока — вернули и проштемпелевали полумесяцем семиярусную «падающую» башню Сююмбике, напоминающую разом кремлевскую Боровицкую и московский же Казанский вокзал. В ответ на авансы Центра на территории Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний был провозглашен тюрко-татарский Штат Идель-Урал — со своим мусульманским ополчением и газетами на татарском. Ориентированные на защиту «прав коренного населения» «Харби Шуро» (военный совет) и «Милли Шуро» (национальный совет) пытались уберечь владельцев промпредприятий от стихийной национализации, а городскую буржуазию от квартирного уплотнения.
Но уже весной большевики, которым Казань нужна была как плацдарм советской власти в Поволжье, разогнали Идель-Урал, в том числе военизированные формирования (мусульманскую Красную армию) и медиа. Вместо этого учредили Татаро-Башкирскую Советскую республику — формально автономную, но за счет доминирования большевиков в Советах депутатов идеологически и экономически подчиненную центру; национальный суверенитет был не то что отменен совсем, но поставлен на режим ожидания.
Тем не менее большевики с демонстративным уважением относились даже к религиозно окрашенным силам, если те не пытались воевать с Москвой.
В июне 1918 года в Казань съезжаются «коммунисты-мусульмане», учредившие было Российскую мусульманскую коммунистическую партию, при которой функционировали даже свои отделения юных социалистов-мусульман. Однако уже осенью, под давлением Москвы, не желавшей терпеть партии-клоны, они влились в РКП(б) на правах мусульманских организаций. Политические мутации Татарии в первые послереволюционные годы показательны — по реакции Ленина и его партии можно понять, как менялись их взгляды на государственное устройство России и как именно эти взгляды реализовались в конкретных исторических обстоятельствах.
Из 2850 тысяч жителей Казанской губернии 1742 тысячи относились к нерусским национальностям. И когда страна, по сути, распалась и все замороженные конфликты, исторические обиды, пограничные споры ожили, ребром встал «национальный вопрос»; неспособность прежнего режима ответить на вызов национальной буржуазии и оказалась одной из причин революции.
Да, татарский «национальный вопрос» ощущался не так болезненно, как, скажем, польский — там ненависть к царизму переносилась и на русских и задолго до революции политически оформилось течение, целью которого была как минимум культурная автономия. Но стратегия социал-демократов по отношению к польским националистам вырабатывалась десятилетиями; а вот в случае с Поволжьем обе стороны в 1917 действовали экспромтом. Да, «малые нации», которые империя подвергла «внутренней колонизации», ничем не хуже «больших» — но смысл революции не только в том, чтобы вывести некий не слишком многочисленный народ из-под эксплуатации каким-то более крупным — но и в том, чтобы, объединив пролетариат обоих народов, сообща строить социализм; не «русские, татары, поляки и готтентоты, соединяйтесь», а «пролетарии всех стран, соединяйтесь». К проблеме национального угнетения, таким образом, следовало подходить с классовой точки зрения; одновременно с освобождением малой нации следовало втянуть ее в орбиту той, где пролетариат сильнее, — иначе нация-то освободится, а пролетариат, глядишь, окажется в худших условиях, чем раньше.
По сути, Ленину пришлось столкнуться с подмеченным еще Марксом парадоксом: нет большего несчастья для нации, чем покорить другую нацию. В его зоне ответственности проклюнулась своего рода «страна внутри страны» — со своей, тоже претендующей на гегемонию партией (Российская мусульманская компартия), с оригинальными институциями (например, в 1917-м, помимо обычных большевистских организаций, в которых участвовали в основном этнические русские, в Казани вылупился Мусульманский социалистический комитет — тоже марксистский, но этнически окрашенный, объединявший рабочие комитеты именно татар); и надо было придумывать, что делать с этим птенцом, способным навредить и себе самому, и окружающим. Хорошо, суверенитет. Ну а что, если они там захотят сохранить частную собственность на землю? А если начнут выбирать свой заведомо буржуазный парламент — как украинцы с Радой?
Как далеко можно пойти, отпустив поводья? Что, если доминировать в политике будет не партия, а муфтият? Что, если они примутся преследовать некоренное население? Что, если местный пролетариат, который возьмет власть в свои руки, захочет отделиться от России и установить свою государственность? Стоит ли чинить ему препятствия? А если решит остаться, но в силу каких-то непредвиденных обстоятельств (в 1918-м у столичных пропагандистов возникали затруднения самого курьезного характера; например, выяснилось, что на татарском языке не было слова «свобода»: приходилось брать с арабского и переводить словом «простор») на каких-то особых условиях? На что можно согласиться, а что окажется неприемлемо? Должны ли иметь национальные элементы какие-то привилегии: экономические (налоговые, например) и политические, возможно, какие-то квоты в представительных органах? Наконец, как быть с тем озадачивающим обстоятельством, что, например, среди этнических татар большевиков в принципе гораздо меньше, чем среди этнических русских? Перспективно ли передать этим немногим в самостоятельное управление огромную территорию?
Как Ленин должен был решать весь этот комплекс проблем, который, разумеется, возникал не только в случае с Казанской губернией, а со всеми прочими «окраинами»?
Понятно — и до революции именно из этого и исходил Ленин, когда формулировал взгляды партии на национальный вопрос, — что, вообще-то, «централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира…»; за ним и будущее: в таком гораздо вероятнее построить социализм, чем в феодальном княжестве средневекового типа. В целом до 1917-го программой РСДРП предполагалось, что после революции на территории России и будет функционировать унитарное государство, а тем малым народам, которые захотят шагать в будущее рука об руку с русскими, предоставят «широкую автономию» (в том числе право на самоопределение, вплоть до отделения).
Тут надо понимать, что практика в этот момент сильно отставала от теории. Наркомом по делам национальностей уже осенью 1917-го назначен Сталин — но ему даже поначалу не выделили в Смольном отдельного помещения, и он безропотно занимался делами своего комиссариата в кабинете у Ленина. По чистой случайности один из прибившихся к нему большевиков нашел ему комнату, где заседала комиссия по вещевому снабжению Красной гвардии. «Переходи к нам в Народный комиссариат национальностей», — предложил мемуарист своему приятелю; тот согласился — и так в его комнате появились столик и два стула: «Готов комиссариат!» «Невозмутимый Сталин», не проявив ни малейших признаков удивления, «издал какой-то неопределенный звук, выражающий не то одобрение, не то недовольство», — и тут же «переехал», велев расплатиться за только что заказанные бланки и печати для своей «канцелярии» тремя тысячами, занятыми у Троцкого: «У него деньги есть, он нашел их в бывшем Министерстве иностранных дел». Заем этот так никогда и не был погашен; зато расчистка царской «тюрьмы народов» согласно ленинскому плану пошла быстрее.
Ленину, остро чувствовавшему момент, становится ясно, что успех революции, исход Гражданской войны в России и перспективы мировой экспансии (а Казань представляла собой потенциальный мусульманско-большевистский плацдарм для деколонизации «угнетенных стран Востока»: Индии, Туркестана, Персии, Афганистана) зависят от того, смогут ли большевики декларировать и проводить умную и чуткую к запросам меньшинств (например, мусульманских — а мусульман в России уже тогда было около 14 миллионов) политику: завоевать их расположение и дать им возможность реализовать (фантомную) мечту о суверенитете и собственной государственности. Ленин, которому пришлось-таки на старости лет самому добиваться правды о формах заключения политического брака у европейских народов, «подвинулся» в своих взглядах сильно влево и объявил, что Советская Россия должна быть федеративной республикой — со своими, конечно, нюансами; «братским союзом всех народов»; а народы эти «оформлялись» по национальному признаку и в исторически сложившихся границах. То было демонстративное дистанцирование от имперского порядка: видите? мы предлагаем начать совместную жизнь с чистого листа, и условия брачного контракта вы пропишете сами — а мы взамен гарантируем вам ликвидацию национального угнетения. Такой подход должен был привлечь к коренной России больше народов, чем искусственные узы.
Применительно к Казанской губернии «берите столько суверенитета, сколько хотите» выглядело следующим образом. В мае 1920-го, после визита делегации руководителей региона к Ленину в Кремль, декретом была создана Татарская Автономная Социалистическая Советская Республика. Автономная, и татарский язык объявлен государственным (наравне с русским) — но при этом она часть РСФСР; госаппарат весь формируется из местных депутатских Советов, но иностранные дела, внешняя торговля, оборона — из сферы их компетенции выведены, за этим обращайтесь в Москву. Школы — попали в татарский Комиссариат народного просвещения, а вот Казанский университет — остался в федеральном подчинении…
…Поначалу 4 декабря 1887-го не происходило ничего примечательного. Лишь после полудня в коридорах вдруг раздались свистки, а в аудитории стали просовываться горячие головы и кричать: «На сходку!» Судя по тому, что особого удивления эти подстрекательства не вызвали, учащиеся знали о существовании некоего плана бунта. Те, кто хотел бунтовать, ринулись в актовый зал: «словно прорвавшая плотину волна», по выражению одного из участников. Зал был заперт, но замок долго не продержался. Попечитель впоследствии жаловался, что Владимир Ульянов «бросился в актовый зал в первой партии и вместе с Полянским первыми неслись с криком по коридору 2 этажа, махая руками, как бы желая этим воодушевить других».
Чтобы проникнуть в актовый зал сейчас, не надо ломать замок — достаточно сказать, что вы хотите посетить университетский музей, и вахтер смилостивится. Мраморные доски висят везде, где положено: вот тут Ульянов бежал по лестнице, тут мемориальная аудитория, где он слушал лекции по римскому праву. В актовом зале сдавал вступительные экзамены Л. Н. Толстой, читали стихи Маяковский и Евтушенко; сейчас от советской символики здесь избавились — восстановлен «исторический облик»; парадный портрет Александра Первого придает своим соседям, неопрятно-бородатым деятелям науки, дополнительную солидность.
В зал набилось человек 150–200 самых буйных — в основном медиков, которые призывали к учреждению всех возможных свобод, вопили: «Долой самодержавие!» На срыв занятий отреагировали инспекторы и «педеля» (надзиратели), в том числе особенно ненавистный студентам тип по фамилии Потапов. Похожий на гибрид Бармалея и Карабаса-Барабаса, с бородищей, он увещевал, угрожал, топал ногами — «Требую разойтись, негодяи!», — но то был не его день: студенты сначала принялись напирать на него, затем, после обмена словесными оскорблениями, кто-то крикнул: «Бей!» — и однокурсник Ульянова по юрфаку, студент Константин Алексеев, обер-офицерский сын, родом из Уфы, ударил Потапова по лицу. Затем началась «чистая свалка: несколько человек бросились на инспектора, ему нанесли несколько ударов. Потапов оказался крепким орешком — в ход пошли ножки от сломанных стульев… Тут на защиту начальства бросился помощник инспектора Войцехович и, повредив руку, отвел удар. Потапов ретировался жив и невредим».
Детали той сходки с большим энтузиазмом описываются экскурсоводами — из преподавателей юрфака; теоретически эти преподаватели встроены в систему, абсолютно идентичную той, против которой бунтовал 17-летний Ульянов; если вдолбить студентам культ того события, почему бы им однажды не повторить что-то подобное? Но атмосфера изменилась — студенты, даже воспринимающие бунт своих предшественников как романтическое и героическое событие, более снулые — ну, или, наученные жизнью, скрытные; так или иначе, надо иметь хорошее воображение, чтобы представить в нынешнем университете дубль сходки 1887 года; кто будет сейчас распевать «Хвала тому, готов кто к бою! / За раз созданный идеал, / Кто ради ложного покоя / Его за грош не продавал…».
Директор Симбирской гимназии — пятеро выпускников которой приняли участие в бунте — Ф. М. Керенский написал попечителю Казанского учебного округа объяснение о своей системе воспитания учеников: образцовые ежовые рукавицы. Каким образом мог выскользнуть из них Ульянов? «Мог впасть в умоисступление вследствие роковой катастрофы, потрясшей несчастное семейство и, вероятно, губительно повлиявшей на впечатлительного юношу». Вполне возможно, что превращение добропорядочного юноши во врага государства произошло вследствие не только внутренних и сугубо семейных причин, но и внешних факторов.
Казань — особенное место. Возможно, в силу историко-географических причин — Евразия, Орда, Восток — нравы здесь всегда оставались жестокими. В 1840-е тут орудовали банды Быкова и Чайкина (после поимки их засекли шпицрутенами, а скелеты передали в Анатомический театр), в 1970-е город терроризировала группировка «Тяп-Ляп» (от предприятия «Теплоконтроль»), устраивавшая массовые избиения на улицах и чуть ли не обстрелы общественного транспорта из огнестрельного оружия. «Казанский феномен» хорошо отрефлектирован поп-культурой, но, по сути, никто так и не объяснил эти всплески психопатического, немотивированного насилия; приходится довольствоваться заведомо ненаучными предположениями о том, будто бы, несмотря на витринное благополучие, в городе обретается дух насилия и агрессии. И в 1880-е тоже наверняка за те 25 минут, что идти пешком от Первой Горы до университета, много чего с 17-летним юношей могло произойти на улице и много чему эта улица могла научить его.
…Хорошо, что сам Ульянов воздержался по крайней мере от участия в избиении «педеля»: студента Алексеева отдали на три года в солдаты, в дисциплинарный батальон. Поскольку инспекторы не справились, пришлось выпускать тяжелую артиллерию — ректора Кремлева. Тот не вызывал такой ненависти, как Потапов и Ко, и его душеспасительные беседы с бунтовщиками о том, что дело студентов — наука, а не предъявление политических требований, длились долго: три c половиной часа. Студенты требовали убрать Потапова, видимо крепко их допекшего, и — чтоб уж два раза не вставать — отмены университетского устава, возвращения недавно исключенных, разрешения легально объединяться в землячества, устраивать вспомогательные кассы и кухмистерские — и плюс к этому гарантий амнистии за сегодняшний бунт. Среди мятежников циркулировало заранее отгектографированное неизвестными лицами воззвание, где «представители молодой интеллигентной мысли» заявляли решительный протест против «шпионствующей инспекции», напоминали об указе про «кухаркиных детей» и апеллировали к ноябрьским событиям в Московском университете: «позорное оскорбление всей русской интеллигентной молодежи». В какой-то момент в актовый зал подтянулись и либерально настроенные профессора — продемонстрировать солидарность: да, университет действительно из места, где свободные люди занимаются наукой, превратился в казарму. Произнес речь и Ульянов — насчет «царского гнета».
Один из участников сходки использует для описания происходившего слово «экстаз»: «Пропала логика разума, осталась только логика сердца». Они клялись принести себя в жертву, не предавать друг друга, отстаивать требования… «Вся душа трепетала под наплывом особого гражданского чувства и пылала жаждой гражданского подвига. Войди в зал солдаты и потребуй, под угрозами пуль, оставить зал, — мы не моргнули бы глазом и остались!»
Они и вошли — почти. Центром контрстуденческой операции стало городское полицейское управление, располагавшееся неподалеку от университета. Там, помимо полицейских сотрудников, разместился батальон 7-го пехотного Ревельского полка — с винтовками, заряженными боевыми патронами. Их задачей было пресечь разрастание бунта и не допустить столкновений студентов с горожанами из нижних слоев мещанства, которые студентов-бунтовщиков на дух не переносили.
Угроза ректора пропустить в университет войска, а может, и голод подействовали: около четырех часов актовый зал стал пустеть. 99 человек — и Ульянов тоже — на выходе в знак протеста оставили инспекции билеты; вторая половина бунтовщиков на словах присоединилась к товарищам, но ограничилась рассеянным похлопыванием по карманам.
Избавившись разом и от студенческого билета, и от перспектив сделать карьеру на службе государству, ВИ побрел к себе на съемную квартиру на Новокомиссариатской, 15, — это одноэтажная с антресольным этажом деревянная постройка, «дом Соловьевой», где Ульяновы жили осенью 1887-го: они внизу, сверху хозяева. И пока те, кто не участвовал в сходке, запасались свидетельствами квартирных хозяек — что провели день дома, Ульянов, у которого алиби не было, успел написать прошение «об изъятии из числа студентов». На что он рассчитывал — ну ладно еще утром, когда «бежал и размахивал руками» в толпе, — а вечером-то, когда неизбежно должен был почувствовать похмелье? Даже советские биографы Ленина пожимают плечами в недоумении: загадка; тогда ведь еще и Маркса не прочел.
…Участие Ульянова в бунте — странный момент, пример не то что недальновидного, но иррационального по сути поведения человека с «шахматным» складом ума; только-только поступил в университет, куда и взяли-то его, брата государственного преступника, со скрипом. Мало того, через четыре года он должен был тянуть жребий на предмет отбывания воинской повинности — раз уж не воспользовался студенческой «бронью».
Ночью раздался стук в дверь — и состоялся хрестоматийный — не сказать «пинкфлойдовский»: та же метафора, те же смыслы: бунт, отчуждение, взросление, образование — диалог про Стену: жандарм упрекнул студента, куда ж вы, мол, молодой человек, бунтовать — стена ведь, броня! Ульянов поджал губы: «Стена, да гнилая — ткни, и развалится».
Метафорическое пророчество про недоброкачественные стройматериалы определило судьбу места, где оно было отчеканено. На протяжении долгого времени дом номер 15 — место первого ареста Ленина — охранялся государством как памятник союзного значения. В 1970-х здесь открыли районную библиотеку, в 2008-м спалили ее фонды на заднем дворе; мраморная доска с профилем ВИ исчезла. Сейчас на месте дома на Муштари, 15, — новостройка под номером 19: и если ее стены могут сойти за метафору политического режима, то режим этот очень устойчив.
Казань в Гражданскую — ключ к Волге, верхней и нижней; коридор к сибирским хлебородным губерниям; здесь хранилась эвакуированная Временным правительством бóльшая часть золотого запаса Российской империи (650 из 1101 миллиона золотых рублей); отсюда лежал прямой путь на Москву с Урала. Советская власть натурализовалась здесь с приключениями: летом — осенью 1918-го красные были вынуждены отбивать захваченную белочехами — к радости большинства студентов и преподавателей, радикально поправевших по сравнению с университетским контингентом образца 1880-х, — Казань приступом; для этого пришлось провести к Волге по Мариинской системе три миноносца с Балтфлота, которые, став ядром Волжской военной флотилии, в ночь на 31 августа прорвались мимо белых батарей — в стиле марин Рафаэля Сабатини — за Верхний Услон, обстреляли базу и спровоцировали пожар на пароходах и баржах. 10 сентября Ленин, едва оправившийся после выстрелов Каплан, посылает Троцкому телеграмму, поощряющую немедленную атаку на Казань с использованием артиллерии: «По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце».
В Свияжске — островном, похожем на пушкинский Буян, городке на Волге рядом с Казанью — Троцкому даже пришлось однажды пригрозить для устрашения децимацией — и затем оправдываться перед Москвой в излишней мягкости (расстреляли «всего» 20 человек: начальство Петроградского рабочего полка и 18 рядовых). Свияжским событиям посвящен очерк Ларисы Рейснер: один из лучших текстов, когда-либо написанных на русском языке: о том, как красных выбили из Казани, но они зацепились за Свияжск — и чудом, благодаря установившейся там с прибытием бронепоезда Троцкого атмосфере, не сдавали его.
По рейснеровской поэме в прозе ясно, что Казань, в широком смысле, была местом рождения Красной армии.
…Натерпевшийся страху и нахватавший шишек, однако оставшийся в здравом уме и трезвой памяти Потапов составил проскрипции из 153 участников. Из Петербурга отстучал историческую телеграмму министр Делянов: «Для спасения благомыслящих не щадите негодяев!» (теоретически он мог послать ее и студентам 4 декабря). И все же начальство догадывалось, что выгнать сразу 20 процентов студентов — перебор; объясняли, что «сторонниками беспорядков было только меньшинство, причем и из этого меньшинства многие действовали под давлением товарищей». Ульянова, однако ж, — «очень возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками» — взяли на карандаш и отметили особой галочкой; «скрытный, невнимательный и даже невежливый, что очень поражало ввиду того, что он при окончании курса в гимназии получил золотую медаль», он произвел на начальство впечатление существа, «вполне способного к различного рода противозаконным и даже преступным демонстрациям». Всего таких особо неблагонадежных наскреблось 39 душ. Любопытно, что первокурсников среди них всего трое; ВИ — единственный 1870 года рождения, самый младший; основная часть бунтарей были ровесниками Александра Ильича, 1865–1866 годов рождения.
Трое суток Ульянова промариновали в предвариловке — в пересыльном каземате под крепостью, а первый день — даже в арестантском халате. Затем его взяли за воротник и выставили, и не только из университета, с волчьим билетом, но и из города; местом ссылки было назначено Кокушкино. Специальный пристав следил, чтоб он убрался именно восвояси, а не абы куда.
При всех катастрофических последствиях «сходка» не была бессмысленным актом, жестом отчаяния. На несколько дней все университеты страны были парализованы. Пошла цепная реакция — за казанцев впряглись Киев и Одесса. Дело получило известность за границей — в Париже и то русские студенты митинговали в знак солидарности с Казанью.
Сочувствовало репрессированным и казанское общество: сосланных провожали едва ли не с духовым оркестром.
Уехали далеко не все — и те, кто остался в насильно замиренном городе, взяли на себя миссию отомстить реакционерам. Особенно несладкой сделалась жизнь инспекторов и надзирателей — они получали письма с угрозами расправы от неизвестных лиц; один из затерроризированных такого рода почтой, помощник попечителя Малиновский, испытал 29 декабря 1887 года особенный страх еще и потому, что в этот день у него в квартире треснуло зеркало — и явившийся решать проблему дворник, в ответ на жалобу, зевнул: «Покойник будет». «Дворник, — констатирует очеркист 1920-х годов, — не ошибся: покойник готовился, но только в царской, униженной и оскорбленной Руси. Это сама Русь, самодержавная и православная, начала трескаться по всем швам».
В декабре 1887-го в кокушкинском доме коротали зиму сразу двое политических ссыльных: брат и сестра. Анна Ильинична — по делу Александра Ульянова; ей повезло — изначально ей светило пять лет в Сибири.
Один из первых лениноведов, некий «тов. Табейко», еще в 1923 году описал картину жизни брата и сестры в Кокушкине: затравленные, «в вечном страхе за завтрашний день — царское правительство мстило жестоко», те постоянно подвергались «облавам», от которых Анна Ильинична, «вся бледная от испуга, бежала задами, по крапиве, в одних чулочках». Эта смелая фантазия вызвала гнев главной героини, которая уличила «тов. Табейко» в некомпетентности.
Облав не было, но и веселого мало: мороз, бураны, скука, переписка под контролем, душу не отведешь; на отцовскую пенсию далеко не уедешь, загранпаспорта нет, на службу не поступишь, даже и уроки детям давать никто тебя не наймет. Либо гуляй себе в радиусе 15 верст (но ведь и соседей никаких не было), либо гляди на звезды (Коллонтай утверждала, что Ленин проявлял большой интерес к астрономии и в ранней юности знал все созвездия), либо — практикуйся целыми днями на бильярде.
Между Бланками и их бывшими крепостными не было конфликтов; в целом крестьяне хорошо относились к Марии Александровне — она дольше других сестер прожила в деревне, венчалась там, иногда помогала медикаментами. Неизвестно, называли ли ВИ «молодым барином», но у него были знакомые в деревне; среди прочих — мужик Карпей, обладатель колоритной внешности, мастер художественного слова и, возможно, первый учитель философии ВИ; Илья Николаевич в свое время аттестовал его как деревенского Сократа. Ямщики запомнили ВИ как «забавника», у которого на всякий случай сыщутся в кармане шутки-прибаутки вроде: «А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?» (видимо, свидетельствующие не только о веселом, но и о крутом нраве). В письме 1922 года жителей Кокушкина председателю Совнаркома — с товарищеским приветом от «старожилов, хорошо помнящих и знающих тебя по играм с нами в бабки, горелки и по ночевкам в лесу с лошадьми», — содержалась просьба выдать безлошадникам этих самых лошадей в кредит. В рамках темы «ночевки с лошадьми» остается отметить, что несколько раз Ульянов нелегально, в темное время суток, по предварительному сговору с ямщиками-татарами, ездил — шерше ля фам? — в Казань; не самая простая операция, если вы планируете вернуться до рассвета и в любой момент быть готовым предстать перед надзирающим за ссыльными становым приставом.
Неделю, месяц — куда ни шло; но прожить так несколько лет — и поневоле полезешь на стенку; да и новости доходили удручающие. В Казани погнали вторую волну репрессий — только 12 января 1888 года из университета выставили еще семь десятков «несогласных» — уже даже не за сходку, а за то, что осмелились вступить в нелегальные землячества. Затем всё вроде бы подустаканилось; бессобытийная кокушкинская жизнь также способствовала выходу из умоисступления; и теоретически, при условии проявления известной гибкости спины, вставив в прошение слова «раскаяние» и «покорнейше», можно было рассчитывать на некое помилование — поэтому имело смысл продолжать подготовку для учебы в каком-то еще университете. И вот через полгода после сходки, 9 мая 1888-го, ВИ пишет прошение министру народного просвещения Делянову — касательно возможности «обратного приема» в Казанский университет. Мария Александровна одновременно просит еще и директора Департамента полиции о смягчении наказания. Похоже, именно в Кокушкине жизнь преподнесла Ульянову первый урок прагматизма и конструктивного мышления: да, в том, чтобы «умереть по-шляхетски», «с честью», есть своя правда, но если хочешь делать дело, то компромиссы неизбежны.
Позже Ленин вспоминал, что никогда в жизни, даже в петербургской одиночке, даже в Шушенском до приезда Крупской, не читал столько, сколько там. Добролюбов, Писарев — томами, полными собраниями; однако его Библией стала «Что делать?» — динамичная, остроумная, вдохновляющая и озадачивающая книга. Уже даже младшие современники Ленина не понимали, что особенного в этом тексте; он казался старомодным и изобилующим нелепостями; меж тем теперь, когда действие ядов, впрыснутых в роман и саму фигуру Чернышевского Набоковым, прекратилось, этот эффект воспринимается не как изъян, а как достоинство; в стиле, которым написано «Что делать?», всех этих сентенциях, ерничестве, сюрреалистических снах, деревянных диалогах — есть своя магия, которая вновь, кто бы мог подумать, стала ощущаться. «Отлично дурно, следовательно, отлично», как сказано в самом романе. Наверняка Ульянову приходило в голову, что он лучше кого-либо подходит для вакансии Рахметова, «особенного человека». Можно не сомневаться, что у него были методично выполнявшаяся программа гимнастических упражнений, четкий список для чтения и, возможно, даже упорядоченный пищевой рацион. В какой-то момент Ульянов решил сочинить письмо ссыльному Чернышевскому; тот получал просьбы о благословении, проклятия и угрозы буквально мешками — и отвечал на сообщения редко; делать далеко идущие выводы из его молчания — «Чернышевский не ответил Ленину!» — не стоит.
Хуже были лаконичные резолюции из официальных инстанций: «отклонено», «отклонено». 31 августа — последний шанс успеть на курс, не в Казань, так в Москву, Киев, Харьков или Дерпт. В тот момент в Казани присутствовал министр Делянов. Мария Александровна поехала к нему и вручила прошение лично. «В казанских студентах, — изрек чиновник, — до сих пор играет пугачевская кровь».
В какой-то момент в Кокушкине появляется новая важная фигура — жених Анны Ильиничны Марк Елизаров, добрый гений семьи. Компания ведет жизнь чеховских интеллигентов-дачников: самообразование, пикники, рыбалка. При посредничестве Марка Елизарова Ульяновы начинают закидывать удочки касательно ситуации на рынке заграничного образования: в каком университете лучше учат, сколько это может стоить, потянет ли семья и как раздобыть под это загранпаспорт. Анна Ильинична в одном из писем сентября 1888 года проговаривается, что «брат… очень рвется за границу, но маме очень не хочется пускать его туда». Забегая вперед, скажем, что в апреле 1889-го авторитетная комиссия, состоящая из профессора медицинского факультета Казанского университета и городского врача, выпишет Ульянову справку о том, что тот страдает болезнью желудка и идеальный способ исцеления — пользование щелочными водами; лучше всего водами Vichy (Франция). 6 сентября ВИ в письме на имя министра внутренних дел ссылается на «надобность в получении высшего образования» и просит — «не имея возможности получить его в России» — «разрешить мне отъезд за границу для поступления в заграничный университет»…
Отклонено; если больной — так езжай в Ессентуки, здраво рассудили в Министерстве образования. Каким же все-таки образом Ульянов получил свой второй шанс? Весьма вероятно (судя по сохранившимся письмам Марии Александровны: «Ваше Превосходительство… добрейший Николай Иванович… так участливо отнеслись ко мне… по сердечной доброте Вашей и в память покойного Ильи Николаевича…»), что Н. И. Ильминский — христианизатор татарских школ и товарищ Ильи Николаевича — как раз и был тем человеком, чье любезное вмешательство позволило Владимиру Ульянову получить высшее образование хотя бы и заочно, экстерном. Дело в том, что среди друзей Ильминского фигурировал не только И. Н. Ульянов, но и, ни много ни мало, обер-прокурор Синода Победоносцев. Одиозный «Великий Инквизитор» отзывался об Ильминском с колоссальным уважением и сравнивал его со Стефаном Пермским, Трифоном Печенгским и Гурием Казанским (кончилось тем, что в 2015 году Казанская епархия РПЦ начала сбор материалов для канонизации Ильминского в лике местночтимых святых). Ильминский, через посредничество Победоносцева, мог оказать давление на ведавшего вопросами зачисления студентов министра просвещения — раз уж прямые ходатайства самого Ульянова и его матери не смогли растрогать сердце Делянова.
Так или иначе, 12 сентября пришел первый положительный ответ на ходатайства Марии Александровны: Ульяновым — причем не только Владимиру, но и Анне — разрешили вернуться в Казань. И пусть студенческий сюртук пришлось сменить на пиджак и рубашку со шнурками-кисточками вместо галстука, наверняка это воспринималось как возвращение в столицу: Париж после Эльбы.
Нынешняя Казань с ее миллионом двумястами тысячами жителей и есть без пяти минут столица: витринный город «путинского процветания» нулевых. Район Первая Гора был «тихим центром» и при Ульянове, и при Ленине, и при Шаймиеве — и сейчас. Именно здесь Мария Александровна и нашла дом, который в советское время превратили в казанский музей Ленина. Хозяева заломили 40 рублей в месяц — 40 процентов от доходов семьи (вся пенсия за отца составляла 1200 рублей в год), но Ульяновы вынуждены были согласиться: тепло, светло и минут двадцать пешком до университета — если бы ВИ вдруг приняли обратно. Двухэтажный коттедж, напоминающий петсон-и-финдусовский, выкрашен в цвет запекшейся крови. Внутри — шахматный столик, микроскоп, термометр, фаянсовая сахарница, студенческая тужурка, форма городового, копии выписок из документов, «рукодельные работы Маняши» и — за тройным стеклом, как «Джоконда», — монументальная «Сходка в казанском университете»: подтянутый Ульянов кочетом наскакивает на даже визуально «реакционных», жалкого вида преподавателей… а больше и не рассмотришь ничего. На заднем дворе, у сарайчика, припаркован велосипед-костотряс — для антуражу; известно, что Ленин впервые сел на велосипед лишь в 1894-м, в Москве.
Чем, собственно, занимался ВИ сезон 1888/89 года? Известно, что он посетил однажды оперу («Жидовка» Галеви) и захаживал в шахматный клуб (почтенное заведение, посетители которого по большей части предпочитали резаться в карты); играл по переписке со своим будущим патроном, самарским юристом Хардиным. Круг его знакомств практически неизвестен — хотя в городе обретались сразу несколько исторических личностей, будущих партнеров. Здесь заканчивал гимназию Бауман, который уже тогда имел связи в рабочих слободах и по вечерам соблазнял пролетариат марксизмом. После того как их выставили из Петербургского технологического, наведывались в Казань — и добровольно, и как ссыльные — братья Красины: Герман и Леонид. Наконец, ровно в это время в Казани обретался Горький — одна из самых знаменитых жертв закона о «кухаркиных детях»; он так стремился в университет — да вот не судьба. Занятно, что 12 декабря 1887-го, через неделю после разогнанной «сходки», Горький попытался покончить жизнь самоубийством: не то из-за несчастной любви, не то в связи с невыносимой для будущего художника атмосферой реакции, установившейся в Казани. Выжил — и, работая булочником в пекарне, помогал студентам обмениваться нелегальной литературой. Теоретически Ленин уже тогда мог угощаться горьковскими кренделями.
И все же в какой момент он всерьез задумался не абстрактно о возможности революции, а о том, чтобы самому стать профессиональным революционером? Осенью 1887-го, в университете? В Кокушкине, когда глотал тома Чернышевского и Писарева? Во «второй Казани» — начитавшись «Капитала»?
По соседству с домом на Первой Горе, в дешевых хазах в районе Собачьего переулка, в студенческих квартирах собирались компании вольнодумцев. Мориарти диссидентской Казани в тот момент был 17-летний, на год младше Ульянова, Николай Федосеев («Они оба вышли, так сказать, с утра одновременно на дорогу», по выражению авторов предисловия к сборнику мемуаров о нем), которого 5 декабря 1887 года вытурили даже не из университета, а из гимназии; тогда же он открыл для себя сочинения Маркса и Энгельса. Федосеев развил необыкновенно энергичную деятельность, благодаря которой Казань в 1888 году стала Меккой российского марксизма, обойдя по этой части Петербург и Москву, где деятельность таких кружков была временно заморожена. Расстриженный гимназист обладал выдающимися коммуникативными способностями — и талантом организовывать формировавшиеся вокруг самодеятельных библиотек кружки самообразования, нацеленные на распространение революционной литературы; причем дело было поставлено ультраконспиративным образом: в формуляр записывалось не имя читателя, а его номер: номер 15 читает первую главу «Капитала» (в списках, конечно), номер 42 — «Примечания» Чернышевского, номер 6 — «Наши разногласия» Плеханова. Сами члены кружков ломали голову, кто руководит ими и какова общая структура организации — как впоследствии выяснилось, Ульянов и Федосеев умудрились ни разу не встретиться друг с другом, хотя ВИ участвовал в одном из этих кружков и в дальнейшем использовал составленную Федосеевым «специальную программу теоретической подготовки марксистов». Для биографов Ленина вся эта сугубая конспирация обернулась тем, что никто теперь не в состоянии уразуметь, в каком именно кружке и чем конкретно он занимался: переводил ли с немецкого Каутского, гектографировал ли «Развитие научного социализма» Энгельса, пытался ли агитировать рабочих? Разумеется, юноши были как минимум наслышаны друг о друге (Мартов в мемуарах утверждает, будто Федосеев сам говорил ему, что встречался в Казани с Ульяновым), но в 1922 году Ленин — так получилось, что Федосеев стал героем одной из самых последних его статей, — упорно настаивал, что очно познакомиться им не довелось.
Так или иначе, казанская фабрика марксизма действовала недолго. Федосеева арестовали в июле 1889-го и таки сломали ему судьбу: ему и подельникам пытались припаять создание террористической подпольной организации народовольческого толка; год он провел в одиночке, еще два промыкался по судам и тюрьмам; невеста, с которой его взяли, вышла замуж за другого… А вот Ульянова в городе уже не было; в самом начале мая мать, осознававшая, что добром эта подпольная — с танцевально-музыкальными вечерами, шахматной клубындой и библиотечными абонементами — деятельность не кончится, увезла ВИ в деревню Алакаевку Самарской губернии.
В Казани с тех пор ВИ был только проездом, но по-настоящему никогда не возвращался — только уже, как говорится, памятником; но город и после Гражданской войны продолжал посылать ему важные сигналы. Так, в мае 1921-го Ленин, наблюдавший в тот момент из окна своего кремлевского кабинета за строительством Шуховской башни на Шаболовке, прочел в газетах, что «в Казани испытан (и дал прекрасный результат) рупор, усиливающий телефон и говорящий толпе», — и тотчас заерзал: что? что? вот! вот! Впрочем, больше, чем собственно прогресс радиотехники, Ленина интересовали возможности, открывающиеся для пропаганды: его завораживала идея «устной газеты» — «без бумаги и без расстояний», которую кто-то с надлежащим выражением декламирует в Москве, и в тот же момент ее «читают» слушатели в той же Казани.
В Казани, где ВИ впервые наткнулся на настоящую, первую в своей жизни стену — и обнаружил, что неприступная, казалось бы, материя содержит в себе возможность перехода в свою диалектическую противоположность. Более того, существуют наука и технология, позволяющие этот процесс форсировать.
Не «толцыте и отверзется», и даже не «толкни, и развалится» — а именно «ткни». Надо знать куда, точное место.
[5] Везение по этой части сопутствовало Ленину не всю жизнь: так, один из участников Пражской конференции (1912) вспоминает, что вечерами там играли в шахматы и Ленин дважды подряд проиграл одному депутату, рабочему, — и от третьей партии отказался: «Торопливо поднялся со стула, полусерьезно и полушутливо промолвил: — Ну это не дело мат за матом получать». См.: Воронский А. К. За живой и мертвой водой. М.: Common place, 2019.
Самара
1889–1893
Главной загадкой для чехословацкого лениноведения считалась так называемая «проблема кнедликов со сливами». Дело в том, что в 1920 году Ленин, беседуя с одним чехом, делегатом Коминтерновского съезда, неосторожно спросил его — а что, по-прежнему ли в Чехии едят кнедлики со сливами? Вопрос как вопрос; задал, наверно, из вежливости или чтобы разнообразить разговор о нюансах политического быта государств, образовавшихся при распаде Австро-Венгрии. Однако, потерев виски, дотошные исследователи обратили внимание на то, что кнедлики со сливами — блюдо, которое в Чехии зимой подавать никак не могут, тогда как Ленин, считается, заезжал в Прагу: а) в феврале 1901-го, для организации ожидаемого приезда Надежды Константиновны; и б) в январе 1912-го, на Пражскую партконференцию. Не является ли — указательный палец вверх — этот вопрос косвенным свидетельством в пользу того, что была и третья — не зафиксированная в Биохронике — поездка Ленина в Прагу — состоявшаяся, с учетом сезонного графика чешской кулинарии, осенью? Расследованию этой загадки века — и попыткам откопать мнимых или подлинных свидетелей фантомного визита — и посвящало себя чешское лениноведение вплоть до бархатного 1989-го, когда все вопросы снялись сами собой.
По нынешним временам проблема «ленинских кнедликов» кажется смехотворной: какая, в сущности, разница, был или не был.
Насколько вообще глубоко сейчас имеет смысл влезать в биографию Ленина? Может быть, достаточно изложить ее на пяти страничках? Нужно ли, к примеру, подробно рассказывать о самарском периоде жизни Ленина?
В конце концов, в начале 1890-х с ним «не происходило ничего особенного»: изучал Маркса, спорил с народниками, работал юристом.
С той же легкостью, надо полагать, можно вычеркнуть из истории и сам этот период, контекст ленинской жизни. В конце концов, что такое начало 1890-х? Не 1905-й ведь и не 1917-й, ничего особенного.
Ничего?
В 1890 году в Англии случился банковский кризис — до такой степени серьезный, что вся финансовая система страны — в том числе сам Bank of England — оказалась на грани катастрофы; чтобы спасти ее и не объявлять дефолт, англичане заключили ряд закулисных договоренностей со своими финансовыми контрагентами, в частности с французами и русскими, о том, что те не станут изымать золото из Английского банка — и в обмен на это одолжение Франция получит ряд привилегий, в том числе негласное разрешение заложить для России — которая очень нуждалась в технологиях для модернизации армии и флота, но, после Крымской войны, искусственно сдерживалась Англией — верфи на Черном море, в Николаеве. Чтобы понятно было, о каких масштабах идет речь: в Николаеве были построены корабли от броненосца «Потемкин» до авианосца «Адмирал Кузнецов».
По сути, именно ход этого «забытого» (и воскрешенного только в романе Иэна Пирса «Падение Стоуна») кризиса предопределил очертания будущей Антанты — и на его последствиях сложился весь военно-политический дизайн Европы начала ХХ века, приведший к мировой войне и революциям.
Что касается России, то в 1891–1892 годах здесь разразился голод, затронувший 36 миллионов человек, особенно в Поволжье, в том числе в Самарской губернии; причинами этого кризиса тоже были не только климат — засуха и суровая зима, но и отсталость агропромышленных технологий, неэффективность общинного управления, а также финансово-экономическая политика правительства, которое было одержимо модернизацией — и очень нуждалось в золоте, поэтому остервенело экспортировало хлеб под лозунгом, сформулированным министром финансов Вышнеградским: «Недоедим, но вывезем»; именно Вышнеградский занимался банковскими гарантиями от России для Англии и переговорами с Ротшильдами, чей банк, видимо, и инициировал кризис 1890-го. Голод спровоцировал и кризис идеологический: «марксисты» вошли в боестолкновение с «народниками»; именно в ходе этого конфликта и будут формироваться «политическая физиономия» Ленина, его стиль и идеологический арсенал.
Кризис 1890–1892 годов, как и было обещано Марксом, продублируется в России через несколько лет — в более затяжном варианте, в 1899–1909 годах; относительно событий этих лет вряд ли у кого-то возникнет сомнение в том, существенны ли они для жизни Ленина.
Таким образом, мы вновь возвращаемся к вопросу — где проходит грань между важным и неважным событием? Сколько «проблем кнедликов» нужно проигнорировать как нелепые и никчемные, чтобы биография Ленина свелась к цифрам 1870–1924? Сколько «периодов» ленинской биографии нужно вырезать, чтобы почувствовать себя в комфортной обстановке общепринятой сегодня поп-истории, в рамках которой Ленин вообще не является актуальной исторической фигурой — и поэтому может быть забыт, за ненадобностью?
Занятно, что в софистике этот парадокс называется «парадокс лысого» — разумеется, известный Ленину, что и зафиксировано в «Философских тетрадях»: «По поводу софизмов “куча” и “лысый” Гегель повторяет переход количества в качество и обратно: диалектика». Поставьте в ряд множество людей с разной степенью облысения — так, чтоб у каждого следующего было на волос меньше, чем у предыдущего; первый, с шевелюрой, — точно не лысый, и следующий за ним, и следующий — не делает ведь погоды один волосок. Но тогда — раз грани нет — получается, что когда мы дойдем до того, у кого на голове ничего нет, то и он тоже НЕ лысый. Что автоматически приводит нас к необходимости признать, что все лысые — на самом деле таковыми вовсе не являются; и вот тут, похоже, самое время вернуться к конкретному Ленину — чья фотография самарского периода как раз подтверждает вывод этого дикого софизма — ну и заодно иллюстрирует собой закон отрицания.
* * *
Диалектика Самары состоит в том, что, с одной стороны, то был провинциальный город на восточном краю Европы, а с другой — такая же часть глобальной сети, уже сложившейся к 1890-му, и, следовательно, такой же центр мирового водоворота, как Лондон, Прага или Петербург. «Матчасть» здесь принадлежала к XIX веку, и люди носили костюмы, как в пьесах Островского и рассказах Чехова, — но в идеологической сфере уже начался век XX, и в марксистах уже можно разглядеть будущих «большевиков» и «меньшевиков», в народниках — эсеров, а в едва-едва получившем статус губернского городе — «запасную столицу» СССР.
Нуворишеский город относился к категории «динамично развивающихся»; здесь выходили четыре местные газеты, функционировали гимназии и театр, библиотеки комплектовались новинками. Низкий культурный уровень низов общества, за счет которых нагуливали жир хлебные короли — именно они задавали тон в городе, — был оборотной стороной свежеприобретенного благополучия; новая буржуазия сотнями тысяч гектаров хапала — у дворян, у башкир, у татар — землю, в хвост и в гриву ее эксплуатировала, нанимала сотнями и тысячами рабочих на сезон — а затем избавлялась от изнасилованной земли и выставляла людей на улицу, точнее, на пристань, где те и слонялись в поисках вакансий на одной из пяти паровых мельниц или каком-нибудь из десяти заводов. Эти жертвы капитализма имели больше общего с уличной гопотой, чем с дисциплинированными марксовскими пролетариями. Пристани и дебаркадеры на Волге кипели страстями — и пузырились бедностью; в центре было тихо, и, возможно, единственным праведником, который не позволял Самаре рухнуть в мальстрём варварства, был городской гигиенист Португалов, который во время летних пыльных бурь имел обыкновение шокировать публику своим театральным видом — появляясь на улице в белом балахоне, с белым зонтом и в очках с защитными сетками; ВИ знал его сына, который в Казани, на той самой сходке, запустил в того самого Потапова не то стулом, не то подушкой от кресла. Университета, однако ж, в Самаре не было — и потому чувствовался дефицит молодежи, у которой плохо вырабатывался иммунитет против «революционной бациллы».
Идея переезда именно в Самару возникла с подачи Марка Елизарова; выхлопотав в МВД разрешение на переезд молодой жены, Анны Ильиничны, он загорелся идеей перетащить сюда всех Ульяновых.
Приемлемую квартиру нашли лишь в мае 1890-го — после трех неудачных попыток, включавших в себя встречи с плохими соседями и лихорадковыми миазмами. Район, правда, считался окраинным и имел дурную славу, а в первом этаже ульяновского дома, на углу Почтовой и Сокольничьей, в лавке купца Рытикова, продавали алкоголь — однако как один из колониальных товаров, дорогой и экзотический, и поэтому «контингент» предпочитал лечиться амбулаторно — не в ближайшей подворотне.
Улица с домом-музеем явно доживает последние дни — старые деревянные дома выкорчевываются на глазах, над деревянными могиканами нависают высотные «жилые комплексы»; очевидно, что магия имени Ленина здесь не действует — по крайней мере в качестве охранной грамоты.
Что касается начинки дома, то тут, пожалуй, остаются в памяти разве что стенды с «занимательными» викторинными вопросами для школьников: семья Ульяновых прибыла в Самару: а) на поезде, б) на самолете, в) на лошадях, г) на автомобиле, д) на корабле (странным образом, правильный ответ — не только «д», но и «б», потому как пассажирский, с двумя гребными колесами, пароход, на котором в начале мая 1889-го приплыли в Самару Ульяновы, в просторечии назывался «самолет» — в силу принадлежности обществу «Самолет», которое в 1918 году, как и все прочие коммерческие пароходства, было национализировано особым декретом Ленина).
Обнаружить «следы Ленина» в Самаре не штука — сохранились десятки зданий, где он живал-бывал; многие обременены мраморными досками и чи
...