автордың кітабын онлайн тегін оқу Блокада
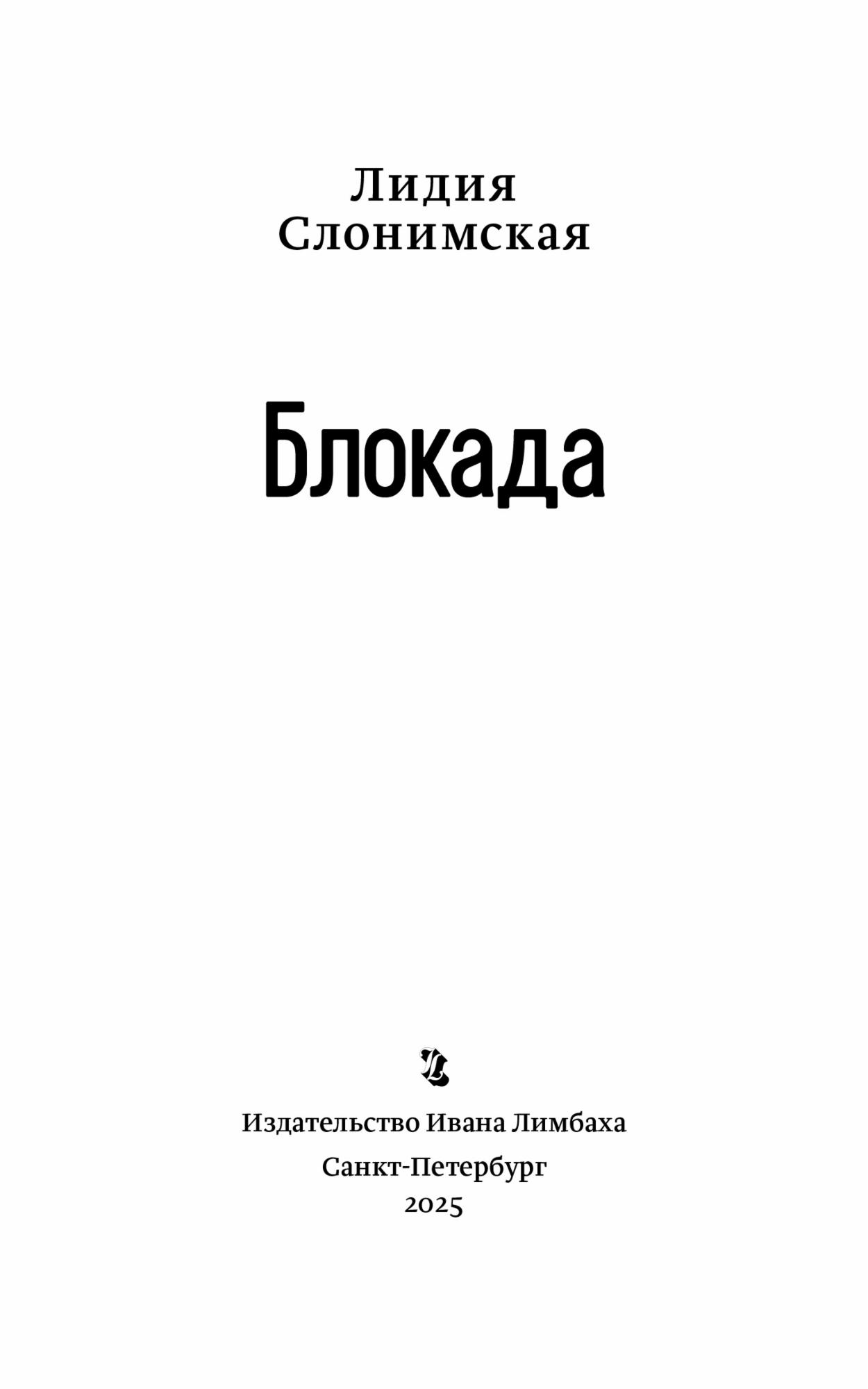
Об авторе
Лидия Леонидовна Слонимская имела право сказать о себе: «Я сильна белой костью, голубой кровью, огненной яростью…»
Л. Л. Слонимская (20 октября [2 ноября] 1900 — 20 мая 1965) — переводчик, писатель. Родилась в Петербурге в семье полковника Генерального штаба Леонида Карловича Куна и его жены Елены Иосифовны Панэ, внучки О. С. Павлищевой, сестры А. С. Пушкина; жена пушкиниста Александра Леонидовича Слонимского (с 1922 года). В двадцатые годы работала в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН); переводила Т. М. Рида, Д. Лондона, Т. Ф. Поуиса, О. де Бальзака, Э. Золя, Ж. Верна, Д. Гарнетта и др.
После эвакуации 14 сентября 1942 года из блокадного Ленинграда в Москву к мужу Л. Л. Слонимская осталась там, пытаясь вылечить больного сына Владимира. После смерти сына в Ленинград не вернулась. По воспоминаниям пушкиниста А. М. Гордина, «на могилу сына Слонимские приходили ежедневно».
12 января 1961 года газета «Московский литератор» (№ 2) поместила заметку «Будьте знакомы» о новых членах Союза писателей, среди которых названа и Л. Л. Слонимская. Но в последние годы жизни Лидия Леонидовна тяжело болела, и в конце концов ее сразил инсульт. На смерть Л. Л. Слонимской отозвалась «Литературная газета» (1965. 25 мая. № 62), выразив соболезнование «друзьям и близким».
Л. Л. Слонимская похоронена в Москве рядом с сыном, мужем и предками по линии Пушкиных на кладбище Донского монастыря у Большого (Нового) собора.
В 1993 году издан труд «Мир Пушкина. Письма Сергея Осиповича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835», подготовленный Л. Л. Слонимской (перевод, предисловие, комментарии), который при жизни издать она не смогла. Письма были спасены ею в блокадном Ленинграде и вывезены в Москву. На книге посвящение: «Памяти сына, Владимира Александровича Слонимского, погибшего 3 июля 1944 года, — последнего в роду Ольги Сергеевны Пушкиной-Павлищевой».
Вероятно, пережив время блокады с сентября 1941 по сентябрь 1942 года, Лидия Леонидовна еще долго прожила бы и не умерла в неполные 65 лет, но ее подкосила смерть единственного сына, с которым их, как она пишет, «всю блокадную зиму 1941/42 года преследовала мечта — украсть буханку хлеба». И добавляет: «Но красть было негде».
Воспоминания Л. Л. Слонимской предельно честные. Они субъективны, как любые мемуары, а иногда и несправедливы — в части описания поведения отдельных людей в блокадном Ленинграде, когда не каждому, по убеждению Лидии Леонидовны, удавалось сохранить человеческое достоинство. Сама она, сильная и страстная натура, была готова пойти на всё — кроме подлости — во имя спасения родных. Автор воспоминаний, говоря о людях, с которыми столкнулась в осажденном городе, часто беспощадна, но она беспощадна и к самой себе и не скрывает, что пережитое, голод («В нашей семье все были тронуты голодным психозом — все в разной мере и каждый по-своему», пишет она), как и страх за близких, наложили непоправимый отпечаток на ее психику. Подобные признания присутствуют на страницах и других блокадных дневников* и воспоминаний.
Откровенная интонация Слонимской, идущая от любви автора к родному Петербургу — Ленинграду, своим корням, семье и дорогим ей людям, позволяет почувствовать время войны, для описания неимоверно трудное, и попытаться, никого не осуждая, из нашего сегодняшнего времени, мысленно поставить себя на место ленинградцев, борющихся за жизнь и своих близких.
«…И муж и я — мы оба убитые люди. Я знаю, что взялась за непосильную задачу. Блокада ждет своего певца — масштабов Достоевского и Блока. Я только описала нашу общую долю бедствий и те картины и встречи, которые попались на моем пути», — заключает Лидия Леонидовна Слонимская.
Поклонимся же низко автору — свидетелю блокады — за этот труд, который она считала себя обязанной нам оставить.
Воспоминания Л. Л. Слонимской печатаются с небольшими сокращениями, сделанными по этическим соображениям, и с сохранением авторской орфографии. Рукопись с комментариями подготовлена к публикации с разрешения хранителя документа М. Г. Бурачковой, родственницы Слонимских. «Блокада» написана в Москве (лето 1945 — начало 1950-х), напечатана автором в нескольких экземплярах (один из них хранится в РГАЛИ: ф. 2281, оп. 1, ед. хр. 374). Точные даты смерти указаны в комментариях по сайту: Возвращённые имена. Книги памяти России: Блокада (Российская национальная библиотека) — https://visz.nlr.ru/blockade
Публикатор выражает благодарность за помощь в подготовке текста писательнице Н. Е. Соколовской, шеф-редактору журнала «Родина» И. А. Коцу, сотруднику РГАЛИ Л. М. Бабаевой.
Татьяна Акулова
* Одна из последних вышедших книг: Записки оставшейся в живых. Блокадные дневники Татьяны Великотной, Веры Берхман, Ирины Зеленской / Сост., предисл., коммент. А. И. Рупасова, А. Н. Чистикова; ред. Н. Е. Соколовская. М.: КоЛибри; СПб.: Азбука-Аттикус, 2023; «Пока я жива, живешь и ты»: Женские дневники блокадного Ленинграда / Сост. А. Ф. Павловский, А. Ю. Павловская; науч. ред. Н. А. Ломагин. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025.
Посвящаю памяти моего сына
Для того, чтобы сказать понятно то, что имеешь сказать, говори искренне, а чтобы говорить искренне, говори так, как мысль приходила тебе.Л. Толстой. Из ранних дневников
Вы не спасетесь ни законом денег,
Ни пулей, ни лжи словами,
Со всех пустырей поднимутся тени
Всех, замученных вами.Н. Тихонов
А вы, мои друзья последнего призыва,
Мне ль вас оплакивать? —
Мне жизнь присуждена…
Над вашей памятью склониться ль мне плакучей ивой
Иль крикнуть на весь мир все ваши имена?
Да что там имена! Захлопываю святцы —
И на колени все!.. Багровый хлынул свет,
Рядами стройными выходят ленинградцы,
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.А. Ахматова [1]
[1] Анна Ахматова. «In memoriam» (1942; воспроизведено Л. Л. Слонимской по памяти).
Блокада
Лето и осень 1941 года
22 июня, в день объявления войны, у нас случайно было выключено радио [2]. Я вышла из дому в первом часу, и меня поразил вид улицы — суета, обилие людей с противогазами, возбужденные лица. В трамвае решилась спросить, в чем дело, на меня посмотрели с изумлением — сказали. Волнение заставило меня выйти из трамвая — я пошла в церковь… Служба давно кончилась, но храм был полон народа. Я торопилась домой сообщить своим. На обратном пути зашла в булочную — уже стояла очередь, все бросились запасаться хлебом. Купила на все деньги сушек и бегом на Петровский [3]. Мои уже всё знали: Саша [4] позвонил Тихонову [5], собираясь к нему зайти, — ему сказала Мария Константиновна [6]. Вовочки [7] я не застала, он побежал к товарищу. Как прошел день, не помню. Было воскресенье, наверно, приехала мама [8], заходили знакомые, соседи. Слушали радио.
В первые дни началась продуктовая паника. Люди боялись карточек, голода и спешили запасаться. В магазинах была толчея, но продуктов еще больше, чем до войны, и когда через несколько дней выяснилось, что они и не убывают, то все успокоились. Я только купила сухарей, сухих фруктов, сахару. Шоколаду, немного грудинки и семь банок крабов для Фомушки [9]. Потом прибавила к этому «неприкосновенному фонду» кулек крупы, несколько коробок овсяного какао и сочла себя обеспеченной.
Когда в середине лета были выданы хлебные карточки, то оказалось, что наша норма так велика, что мы ее не только не съедаем, но даже и не брали целиком. Я насушила немного черных сухарей, раскладывая ломти на балконе, на стеклянной крыше пустого террариума, — но очень мало. Мы не знали, что нас ждет… Немцы еще были очень далеко… [10]
Между тем вся жизнь в городе преобразилась. Начались затемнения, пробные тревоги. В домах были организованы группы самозащиты [11], в которые вошли домашние хозяйки. Взяли и меня в санитарное звено. Хоть я и не была «домохозяйка» и имела право не состоять в группе самозащиты, но я не сочла тактичным отказаться и проработала в этом звене до глубокой осени, совершенно подорвав себе здоровье ночными дежурствами. Все удивлялись, что я, имея право не дежурить, надежурила с июня не одну сотню часов. Вначале, когда в звеньях не хватало народу, приходилось дежурить через день по 10 и 8 часов. Это была пытка. «Начальником группы самозащиты» была отвратительная женщина, полуграмотная и наглая, Ольга Голованова. Она буквально терроризировала женщин и особенное свое внимание обратила на интеллигенток. Меня она ненавидела и старалась как можно чаще назначать на дежурства и в ночные часы. Храбра она была только ругаться и пакостить. Военную же доблесть обнаружила во время одной пробной тревоги, среди бела дня, когда все звенья собрались на дворе, на своих местах.
Был яркий солнечный день, но незаметно за домами подкралась грозовая туча и еще не закрыла солнца, как вдруг раздался оглушительный удар грома. Голованова как была посреди двора, так и плюхнулась наземь со страху. Ее приветствовал дружный хохот всех ее «подчиненных».
Нельзя передать бестолочи и бессмыслицы, царившей в нашей группе. Хозяйничали настоящие «рукосуи» и «головотяпы». Голованову мы звали «Дунька толстопятая», а ее помощницу, польку легкого поведения — «Клементина де Бурбон». Эта Клементина, брюнетка, половину головы выкрасила в рыжий цвет. Бабы звали ее «чалая», «чалка». Она славилась тем, что подкарауливала чужих мужей, когда они шли с получкой. Раз я видела, как на нашем углу ее на месте преступления поймала чья-то жена и стала колотить, а кругом столпились старухи и кричали: «Бей ее, чалку! Бей!» И вот эта полька с женой энкавэдэшника Головановой заправляла всем. Благодаря своему «положению» они быстро свели знакомство с милицией и какими-то военными, и по ночам, в то время, как мы дежурили, к подъезду Клементины подкатывали машины, выгружалось вино и еда, и еженощно происходили оргии. Под утро оттуда иногда выскакивала пьяная Голованова и «проверяла» посты.
Грызня между членами группы самозащиты шла непрерывная. Я забыла фамилию тогдашнего управдома [12]. Он был в одной компании с Дунькой и Клементинкой. Но наконец терпение баб лопнуло. Произошла дворовая революция, возглавляемая Тонькой Вигелиус и Манькой-молочницей, и вся компания была свергнута. На место Головановой был назначен некий Пирожков, на место Клементины — Манька, и появился новый управдом по фамилии Хамухин, седовласый старец, притворявшийся глухим, как только к нему обращались с каким-нибудь требованием или выражали неудовольствие.
Стало чуть потише, и водворился относительный порядок. В жакте был вывешен «Список дежурств». Дежурило пожарное звено, санитарное, «связистое» и «порядковое». У телефона всегда был человек, но большей частью попадались неграмотные женщины.
Одна и них рассказывала, как она разговаривала с милицией. Ее о чем-то спрашивают, она не понимает, тогда милиционер разозлился и крикнул:
— Кто поставил к телефону такую дуру?
А ему в ответ:
— Ты не лайся, сам дурак! — и повесила трубку на рогатулинку.
Начальником санзвена (моим начальником) была очень милая молодая женщина, жена врача, Ольга Михайловна Стец. Мы устроили своими трудами и средствами комнату первой помощи, купили медикаменты. Ругани среди нас не было. Кроме меня в санзвено входили еще две интеллигентные женщины и «помощница начальника» — Ольга Викторовна Пегова, умершая в апреле 1942 года от истощения. Ольга Викторовна страшно боялась налетов и, прислушиваясь к небу (это называлось «следите за воздухом»!), говорила: «Бунчит… бунчит...!» Она слегка пришептывала, и у нее очень мило получалось восторженное восклицание: «Наши соколы! Наши летчики!» Про войну она говорила: «Война — это такое зло социальное!»
Подобные тревоги были беспрестанные. Однажды за день было 14 тревог, и я каждый раз должны была бежать на пост с носилками и выстаивать там до отбоя. Тревоги без налетов, без единого выстрела, неизвестно зачем. Сколько на них ушло сил! Сколько было потеряно времени — совершенно бессмысленно. Для чего это делалось? Зачем было зря трепать и изматывать людей?
Помню свое первое ночное дежурство в Петровском парке [13]. Вначале весь Петровский парк охранялся нашей группой, невооруженными женщинами. Потом там поставила настоящую охрану с винтовками. Меня назначили туда вдвоем с Елиз<аветой> Ив<ановной> Матусовой, из нашего санзвена. Дежурили мы с 8 час<ов> вечера до 6 час<ов> утра. Дали нам свистки, навязали повязки, и мы отправились. Ходить тогда разрешалось, кажется, до 11-ти, и парк был полон гуляющими. В пруду купались. Но вот все опустело, и мы вступили в свои права. За дело мы взялись рьяно. Если шла запоздавшая женщина, мы ее пропускали. Одну женщину с ребенком сами проводили через парк. Но чуть показывался мужчина, мы поднимали неистовый свист, и ему пощады не было. Все до одного были сданы речному патрулю, находившемуся в домике у Ждановки [14]. Раз показалась группа в 5 чел<овек> мужчин. Мы задержали всех, но двое убежали берегом пруда, перепрыгнув через «щели», и мы за ними не погнались, чтобы не упустить остальных, но этих довели до патруля. Один был пьян и стал ругаться и ударил часового. Они были взяты всерьез и куда-то уведены под конвоем.
Дежурства во дворе были без происшествий, но тоже страшно утомляли. Ночь без сна, к утру холод, озноб. На сердце тревожно. Но тогда еще было тихо, даже поэзия была какая-то в этих ночных бдениях. И наше милое, светлое ленинградское небо, с детства знакомое, на которое я бесконечное число раз смотрела, стало вдруг какое-то таинственное, грозное.
Когда я теперь слушаю 7-ю симфонию Шостаковича [15], мне отчего-то прежде всего вспоминается это небо. С вечера в его легкую даль быстро-быстро, один за другим поднимались шары воздушного заграждения [16] и висели неподвижно до утра. На крышах дежурили пожарные. «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало», — говорила моя товарка Головина, — тогда мы еще шутили.
Однажды я с ней дежурила и всю ночь рассказывала ей про японский театр Кабуки и Но. Когда я сказала, что спектакли «Но» продолжаются неделю, она, воскликнув «неделю в театре», так принялась хохотать, что заразила и меня, и мы долго не могли успокоиться. Проходивший мимо ночной патруль остановился: «Вы что, бабы, сдурели?» В этих ночных дежурствах, несмотря на их изнурительность, была для меня еще одна странно-приятная сторона. Пустая, светлая улица, ни души, я одна хожу со своей повязкой, занятая своими мыслями и в то же время делающая какое-то общее дело. То, что я имею право ходить, когда никому нельзя, прибавляло как бы гордое хозяйское чувство к моей любви к родному городу.
В первые же дни войны было велено оклеить окна бумажками. Это совершенная бессмыслица: стекла вылетают вместе с бумажками, но надо было подчиниться и потратить драгоценную муку на клейстер. Боже мой, как люди уродовали свои окна! Прямой линии не могли провести — все вкривь, вкось. Мы с Вовочкой придумали красивый, подходящий к нашим громадным окнам готический рисунок и оклеили окна под цвет обоев каждой комнаты. Получилось так красиво, что мы даже решили оставить так и «после войны». Тогда же был издан приказ сдать радиоприемники, и мы с Сашей потащили свой ЭКЛ [17]. Теперь даже квитанция от него пропала.
В июле и августе в Ленинград нахлынули беженцы. У нас на Петровском стояли возы с домашним скарбом и курами, мычали коровы. Беженцев расселили по квартирам эвакуировавшихся и там, где были излишки площади.
Вовочка всё ждал «войны», «тревоженьки с пальбушечкой». Он ее дождался. В конце июля или в начале августа отправили его со школой на окопы, по Балтийской дороге, за станцию Елизаветино. Немцы уже были рядом. Они их обстреливали с истребителей. Володя видел их машины над головой. Детей почти не кормили. Ночевали <они> в лесу на болоте. Ничего не было организовано. Когда через неделю спохватились везти их обратно, то оказалось, что по Балтийской дороге уже проехать нельзя. Их повезли по ветке на Варшавскую к ст<анции> Толмачево — Преображенская, и он проехал мимо нашей Карташевки [18] и посмотрел на нее из окна последний раз в жизни. Вернулся домой еле живой от усталости и такой голодный, что съел всё, что у меня нашлось в доме. Ожидая его со дня на день, я приберегла для него что могла вкусненького. Тогда с едой уже было трудно.
Второй раз он видел германский самолет вместе с отцом на Большом проспекте <Петроградской стороны>. Самолет несся прямо над домом, стреляя в хвост летевшему впереди. Тревоги не было. Публика высыпала на середину улицы, с любопытством следя за боем. Но они <самолеты> скрылись за домами.
28 июля были Вовочкины именины. Я спекла из остатков муки блинчатый пирог с какой-то начинкой и еще что-то приготовила ему вкусненькое. Это были предпоследние его именины в Ленинграде и последний именинный пирог в его жизни. Приблизительно в это же время — нет, уже в августе — я повезла его в Рентгеновский институт [19] лечить зубы, и там, на углу ул. Рентгена и Каменноостровского, мы в первый раз прочли плакат: «Враг у ворот Ленинграда!»
15 августа были открыты коммерческие магазины. Я ужасалась ценам и почти ничего не покупала. Свиная котлетка стоила 5 рублей, кило пельменей — 20.
На том же Большом <проспекте> у коммерческого магазина встретила я раз Леонида Савельевича Липавского [20] с Тамарой [21]. Он был взят во флот и в тот день уезжал в Петергоф. Мы вошли в сквер на углу, посидели, поговорили. Он дал строгий наказ: в случае, если немцы ворвутся в Ленинград, в первые дни ни в коем случае не находиться в своем жакте. Простились. Он скоро пропал без вести, и нет его и сейчас, а Тамара погибает в Ленинграде.
Съездили мы с Вовочкой в Новодевичий [22], проведать дедушкину могилу. Всё кладбище было разрыто под окопы, торчали углы гробов. Насилу пробрались к своим могилам. Там было тихо и пока цело. Сели на скамеечку за густым кустом, разговариваем. Вдруг куст раздвинулся, и прямо на нас «снайпер» с винтовкой. Я так была взбешена этим явным подслушиванием, что тут же пропела ему в спину на мотив «Чижика»: «Снайпер, снайпер, где ты был? — На могиле кости рыл». Потом мы встретили на дорожке милиционера, и я с негодованием сказала ему: «Какое безобразие рыть на кладбище окопы!» Он смутился и ответил: «Это не милиция, это райсовет».
Между тем жизнь на дворе шла своим чередом. Продолжались дежурства, но стало легче, потому что мобилизовали всех: и служащих, и рабочих, и стариков. Дежурил и Вовочка. В жакте сидела старуха Слитенко, которой очень хотелось отправить его на окопы и от жакта, кроме школы. Но нам удалось его <сына> отстоять. Ночи стали темные. Молодежь выдумала себе развлечение. Они нашли в парке громадный гнилой пень, наломали яркосветящихся гнилушек, прикрепили к голове в виде рогов, каким-то образом засовывали гнилушки в глаза, брали в рот и в виде светящихся дьяволов с криком выскакивали из темноты на прохожих и пугали баб до полусмерти.
Одной такой бабе показали гнилушку, она посмотрела и сказала: «Надо же! Какое достижение!» Эта же бабка, когда немцы были уже под Ленинградом, все твердила: «Наша граница на замке!»
Главным героем гнилушек и блюстителем затемнения был мальчик Аркаша. Он забавлял весь двор своими подвигами. Затемнение соблюдалось строго. Со двора кричали: «У вас просвещает!» и надо было завесить малейшую щель. Аркаша поступал проще: не говоря худого слова, он кидал в окна камушки и песок, после чего свет мгновенно гас. А Аркаша возвращался и докладывал: «Уничтожил огненную точку противника». Он раньше жил где-то в Оренбурге и рассказывал про одного калмыка, который собрал на Женский день баб и сказал им: «Были вы закобыленные, мы вас раскобылили». Для калмыка вполне понятен такой лошадиный угол зрения!
В эти августовские дни голод понемногу давал себя знать. Не голод, а трудности с пищей, но мы не знали, к чему идем, и сохраняли веселость. Я видела два сна, которые тогда же рассказала своим, и мы хохотали до упаду. Один сон, будто я с Тамарой Барыковой гуляю по Москве по «площади Негодования». Он сбылся, этот сон… Сбылся и другой, насмешивший нас тогда: будто в Ленинграде настал такой голод, что начали есть собак и кошек и им было опасно показываться на улицах. Наконец, дошло до того, что принялись есть людей со съедобными фамилиями. Так раз, с дуру, выскочила по тревоге наша соседка Надя Лещева — и ее тут же съели. Вообще стали есть не только самые вещи, но и их названия: если в книге попадалось слово «говядина» — это место выедали.
В городе понемногу воцарилось тревожное настроение. Эвакуировались заводы, учреждения. Повально бежали евреи [23]. Когда уезжали жившие под нами евреи, которых не любил весь двор, то собравшиеся мальчишки провожали их насмешками и улюлюканьем. Еврейка крикнула: «Погодите, вернемся, мы вам покажем!» Эвакуировали детей целыми поездами, в спешке, не соображая куда. Несколько поездов отправили прямо навстречу немцам, немцы их обстреляли, множество детей погибло, часть кое-как вернулась обратно [24].
Немцы приближались с неслыханной быстротой. Мы беспокоились о наших хозяевах на Карташевке, хотели к ним съездить, но без специального пропуска не пускали, и когда 18-го августа я позвонила на службу Ми<хаилу> Ив<анови>чу [25], то оказалось, что он уже несколько дней не приезжал. Карташевка была занята <немцами>, и больше мы их не видели [26]. А 19-го августа немцы первый раз обстреляли Ленинград. [27] Снаряд попал в жилой дом где-то у Николаевского вокзала, на Лиговке. Мои товарки из санзвена ездили смотреть и возвратились в ужасе.
В начале сентября стало очень трудно с пищей. Норм не снижали [28], но рынки были пусты, коммерческие магазины закрылись. Мы решили съездить за город и купить картошки у крестьян. Проехать можно было только в одном направлении — на север. Собрались мы ранним утром и отправились втроем: Володя, я и Елиз<авета> Ив<ановна> Матусова из санзвена. Доехали на трамвае до 3-го Парголова, миновали аэродром и пошли пешком за 9 верст в финскую деревню Ворожки (так в рукописи. — Т. А.) — в сторону Юкков, Северной Швейцарии [29]. Дорога сжатыми полями, через горы — последний раз мы видели приволье и было тепло, солнечно и ни души кругом.
До деревни дошли благополучно, купили картошки, сколько могли унести, и двинулись в обратный путь. И вот, когда мы, усталые, уже приближались к Ленинграду, вдруг загудела тревога, и мы сразу же увидели над головой цепь коричневых машин. И поле вокруг нас, это мирное поле, на котором ничего не было видно, кроме редкого кустарника, вдруг все загрохотало зенитками. Елиз<авета> Ив<ановна> так перепугалась, что бросилась со своей картошкой ничком в какую-то ложбинку и нас заставила лечь, и мы послушались, хотя ничего нельзя было сделать глупее. Немцы вереницей летели к аэродрому. Первый спикировал, точно клюнул, за ним второй, и так все по очереди, затем сделали круг, опять пролетели над нашими головами и еще раз направились к аэродрому. Снова спикировали и полетели прочь. Они летели так низко, что, когда по дороге им попадалась возвышенность, они должны были приподниматься.
Вовочка и Елиз<авета> Ива<новна> видели летчиков. Когда они улетели, над аэродромом поднялся столб огня и дыма. Немцы сбросили массу листовок, напечатанных на старой орфографии. Помню последнюю фразу: «Мир замученной родине!»
На обратном пути мы с Володиком увидели капустное поле со снятыми кочанами, но все покрытое отброшенными грубыми листьями. Решили завтра же приехать обратно. И мы съездили и набили полные мешки, но листьев было очень мало и все очень плохие, а народу полное поле. Однако эта капуста — «хряпа» — очень поддер-жала нас. Я ее тушила в печке и жарила из нее котлеты, и мы питались ею довольно долго.
С едой уже было очень плохо. Суп варился ежедневно один и тот же, из чечевицы, которым кормили и кота, милого Фомушку, но он не мог его есть. На второе немножко ячневой каши, которую я растягивала елико возможно. Прикрепления к определенному магазину не было, надо было искать продукты по всему городу <по карточкам за деньги, у кого они были>. Вместо яиц стали выдавать <по карточкам> так называемый меланж (яичный порошок с мукой), и я за ним бегала из магазина в магазин, выстаивая в диких очередях. Помню, как раз на Большом удалось мне получить <купить> вместо мяса студень, который выдавали в четвертном количестве. Все караулили появление мясного фургона у какого-то переулочка и, когда машина показалась, опрометью бросились к магазину, чтобы занять очередь. Так как я бегала очень быстро, то прибежала одна из первых и получила громадную порцию студня на все наши карточки. Но очень многим не досталось ничего. Этот студень долгое время спасал нас от голода. Я его распускала, разбавляла водой, переваривала, и мы ели его с уксусом. К нему добавлялись макароны, по пяти кусочков на человека.
Тогда же удалось получить сироп на сахарине, из него я варила кисель. Раза два наша соседка, Анна Михайловна Гузеева, которая служила в столовой, доставала нам настоящего сахарного сиропа — с ним мы пили чай. Я постаралась взять себя в руки и от своей порции хлеба ежедневно отрезала сколько могла больше и сушила на черный день. Эти кусочки пригодились потом моему мальчику, когда начались его терзания на Всевобуче [30]: как он ни спорил, мне все же удалось заставить его брать их с собой на дежурства, и они немного его поддержали. К нам еще продолжали ходить гости, и я всегда старалась чем-нибудь угостить. Саша сердился на меня, но эта ничтожная жертва с моей стороны снискала мне потом от людей, которых я очень уважаю, такую горячую любовь и благодарную память, каких я вовсе даже и не стою. Но в то время у большинства уже исказилась психика, и мой поступок казался необыкновенным.
Помню и смешной один эпизод в очереди за яйцами. Какой-то мужчина подал мне свою карточку, ему вырезали яичный талон, он пошел платить, и, когда вернулся с чеком, бабы его не пустили и стали гнать прочь. Он в отчаянии воскликнул: «Как я пойду, когда у меня яйца отрезали!» Тут бабы грохнули хохотом, расступились и дали ему взять его яйца.
Я вела тогда краткие записи под названием «Летопись голода». Приведу их целиком здесь, хотя своим концом они захватывают время значительно позднейшее.
ЛЕТОПИСЬ ГОЛОДА
Карточки выдали в июле. Норма нам — 1800 г хлеба на троих. Продукты исчезают на глазах. Открыты коммерческие магазины, цены: масло — 50 р. кг, пельмени — 20 р. кг, мясо — 25 р. кг, сахар, кажется, 15 р. кг, одна маленькая сви-ная котлетка — 5 р. 60 к. и т. п. С 1 сентября коммерческие магазины закрыты. Норма хлеба нам на август 1200, затем кило, затем по 200 г С ноября, числа с 10-го — по 125 г, мяса на троих на декаду 600 г, жиру — 450, крупы (сначала крупу заменили соевыми бобами, потом черными макаронами, потом маисовой мукой или картофельной) — 500 г, шоколаду 3 плитки, чаю 37,5 г. Делаю лепешки на кофейной гуще по воскресеньям.
Последняя декада ноября: Вова с трудом встает с постели [31]: когда возвращается из школы или «Всезамуча» — сам не может раздеться, мы его раздеваем. На днях решила пойти к одной сытой бабе (Закатовой) — муж ворует на заводе — и попросить у нее протекцию к какому-нибудь рабочему с «Баварии» [32], который согласился бы обменять квасную или пивную гущу (из нее делают лепешки) на вино или табак, или чтоб она сама обменяла — у нее этого добра пропасть. Она ответила: «Нет, нет, ничего нет, теперь каждому до себя». Высунулся муж (жирная скотина) и добавил: «И вам, товарищ Слонимская, даже неприлично говорить об обмене».
Я ответила: «Знаете, товарищ Закатов, по-моему, неприлично четыре миллиона народу морить голодом [33], а что мать ищет пропитания для своего сына — в этом неприличного ничего нет. И поверьте, если б не крайность, я бы не переступила вашего порога».
Слово «неприлично» он произнес так, что за этим слышалось — «а будешь настаивать, так я тебя спроважу куда следует, до НКВД недалеко». Всякий «обмен», всякий «запас» теперь рассматривается как преступление [34]. После этого я пошла к другой, тоже простой женщине, Мане Алешиной (имени ее никогда не забуду!), рассказала ей, что у меня дома, и она, ни слова не говоря (я у нее ничего не просила), вынесла мне свиных костей, кусочек конины и кулек отрубей, я разрыдалась. Сейчас люди едят собак и кошек (и себе подобных, было зарегистрировано два случая). Я надеюсь получить несколько кошачьих тушек. Хлопочу о дуранде. Вове очень плохо; он слабее нас обоих.
27/XI. Плут Пирожков («нач<альник> группы самозащиты» — мой начальник!) — надул с дурандой. Хорошо, что у нас в задаток успел выманить только немного табаку. Буду искать к дуранде другие ходы. За эту декаду не удалось (не хватило на нас пока) получить жиру (450) и мяса (400 г). Вместо крупы 500 г — дали 125 г яичного порошку. Завтра в 6 ч<асов> утра стану в очередь. Очень трудно получить, потому что во время тревог очередь выгоняют из магазина и потом надо опять все сначала. Доели последний суп из свиных костей, данных Маней. На второе ели (так уже несколько раз) по 5 макаронин с поджаренными конскими жилками и с уксусом.
Сегодня хотела прийти Лидия Ефимовна и, может быть, принесла бы кошку из универсальной [35] лаборатории: но тревога длилась с 12 утра до 7 веч<ера>, и она не пришла. Саша ушел под бомбами и артобстрелом читать лекцию [36] и, что хуже всего, рискуя попасть в лапы милиции. Тогда худо: штраф 25 руб. и многое, многое… Но это… «особ<ая> статья». Сейчас ушел и Вова на круглосуточное дежурство до 8 веч<ера> завтра. Ах, как я мечтала, что сегодня зажарю кошку и завтра ему после дежурства будет сюрприз. Сидим без света. Хорошо еще, дрова есть. А большинство мерзнет или покупает на рынке охапочками за бешеные деньги. Сегодня Комаровичу [37] удалось через знакомых купить 400 г хлеба за сто рублей [38]. Сошел с ума на почве голода и бомбежек Голлербах [39]. Отдан на поруки жене. Помешался он на том, что будто бы немцы бомбят из-за него, что поэтому товарищи его чуждаются. И вот, сидя в Союзе писателей на ступеньках, он всех останавливает и уверяет, что он ни при чем.
28/XI. В очереди с 6 утра. Не достала ничего — даже хлеба. Если тревога кончится до 7 утра (началась опять в 12, и всех разогнала милиция) — то попытаюсь еще раз.
Получила горчичного масла.
29/XI. В очереди вдвоем с Вовой. Не получили ничего.
30/XI. Вова с 5 утра до 6 веч<ера> в очереди. Не получил ничего. Ездила в Союз писателей за карточками. Завтра прикрепление.
1–2 дек<абря>. Пытка прикрепления через Союз писателей к лавке на Михайловской <улице>. Походы за обедом с Петровского на Шпалерную в Союз, туда и обратно пешком [40]. Дали вместо сладкого 350 г чудного повидла — торжество.
3 дек<абря>. Насилу получила прикрепление карточек и обед. Сверх обеда да 1600 козьей брынзы. Это вроде мыла, но я счастлива. Попытаюсь переделать и будем есть. В писательском клубе у меня украли книгу, у Вовочки кожаные рукавицы, у Саши кошелек. Крадут всё: талоны от карточек, чемоданы, спички.
9 де<кабря>. Писание было прервано приходом Тамары Барыковой и вслед за этим падением бомбы замедленного действия в 4 метрах от стены нашего дома со стороны Сашиного кабинета.
На этом кончается «Летопись голода» — в декабре мне уже было не до писания.
Возвращаюсь к постепенному рассказу.
Однажды в жакте было собрание. Квартальный [41] Чекунов разбирал и показывал нам устройство нагана. Сидели за полночь. Потом все разошлись, я осталась одна со своими мыслями, мне очень взгрустнулось и захотелось излить доброму другу накопившийся на сердце мрак и тревогу. Телефон [42] в это дежурство звонил редко, и я написала письмо Алеше Бонди [43]. В ответ пришла фототелеграмма:
Лидочка, милая! Прошу Вас и Сашу не сердиться на меня и не забывать меня. Я только что приехал с фронта в Москву. Спасибо Вам за все хорошее, что я от Вас получил. Целую Вас, Сашу и Вову. Алеша.
В начале сентября упала бомба на углу Малой Морской и Кирпичного и вырвала угол четырехэтажного дома. Проезжая мимо в трамвае [44] по Невскому, я первый раз увидела потом приглядевшуюся картину: разрез дома — этаж за этажом, обои, на стенах картины — остаток чьего-то уюта.
Очень тяжелое впечатление произвело падение пачки бомб на углу Зелениной и Геслеровского [45]. Тут было ремесленное училище, оно было разрушено совершенно, и все дети убиты. Убиты прохожие и двое постовых милиционеров, а третью, милиционершу, воздушной волной перенесло через сквер, на другой конец. А в доме № 14 по Зелениной, угловом, где когда-то жила семья моего мужа, вырван весь угол, т. е. вся их бывшая 7-комнатная квартира, от стены до стены. Саша был очень расстроен и счел это за дурное предзнаменование. Он был прав... Сила разрыва была такова, что у нас, на Петровском (по линии минимум километр), приоткрывались двери и дверцы шкафов. Эти бомбы упали, когда еще не отгудела тревога и я сбегала с лестницы на пост. Навстречу мне шла Мария Влад<имировна> Чебышева, и нас набросило друг на друга.
Приблизительно в это же время упала бомба в Зоосад и убила любимую всем городом слониху [46]. Часть животных успели, кажется, раньше вывезти, оставшиеся погибли с голоду, частью были съедены.
Помню первые снаряды у нас на Петровском. Я сидела у окна своей спальни и работала, слышала свист над головой и разрывы, но не двинулась с места. Я была одна. Вдруг вбегает взволнованный Саша и кричит: «Ты с ума сошла, иди в подвал, обстреливают наш угол». Но я, конечно, не пошла. Потом узнали, что в тот трамвай, из которого он только что вышел, попал снаряд. Многих ранило. На углу стояла женщина с ребенком на руках, хотела пробежать к себе домой, ее удерживали, но она отвечала: «Тут два шага» — и побежала. Она действительно пробежала два шага. Ей оторвало голову. На далеком расстоянии нашли на дороге кусочек детского одеяла и клок ее волос. Ей зашили воротник на месте оторванной головы и увезли.
К обстрелам я всегда относилась спокойнее, чем к бомбежкам. Смерть, летящая с неба, страшней. У нас острили: «Это дело вкуса — кто что больше любит». Так вот, я больше любила обстрелы.
Все бабы на дворе были помешаны на ловле шпионов. Доходили в этом до абсурда. Особенно свирепствовали одна чухонка, Тоня Вигелиус. Однажды, не разглядев, остановила своего собственного знакомого. Потом сама с хохотом рассказывала: «Идет высокий мужчина, а за ней…» и т. д. Эта Тоня Вигелиус, коммунистка, рассказывала, как она раз испугалась бомбежки: «Уж я, грешным делом, перекрестилась и говорю: помоги, Господи! И знаешь, она мне помогла!» [47] Однажды во время тревоги с сильной бомбежкой из квартиры Назаровых вышел их знакомый и стал в подъезде (в назаровском же подъезде), где дежурило наше звено и собралось много постороннего народа в ожидании, когда кончится тревога и можно будет идти. Он почему-то несколько раз открыл и закрыл бывший с ним маленький чемоданчик. Этого было достаточно, чтобы его приняли за шпиона. Ко мне подошли взволнованные Пегова и Стец и зашептали, что его надо остановить и пойти за милицией. Я отказалась. К счастью, м<ада>м Назарова догадалась спуститься и вызволила его из беды.
В это время у нас был очень хороший квартальный Чекунов. Он был честный и доброжелательный человек. Работал не покладая рук и всегда был в самых опасных местах своего участка. Иногда он собирал в жакте женщин и читал им газеты, хотя плохо понимал содержание. Напр<имер>: «Создатель леганда о непобедимости фашизма…» Так он произносил и, не смущаясь, читал дальше. Я прощала ему эту безграмотность за серьезное и честное отношение к делу. У нас на Петровском было несколько заводов: «Бавария», Лесопильный, «Красный Парус», «Канат», Завод № 5 НКВД, ЭПРОН, Судоверфь, Нефтяной (бывш<ий> <В.> Ропса), и все они входили в его участок. Немцы очень сильно бомбили и обстреливали наш остров. Во время одного обхода Чекунова разорвало снарядом [48].
У Вовочки был хорошенький электрический фонарик, а у Чекунова фонаря не было (квартального не могли снабдить фонарем!), и он попросил одолжить ему этот фонарик на время. Фонарик погиб вместе с ним.
На заводе № 5 работала жившая под нами девочка, Лиза Сокольская. Однажды, когда она и четыре других дежурили в проходной конторы и грелись у топившейся печки, рядом разорвалась бомба. Трое были убиты. Лизе переломало ребра и повредило позвоночник упавшей на нее, но, к счастью, погасшей печкой. Она несколько недель пролежала привязанной к доске.
Громадной силы бомба упала очень близко от нас, на набережной Ждановки (они метили в Авиационную школу, где был раньше второй корпус, папин корпус). Большой кусок набережной с деревьями сполз в речку. Образовавшийся спуск и за ним подъем навсегда остались мне памятны по моим зимним путешествиям с нагруженными санками из нашей разбомбленной квартиры к маме на Дворцовую площадь.
В этот год в Ленинграде стояла дивная осень, ясная, сухая, без единого дождя, и первый снег, небольшой, выпал только в конце ноября. В лунные ночи город у немцев был как на ладони. Еще ярче, еще четче, чем днем, выделялись здания и ложившиеся от них черные тени. Наша жизнь по вечерам, из-за затемнения, сосредотачивалась в передней. Передняя была большая, на мраморном столе мы ужинали (иногда наша молочница Матрена еще приносила нам молоко), здесь читали, сюда заходила наша соседка Анна Мих<айловна> со свежими новостями. Здесь был чемодан с «неприкосновенным запасом», здесь стояли три аварийных чемодана с самым главным на случай беды.
Обеды мы носили со Шпалерной из Союза писателей. Иногда там заставала бомбежка, приходилось сидеть в раздевальне, превращенной в бомбоубежище, потому что на улицу не выпускали. Какое это было мучение, как я волновалась и рвалась домой! Трамваи ходили очень плохо, и весь путь мы проделывали пешком. Помню эти хождения с Комаровичем, который тогда еще быстро двигался, стуча по тротуару палкой, разговоры с ним, его советы за любые деньги покупать хлеб. В Союзе меня тоже хотели привлечь к дежурствам и шитью. Я бы взяла шитье, если бы распоряжавшаяся всем неожиданно выдвинувшаяся «писательница» Ек<атерина> Макарова [49] не обратилась ко мне в дерзко-нахальном тоне. Я так же резко отказала. Тогда она побежала с доносом на меня к председателю групкома Дм<итрию> Цензору [50], но он попросту прогнал ее прочь. Теперь эта Макарова арестована за свои «подвиги» во время блокады.
Самые страшные месяцы по количеству и силе налетов были сентябрь, октябрь и ноябрь. В конце сентября горели американские горы Народного дома [51]. Около них стояли замаскированные цистерны с горючим. Боже мой, что это был за пожар! Огонь был так ярок, что казалось, что горит сразу за нашим парком, и вместе с тем, если смотреть с Петровского, то казалось, что пылает в направлении Дворцовой площади. Пока не выяснилось, что горят американские горки, я думала, что горит где-то около мамы <у Дворцовой>, и умирала от беспокойства.
Еще страшнее было, когда горели продовольственные склады Бадаева. Это было в ночь с 8 на 9 сентября, и этим пожаром решилась участь миллионов людей: сгорело все продовольствие, и Ленинград был обречен на голодную смерть [52]. Склады Бадаева в километрах 10 от Петровского острова, но у нас можно было читать при свете зарева — пылало все небо. Я умоляла Вовочку идти домой, но его нельзя было оторвать от верхнего окна на лестнице. Как сейчас помню его черный силуэт на фоне красного неба. Он с Колей Литвиновым во время бомбежки выходил на крышу следить за зажигательными бомбами. Наши дома были деревянные и сгорели бы в пять минут. Зажигалки так и сыпались, так и вспыхивали кругом. Загорелся ослепительно-белый свет, как от вспышки магния, потом начинал мигать, потом постепенно гас и сменялся красным светом зарева. Но не боялась я этих зажигалок, а боялась, что мой мальчик на чердаке, на крыше. Но другого выхода не было. Опасность была серьезная, а других, годных к этому делу мужчин, кроме Коли и моего мальчика, во всем доме не было.
Ночные бомбежки были очень страшны. Я продолжала дежурить с санзвеном и все тревоги проводила на пункте, в угловом подъезде. Кругом не было ни одного бомбоубежища, и из ближних домов по Петровскому все сбегались в этот подъезд. До второго этажа лестница была забита женщинами, стариками и детьми. Плач, причитания, молитвы, покрывавшиеся воем бомб, взрывами, грохотом зениток, которыми был заставлен весь берег Петровского острова по Неве.
В начале войны их везли туда, и они вереницей сворачивали с нашего проспекта в переулочек — длинные, неуклюжие. Я тогда даже не понимала, что это такое, и всё казалось, что это не всерьез.
Вовочкина школа закрылась в ноябре, и им целиком завладел Всевобуч — «Всезамуч», как его все называли. Он помещался на Геслеровском, недалеко от «Печатного Двора». И вот однажды, когда мальчик был там на дежурстве, началась страшная бомбежка. «Печатный Двор» разбомбили, и вспыхнул грандиозный пожар. Когда я выбежала во двор и увидела пылающее зарево в той стороне, где, я знаю, находился мой сын, я обезумела от тревоги и отчаяния. Бежать туда было нельзя, потому что по улицам не пускали и мы все равно могли разминуться, и еще потому, что нельзя было разлучаться с отцом. Двое должны были быть вместе и ждать одного — его дежурство кончалось и у него был пропуск. В это время бабы с Тонькой Вигелиус затеяли ловлю «шпиона», и к пожару, вою бомб и грохоту зениток прибавились крики, какая-то погоня при свете зарева, какая-то стрельба. Это был сущий ад. Но прошло время, и кончился этот ужас, как кончались и многие другие, — и показалась его родная фигурка! Личико серьезное, усталое, голодное, но цел, цел! Действительно, он подвергался смертельной опасности. Рядом пылал «Печатный Двор», а двор их Всевобуча был весь закидан зажигалками. В растерянности, выбегая из здания, они, вместо того чтобы толкать дверь от себя, стали тянуть ее на себя, пока кто-то не опомнился и не вышиб ее кулаком. Потушили зажигалки и бросились по домам. Пока он с двумя товарищами бежал по Геслеровскому, то и дело свистели и где-то рядом разрывались бомбы. Мальчики ложились наземь, ждали, когда утихнет, и бежали дальше. Вот что он перенес тогда, но спокойно, без нервов.
30 октября 1941 года посетило нас первое горе, первая жертва нашей семьи: умер кот Фомушка, отлетел добрый гений нашего дома. Он умер в четверг, в 8 ч. 20 мин. вечера, прожив у нас 12 лет и 5 месяцев. Выписываю целиком свою тогдашнюю запись:
Последние два месяца своей жизни голодал… Умер от внезапного паралича, очевидно, нервная система не получала питания. Страшно исхудал. Правый глазок стал плохо видеть. Утром в тот день я была с ним на кухне и говорю ему: «Пойдем домой, Фомушка!» Он направился к двери, но, не видя с правой стороны, больно ударился виском о косяк». (Я как сейчас слышу этот стук!) В этот день он ничего не ел. В 5 часов начались судороги, и он упал с Вовочкиной кровати — при Вовочке. Саша вернулся в 6 часов — мальчик встретил его, сдерживая рыдания: «Фомушка умирает!» На Сашин голос он поднял голову. Я пришла через четверть часа. Он несколько раз пытался поднять головку на мои ласки и плач — и не мог. На задние лапы и к животику поставили грелку — он уже ничего не чувствовал. Несколько раз громко, как человек, простонал, сердечко еще билось, потом закинул голову, вытянул лапки — и все было кончено. Принесенные ему из столовой макароны с сыром съела приблудная кошка Синька и ее котенок Тилибабликан. Фомушку уложила в картонку на блузку свою и вышитое полотенце — всё своего шитья. Обложила зеленью от домашних цветов — у головки цветок примулы. Сейчас он лежит на моей кровати около подушки, где любил. Глазок ясный, как живой, открыт и выражение такое, как бывало, когда кот доволен и сейчас полижет мне лоб. Могилка сухая, хорошо вырыта в подвале под окном. Рыл ее мальчик, я не сумела… Хоронить буду в воскресенье, — не могу расстаться с ним, пусть еще поприсутствует при нашей жизни.
Приписка: «Похороню в среду, через неделю. Не было сил расстаться с ним. Он лежал, как живой, целовала его всего, мягкую щечку, лобик, лапки… Спи, мой зверечек кроткий, моя ненаглядка, моя радость, прекрасный золотой дружок».
Чтобы понять эту запись, надо знать, какое место этот котик занимал в нашей жизни. Я все о нем записала в воспоминаниях о своем сыне — этот котик был его ближайший дружок, коток-братик.
После смерти Фомушки умерли все кошки в нашем доме — одна за другой. Ушел он вовремя, наш дружочек. Его смерть была первым постигшим нас ударом. Тридцать три дня спустя грохнула наша бомба и пустила нашу жизнь под откос. Бесприютность. Разорение. Голод. Блокада. Мамина смерть и здесь, в Москве, конец все
