автордың кітабын онлайн тегін оқу Невьянская башня
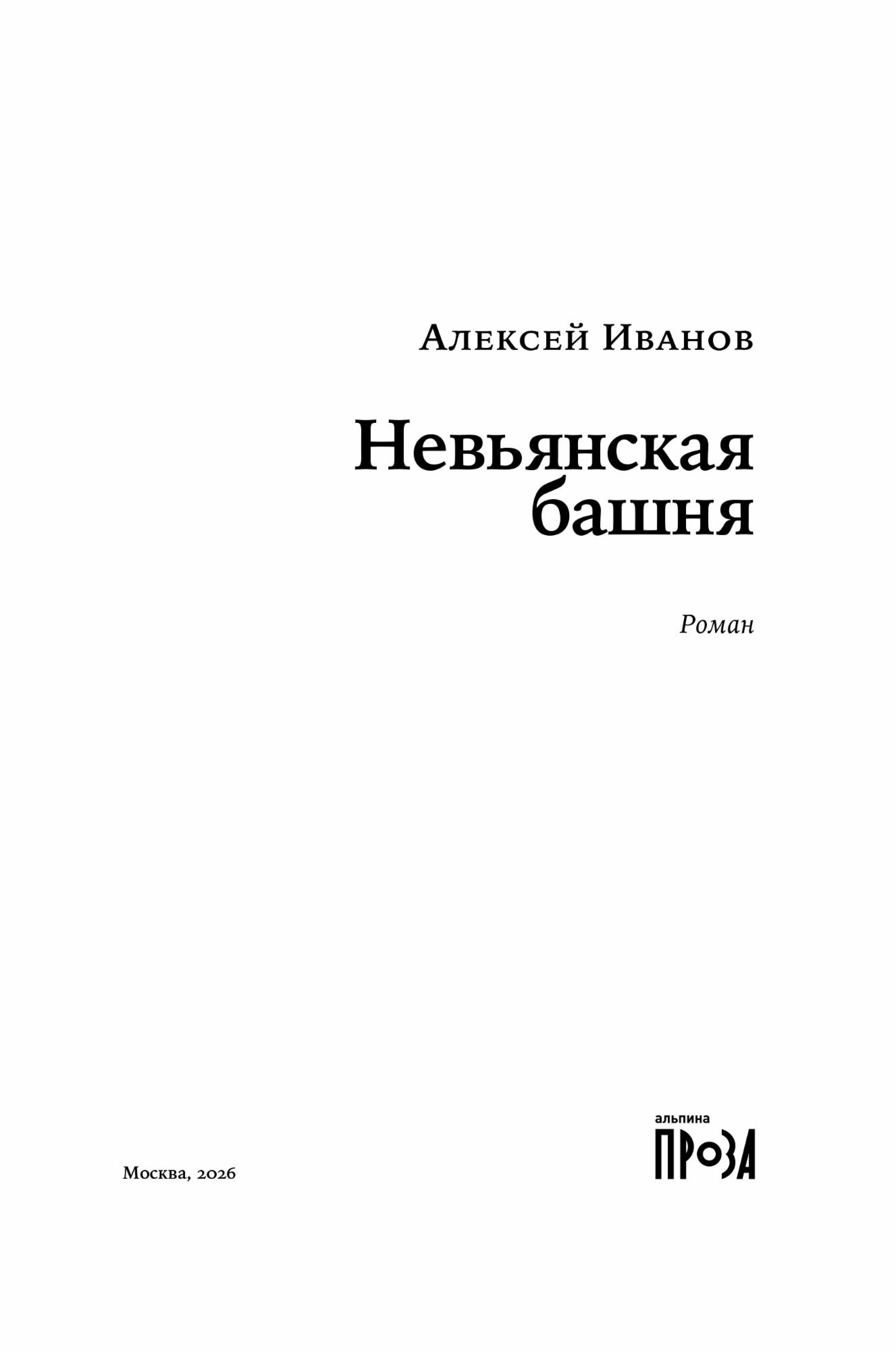
Пролог
— Нашу башню называют падающей, и это неправильно, — сказала Елена Сергеевна. — Посмотрите сами, ребята: какая она? Отсюда хорошо видно.
Шестиклассники — два десятка мальчишек и девчонок — дружно затихли, пристально вглядываясь в башню. По долгому опыту работы экскурсоводом Елена Сергеевна знала: получив такое задание, группа всегда затихала — хоть детская, хоть взрослая. С площадки у памятника Никите Демидову и Петру Первому открывалась «классическая» панорама башни и собора.
— Башня кривая! — наконец догадался серьёзный мальчик в очках.
— Ну, не кривая, а изогнутая, — улыбнулась Елена Сергеевна.
— Сам ты кривой, Данилов! — заявила рыжая девочка.
— Отцепись, Набатова! — спокойно ответил мальчик в очках.
Сочно зеленела трава подстриженных газонов, сияли купола собора, блистал мелкой рябью широкий пруд. В синеве неба носились и верещали стрижи. В яркий июльский полдень башня слепила идеальной белизной штукатурки. Но усилием воображения её можно было как бы извлечь из туристического глянца, и посреди современности башня внезапно обретала себя — обретала сказочную и узорочную мощь гулкой демидовской старины, когда прекрасное было нерасторжимо с беспощадным.
— Вот представьте, ребята, — предложила Елена Сергеевна, — сначала у башни построили нижнюю часть, простую, прямоугольную, и она сразу начала потихоньку заваливаться. Кто знает, почему такое возможно?
— Земля тонкая, — сказал Данилов, мальчик в очках. — Под ней речка.
— Правильно!.. Тогда строители укрепили фундамент сваями, и верхнюю часть башни возвели уже так, чтобы она вернулась к вертикальной линии. Башня получилась одновременно и наклонной, и выгнутой. Зато никуда не падает. Вот те верхние этажи — которые фигурные, с арками, — они на один бок осажены, словно башня суставчатая. А шпиль — смотрите — уже прямой!
На острие шпиля сверкали флюгер и шипастая звезда громоотвода.
— Похоже на бамбук, — авторитетно заметила рыжая девчонка.
Елена Сергеевна ладонью заслонила глаза от солнца.
— Вдумайтесь, ребята: башне триста лет! Три века люди восхищаются ею, но не могут разгадать всех её загадок! А вдруг вы их разгадаете, а?
Школьники приехали из Екатеринбурга, из летнего городского лагеря. Автобусы с туристами шли в Невьянск один за другим; следовало соблюдать график движения, чтобы экскурсии не сталкивались. К памятнику Петру и Демидову издалека уже приближалась новая группа.
— Пойдёмте, — позвала школьников Елена Сергеевна.
Школьники послушно потянулись за ней по дорожке.
— С нашей башней связано много таинственных историй, — на ходу рассказывала Елена Сергеевна. — Будто бы зодчего сбросили с вершины вниз, чтобы он никому больше такой же башни не построил. Будто бы в стены Демидовы заживо замуровывали бунтовщиков. Будто бы в подвале сидели пленные мастера и чеканили фальшивые серебряные деньги, а когда явилась проверка, Демидовы затопили подвал вместе с людьми водой из пруда…
— Круто! — изумились школьники.
— А вампиры в башне были? — спросил Данилов.
— Сам ты вампир! — тотчас ответила ему рыжая Набатова.
— Может, и были, — не стала спорить Елена Сергеевна.
Дети должны запомнить, что башня — волшебная. Со всем остальным они разберутся потом, когда повзрослеют.
И экскурсия продолжалась в привычном порядке. Сначала — на нижний этаж башни: он был оформлен под каземат, в котором свирепый Акинфий Демидов держал пленника на цепи. Потом — на крыльцо с гульбищем. Потом — в палаты второго этажа с экспозицией. Затем самая волнующая часть башни: внутристенная лестница, узкая и зловещая, и камора с пробирным горном. После каморы — опять на гульбище и по винтовой чугунной лесенке — на кровлю палат, в тёмное пространство со скрещением чугунных стропил над головой. Снова по винтовой лесенке, и дверь в столп. Дальше — три этажа столпа с деревянными перекрытиями. Верхний этаж — Слуховая комната.
— А здесь, ребята, существует удивительный акустический эффект. — Елена Сергеевна вновь собрала школьников вокруг себя. — Если в одном углу тихо-тихо прошептать, то в противоположном углу можно услышать шёпот, а тот, кто будет стоять посерёдке, не услышит вообще ничего. Звук словно бы течёт по углу стен и свода и огибает центр помещения. Проверьте сами.
Эта забава всегда увлекала экскурсантов. Елена Сергеевна терпеливо ждала, когда школьники наиграются в переговоры через комнату. Последним в угол ткнулся ухом серьёзный Данилов. Рыжая Набатова прошептала ему:
— Данилов — дурак!
Данилов повернулся лицом в угол и ответил:
— Набатова — дура!
— Ну всё, хватит, — сказала Елена Сергеевна и задвинула в угол заранее приготовленный стул: так экскурсоводы преграждали доступ к развлечению. — А теперь поднимайтесь на следующий этаж. Там будет часовая камора. Вас встретит наш музейный специалист Владимир Михалыч, он покажет уникальные часы-куранты, они ровесники башни. И не толкайтесь, ребята.
Сама Елена Сергеевна не стала подниматься дальше. Возраст уже не тот — бегать по всем лестницам. Надо отдохнуть. Михалыч и один справится.
Без гостей Слуховая комната словно раздвинула стены. Детские голоса звенели уже где-то высоко, за проёмом в своде. От окошка по дощатому настилу тянулась широкая солнечная полоса. Елена Сергеевна подошла к чугунному подоконнику. Ей нравилось рассматривать Невьянск сверху.
Гладь пруда, зелень деревьев, крыши, улицы, машины, синие леса на горизонте… Мирная провинциальная пастораль. Но ухоженной и нарядной была только мемориальная зона — парк, собор, башня, музей, памятник и набережная. А сам старинный Невьянск был обычным райцентром: асфальт с дырами, скромные пятиэтажки, облупленные особняки, небогатые магазины, деревянные дома с подворьями, кусты, штакетник, гаражи… Захолустье.
У Невьянска всё осталось в прошлом. Промышленная мощь, сиятельные хозяева, дымы над трубами, толпы мастеровых, прославленные иконописцы, искусные ремесленники, самоцветы, золотые лихорадки, вера в прогресс… Даже знаменитый завод, в общем-то, умер: его обнесли глухим забором, как заброшенное кладбище. И неизвестно, откуда взять силы для будущего.
Елена Сергеевна отошла от окна и устало опустилась на стул в углу Слуховой комнаты. Она знала, что сейчас произойдёт. Экскурсии на башню она водила уже много лет, но никогда и никому не рассказывала о Голосе. Это была её личная тайна, вернее её — и Невьянской башни.
И звук приплыл по каменной грани, как невидимый ручей, и в тишине палаты зашевелился повелительный и гневный шёпот:
— Выпусти меня!
Глава первая
Под собственной звездой
Там, на Руси, ему было тесно, ему было душно. В Питербурхе — грязь на мостовых, коллегии, гулкие канцелярии, обсыпанные пудрой букли пышных париков, генералы и тайные советники с восковыми старческими лицами, не знающими ни солнца, ни ветра, и перстни на трясущихся пальцах, и позолота шитья на камзолах, и ордена ни за что, и вкрадчивые голоса секретарей, и вязкое ожидание бумаг. А в Москве — осетрина и водка, торговые ряды, повытья, колокольные перезвоны, тараканы, крики лоточников, необоримый послеобеденный сон, тугие купеческие животы… Пешком нельзя — только в карете. Без копеечки и дверь не отворят. Ничего напрямую: всё на ушко, всё с подмазочкой, всё через кума или свояка, и везде — враньё, пустые обещания и секреты… Что делают все эти люди? Да ни шиша не делают. Только гребут под себя взятки, звания, вотчины. Жрут чужое, пьют чужое, спят на чужом.
А здесь его душа разворачивалась вместе с пространством, и не было ни преград, ни пределов. Санная дорога плавно взбиралась на пологий склон Дарьинского увала, и с высоты он видел над искристо заснеженными лесами вытянутые волны Весёлых гор — гряда за грядой, гряда за грядой. Где-то сзади беззвучно лучилось мёрзлое солнце декабря; святой иконной лазурью сияло необъятное небо. Далёкие таёжные хребты словно застыли в стекле неподвижным накатом, но глаза не могли уловить их переменчивости. Какие они, те хребты, на цвет? Просто белые? Или голубые, как чистый лёд? Или дымчатые, будто бы тускло-прозрачный камень-скварец? Или золотистые в столь яркий полдень? Или по-девичьи розовые на холоде? Что ж, он и про землю-то эту ещё до сих пор не понял: злая она и нелюдимая — или просто любовь её такая потаённая?
Обоз стремительно катил по дороге, словно уносился от погони, а он лежал в удобной кошёвке, в куче мягких шуб, и сверху ещё наволок на себя медвежью полость — но открыл лицо. Звонкий мороз то ли холодил скулы, то ли обжигал. Свистели полозья санок, обитые блестящим шинным железом. С обеих сторон дорогу сжимали рыхло вылепленные синие стены ельников, порой над колеями нависали отягощённые снегом мохнатые лапы.
Артамон, командир его «подручников», ловко сидел боком на облучке и потряхивал вожжами. «Подручники» ехали верхами в тулупах: пятеро — впереди, подальше, чтобы комья снега из-под копыт не летели на хозяина, и шестеро — сразу за хозяйской кошёвкой. Лошади шли бодрой рысцой; всадники мерно поднимались на стременах, точно боевые молоты кричных фабрик. На заводах «подручников» называли опричниками. Да и ладно. Эти откормленные мордатые молодцы были при хозяине всегда неотлучно: сразу и работники, и охранники, они могли и на вёсла сесть, и шурф продолбить, и кашу сварить, и саблей рубануть.
Артамон со своей гвардией встретил хозяина на Егошихинском заводе; отсюда начинался новый тракт до Екатеринбурха, обустроенный генералом де Геннином. По тракту они поехали через Кунгур на Суксунский завод, потом на Иргинский и там подобрали приказчика Родиона Набатова. Вдоль дороги капитан Татищев сейчас возводил оборонительную линию из пяти ретраншементов — защиту реки Чусовой от бунтующих башкирцев. У Кленовского ретраншемента свернули на чусовские заводы — на Уткинский и Старую Шайтанку. Здесь к обозу присоединился шайтанский приказчик Иван Осенев. Под Шайтан-скалой с чёрным провалом древней пещеры по тонкому льду пересекли Чусовую и устремились к невьянским заводам.
Накатанный санный путь оказался пустым, лишь изредка вдали на нём мелькали перепуганные белые зайцы. За передовыми всадниками курилась, мерцая на солнце, снежная пыль. Мчались взапой, без задержек, однако на северном склоне Дарьинского увала обоз внезапно остановился. До кошёвки донеслись голоса — явная ругань. Кто-то незнакомый звонко закричал:
— Что ты мне плетью-то грозишь? У меня тоже топор есть!
Человек в кошёвке с досадой заворочался в шубах.
— Артамон, руку подай! — сердито приказал он.
Артамон сдёрнул рукавицу и, повернувшись, подал руку. Хозяин схватился и с трудом выбрался из мехового гнезда.
Был он рослым, а песцовая шуба его была ещё больше. Волоча полы по снегу, человек из кошёвки уверенно зашагал к всадникам. Кто там посмел помешать движению? Сбить дурака ударом в ухо, чтобы знал своё место!..
Обычное дело: не поделили путь. На узкой санной колее, покорно опустив голову, стояла гнедая лошадка, запряжённая в дровни, на которых лежали укрытые рогожей четыре сплотки железных полос: возчик вёз готовое железо на пристань Старой Шайтанки. Возчиком был мальчонка лет двенадцати — подлеток, как говорили на заводах. Рваный шабур с мочалом вместо кушака, кудлатая шапка-треух и стоптанные поршни на ногах. Мальчонка, раскрасневшись, размахивал топором. Он не желал уступать дорогу опричникам и барскому обозу.
— Я тебя надвое распластаю! — ярился он перед дюжим парнем — на коне и с плетью. — Куды мне в канаву сворачивать? Я как потом сани оттудова достану? Тут пятьдесят пудов! Сами в канаву полезайте! Вас много, я один!
Заводские дороги содержались всегда в порядке: были окопаны по обочинам, имели вымостку на зыбких местах, а в низинах — подсыпку.
— Ты хозяину путь закупорил, дурак, — с высоты седла нехотя пояснил «подручник» с плетью.
— Какой ты мне хозяин?! — не сообразив, дерзко ответил мальчишка.
Человек в шубе не спеша прошёл мимо «подручника», похлопав того по колену, и словно бы навис над мальчишкой. Большой пятернёй он сгрёб большую песцовую шапку со своей головы и показал лицо.
— Я хозяин! — произнёс он.
Мальчишка оторопел. Перед ним был сам Акинфий Демидов.
Мальчишка молчал и заворожённо смотрел на Демидова снизу вверх. Акинфий Никитич был красивым мужиком: морда надменная и породистая, как у взаправдашнего царя, а не бывшего молотобойца; носяра — как дубинка у лесного лиходея, толстые морщины, сладострастные губы, суровые бровищи вразлёт, страшенные чёрные очи.
— Узнал? — подождав, спросил Акинфий Никитич.
— Дак это ты, что ли?.. — ошалело пробормотал мальчишка. — Здоровый ты, как башня твоя… В бороде-то будто дьякон…
Бородой Акинфий Никитич оброс, пока сидел в Туле под арестом.
— Может, пропустишь меня домой, а, парнишище строгий?
Мальчишка шмыгнул носом. Видно было, что он испугался.
— Я при деле — значит, я главнее! — отчаянно ответил он. — Такой закон у нас! Ты и лезь в сугроб!
Акинфий Никитич был владельцем двадцати горных заводов и сотни рудников, а мальчишка был никем. Гневно засопев, Акинфий Никитич без слов обогнул его, подошёл к дровням и задрал рогожу на грузе.
Заиндевелые железные полосы были сложены бережно, сплотки обмотаны железными лентами — верёвки-то перережутся, а ленты потом на скобяную ломь продать можно. И откованы полосы хорошо: без трещин на концах. И обрезаны ровно, как немцы любят. И клейма — соболёк с задранным хвостом — выбиты глубоко и чётко, и на полосах, и на лентах.
Мальчишка строптиво глядел на хозяина.
— Ладно, твоя взяла, — вздохнув, согласился Демидов. — Степаныч, — окликнул он приказчика Осенева, — сколько у тебя возчик получает?
— Копейку за сплотку.
Акинфий Никитич полез за пазуху в кошель и вытащил серебряную полтину. На монете Анна Иоанновна была изображена с какими-то взбитыми кудрями, потому такие полтины называли «ведьмами». Акинфий Никитич протянул «ведьму» мальчишке. Мальчишка встопорщился и буркнул:
— Я работой кормлюсь. Подаянья не надо, благодарствую.
— То не подаянье, дурень, — сказал с седла «подручник» с плетью, — а награда от хозяина. Уважать должен.
Мальчишка взял монету, сунул в рот и запихнул языком за щеку.
Акинфий Никитич оглянулся на свой обоз.
— Что ж, давайте на обочину, братцы, — распорядился он. — Видите, важному человеку по делу проехать надо, а мы тут выперлись.
Опричники, посмеиваясь, направили лошадей в канаву, туда же нырнула и пустая кошёвка. Мальчишка подцепил свою клячу под уздцы и повёл по дороге — мимо опричников, мимо приказчиков, мимо всемогущего хозяина.
* * * * *
От Старо-Шайтанского завода до Невьянского — столицы своего царства — Акинфий Никитич рассчитывал долететь за день, а возчики железа тратили на эту дорогу два дня, и посередине пути на кособокой поляне в лесу у них для ночлега имелась большая и приземистая изба, неровно крытая еловой корой. Здесь обоз Акинфия Никитича остановился на недолгий привал.
Акинфий Никитич заглянул в избу — и выпятился обратно. К бесу эту берлогу… Земляной пол с растоптанным навозом — лошади ночевали тут вместе с возчиками. Голые закопчённые стропила: избу отапливали по-чёрному двумя глинобитными печами. Поленница. Щели вместо окошек. Топчаны с бурой соломой… Зато на дворе у летней коновязи был сооружён дощатый стол с лавками из плах. Возле стола и расположились.
«Подручники» сноровисто разгребли снег, убрали сугробы с лавок и со столешницы, и приказчик Родион Набатов водрузил перед Акинфием Никитичем странную объёмистую штуковину: медный бочонок на ножках — с затворчиком понизу, с крышкой наверху и с дымящей трубой.
— Смотри, — улыбаясь, предложил Набатов.
Он подставил под затворчик оловянную кружку, повернул кованый рычажок, и полился горячий сбитень, окутанный белым паром.
— Ни печка, ни костёр не нужны, — пояснил Набатов. — Насовал ему в нутро лучины, щепок и шишек, поджёг — и пей горячее. На Иргине у себя такие штуки паяю. Назвал — самовар. На базаре народ прилавки валит.
Акинфия Никитича искренне восхитила придумка. Всё просто и ловко! Да уж, разум у Набатова был божьим, а руки — золотыми. Только Набатова Акинфий Никитич признавал умнее и даровитее себя самого.
«Подручники», уважительно гомоня, полезли к самовару с кружками. Это было здорово — испить на стуже горячего сбитня.
— Своей хитростью дошёл? — спросил Акинфий Никитич.
— Нет, врать не хочу, — улыбнулся Набатов. — Летом наши-то иргинские «вольницей» гуляли и где-то в аулах на Уфе отняли у башкирцев диковину вроде казана с огневой каморой. А я только на русский лад переделал.
Летом на башкирских землях опять заполыхал бунт: башкирцы дрались с войском Оренбургской экспедиции, которое через улусы двигалось на Яик, чтобы построить торговую крепость. Обычно случалось, что в подобных смутах доставалось и заводам. Татищев, новый начальник заводов, разрешил крепостным работникам сколачивать воинские отряды — «вольницы» — и разорять башкирцев набегами, отвращая неистовых кочевников от желания напасть. С Иргинского завода купца Петра Осокина чуть ли не все мужики записались в «вольницу» и ухлестали за добычей.
— Башкирцы же медным делом не промышляют, — удивился Акинфий.
— А казан не ихний был. Китайский. Башкирцы его, небось, у казахов отняли, те — у зенгуров, зенгуры — у богдойцев. Долгий путь посудине выпал.
Акинфий Никитич пил сбитень, глядел на безмолвный снежный лес и думал, что заводы, затерянные среди этих дремучих гор, всегда живут какой-то странно обширной жизнью, будто морские корабли, хотя, конечно, не трогаются с места. Тут и пушки для сражений на далёких войнах, и мастера-иноземцы, и невидимые схватки дворцовых фаворитов, что лезут управлять империей как своей каретой, и беглые людишки со всех концов державы, и споры об истинной вере, и даже вот неведомый Китай как-то присоседился…
— Татищев не позволит тебе самовары паять, — заметил приказчик Осенев. — Офицеры знакомые брехали, что Татищев всю медь будет забирать на монетный двор в Екатеринбурх. Вместо самоваров пятаки будет чеканить.
— Обидно, что тут скажешь, — вздохнул Набатов.
Акинфий Никитич поглядел на него испытующе и спокойно сказал:
— А ты ко мне переходи, Родивон. У меня твоего дела никто не сократит.
Набатов был родом из-под Балахны, из вотчин Троице-Сергиевского монастыря, из одного уезда с купцами братьями Осокиными, только братья выкупились из крепости торговлей, а Набатов сбежал. Сначала он уговорил Петьку и Гаврилу Осокиных дать ему деньги на строительство Иргинского завода, потом сам же и построил этот завод, а потом утёк от монахов на Иргину и утащил всю свою семью — отца и мать, двух братьев и жену с тремя детишками. Да и не только их. У Осокиных сестра была игуменьей тайной раскольничьей обители на Керженце; когда там запылала злая «выгонка», Набатов выволок из пожарищ-самоубийств полсотни единоверцев и поселил их всех на своём заводе. Землепашцы стали работными людьми.
Акинфию Никитичу перевалило за пятьдесят шесть, а Родиону отбило тридцать пять, но Акинфию Никитичу порой чудилось, что Родион — ровня ему, а то и превосходит годами. Не из-за какой-то его узловатой старческой мудрости, наоборот — из-за простоты и ясности. Родион говорил и делал всё так ладно, что поневоле хотелось думать точно так же и работать, как он скажет. Люди шли за Родионом сами, без принуждения, будто за радостью душевной. Акинфий Никитич очень хотел переманить Родиона к себе. Он собирал таких редких людей — вроде неугасимых камней-самоцветов.
Солнце слепило до рези в глазах: похоже, холод перековал его жар на чистый свет, словно крицу на чистое железо. Истоптанная белая поляна перед избой рябила синевой заснеженных рытвин. Лошади с торбами на мордах негромко хрустели овсом. «Подручники» постарше убрались в избу играть в зернь; те, что помоложе, боролись друг с другом — лишь бы не замёрзнуть. Артамон тоже присел за стол и закурил трубку с длинным мундштуком — пристрастился, пока служил в солдатах.
— Мне приказчик нужен по медному делу, — сказал Акинфий Никитич Набатову. — И в горновые фабрики, и в посудные мастерские. Пахомий не тянет. А лучше тебя, Родивон Фёдорыч, знатока нету.
Набатов ни у кого не учился искать руду и плавить медь — в Балахне медного промысла не имелось, однако суть Набатов ухватывал с единого взгляда. Акинфий Никитич никогда не встречал такого природного чутья на разные заводские ловкости. Набатову словно бы сама земля говорила, что и как с ней надо делать. На Иргине Родион нашёл какую-то глину и даже без обжига набивал из неё огнестойкие кирпичи для медеплавильных горнов, и не требовался ему особый горновой камень из горы Точильной, за который все заводчики перегрызлись с казённым начальством. Но мало того. Набатов умудрился наладить дешёвую выплавку чёрной меди. Обычно медную руду сначала плавили на роштейн, потом — на гаркупфер, чёрную медь, а потом на красную медь — товарную. Набатов же каким-то образом гнал гаркупфер прямо из руды. Это убавляло в меди третью долю её немалой цены.
— На Иргине я сам себе командир, а в Невьянске попаду под Степана Егорова, не в обиду ему говорю, — виновато возразил Набатов.
— Лучше про отца поясни и про веру нашу, — посоветовал Осенев.
При Старо-Шайтанском заводе Осенев содержал тайный скит: здесь беглых раскольников прятала Выгорецкая обитель.
— А что твой отец и вера ваша? — полюбопытствовал Акинфий.
Набатов смущённо улыбнулся:
— Я задумал новый скит основать. Выговские вожаки своё одобренье прислали, а на почин мне деньги Петя Осокин даст, — Набатов имел в виду хозяина Иргинского завода. — Батюшка мой желает на постриг обречься, вот и пристанище ему будет неподалёку от меня и внуков.
Акинфий Демидов знал Фёдора Набатова — отца Родиона.
— Фёдор Иваныч на речку Висим уже подался, — добавил Осенев. — Там на Весёлых горах малосхимник Ипатий прячется, он ещё может в иночество по нашему чину посвящать. Фёдор Иваныч на поиски ушёл.
— Он же под «выгонку» татищевскую угодит, — заметил Демидов.
— Того и боюсь, — кивнул Набатов. — Затем и еду с тобой. Ежели изловят батюшку солдаты, мне выручать придётся. Иначе замордуют его на Заречном Тыну в Екатеринбурхе или в Тобольской тюрьме консисторской.
Акинфий Никитич хитро прищурился:
— Моя-то десница покрепче осокинской, — сказал он. — Деньгами на скит и я тебя сполна уважу — не пожалеешь, и от Синода огорожу. Перебирайся на Невьянский завод, Родивон. Под Нижним Тагилом есть потаённое урочище, там и обитель приткнуть удобно. Пускай твой Фёдор Иваныч игуменствует.
Родион даже растерялся от такого щедрого предложения заводчика:
— Ох, смущаешь ты меня, Акинфий Никитич…
Осенев усмехался в усы, наблюдая, как хозяин заманивает Родиона. Но Родион сокрушённо покачал головой:
— При всех твоих милостях не могу я бросить Петра. Такой путь бок о бок прошли. Куда он без меня? Я пообещал Петьке новый завод выстроить. На Благодати начальство Осокиным рудники определило, и я в июле мотался по тамошним чащобам, высмотрел пригодное место на речке Салде. Весной начнём заводскую плотину отсыпать, лес рубить, кирпич обжигать…
Гора, которую Татищев назвал Благодатью, свела с ума всех заводчиков. Все хотели получить кусок от железного сокровища. За Благодать грызлись Васька Демидов, племянник Акинфия Никитича, и бароны Строгановы, братья Осокины и братья Красильниковы — земляки Демидовых, а ещё разные мелкие компанейщики вроде Ваньки Тряпицына или наследников Ваньки Небогатова, и даже скакал вокруг Лексейка Васильев, ретивый зять покойного Михал Филиппыча Турчанинова из Соликамска. А ведь был ещё и казённый интерес, которым никогда не поступался Татищев — сторожевой пёс казны. Гора Благодать, не тронутая пока никем, заросшая непролазной тайгой, засыпанная глубокими снегами, дремала в своей глухомани и не ведала о грядущем. Но Акинфий Никитич знал, какая гроза уже в скором времени загремит над железными утёсами Благодати.
— Не будет никакого твоего завода на Салде, — щурясь от солнца, сказал Демидов Набатову. — И думаешь ты неправильно. По божьему произволенью ты, Родивон, не Осокину должен, а горному делу. А горное дело — у меня.
* * * * *
На исходе дня они добрались до Верхнего Тагила — до третьего завода, возведённого Акинфием Никитичем семнадцать лет назад, до третьего из «меньших братьев» царствующего Невьянска. Глаза отдыхали на привычном порядке заводского устройства: пруд, уже ровно закрытый льдом; гребень плотины; под плотиной — кровли и трубы молотовых фабрик; по берегам пруда и вокруг завода — усадьбы мастеровых; и всё это в широком охвате молодого леса на склонах окрестных увалов. В потемневшей синеве неба угрюмо и грозно багровели заводские дымы, подсвеченные закатом.
Акинфий Никитич не был дома уже девять месяцев. Девять месяцев его душа была исковеркана и стиснута казёнными подозрениями, вельможным мздоимством и предательствами. Враги рвали Демидова со всех сторон, словно сам Сатана их науськивал. Но Акинфий Никитич, хрипя, ворочался и отбивался; он зверел от ударов и не считался с потерями. Демидова так просто не заломать! Канцелярское крапивное семя не одолеет железа!
Всё началось два с лишним года назад — летом 1733-го. Коммерц-коллегию клюнуло в зад проверить заводчиков: исправно ли выплачивают десятину? Конечно, Акинфий Никитич не платил сполна. Зачем отдавать, если можно не отдавать? Тем более что чиновники славно жировали на его подношениях. И Акинфий Никитич не испугался, потому что президентом Коммерц-коллегии тогда был старый барон Шафиров. Пётр Палыч давно благоволил Демидовым, ибо считал себя основателем их силы и славы.
Лет сорок назад он проезжал через Тулу, и ему потребовалось починить сломанный пистолет. Его отослали к кузнецу Никите Антуфьеву. Никита Демидыч исправил барское оружие — там всего-то боёк надо было выгнуть, иначе по кремню не попадал. А барону кузнец Никита понравился. Точнее, понравилась кузница: опрятная, просторная, все орудия лежат по местам, горн песком почищен, железная ломь бережливо в ящик ссыпана, уголь — в ларях и разобран по сортам: еловый, берёзовый, сосновый. Непривычно.
О тульском кузнеце Никите барон рассказал государю Петру Лексеичу. Приврал, что кузнец за ночь даже второй пистолет изготовил — не отличить от образца, немецкого пуффера. Пётр Лексеич любил басни о русских чудо-мастерах. Он тешил себя плотницким ремеслом, а не оружейным, и не знал, что за ночь такую работу не одолеть; он поверил Шафирову. Да и ладно. А знакомство с Никитой Демидычем у него случилось позже — на воронежской верфи. Но государь вспомнил сказку Шафирова и отметил для себя кузнеца.
Однако сорок лет — это сорок лет. И батюшки Никиты давно нету, и Петра Лексеича тоже, и Шафиров был уже не тот. Он взял у Акинфия десять тысяч — и ничего не сделал. Коммерц-коллегия учредила особую Комиссию следствия по заводам. Вдохновлённые доносами, ревизоры помчались в Тулу и Невьянск, всё перевернули там вверх дном. А Шафирова вскоре попёрли из президентов, и Коммерц-коллегию возглавил тайный советник Вельяминов.
Степан Лукич сдавил Демидову горло. Сыщики изымали из заводских контор учётные книги — если находили, конечно, — и заковывали в кандалы приказчиков. В Туле арестовали шурина Акинфия Никитича, в Питербурхе — зятя, мужа дочери, а самого Акинфия Никитича дёргали по разным казённым присутствиям. Допрос следовал за допросом, увещевание за увещеванием. Тошнило от чванливых рож и важных жестов, от тихих речей и медленных пальцев. Акинфий Никитич мотался между своими заводами, Питербурхом и Тулой, и единственной его отрадой была Невьяна…
В апреле этого, 1735-го, года Акинфий Никитич приехал в столицу, и здесь его ошарашил вердикт следственной Комиссии: заводчик Демидов должен заплатить в казну восемьдесят пять тысяч. Акинфия Никитича как ледяной водой окатило. Он всё понял. Начальству плевать на его долги. Начальство намекало: отдай-ка ты, братец, в казну три-четыре своих заводишка. Есть люди, что возжелали заполучить уральскую вотчину, ведь заводы куют не железо, а золото. И за алчным этим умыслом стоял сам граф Бирон, любимец государыни Анны Иоанновны.
Вдогонку вердикту Акинфия Никитича ошпарила длинная промемория из Невьянска от главного приказчика Степана Егорова. Степан писал о горе Благодать, хотя такого названия гора тогда ещё не имела. Про эту сказочную гору из магнитной руды Акинфию Никитичу год назад рассказал тамошний вогул Чумпин. Акинфий Никитич решил утаить известие от начальства. Был бы генерал де Геннин командиром заводов — другое дело, а Татищев отнимет гору в казну. Акинфий Никитич даже дал денег Чумпину, чтобы тот молчал как рыба. Но Чумпин проболтался. И Татищев заграбастал Благодать себе.
Два таких жестоких удара обозлили Акинфия Никитича. В нём закипела родовая гордость. Он не сдастся ворам вроде Бирона или начальникам вроде дурака Татищева, который не понимает, что его благие намерения только хлеб для воров. Скрипя зубами, Акинфий Никитич придумал интригу. Пусть Бирон и Татищев получат своё — в итоге добыча их и погубит. А волшебная гора, могучие заводы и защита от воров с дураками достанутся тому, кто лучше всех знает горное дело, — ему, Акинфию Демидову. Акинфий Никитич тайком встретился с графом Бироном, поговорил по душам, наобещал выгод от будущих предприятий и, отплёвываясь, тотчас укатил в Тулу.
…Уже стемнело. Блестящая луна висела где-то над вершиной Бунара, над каменными Бунарскими Идолами. Обоз Акинфия Демидова летел по санной дороге; справа и слева вздымался чёрно-белый зимний лес. Почти незаметно промелькнули тусклые огоньки рудничной деревни Калата…
…В Туле Акинфию Никитичу было плохо. Он разлюбил Тулу, а Тула разлюбила Демидовых. Даже нет, не разлюбила: Тула потеряла к ним всякое уважение. Никита, младший брат Акинфия Никитича, пошёл работать в Берг-коллегию и теперь тряс со своих бывших товарищей казённые подати. Мало того, забил до смерти дочь. И это ведь далеко не всё… Племянник Иван вообще застрелил отца — Григория, среднего брата Акинфия Никитича; Тула ошалела от такого злодейства Демидовых; Ивана казнили на площади перед всем честным народом. А Прокофий, взбалмошный сын Акинфия Никитича, ухлопал из ружья случайного прохожего, и Акинфий Никитич откупил его от суда взяткой — тоже бешеный стыд… А ещё была свара Акинфия и Никиты за наследство Григория, и вдову покойного с дочерью выкинули на улицу… Для родного города Демидовы, самые богатые жители, стали позорищем.
В родной Оружейной слободе Тулы Акинфий Никитич отгрохал новый дом — каменный, в три этажа, с глубокими подвалами. Дом встал на месте той кузницы, где юный Акиня, молотобоец, когда-то работал вместе с батюшкой-кузнецом; в ту кузницу заходил сам государь Пётр Лексеич — нагибался под притолокой, словно кланялся… Но дом оказался чужим. Здесь жили матушка Авдотья Федотовна и Прошка, однако хозяйничал назойливый брат Никита.
К мужу в Тулу приехала из Невьянска Ефимья, супружница, и привезла младшего сына Никитушку. Для Акинфия Никитича растолстевшая Ефимья давно стала просто Никитушкиной нянькой. В младшем сыне, смышлёном и почтительном, Акинфий Никитич видел своё продолжение, но когда это ещё будет?.. Прошка — он с гнилой придурью, а Гришку, среднего сына, тихоню и домоседа, Акинфий Никитич недавно женил; Гришка жил в Соликамске под надзором тестя-солепромышленника и устроил себе там не железный завод, как отец, и не соляной промысел, как тесть, а душеспасительный аптекарский огород… Тьфу ты!.. В общем, былая семья у Акинфия Никитича развалилась. Невьянск и два Тагила, Шурала и Быньги, Выя и Лая, Чёрный Исток и Старая Шайтанка, Утка, Суксун и Ревда — вот его семья…
Отдохнуть в Туле Акинфию Никитичу не удалось. Не получив денег, Бирон не спешил укорачивать Вельяминова. В Тулу прискакали солдаты, и Акинфия Никитича в собственном доме заключили под стражу. Тогда Акинфий Никитич отправил гонца к Невьяне в Питербурх. Верная, умная Невьяна справилась с непростым заданием. Вскоре из столицы последовало распоряжение снять караул с Акинфия Демидова. И Акинфий Никитич рванул из негостеприимной Тулы во свои дальние горные вотчины.
Обоз проносился в темноте мимо Шуралинского завода. О маленькой Шурале Акинфий Никитич всегда думал с нежностью — как о первой любви. Шурала была первым заводом, который он построил после отцовского Невьянска. Построил вопреки батюшкиной воле — и тем самым доказал, что он, Акинфий, будет сильным хозяином, а Каменный пояс поднимет столько заводов, сколько Демидовы смогут воздвигнуть. Шурала стала торжеством его веры в себя, в заводы и в эти суровые горы.
…Конечно, на заводах сейчас не было мира. Здесь тоже полыхала война — война с Татищевым. Когда заводами казны командовал генерал де Геннин, мудрый Вилим Иваныч, всё было полюбовно. Генерал дружил с Демидовым, свой закон не навязывал, изо рта кусок не выдирал, но и воровать никому не позволял. Однако чем-то он стал не любезен Питербурху, и весной 1734 года ему влепили отставку. Уезжая, генерал попросил Акинфия Никитича дать ему десять тысяч на оплату долгов и разное домашнее обустройство. Взяток Вилим Иваныч сроду не алкал, вот честность и довела до пустых карманов. Акинфий Никитич пожалел генерала, помог. А вместо де Геннина прислали Татищева — давнего врага Демидовых. И затрясло телегу на колдобинах…
От Шуралы до Невьянска оставалось всего семь вёрст. В Шуралинскую дорогу влился Екатеринбургский тракт, потом кошёвка легко нырнула в Собачий лог и вынырнула обратно, и впереди на дороге засветился костёр заставы: солдаты Татищева караулили беглых. Один из «подручников» понёсся вперёд — приказать, чтобы служивые убрали рогатки с пути.
Акинфий Никитич приподнялся, рассматривая Невьянск — скопище заснеженных крыш и белых дымов под луной. Справа — кондовые заплоты раскольничьей слободы Кокуй, потом — бедняцкая Елабуга, где жили работники, вывезенные с Камы. За Елабугой простиралась ледяная плоскость заводского пруда. Затем замельтешили домишки Ярыженки, здесь жила всякая пьянь и голытьба — давно пора выжечь эти притоны… Ярыженка нагло лепилась к богатой Кошелевке — купеческим усадьбам.
— Артамон! — окликнул возницу Акинфий Никитич. — Пошли человека за Степаном Егоровым, пускай сей же час ко мне является.
Большой дом приказчика Егорова находился в Кошелевке.
— Санька! — закричал кому-то Артамон. — Скачи сюды!
«Выгонка» беглых раскольников лишила Невьянск покоя. По улице слонялись какие-то пропойцы и солдаты ночных дозоров, лаяли собаки. Обоз промчался к Московскому концу. Тридцать лет назад эта слобода и была всем Невьянском: здесь обосновались московские мастера, приехавшие с Никитой Демидовым наладить завод на речке Невье, Нейве по-нынешнему… А демидовские земляки поселились подальше — там сейчас Тульский конец.
Дома и ограды расступились, и улица вывела к крепости. Стена из бревенчатых клетей-городней с крытым боевым ходом, оборонные вежи с тесовыми шатрами, повалами и воротами… Крепость Акинфий Никитич построил по указу из Питербурха; ему повелели соорудить ретраншемент, а он ещё не знал, что это за штука такая, и сделал всё по старине. В крепости располагался сам завод с плотиной, Господский двор, церковка, казармы для работных людей, амбары и его башня. Его Великий Столп. Память об отце.
Башня словно взлетала своими стрельчатыми ярусами над крепостной стеной, над трубами завода, над Невьянском, над всей землёй, над судьбой Акинфия Никитича. Задрав голову, Акинфий Никитич смотрел на гранёный шпиц, осеребрённый луной. Над острием шпица в звёздном небе плыла его собственная звезда, железная — шипастый шар громоотвода, «молнебойная держава», а под ней блистал остриями железный флаг-флюгер с прорезным гербом господ Демидовых — невьянская «двуперстная ветреница».
На башне куранты гулко ударили полночь.
* * * * *
Жильё у приказчика Медовщикова было богатым — на «три коня». Так строили на демидовских заводах, где туляки сошлись с поморцами и обычаи тоже смешались. Три небольших дома сдвигали бок о бок: в такой усадьбе аукались и скромные избы тульских оружейников с кровлями палаткой, и здоровенные хоромы олонецких крестьян, у которых всё хозяйство заведено под огромную общую крышу. Три сруба — три конька на охлупнях, каждый над глухим самцовым чело́м; окошки — на улицу, крылечки — во двор.
К западу от Невьянска по дремучим лесам на Весёлых горах с пожарами и разорами каталась «выгонка» — казённая облава на тайные скиты беглых раскольников. Заводской командир Татищев пригнал в Невьянск целое войско: солдат Тобольского полка и драгун из крепости Горный Щит. На постой служивых разместили по домам невьянских жителей. Ивана Лукича Медовщикова не помиловали, хоть он и был приказчиком; ему пришлось уступить воякам домовую долю сына, а семью сына на время принять к себе.
Настасья, сноха Лукича, от передряг заболела и лежала за печью в жару. Матвей, её муж, пропадал на заводе, он был горновым мастером. Нянчиться с полугодовалым младенцем старики Медовщиковы наняли глупую девчонку Феклушку из Ярыженских выселков. Феклушке было двенадцать лет. Мать у неё умерла, и девчонка жила при бабке-шинкарке с кучей братишек и сестрёнок; отец промышлял неведомо где, неведомо чем.
Четвёртые сутки Феклушка спала только урывками. Младенец орал и требовал мамку, а у мамки едва хватало сил, чтобы подняться и покормить, и потом она падала обратно. Феклушка изнемогла от младенческого плача, от ругани стариков, от духоты избы и неугомонной возни трёх малых детишек — других внучат Лукича и Михаловны. А ведь ещё и по дому надо было помогать, и со скотиной тоже — словом, делать то, что раньше делала сноха. Феклушка валилась с ног, роняла голову, в глазах у неё всё плыло.
Давно уже стемнело, детишки утихомирились на полатях, и старики, кряхтя, залезли на тёплую печную лежанку. Лампада освещала киот с образами, за железной заслонкой в печи тускло тлели головни. Феклушка стояла и уныло покачивала зыбку, поскрипывал гибкий очеп.
— Все амбары в острожной стене солдаты беглыми забили, — негромко рассказывал Михаловне Лукич. — Человек с триста, много баб с дитями…
— Ох, грехи великие, — вздохнула Михаловна. — Хоть и раскольщики, а живые же люди… Тоже их жалко. Откуда стоко-то взяли?
— Солдаты Галашкин скит нашли. Строенье подожгли, народ — к нам.
— А Висимский скит уберёгся? Старец Иов и мать Платонида целы?
— Вроде оба на воле. Однако ж, думаю, и до Висима доберутся.
Пока старики шептались, Феклушка тихо опустилась на пол — и сидя мгновенно заснула. А потом её по голове вдруг увесисто хлопнула толстая и тяжёлая рукавица-шубенка. Эти рукавицы сушились на верёвке возле печной трубы; привередливый Лукич со своей лежанки увидел, что Феклушка бессовестно спит, и сердито швырнул в неё то, что по руку попалось.
Феклушка вскочила. Младенец орал. Слышно было, что на улице кто-то долбится в ворота; лаяли собаки — при солдатах их не снимали с привязей.
— Дрыхнешь, беспелюха? — рявкнул с печи старик. — Поди на двор, что за колоброд там ворота ломает? Всех перебудил!..
Феклушка порскнула в сени.
С крыльца босиком по снегу она побежала к запертым воротам. Холод взбодрил её. Луна освещала белый скат кровли над воротами. В одной из створок по обычаю делали оконце с полочкой, выставляли туесок с молоком, а к нему горбушку хлеба — это для тех, кто без пристанища. Вдалеке на башне куранты били полночь. В оконце Феклушка увидела какого-то парня.
— Подымай Степан Егорыча! — крикнул парень. — Хозяин приехал, зовёт!
Феклушка с трудом сообразила, о чём речь.
— Степан Егорыч — соседние ворота, дурак! — приплясывая, ответила она и помчалась обратно к крыльцу.
В горнице её обдало теплом. Ненавистный младенец продолжал орать.
— Барин вернулся, Егорова звали, домом ошиблись, — сказала Феклушка.
— Глаз бы подбить ротозею для зоркости, — буркнул Иван Лукич.
— Ты, дева, Николушку на руки возьми, тады он замолчит, — с лежанки посоветовала Михаловна. — Походи с ним, походи. На ногах не задремлешь.
Феклушке не хотелось ходить, хотелось спать. Хоть в подпечье уползти — прочь от этого горластого дитяти, от стариков, которым безразлична её усталость, от тоски, что мамки у неё нет и кормиться нечем. Роняя жгучие слёзы бессилья, Феклушка вынула младенца из зыбки и принялась мотаться от лавки до стены. А старики всё шептались на лежанке.
— Акинфий-то Никитич, небось, теперь выкупит изловленных-то?
— Ране так было, — подтвердил Лукич. — А нынче не знаю. Из Тоболеска какой-то протопоп Иоанн прискакал, вразумляет пленников на Заречном Тыну… А там дело ясное: ильбо отрекайся от веры отцов, ильбо сдохни.
— Расколоучителей туда же суют? — всё выспрашивала Михаловна.
— Не. Их по обителям — в Далматов, Тюмень, Верхотурье, на Пыскор…
Михаловна взволнованно завозилась.
— Слышь, старый, что я от баб на проруби узнала… Под Бунарскими Идолами опять Лепестинью видали.
— Её ж вроде загребли на Сосновом острове! — удивился Лукич.
— Загребли, — таинственно согласилась Михайловна. — Дак это ж не кто бы, а Лепестинья! Там охвицер командовал — с единого взгляда себя потерял. За любовь, грит, забуду присягу. Любовь — она же меч Лепестиньин-то!.. Ну, дале само всё понятно, а с утра охвицер Лепестинью и ослобонил, как птицу.
— Блудница она, а не птица!
Феклушка бродила с ребёнком на руках и слушала про еретичку.
— Бабы шептали, что Лепестинья, уходя, прокляла заводы наши! Заповедь передала: «Кто у огня живёт, от огня и сгибнет!»
— Да неча верить чародейке!
— Во, чародейка она! — оживилась Михаловна. — И заступница бабья! Ты, старый, присмотрись-ка к пленным-то — нет ли среди них Лепестиньи? Я бы к ней сходила за молитвой о Настасье, а то ведь скоко дён уже болеет…
— Чушь несёшь! — всерьёз разозлился Иван Лукич. — Не пущу тебя никуда! Ещё чего не хватало — этой дьяволице кланяться! Спи лучше, тетёха!
Старики на печке затихли. Феклушка маялась с младенцем. Про грозную и милостивую Лепестинью, бродячую раскольничью игуменью, в Ярыженке много всего рассказывали. Колдуньей обзывали и душегубкой — и втайне уповали на неё, а некоторые отчаянные бабы вообще ушли её искать, чтобы с ней скитаться. Феклушка думала о Лепестинье — и засыпала на ходу. В углу стрекотал сверчок. С печи донёсся негромкий храп Ивана Лукича.
Феклушка будто провалилась куда-то вглубь и судорожно дёрнулась, в последний миг поймав ребёнка, завёрнутого в одеялко. Сердце не билось, а барахталось в усталости, словно в чём-то вязком. Руки отяжелели. Феклушка ничего не могла сообразить, голова была как глиной заполнена. А изба странно осветилась. Тёплый свет струился из-за печной заслонки.
Феклушка подошла к шестку, одной рукой сдвинула чугунок на загнетке и открыла заслонку. В горниле печи беззвучно бушевал большой огонь, его языки лизали кирпичные стенки и закопчённый свод. Откуда огонь взялся-то?.. Дров на ночь не подбрасывали, головни почти рассыпались в куче пепла и золы… Феклушка молча смотрела на изгибы и переливы пламени.
Невесомые и бестелесные, струи огня весело свивались и распадались, взмывали и рушились, точно в печи играли огненные девки, бежали друг за другом в хороводе, вертелись, смеялись, махали платочками или, голые, прыгали с обрыва в омут, взметая над собой то ли брызги, то ли искры. И сквозь эту радостную кутерьму тихо протаяло сияющее лицо — женское, дивное в своей красоте, ласковое, родное… Матушка?.. Её Феклушка не помнила… Лепестинья, бабья заступница?.. Святы Господи, какие очи!..
— Утомилась, милая? — спросили Феклушку огненные губы.
Феклушка заворожённо глядела в зев печи.
— Горько тебе?.. — шептала пылающая Лепестинья. — Давай мне сюда своё дитя! Я его упокою, а ты поспи, сиротка…
Из печи протянулись нежные пламенные руки, и Феклушка послушно вложила в них закутанного младенца. Руки бережно унесли младенца в печь.
— Я ему песенку спою… — пообещала Лепестинья. — Колыбельную…
Женщина в огне держала младенца на руках и улыбалась ему.
Феклушка осторожно закрыла зев печи заслонкой — так, помолившись, затворяют икону-складень. А потом побрела к сундуку возле двери, легла и тотчас заснула крепко-накрепко.
Глава вторая
Поймать беглеца
Невьянским палатам Акинфия Никитича не исполнилось и десятка лет, но казалось, что есть вся сотня. Дело было в том, что эти палаты, точнее хозяйский дом и заводскую контору, как и часозвонную башню, заложил ещё батюшка, а Никита Демидович в старости и думал по старине.
Два длинных кирпичных здания стояли на каменных подклетах под углом друг к другу. Маленькие окошки вразнобой — без наличников, но с чугунными оконницами; гладкие «лопатки» с шайбами чугунных стяжек; крылечки с чугунными лестницами и голыми арками; на втором ярусе — тесные балкончики с коваными решётками низких оград; крутые и высокие тесовые кровли, а в них — домики-«слухи»; печные трубы с шатровыми дымниками. Скупыми украшениями для этих строгих теремов служили только большие железные гребни на коньках крыш; плоскости гребней зияли просечёнными фигурами соболей — как на заводских клеймах.
И внутри было всё как при царе Алексее Михайловиче. Грузные своды, покрытые штукатуркой и расписанные разными там русалками, сиринами, львами и виноградами. Несокрушимые поставцы и горки сундуков, щедро окованных жестью «с морозом». Широкие скамьи, тяжёлые двери на крюках, печи с поливными изразцами, мелкие цветные стёкла в окнах — на казённом Лялинском заводе работала стекольная фабрика. После смерти батюшки Акинфий Никитич в доме почти ничего не переделал. Кабинет у него и без того был саксонский, а Ефимье, жене, нравилась тяжеловесная старинная спесь: купецкая дочка, Ефимья лишь о боярстве и мечтала.
Отчёты главных приказчиков Акинфий Никитич принимал в советной палате — самой большой в его доме. Приказчиков было двое, да ещё ключник Онфим встал у затворённой двери. В тёмных наборных окнах блестели отражения свечей. Приказчики сидели напротив хозяина за длинным столом.
Егоров Степан Егорыч говорил как по писаному, хотя его подняли с постели. Сколько пудов руды заготовили и с каких рудников; сколько коробов угля; как домна работает; исправны ли горны, молоты, машины и плотинное хозяйство; сколько чугуна и железа произвели, сколько меди; какую посуду сделали; сколько всего на пристань уже увезли; сколько работников при деле; сколько денег потратили и на что; сколько осталось…
— Десять тыщ указанных я в казну вернул, — сообщил Егоров. — В казну.
Он имел в виду взятку, отвергнутую Татищевым. Акинфий Никитич через Егорова ещё весной попробовал подкупить капитана, чтобы тот забыл о горе Благодать, но Татищев не продался. Мортира тупая, медный лоб.
— Награду примешь, Степан? — спросил Акинфий Никитич.
— Не за что. Сверх урока ничего не исполнял. Ничего.
Степан непримиримо, как штык, выставил вперёд клин чёрной бороды.
Раскольников братьев Егоровых, Степана и Якова, Гаврила Семёныч привёз из Тюмени. Оба работящих брата вскоре стали приказчиками, но Акинфий Никитич поразился умению Степана вести заводское хозяйство. Когда началась заваруха с казённым следствием, Акинфий Никитич, уезжая в Питербурх, без страха поручил Степану Егорычу весь огромный Невьянский завод. Яков Егорыч, младший брат, командовал новым Ревдинским заводом.
— Ох, не на заводе у нас дьявол напрокудил, — заговорил и Гаврила.
Голос у него был рокочущий, как мурлыкание льва, и обволакивающий; мягкими раскатами он словно заполнил всю просторную палату
Акинфий Никитич внимательно посмотрел на Гаврилу.
— «Выгонка»? — подсказал он.
— То ещё полбеды, Акинтий, — усмехнулся Гаврила. — Нам-то, гонимым от веку, претерпевать давно за обычай…
Он был немного старше Акинфия Никитича и обращался по-дружески. В Невьянск он пришёл из Тобольска, от сибирских раскольничьих скитов, и принёс известие о серебре в Алтайских горах. Обменял серебро на милость заводчика к своим единоверцам. Однако Акинфий Никитич быстро понял, что сам Гаврила Семёныч дороже всех серебряных руд.
Гаврила был посланником Выгорецкой и Лексинской обителей, вождём всех раскольников поморского беспоповского толка. Помогая собратьям обрести убежище, он основал тайную слободу на безлюдном озере Таватуй верстах в сорока от Невьянска. Поморцы доверяли Гавриле и крестить, и причащать, и отпевать. Его повеления почитали как закон. А в Тобольской консистории Семёнова называли Буесловом и ересиархом.
Акинфий Никитич поселил Гаврилу Семёныча прямо в заводской конторе. В делах завода Гаврила был несведущ, но он правил душами — и стал «приказчиком по дому» Акинфия Никитича. Он уговаривался с людьми древлего православия — главными работниками Демидовых. Если в Родионе Набатове Акинфий Никитич ощущал светлое божье благословение, то в Гавриле Семёнове чуял грозный пророческий дар — волю держать истину, как Илия держал истину среди народа Израилева. Гаврила и обликом своим напоминал Илью: сухопарый, сутулый, с упрямо сведёнными кустистыми бровями и дикой, клочковатой бородой. Облысев на макушке, Гаврила всё равно носил длинные волосы, но собирал их в сивый хвост.
— Беда, Акинтий, что Мишка Цепень удрал, — довершил речь Гаврила.
Мишка Цепень — вернее, Михаэль Цепнер, обрусевший немец, — был мастером-механиком; Акинфий Никитич похитил его, посадил в каземат и превратил в своего раба. Тайна, с которой работал Цепень, могла привести на плаху их всех — и приказчиков, и самого Демидова.
У Акинфия Никитича словно бомба в груди взорвалась. Что же такое творится — напасть за напастью на него обрушивается!.. Следствие по десятине и «выгонка» раскольников, козни Татищева и потеря алтайских заводов, распоясавшийся брат Никита, драка за гору Благодать и алчность Бирона — а теперь ещё и мастер-беглец!.. Акинфия Никитича словно бы изнутри опалило доменным жаром ярости, однако он стиснул душу.
— Когда это случилось? — потемнев взглядом, спросил он.
— Вчера ночью, — сухо ответил Егоров.
— Тараска Епифанов сторожем был и, лиходей, крышку в своде Цепню подъял, — разъяснил Семёнов. — Обоюдом и уметнулись. Деньги все украли.
— Как Тараска снюхался-то с Цепнем?
— То нам неведомо.
Акинфий Никитич молчал. Он понимал, что Егоров и Семёнов не виноваты, и давил в себе гнев, однако ноздри его раздувались. Убить бы всех — и Цепня, и Егорыча с Семёнычем, и Татищева, и Бирона…
— А вы что предприняли, железны души?
— Караулы на всех дорогах выставил, — сказал Егоров. — На всех.
— А я домой к стервецу сходил, — сказал Семёнов, — потолковал с отцом и с матушкой, с братовьями его. Никому Тараска свой умысел не открывал.
— Как обнаружили побег? — угрюмо допытывался Акинфий Никитич.
— Тарасий с утра ключ не принёс, — издалека пояснил ключник Онфим. — Я пошёл — там двери настежь и в полу подклета дыра отворена. Я её закрыл, как должно быть, в дом побежал, оттуда ходом в каземат. Там пусто.
Онфим был слепым и носил повязку на лице. Пять лет назад он работал молотовым мастером; раскалённая треска отскочила от железной полосы ему прямо в глаза. Акинфий Никитич пожалел мастера, взял в дом сидеть по ночам у запертой двери. Но незрячий Онфим не сдался увечью. Он на ощупь выучил всё окружающее пространство — запомнил, где что стоит и лежит. Молотовые мастера — они такие: при своей грубой работе тонко чуют невидимую внутреннюю порчу в железе, чтобы выбить её точными ударами молотов. По дому и по двору Онфим стал передвигаться безошибочно, и Акинфий Никитич назначил его ключником.
Отсветы свечей играли на расписанных сводах палаты, на виноградах и сиринах. За окошками хищно чернела воровская ночь. Огромный каменный дом застыл в тишине своих тайн, лишь потрескивали дрова в печах.
— Надо убрать следы в каземате, — глухо сказал Акинфий Никитич.
— Я уже убрал, — ответил Онфим. — Брусья от машин порубил, а валки, рычаги и шестерни Степану отдал. Всё там руками обшарил — чисто.
— Детали я в ломь сунул, — добавил Степан. — С шихтой в домну уйдут.
Акинфий Никитич думал о беглеце и барабанил пальцами по столу.
— Побег — задача хитрая, — скрывая злость, Акинфий Никитич стиснул кулаки. — Сани нужны и лошадь, одёжа для зимы, харч какой-никакой, а главное — совет. Цепень ведь у нас ничего не знает. Он чужак. А Тараска — дурень молодой, ума с горошину… Нет, у Цепня ещё сообщник был.
— А кто же? — прищурился Гаврила. — Этот Цепень до каземата жил в башне безвылазно. Ни единой души к нему не подпускали.
— С курантами ему Савватий помогал, — сообщил Степан. — Лычагин, да.
Акинфий Никитич тяжело засопел. Опять предательство?..
— Берите Лычагина, — распорядился он.
* * * * *
Кирша явился домой поздно и пьяный. С тех пор как Татищев, новый горный начальник, повелел открыть при заводах казённые кабаки, для Кирши началось золотое времечко. Кабак — это тебе не шинок, тёмный, грязный и на задворках, куда могут вломиться Артамоновы «подручники» с погромом, ибо Демидов не любит пьянства. Кабак — это какой-никакой, а порядок.
Впрочем, Киршу и в шинках никогда не обижали, не обсчитывали и не били, а рухнет на улице — так занесут в тепло. В молотовом подмастерье Кирил Данилыче Торопове было неистребимое дружелюбие, и даже самая чёрствая душа чуяла мягкий свет. Сорокалетнего мужика, его все звали ласково и по-мальчишечьи — Киршей. Зачастую поили просто за песни и радость. На заводе его, похмельного, штрафовали, но не ругали. Если кто-то в гулянке с ним ссорился, то наутро приходил мириться. Кажется, на него даже собаки не лаяли. У жены Лукерьи никак не получалось наскрести злости, чтобы осерчать на мужа-тартыгу, да и сам Кирша часто приносил домой то пятиалтынный — плату за увеселение, то гостинец детишкам.
Заскрипели доски ступеней на крыльце, что-то с грохотом упало в сенях, и Кирша ввалился в горницу. Треух на затылке — уши в разные стороны, драный армяк нараспашку, рыжая борода растопырена, глаза весело горят. За спиной на перевязи — облезлая дрянная балалайка.
Лукерья, прибрав после ужина, споласкивала деревянные ложки над помойной лоханью и вытирала тряпочкой. Савватий Лычагин сидел у двери — ему не хотелось идти к себе в пустую и холодную избу. От сквозняка метнулся огонь лучины. С печи сразу свесились Алёнка, Дуська и Ванюшка.
— Налакался с дружками? — сурово спросила Лукерья.
— Ясен месяц! — просиял Кирша.
— Тятька! Тятенька налакался! — восторженно загомонили с печи.
Кирша скинул шапку, армяк и стоптанные сапоги, по-хозяйски сунул балалайку Савватию. В руке у него оказался большой печатный пряник.
— А кому тятька забаву принёс? — спросил он.
— Мне! Мне! Мне! — завопили с печи.
Кирша подал пряник в протянутые ручонки. Пряник исчез.
Кирша протопал в горницу. В простенках меж окон здесь были бережно развешаны самодельные инструменты: ещё две балалайки, гусли, скрыпица и замысловатая доска со струнами, которую Кирша называл тарнобоем. Кирша цапнул кривой тарнобой, провёл пальцами, и струны нежно мурлыкнули.
— Тятька, спой нам! — крикнула с печи Алёнка, старшая дочь.
— Какое «спой»? — возмутилась Лукерья. — Ночь-полночь на дворе!..
Но Киршу такая ерунда никогда не останавливала.
— Ох, есть отец — убил бы, нет отца — купил бы! — забалагурил он. — На красный цветок и пчела летит!.. Лучше хромать, чем сиднем сидеть!
Он запрыгал по горнице, приседая и выбрасывая ноги. Тарнобой рокотал в его руках. Ребятишки на печке взвизгивали от счастья.
— А широко раздолье — перед печкою шесток,
Чисто поле — да под лавкою!
Там знамёна реют из веников банных,
Бьются-дерутся свёкры со снохою,
Заломали они наш забор щелястенький!..
Кирша скакал и нёс околесицу, выдумывая на ходу. Ребятишки хохотали, а Лукерья отвернулась и закрыла лицо ладонью, будто скорбела от такого позора. Савватий видел, как всем им — Киршиному семейству — хорошо.
— Ох, побежал на велико сраженье
Агафонушка, силён-могуч богатырь,
Блинами рот до ушей порватый!
А свинья бесхвостая на дубу гнездо свила,
Поросята полосатенькие по веткам разбегаются!
По тучам чёрт корову тащит,
Та корова у нас яйцо снесла!
А курица в ступе отелилася!
— Да хватит, полоумный! — взмолилась Лукерья. — Ну правда же, Кирюшка, что за пляски-то сатанинские?..
Тяжело дыша, Кирша повалился на лавку.
— Щас всех мокрой тряпкой отстегаю! — пригрозила Лукерья детям.
— Тятя, сказку! — потребовала Алёнка.
— Сказку? — задумался Кирша. — А какую? Про Щелкана Дудентьевича? Или про медведя и горох? Или про Калина-царя? Про Луковое Горе? Про Кота Казанского Костянтина Костянтиновича? Про Бабу-ягу и войну со зверями Крокодилами? Про то, как поп чёрта надул?..
— Про попа не надо, убью тебя! — предостерегла, краснея, Лукерья.
— Про Кота Костянтина! — догрызая пряник, закричали с печи.
Савватий поднялся и потихонечку выбрался из горницы.
На дворе было морозно, под лунным светом мёртво и ровно синел снег, чёрное небо над Невьянском широко и дробно искрилось звёздами.
Жильё Савватий имел по чину — в «три коня». Дом построил Акинфий Никитич. Савватий давно уже не пытался понять: Демидов отметил его как приказчика по заводским машинам или же так отплатил за Невьяну?.. Да какая теперь разница?.. В этом доме ничего у Савватия не сложилось. Отец и мать упокоились друг за другом шесть лет назад, а четыре года назад родами умерла и Дарьюшка, жена, — и сынишка-младенец тоже умер. И Савватию стало ясно: он потерял судьбу. Потерял не с Дарьюшкой и сыном и даже не с родителями, а ещё раньше, когда ушла Невьяна. Судьба ускользнула от него, словно в дремучем лесу тропинка убегает из-под ног, украденная лешим, и потом на пути только тоскливое безлюдье да костлявые буреломы.
Одиночество было Савватию невыносимо. Оно студило, сосало душу, опустошало. И сам дом словно обозлился на хозяина: в окнах всегда будто смеркалось, двери прирастали к косякам и не открывались, печь не хотела топиться, не трещал сверчок, домовой по ночам не скрипел половицами. Вот тогда Савватий и позвал к себе Киршу с семейством. Сам-то Кирша так и не сподвигся скатать хорошую избу, жил в какой-то косой развалюхе. Кирша поселился посерёдке, Савватий — под левым «конём», а под правым «конём» размещались коровник, сеновал и разные службы. Денег с Кирши Савватий не брал — зачем ему деньги? — и даже сам порой помогал Лукерье рублём. У Демидова платили хорошо, раза в полтора побольше, чем «по плакату» на казённых заводах; Савватий получал по двадцать рублей в месяц. Ему на всё хватало. А счастья за деньги не купишь. И в собственном доме Савватий чувствовал себя приживалкой. Лукерья кормила его, обштопывала и обстирывала, и обед на завод Алёнка приносила сразу двоим — тяте и дяде.
Савватий зажёг лучину, худо-бедно распалил печь, помолился на кивот и уже собрался растянуться на лавке под тулупом, как припёрся Кирша. С собой он притащил кувшинчик браги.
— Охоча старица до скляницы! — весело пояснил он. — Я её, злодейку, в сугробе за крыльцом зарыл, а то Лушка отняла бы…
— Не хочу, Кирила Данилыч, — отказался Савватий.
— Да по чуточке! — не унялся Кирша. — И потом запиши мне песню, я её в кабаке от бродяги холмогорского услышал…
Кирша не знал грамоты, но собирал у людей всякие песни и былины, а записывать просил Савватия, надеясь выучиться азбуке когда-нибудь потом.
Савватий тяжело вздохнул. На такую просьбу он не отказывал.
