автордың кітабын онлайн тегін оқу Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени
УДК 130.2
ББК 71.0
М73
Работа по созданию монографии проводилась при финансовой поддержке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в рамках студенческих проектов «Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Западной Европы Позднего Средневековья и раннего Нового времени» (проект № 11-04-0050, программа «Учитель — ученики», 2011–2012 гг.) и «Политическое измерение нелегитимного аргумента в науках о языке и тексте» (научно-учебная группа «Языки интеллектуальной культуры», 2013–2014 гг.) под руководством Е.Г. Драгалиной-Чёрной и Ю.В. Ивановой
Ответственный редактор — П.В. Соколов
Научные редакторы и редакторы переводов с английского и французского языков — Ю.В. Иванова и П.В. Соколов
Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени / отв. ред. П. В. Соколов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — ISBN 978-5-7598-1064-3 (в пер.).
Монография объединяет исследования, целью которых является анализ нелегитимной аргументации в различных областях интеллектуальной культуры Запада Средневековья и раннего Нового времени: логике, юриспруденции, библейской герменевтике, науках о природе. В монографии реализован синтез двух основных подходов к исследованию аргументативного устройства донововременного научного текста: аналитического (рациональная реконструкция) и исторического.
В центре внимания авторов монографии — теоретическая проблема демаркации софистики и аргументации; способы аналитической реконструкции схоластических «диспутов с предписаниями»; статус эмпирической аргументации в философском знании; аргументативные коллизии, возникавшие в процессе генезиса нововременной модели науки; концепция «политической софистики» в сочинениях позднесредневековых логиков и теологов; идея манипуляции в ренессансной политической литературе; специфика аргументации и определения критериев достоверности в «зонах неразличенности» между научным и прикладным (военное дело) и «паранаучным» (астрология) знанием. В состав монографии включены комментированные переводы наиболее репрезентативных текстов по истории нелегитимной аргументации.
Книга предназначена для специалистов по философии, истории и теории науки, студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов и для всех интересующихся историей интеллектуальной культуры Европы.
УДК 130.2
ББК 71.0
ISBN 978-5-7598-1064-3
© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015
Электронное издание подготовлено компанией «Айкью Издательские решения» (www.iqepub.ru)
Содержание
Список сокращений
П.В. Соколов || Введение
I. МЕТАФИЗИКА
В.Л. Иванов || «То, чему не противоборствует бытие»: учение Дунса Скота о возможном сущем и о противоречивом «ничто» в теологической экспликации сущности твари как объекта божественного знания и всемогущества
Иоанн Дунс Скот, ОМБ
ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I. ДИСТИНКЦИЯ 43
Параллельные и дополнительные места из сочинений Иоанна Дунса Скота, ОМБ
Иоанн Дунс Скот, ОМБ
ОРДИНАЦИЯ. КНИГА II. ДИСТИНКЦИЯ 1. ВОПРОС 2
II. ЛОГИКА
IIa. Софизмы
IIb. Диспуты с предписаниями
III. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
IIIa. Политическая семиология
IIIb. Филология
IV. НАУКИ О ПРИРОДЕ
Ч. Бёрнетт || Славянская космология? Естественная философия в сочинениях Германа Каринтийского
Д. Групе || Аргументы в пользу новой космологии в Европе XII века: «Книга Мамона» — ранний латинский комментарий к астрономии Птолемея
Н. Вейль-Паро || О значении одной отвергнутой гипотезы в Средневековье и эпоху Ренессанса: одушевленность магнита
И.Г. Гурьянов || Представления Марсилио Фичино об устройстве человеческого тела и причинах меланхолии: между университетской медициной и платонической экзегезой
Е.К. Карпенко || У истоков языка науки о природе: вводные замечания к трактату Бернара Палисси (1510?–1590) «О металлах и алхимии» из сборника «Любопытные рассуждения»
Д.А. Баюк || Легитимность апелляции к законам в рассуждениях Галилео Галилея о природе
V. ПРАКСИС
О.И. Тогоева || Когда преступник — свинья. «Дурные обычаи» и неписаные правила средневекового правосудия
Н.Е. Асламов || Дисциплина, gute Polizey и спекулятивный аргумент в немецких и нидерландских военных трактатах раннего Нового времени
VI. INCERTA ET OCCULTA
О.С. Воскобойников || Два голоса в пользу наук о небе в XII веке
М.А. Сорокина || Аргументы против астрологии в XIII веке
С. Пассаванти || Легитимность оккультного. Левин Лемний и литература о тайных знаниях
А.В. Марей || Франсиско де Витория и его лекция «О магическом искусстве»
Сведения об авторах
Ответственный редактор
Научный редактор
Авторы
Примечания
Список сокращений
CAG — Commentaria in Aristotelem Graeca. 23 vols. Berlin: Reimer, 1881–1907
Ms. — manuscriptum
OFM — Ordo fratrum minorum
OFMConv — Ordo fratrum minorum conventualium
OFMObs — Ordo fratrum minorum observantiae
OP — Ordo praedicatorum
PL — Patrologiæ Latinæ cursus completus / J.P. Migne (ed.). 221 vol. Parisiis: Migne, 1852
SJ — Societas Jesu
ОИ — Общество Иисуса
ОМБ — Орден миноритов
П.В. Соколов || Введение
В одном из своих последних интервью Мишель Фуко, противопоставляя друг другу демократическую дискуссию и авторитарную полемику, высказался так: «Полемист опирается на легитимность, от которой его оппонент отлучен по определению. Должно быть, когда-нибудь придется описать долгую историю полемики — паразита на теле дискуссии и препятствия на пути к истине»[1]. Меланхолическое замечание Фуко получило неожиданное, быть может, для самого автора расширение: «долгая история полемики» воплотилась под пером Барбары Кассен в провокативную «историю effet sophistique» — т.е., по слову самого автора, воздействия, которое софистика, антистрофа философии, оказывала на эту последнюю на всем протяжении ее истории.
Наше исследование движется по среднему пути, via media, между скептической позицией Фуко и экстремистской апологией софистики Барбары Кассен, антиметафизический пафос которой граничит порой с «террористическим обскурантизмом». Версия истории софистики, предлагаемая в настоящей книге — история реконфигураций границ легитимности в различных сферах европейской интеллектуальной культуры: в науке, богословии, политической теории, юриспруденции. В центре книги — нелегитимный аргумент, этот своего рода «лидийский камень», определяющий границы между наукой и псевдонаукой, теорией и риторикой, философией и софистикой, ортодоксией и гетеродоксией, истиной и мнением. Использование нами категории нелегитимного аргумента ни в коем случае не является данью нормативистской теории науки: речь не идет о том, чтобы предъявлять древним текстам чуждые им критерии логической и научной валидности, как она видится из привилегированной перспективы современности. История нелегитимной аргументации — не «история проблем» в неокантианском духе[2]; не существует никакой самотождественной и равной себе проблемы софистического аргумента, которая объединяла бы античных риторов в один лагерь с контрреформационными оппонентами Макиавелли, а Джона Уиклифа — с Бернаром Палисси. Однако независимо от наших представлений о легитимности, интеллектуальная культура на каждом следующем этапе своего исторического пути воспроизводит функцию софистики: логики, философы, богословы и ученые начиная с «Софистических опровержений» Аристотеля и вплоть до «Эффекта софистики» Б. Кассен опробовали самые разные стратегии «приручения» софистического логоса, но он остается неуловимым, словно Протей. Но «протеизм», т.е. неизбежная историческая и контекстная релятивность критериев легитимности аргумента, вовсе не является препятствием для того опыта истории софистики, который мы предприняли в нашей книге. «Единство софистики» вопреки «многообразию софистов»[3] обеспечивается единством той историко-научной оптики, которую предполагает «история нелегитимной аргументации». А именно аналитика софизма позволяет сделать видимыми подвергшиеся «исключающему включению» химерические конструкции, которые оперирующий категорией софизма полемист стремится выдать за учение оппонента. Эти конструкции образуют реальность sui generis, что-то вроде «третьего царства» или no man’s land в дискурсивном пространстве европейской науки. Так, анализ категории софизма и изучение фигуры софиста у позднесхоластических авторов позволили обнаружить целый спектр политико-семиологических программ, стоящих за обличаемой ими «софистической логикой»; исследование сознательно допущенной Леонардо Бруни асимметрии аргументов за и против обсуждаемого тезиса сделало видимой амбивалентную культурно-политическую концепцию флорентийского гуманиста, в центре которой — специфически переосмысленное понятие imitatio. Однако нелегитимная аргументация может быть не только сигналом нарушения границ нормативности: она выявляет нервные узлы интеллектуальных дискуссий на разных этапах истории науки, актуализирует перформативный потенциал экзегетической практики и приводит в действие семантические парадоксы, лежащие в основании центральных категорий политической мысли.
В соответствии с классической иерархией дисциплин за метафизическим определением софистического логоса должна следовать логическая экспликация софистического аргумента. Следовательно, важнейший этап в истории нелегитимной аргументации составляют попытки «приручить» софистический логос, превратив его в безобидный дидактический инструмент, в средневековых «диспутах с предписаниями». Этот, не так давно открытый, род диспутов представляет собой настоящую загадку для исследователей: ведь мы не располагаем никакими сведениями даже о том, проводились ли диспуты с предписаниями когда-нибудь в действительности — не в виртуальной действительности tempus obligationis, а, говоря схоластическим языком, de rei veritate, в институциональной реальности средневекового университета. В отличие от многих других форм средневекового диспута, таких как «рассуждение о чем угодно» (disputatio quodlibeta) или «диспут на паперти» (disputatio in parviso), которые представляли собой необходимые этапы академической карьеры, «диспуты с предписаниями», насколько мы можем судить, существовали только на пергаменте. В то же время логические игры схоластических интеллектуалов ни в коей мере не были праздной гимнастикой ума, совершенствованием ars obligatoria. В исследовательской литературе мы можем найти образцы аналитической реконструкции этого рода диспутов с привлечением самых разных логических методов, от теоретико-игровых до методов логики действия. Совмещение дидактического и семантического подходов к аналитической реконструкции диспутов с предписаниями позволяет поставить вопрос об эпистемологической значимости апофатической аскезы, практиковавшейся схоластическими мастерами ars obligatoria.
Если «диспуты с предписаниями» существовали, по-видимому, исключительно в жанровых границах трактатов de obligationibus, то присутствие логического аппарата аналитики софизмов в средневековой интеллектуальной литературе весьма ощутимо. Изощренный логический инструментарий схоластов, созданный для разоблачения «софистических опровержений» — fallaciae, consequentiae, sophismata — обретает политическую валентность в позднесредневековой библейской герменевтике у таких авторов, как Джон Уиклиф и его неутомимый оппонент, Джон Каннингем. В этой литературе — политических диалогах Уильяма Оккама или экзегетических сочинениях Джона Уиклифа — софизм предстает уже не как дидактический инструмент, а как вид социальной техники[4]. Открытие политических импликаций концепций знака у таких авторов, как Джон Каннингем или Джон Уиклиф, позволяет нам отодвинуть далеко в прошлое terminus a quo «политической семиологии», о которой такие авторитетные исследователи политической мысли Европы, как Ив Шарль Зарка, говорили применительно к Гоббсу.
В то же время аналитическая реконструкция и историко-философская интерпретация политических «обязательств» библейской герменевтики самого Уиклифа и его оппонентов, таких как Т. Неттер, Дж. Каннингем, Уильям Рамсейский, Уильям Кентерберийский, в исследовательской литературе до сих пор не была осуществлена. Однако, не говоря уже о значимости этой темы для истории европейской политической мысли — как мы попытались показать, анализ конструкции языка у Уиклифа позволяет видеть в нем теоретика косвенной власти ante litteram[5], — она обладает и значительным историко-логическим и историко-философским потенциалом. Так, провокативное суждение Уиклифа об ослином софизме, согласно которому «софизм свидетельствует об истине propter vehementiam veritatis», отсылает и к сохраненному Диогеном Лаэртским речению знаменитейшего из софистов Протагора — «все есть истина», и к картезианскому осуществленному сомнению как несокрушимому основанию достоверности, и к произведшей революцию в логике уже в Новейшее время теории речевых актов. Когнитивный поворот в современной логике, переместивший интерес со статики условий истинности на динамику межсубъектных когнитивных процессов, обосновывает возможность применения инструментария прагматической логики для аналитической реконструкции экзегетических процедур, применяемых Уиклифом и его критиками. Отношение позднесхоластических логико-семантических категорий — virtus (vis) sermonis, significatio primaria, signum extrinsecum — к таким логическим фигурам, как тавтология или перформативный аргумент, остается одним из самых интригующих desiderata как в истории логики, так и в истории политической мысли. Внешне «экстремистский» герменевтический метод Уиклифа вполне вписывается в современную теорию речевых актов, призывающую учитывать именно интенции, пресуппозиции и импликатуры и, тем самым, отвечает одному из главных императивов современной логики — необходимости построения «логической динамики».
После деконструкции метафизики — и схоластической логики — у представителей гуманистического движения, после смещения границ между аподейксисом и диалектикой у Рудольфа Агриколы и Петра Рамуса, «перекапывания диалектики» у Лоренцо Валлы, апологии «науки о единичных вещах» у Марио Низолио, словом, с наступлением великой риторической эпохи софистический аргумент лишается своего логического ornatus’a, перемещаясь из трактатов de sophismatubus и схоластических диспутаций в центр дискуссий о возможности достоверного познания социально-исторического мира. В неставшем языке ранненововременной политики и этики нелегитимный аргумент обнаруживает беспрецедентный эвристический потенциал: дерзновенно пересекая границы как аристотелевской, так и картезианской эпистемологии, апологеты гуманитарного метода подготавливают почву для герменевтики человеческих действий, которую Джамбаттиста Вико назвал «достовернейшей критикой человеческого произвола» (critica certissima dell’umano arbitrio). Из всего многообразия нелегитимных аргументов, которые можно найти в гуманистической литературе, мы специальное внимание уделили одному, который представляет собой, на наш взгляд, своего рода предвосхищение основания в герменевтике. Этот аргумент (его можно условно назвать «argumentum ad conjecturam»), весьма популярный в дисциплинах филолого-герменевтического цикла, апеллирует к буквальной очевидности и непосредственной данности смысла толкуемого текста, подменяя тавтологией или превращая в перформативный акт или в политическое действие любые толковательные процедуры.
Такие основополагающие для истории гуманистической филологии тексты, как «Рассуждение о подложности Константинова дара» Лоренцо Валлы, располагаются между двумя крайними точками. Один экстремум — многочисленные сочинения, подобные «Восстановленному Риму» Флавио Бьондо, цель которых — максимизировать эффект совпадения с прошлым, сделать идею реставрации древности основной своей эстетической, социальной и политической программы. Другой экстремум — тексты, прототипом которых можно считать «Похвалу Елене» софиста Горгия, а показательным образцом уже в Новое время — «Похвалу Нерону» Джироламо Кардано. Ближайшая цель этого рода текстов — инверсия общих мест эпидейктического красноречия, а в случае Горгия — еще и демонстрация субверсивного потенциала риторики. Таким образом, софистическая риторика оказывается фоном становления нововременной науки, фоном, который далеко не всегда принимается во внимание. Стремясь хотя бы отчасти заполнить эту лакуну, мы обратились к исследованию риторических аргументов в текстах гуманистических филологов эпохи «Высокой критики».
Анализируя аргументацию в дискуссиях Фр. Робортелло и М.-А. Мюре, А. Полициано и Д. Кальдерини, мы видим, как дискутанты используют двойные стандарты в обращении с авторитетными древними и критикуемыми новыми авторами: если критическая и текстологическая работа с античными писателями должна соответствовать высшим стандартам филологической акрибии, то интерпретация аргументов коллег-современников вполне может подчиняться лишь стратегическим требованиям риторической убедительности и полемической эффективности[6]. Изъятый из полемически нейтральной практики «пересчитывания слогов» (знаменитая характеристика филологической деятельности у Ж. Леклерка) и филологических «очищений», аргумент «ad conjecturam» превращается в мощный инструмент дискредитации оппонента и конструирования собственного образа защитника филологической аутентичности. Однако в то же время нельзя однозначно отнести гуманистические споры из-за метрических трудностей античного стиха или конъектур к той самой дурной «полемике», о которой говорил Фуко: ведь все участники этого рода полемик разделяют эпистемологический и этический идеал veritas philologica и прибегают к риторическим средствам дискредитации оппонента исключительно ради более эффективной защиты попранной оппонентом истины. Таким образом, парадоксальная коллизия, которую мы можем здесь наблюдать — не столкновение двух режимов истинности, т.е. аподейктической достоверности науки и «свободной достоверности» риторики. Гуманистические полемисты не столько отказываются из своекорыстных побуждений от филологической корректности, сколько нарушают коммуникативные правила ведения полемики. В этом можно видеть один из истоков конструкции объективности и монологизма нововременной науки: перед лицом анонимного идеала объективной достоверности диалог утрачивает всякую ценность. Характерно, что альтернативная этой модель «мягкой» коммуникации, нашедшая прибежище в академиях и салонах, именно в эту эпоху получает и эпистемологическое оправдание, самый известный образец которого мы находим у Монтеня с его пирронизмом и гипертрофированной субъективностью[7].
Возникновение экспериментального метода и трансформация статуса механических искусств повлекли за собой переопределение отношений между теоретическим и практическим аргументом. Так, наиболее убедительные доводы против софистических уловок (sophistiqueries) алхимии были сформулированы не кем иным, как Бернаром Палисси, бравировавшим незнанием языков и отсутствием эрудиции. Неслучайно в диалоге «О металлах» аргументы в защиту алхимии вкладываются именно в уста «теоретика»[8]. Однако «аргумент к эмпирии» вовсе не так прост, как может показаться неискушенному читателю диалогов Палисси, Галилея или, скажем, Макиавелли. Наивно-реалистическая аргументация в диалогах, подобных «О военном искусстве» Макиавелли, становится настоящей лабораторией языка, в которой легитимация эмпирического аргумента оказывается на первых порах лишь эпифеноменом разрушения нормативистской риторики. Отсюда — многочисленные практические нелепости и противоречия: достаточно уже того, что с апологией ополчения выступает в диалоге Макиавелли не кто иной, как один из известнейших в Италии того времени кондотьеров, Фабрицио Колонна. Текст флорентийца содержит также целый ряд предписаний, нелепость которых была очевидна для любого современного ему военного-практика: копать ров не снаружи, а внутри крепости, не делать второго выстрела «во избежание происходящих от этого неудобств» и т.п. Таким образом, антириторическая установка Макиавелли оказывается столь же практически неэффективна (о чем, кстати, говорил еще Франческо Гвиччардини), сколь и ее антитеза, лингвоцентрическая программа цицеронианства: неудача Макиавелли как стратега образует параллель с неудачей знаменитого кардинала-цицеронианца Якопо Садолето как дипломата и проповедника[9]. Возможную причину этой двойной неудачи можно видеть в том, что обе эти программы в действительности имеют дело с лингвистической, а не «предметной» апорией. Апелляцию к действительному положению вещей у таких авторов, как Макиавелли или Валла, следует воспринимать как событие языка, а не как прорыв к «объективной реальности»: инверсия или деконструкция нормативистского языка еще не есть акт приближения к «действительности».
Из этого ясно, что эпохи расцвета нелегитимной аргументации нередко совпадают с периодами нехватки языка в тех или иных дисциплинарных областях или сферах практической деятельности: такое положение сложилось, к примеру, в средневековом судопроизводстве времен «инквизиционной революции» (XIII в.). Инквизиционная процедура, современному человеку кажущаяся апофеозом нелегитимности по одним основаниям (использование недопустимых способов дознания), средневековым теоретикам права и юристам-практикам представлялась «безумным правосудием» (по знаменитому выражению Филиппа де Бомануара) совсем по другим причинам, причем таким, с которыми мы вряд ли бы согласились[10]. На первый взгляд средневековое право являет собой классический пример юридической гетерономии: языковой вакуум в юриспруденции и правовой практике этого периода заполняется чуждыми правовой сфере элементами — натурфилософскими и теологическими аргументами, кутюмами, аргументами к прецеденту. Однако именно синкретическое устройство средневекового правосознания позволяет продемонстрировать историческую относительность самого нашего представления об автономии юридической сферы, которое, к слову, неоднократно подвергалось критике уже в XX столетии (например, у Карла Шмитта).
По слову Густава Шпета, софистика начинает с отрицания, а заканчивает императивом. Наша книга начинается с пересмотра перспективистской модели истории науки, созданной по образцу неокантианской истории философии, и завершается призывом к исторической релятивизации методов и «общих мест» гуманитарных дисциплин. Именно этой цели, как мы надеемся, послужат предлагаемые здесь читателю пролегомены к той самой «долгой истории полемики», необходимость которой нехотя признавал Фуко.
[1] Foucault M. Dits et écrits. P., 1994. Vol. IV. P. 591–592. Благодарю М.В. Шумилина за указание на эту цитату.
[2] Критику «истории проблем» с философских позиций см. в: Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 26–43.
[3] Bigou D. Diversité des sophistes, unité de la sophistique // Noesis. 1998. No. 2. P. 37.
[4] Об этих различных «ликах» софистики см. статью Е.Н. Лисанюк, с. 76 наст. изд.
[5] См. об этом нашу статью на с. 157 наст. изд.
[6] Об этих дискуссиях см. статью М.В. Шумилина, с. 251 наст. изд.
[7] Об этом см. статью А.В. Голубкова на с. 266 наст. изд.
[8] См. перевод диалога Палисси на с. 353 наст. изд.
[9] О неудаче миссии Садолето в охваченной Реформацией Женеве и ее причинах см.: Иванова Ю.В. Гуманистическая традиция на рубеже веков // История литературы Италии. Чинквеченто / отв. ред. М.Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. II. Кн. 2. С. 36.
[10] См. об этом статью О.И. Тогоевой, с. 401 наст. изд.
I. МЕТАФИЗИКА
В.Л. Иванов || «То, чему не противоборствует бытие»: учение Дунса Скота о возможном сущем и о противоречивом «ничто» в теологической экспликации сущности твари как объекта божественного знания и всемогущества
Задолго до того, как Кант в своем критически уточненном трансцендентальном учении о методе запретил философам (в особенности же метафизикам) «догматически» давать определения своих первых понятий, многие философы, традиционно относимые к школьной философии, знали об особой трудности таких определений и даже указывали их причину. Например, Франсиско Суарес, ОИ, прямо утверждает[11], что содержание понятия сущего как такового, т.е. первого понятия, служащего, согласно его учению, адекватным объектом метафизики, вовсе не подлежит никакому определению, поскольку является простейшим и наиболее абстрактным (трансцендентальным, т.е. превосходящим любой род как необходимый элемент определения), а стало быть, может быть лишь объяснено или «описано» в некоторой «экспликации терминов». У теолога и философа, который небезосновательно признается ныне многими исследователями[12] основателем схоластической «онтологии» как трансцендентальной науки о понятии реального сущего, францисканца Иоанна Дунса Скота, в разных местах его сочинений содержится несколько вариантов описания того, чтó есть сущее, наиболее частым из которых является такое: «сущее, то есть то, чему не противоборствует бытие»[13]. Показательно, что те части его сочинений, в которых наиболее развернуто обсуждается ключевой термин этого описания, а именно «не-противоборство», посвящены разъяснению сущности твари до творения, а формально являются обсуждением теологических вопросов об объектах божественного знания и всемогущества. И это представляется вовсе не случайным: Дунс Скот, как и многие метафизики в школьной традиции до и после него, был прежде всего теологом[14], поэтому большая часть того, что мы относим к его метафизике, не только содержательно зависит от теологических целей его исследований, но и композиционно помещается внутри теологических трактатов[15]. Поэтому вторая[16] важнейшая часть схоластической метафизики, т.е. экспликация сущности конечного сущего или твари, в таком теологическом горизонте оказывается исследованием конституции конечной сущности по путеводной нити анализа принципов творения, т.е. трех главных атрибутов Бога, которые существенны для учения о творении в схоластической теологии XIII–XIV вв.: интеллекта, воли, всемогущества. Традиционно считалось, что тварь — в противоположность Богу как актуальному и необходимому сущему — является до творения лишь возможным, соотносясь, тем самым, как объект с активной творящей потенцией Бога, т.е. всемогуществом. Общее мнение (opinio communis) теологов состояло, во-первых, в том, что Бог «от вечности» знает в своем интеллекте все возможные твари посредством идей как образцов для творения[17]; во-вторых, что возможная тварь до акта творения (т.е. поскольку она не существует актуально) не обладает никаким собственным бытием, но имеет лишь «бытие в причине», т.е. в самой активной потенции Бога; в-третьих, что Бог творит не необходимо, но по собственному решению воли, каковое в себе полностью свободно. Парижский магистр Генрих из Гента (после 1217–1293 гг.), бывший наиболее влиятельным теологом Сорбонны в поколении, следующем за Фомой Аквинским, и ставший важнейшим теологическим оппонентом для Дунса Скота[18], учил о том, что возможность конечного сущего производна от активной потенции Бога, но также ввел в обсуждение «возможного до творения» одну до того отсутствовавшую проблему: в контексте своей специфической теории сущего как «твердо установленного» (ens ratum a ratitudine), т.е. обладающего «чтойностным бытием» или «бытием сущности», он впервые поставил вопрос о некотором собственном «бытии твари в себе», а не в божественной сущности или всемогуществе. В такой школьной ситуации Дунс Скот совершает ряд преобразований, достаточно радикально изменивших парадигму учения о возможном и, в своей совокупности, определивших теологическое и философское обсуждение этой проблематики на века вперед[19]. Прежде всего, он обсуждает первично возможное сущее не как объект всемогущества, но как объект божественного интеллекта (знания Бога, названного позже «наукой простого понимания»): «не может быть сотворено ничто, что прежде не имело “понятого” и “желаемого бытия”, и не было в “понятом бытии” формально возможным», — утверждает Скот в своем вопросе о творении[20]. Принцип возможности разыскивается отныне не в творящей потенции Бога, но в его интеллекте/уме. В связи с этим он переопределяет понятие «идеи» в божественном интеллекте: идея рассматривается как понятая божественным интеллектом чтойность (quiditas intellecta) или сущность конечного до творения, а не как образец для творения или «основание для божественного познания». Кроме того, он устраняет из обсуждения возможного до творения «отношение» — вопрос стоит о конституции возможных конечных сущностей «самих в себе» (как бы «абсолютно»), а не о сущностях, конституированных лишь посредством их отношения к Богу как образцовой или действующей причине. Поскольку порядок знания вообще следует порядку вещей (что имеет силу и для божественного знания), то первым объектом первого знающего (т.е. божественного) интеллекта является первая вещь — сама бесконечная божественная сущность, тогда как «возможное конечное сущее» Бог познает как вторичный объект (objectum secundarium) своего интеллекта. Иначе говоря, после Скота проблема конституции сущности конечного или возможного всегда обсуждается в спекулятивной теологии под рубрикой «Познает ли Бог иные сущие, чем он сам, и каким именно образом?»[21]. Однако вопрос о возможности имеет еще одну существенную составляющую в теологическом обсуждении: поскольку речь идет не о некотором определенном возможном (не о возможном «согласно чему-то» или лишь по отношению к некоторой определенной потенции/мощи), но о возможном как таковом, т.е. абсолютно, «в себе», и как предположенном самой бесконечной активной потенции Бога, то возможное как таковое должно быть заранее отграничено от того, что абсолютно невозможно, т.е. от «невозможного ничто», которое не может быть сотворено даже Богом. Иначе говоря, «возможное конечное» сущее эксплицируется Скотом по большей части в «противопоставлении к» и «отграничении от» невозможной вещи, а вопрос, в котором содержится наиболее развернутое изложение его учения о возможности конечного сущего, спрашивает собственно о первом основании невозможности: «Содержится ли первое основание невозможности создания вещи в Боге, или в самой создаваемой вещи?»[22].
Так как сам ход аргументации Скота в переведенных нами вопросах весьма сложен и во многом затруднен постоянной критической полемикой с мнением оппонента (в качестве которого выступает Генрих Гентский или его последователи), следует кратко представить главные аспекты его учения о возможной сущности твари, а также указать на наиболее существенные проблемные пункты, послужившие основанием для контроверсий и споров как в позднейшей скотистской традиции (особенно в XVII в.), так и среди современных исследователей. Итак, возможное конечное сущее (и противоположное ему некоторым образом «невозможное ничто») до творения может рассматриваться в следующих аспектах: 1) что есть возможное и возможность (соответственно, невозможное и невозможность)? 2) в чем содержится «первое основание» (или каковы причины? — если они вообще имеются) возможности/невозможности конечной вещи? В связи с этим также: как на этом основании (из этих причин) конституируется само возможное/невозможное? 3) наконец, каким образом есть сама возможная сущность до творения, каков ее «способ бытия»?
Первый вопрос кажется наиболее простым, но на деле является, пожалуй, самым сложным, поскольку, как мы помним, просто описать (не говоря уже — определить) простое (иначе говоря, некое начало) — невозможно, а Скот хотя и дает некоторые основания для понимания чтойности возможного сущего и «ничто», но не описание такой чтойности фактически является целью его трактата. Экспозиция его понимания «чтойности» возможного/невозможного[23] скорее содержится в ответе на второй вопрос — о первом основании, или причине, возможного/невозможного, — именно решением этой проблемы Скот, собственно, по большей части, и занят в переведенных нами трактатах. Само это решение главным образом сосредоточено в описании того, как возможное (и невозможное) конституируется как таковое до всякого актуального творения, причем Скот называет это «процессом», т.е. «происхождением возможности», а также невозможности в бытии[24], описывая некие «моменты порядка» этого конституирования.
Относительно этого описания необходимо сделать несколько важных замечаний. Во-первых поскольку возможное не есть просто актуальное сущее, а только у последнего может быть реальная причина в собственном смысле (таковой для любого конечного будет воля и активная потенция Бога), поэтому у возможного как такового нет реальных причин в истинном смысле слова, но есть лишь основания (rationes) или принципы конституции.
Во-вторых, Скот выделяет два первых основания возможности некоторой возможной конечной сущности (иначе говоря, первое основание возможности — двояко и принадлежит как бы к двум разным родам оснований): как «внешний принцип», производящий возможное как таковое, описывается божественный интеллект, мыслящий сущности твари как свои вторичные объекты, а в качестве формального основания (ratio formalis), или первого внутреннего принципа возможности, показывается сама «формальная сущность», или «чтойность твари», которой «формально из себя» же не противоборствует бытие. Оба этих разных по роду основания, или принципа, постоянно одновременно указываются Скотом в описании конституирования возможного, кажется, что для него было очень важно сохранять некий «баланс» дополнительности между обоими: с одной стороны, формальная чтойность есть как произведенная в «понятое бытие» божественным интеллектом, т.е. зависит от него как от принципа (излюбленный Скотом термин «principiative», противопоставляемый — «формально из себя»); с другой стороны, интеллект не может сделать «формально из себя возможное» невозможным, и наоборот, понять «невозможное ничто» как нечто возможное.
В-третьих, в сопоставлении описания происхождения «ничто» с описанием порядка конституирования возможного сущего обнаруживается, что эти два «процесса» конституции лишь по видимости параллельны друг другу, на самом же деле, между существенностью (возможностью) сущего и не-существенностью (или ничтожностью) невозможной химеры нет никакой аналогии. Скот — утверждает, что формально есть «первое возможное», которое является одним, т.е. в себе единым (представляет ли оно при этом также нечто простое — отдельная и большая проблема), и произведено в «понятое бытие» интеллектом как внешним принципом, тогда как никакого «одного/единого в себе ничто», которое было бы неким «первично и просто невозможным» на основании своей «формальной сущности», т.е. как бы «из себя» — нет. У такого мнимого «первично отрицательного ничто» нет и не может быть также никакого внешнего принципа — ни принципа реальности, ни принципа интеллигибельности, единственное же «невозможное ничто», которое обсуждает Скот — это нечто сложное, которое «невозможно из себя» лишь постольку, поскольку оно состоит из (как минимум) двух частей, которые сами по себе возможны и произведены в «возможное бытие» божественным интеллектом, но несовозможны друг с другом, поскольку формально из себя, т.е. из своих собственных чтойностей, противоборствуют друг другу, а потому несовозможны в «чем-то одном» разом, так что происходящее из них «ничто» и является «первым невозможным» вымыслом. Только такое вымышленное «псевдо-целое» может быть истолковано нами как «просто невозможное», поскольку ему «из себя противоборствует бытие», а потому и сотворение Богом. Более того, божественный интеллект является внешним принципом такого «ничто» не собственно и не непосредственно, но лишь в той мере, в какой он является принципом, производящим «первично в себе возможные» части, его составляющие[25].
В-четвертых, сама возможность, описываемая Скотом, как бы раздваивается: он отчетливо разделяет[26] «объективную возможность» конечного сущего как конституированную вторично, при предположении коррелятивного ей всемогущества Бога (причем, как кажется, полное содержание «возможного» такой возможностью как «объекта всемогущества» состоит не только в том, что объективно возможному формально не противоборствует бытие, но и в том, что ему формально противоборствует иметь «необходимое бытие из себя», т.е. быть бесконечным, потому представляется обоснованным полагать, что эта вторичная возможность есть именно возможность конечного как таковая), от «первичной возможности», описываемой как возможность, следующая непосредственно из формального и внутреннего не-противоборства вещи бытию (либо даже тождественная ему), и называемой Скотом то «логической», то «формальной возможностью»[27]. Из трактатов Скота невозможно определенно сделать однозначный вывод, что эта возможность совпадает по своему объему с возможностью лишь конечного сущего, и сама эта неоднозначность, более всего проявляющаяся в позднее столь знаменитом термине «логически возможное» (possibile logicum, или logice), представляет одну из наибольших трудностей для понимания метафизики Скота.
Возвращаясь к третьему, обозначенному выше, аспекту экспликации возможного/невозможного, т.е. к вопросу о способе бытия возможной сущности до творения, стоит указать на то, что хотя сам Дунс Скот приложил немало усилий для однозначной формулировки своей позиции по данному вопросу, именно он стал поводом для наибольших дискуссий и споров после Скота. Несмотря на то, что Тонкий учитель утверждает, что возможные твари/сущности до творения обладают лишь «понятым бытием» в интеллекте, т.е. «уменьшенным бытием» или «бытием согласно чему-то», сравниваемым Скотом также с «бытием сущностей в душе» и противопоставляемым им «всему реальному и истинному бытию в целом» (т.е. «простому бытию» «вне души»), и тратит много места в аргументации (внутри дист. 36 кн. I «Ординации») на опровержение мнения Генриха, который, как считает Скот, полагал некое вечное «бытие сущности», или «чтойностное бытие», для возможного конечного сущего в рамках своей теории «ens ratum», однако, способ бытия возможного как такового до актуального творения стал мотивом для наибольшего числа ожесточенных споров в последующей традиции. Помимо тех оснований непонимания Скота, которые были связаны с принадлежностью авторов к различным школам (томисты, по мнению позднейших скотистов и многих иезуитов, просто неверно поняли Скота, приписав ему именно то, что он сам опровергал как мнение Генриха), в этом вопросе существуют и содержательные трудности, ставшие причинами этой длительной контроверсии. Главным предметом контроверсии был статус самого этого «понятого», или «познанного бытия», возможной твари. Даже если мы, вслед за Скотом, признаем, что оно не имеет ничего общего с неким «реальным актуальным бытием сущности» и в смысле актуального существования есть до творения вещи лишь «ничто», то может быть поставлен вопрос о том, насколько само возможное как таковое независимо в своей возможности от божественного интеллекта, производящего его в единственно имеющееся у него, т.е. «понятое бытие»? Иначе говоря, если возможность первично произведена в «понятое бытие» интеллектом, но формально есть из себя, то не есть ли сам этот характер «формального из себя» лишь продукт того же самого божественного интеллекта? В связи с этой трудностью возникает еще одна, не менее фундаментальная, которую вроде бы затрагивает уже сам Скот в своем собственном истолковании учения о двойной «твердой установленности», или обоснованности сущего как «ens ratum»[28]: если возможное есть лишь «ничто» в смысле «актуального реального бытия», но тем не менее радикально отличается от «ничтожного бытия» химеры как противоборствующей бытию, то почему мы можем истинно утверждать о возможном до творения, что оно есть реальное сущее, или что «бытие возможного» в некотором смысле все же реально, а не полностью ничтожно? Если Скот и разделяет два этих значения сущего, т.е. сущее как «актуальное сущее, имеющее истинное бытие сущности и существования», и «сущее как формально не противоборствующее из себя бытию», которые, кстати, впоследствии — через обратную привязку к одной дистинкции у Авиценны — послужили прототипом для универсально принятого в школьной метафизике XVI–XVII вв. описания двух значений сущего как «сущего в вербальном смысле» (в смысле причастия, т.е. существующего) и как «сущего в номинальном значении» (субстантивированного имени, т.е. обладающего сущностью), то все же он не показывает эксплицитно, в чем состоит их общность или единство значений. Именно эти две проблемы вызвали к жизни ту «битву гигантов» о статусе возможности, что вели от издания к изданию своих «Философских курсов» (в их метафизической части) два самых знаменитых скотиста богатого на ученых скотистов XVII в. — Бартоломео Мастриус (Мастри де Мелдула) и Джон Понций (Панч)[29]. Степень независимости формальной возможности от производящего божественного интеллекта, а также реальность/нереальность возможного до творения до сих пор является предметом разных, часто противоположных, исследовательских интерпретаций: в связи с этим прежде всего стоит упомянуть фундаментальные работы Л. Хоннефельдера, а также монографии и исследования С. Кнууттила, К. Нормор, Т. Хоффманна, Ж.-Ф. Куртена, П. Кинга, Ф. Мондадори, Р. Кросса, Свена К. Кнебеля, Т. Рамелова, Дж. Кумбса.
В заключение скажем несколько слов о переводе предлагаемых вниманию читателя текстов Дунса Скота о возможности и невозможности конечного сущего. Текст вопроса дист. 43 кн. I «Ординация», переведенный нами целиком, а также фрагменты текста вопроса дист. 36 кн. I «Ординация» и вопроса 2 дист. 1 кн. II «Ординация» переведены нами по латинскому тексту Ватиканского критического издания трудов Скота[30]. При этом мы также использовали старое издание Ваддинга (1639 г.), поскольку в ряде мест, отмеченных нами в сносках, оно дает более осмысленное чтение, чем основной текст Ватиканского издания «Ординации». В основу перевода параллельного вопроса 1 дист. 43 «Репортации» I-А (т.е. первой книги проверенного и исправленного самим Скотом текста студенческих записей его парижских лекций) был положен текст, содержащийся в издании Ваддинга, но при этом мы также использовали изданный (вместе с немецким переводом) Иоахимом Р. Зедером исправленный по манускриптам вариант латинского текста этой дистинкции «Репортации»[31]. Вставки в текст перевода, традиционно помещенные нами в квадратные скобки, служат для того, чтобы пояснить наиболее трудные термины, либо дополнить и распространить особенно синтаксически сложные места в аргументах Скота. Что касается лексики перевода, то, так как схоластическая речь ученого-теолога Скота в высшей степени терминологична, в переводе мы старались, насколько это возможно, передать все термины одними и теми же русскими эквивалентами, т.е. создать параллельный терминологический ряд в русском тексте. Многие (хотя и не все) ключевые термины мы приводим на латыни в круглых скобках, особенно если их перевод несколько отличается от принятого в переводах на русский язык, либо если вариантов такого перевода еще вовсе не существует. Следует также отметить, что мы намеренно допустили в своем переводе значительную степень латинизации, т.е. употребления многих давно вошедших в философскую и научную русскую речь латинских терминов, а также введения некоторых новых, еще не вполне принятых. Отдельно стоит сказать о переводе ключевого термина «repugnantia» — мы переводим его как «противоборство», а не как «противоречие», поскольку, во-первых, «противоречие» — это лишь один, хотя и первый вид противоборства, во-вторых, в тексте Скота противоречие вовсе не всегда может содержательно заменить собой «repugnantia», иногда последний термин скорее ближе к «противоположному контрарно», что показывают постоянные примеры Скота с «белым/черным». Наконец, из истории понятия «repugnantia» (ср. статью Свена К. Кнебеля[32]) мы знаем, что в латинском философском языке этот термин появился как перевод греческого термина μάχη, употреблявшегося эллинистическими комментаторами физических работ Аристотеля в осознанном противопоставлении логическому «противоречию». Кроме того, стоит отметить упущенную, к сожалению, в переводе связь всемогущества («омнипотенции») и «потенции», оставленной нами как принятое в русской философской речи слово. Предельная степень терминологичности схоластической речи Скота видна, помимо прочего, из нюансировки им содержательных моментов с помощью употребления разных, хотя и близких по значению предлогов: например, иногда он отличает «ex» от «de» и от «a(b)», а «in se» от «ad se», часто эта нюансировка также была потеряна при переводе, хотя и отмечена нами посредством помещения латинских терминов в скобках.
Иоанн Дунс Скот, ОМБ
ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I. ДИСТИНКЦИЯ 43
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС. Содержится ли первое основание невозможности (Ratio impossibilitatis) создания вещи В боге или в самой создаваемой вещи33
1. Относительно сорок третьей дистинкции, в которой Магистр опровергает мнения иных [ученых], я спрашиваю: содержится ли первое основание невозможности создания вещи в Боге или же в самой создаваемой вещи?
Доказательство, что в Боге:
Магистр аргументирует в 1-й главе следующей дистинкции[34], что универсум мог быть создан лучше: ‘ведь если бы это было не так, то это было бы или потому, что ему не недоставало бы никакого блага, и тогда он был бы Богом’, ‘или потому, что, хотя некоторого блага универсуму бы и недоставало, но воспринять это [благо] он не был бы способен’. В последнем случае, как он далее аргументирует, универсум ‘был бы создан лучше, если бы Бог дал ему способность к восприятию того [блага, которого ему недоставало]’. Точно так же я аргументирую и в проблеме, предложенной [к решению в этом вопросе]: если нечто является несоздаваемым (infactibile), то, если Бог даст этому нечто способность к этому, оно могло бы быть создано. Следовательно, это нечто не может быть создано таким способом, потому что ему не дана такая способность. Следовательно, эта невозможность, как кажется, содержится первично (primo) в Боге, не могущем дать этой вещи способность [быть созданной].
2. Против этого:
Ансельм («О падении диавола», гл. 3[35]) аргументирует так: ‘Поскольку Бог даровал твердость доброму ангелу, поэтому добрый ангел ею обладал, — но злой ангел не обладал твердостью не потому, что Бог не дал ее ему, а потому, что злой ангел ее не воспринял’, — ведь воспринять ее он не был способен.
[I. К вопросу
A. Мнение Генриха Гентского]
3. Генрих говорит об этом в 3 вопросе VI серии «Каких угодно вопросов»[36], а явно противоположное этому [первому суждению] ищи у него же в 3 вопросе VIII серии «Каких угодно вопросов»[37].
4. Против этого второго его суждения, [неважно,] было ли оно высказано в качестве пересматривающего первое суждение об этом разделе [т.е. в вопросе об основании невозможности], или же было высказано как пересмотренное посредством того первого, — следовало бы аргументировать против Генриха только из его собственных слов, каковые вполне явно заключают в себе противоположные [друг другу утверждения].
5. Однако я специально аргументирую против него [т.е. против второго его суждения] таким образом: нечто является “просто невозможным” только постольку, поскольку ему просто противоборствует (simpliciter repugnat) бытие. Если же чему-то противоборствует бытие, бытие противоборствует ему первично “из себя” (ex se primo), а не из-за некоторого его утвердительного или отрицательного отношения (respectum) к чему-то иному. Ибо любое противоборство (repugnantia) некоторых крайних терминов происходит из их формального и через себя сущностного (per se essentiali) объективного содержания (ratione), даже если устранено какое угодно иное отношение — положительное или отрицательное — обоих крайних терминов к чему бы то ни было иному, а именно так, как белое и черное “через себя” контрарно противоположны друг другу (contrariantur) и обладают формальным противоборством (repugnantiam formalem) друг с другом из своих собственных формальных объективных содержаний, устраняя — если предположить невозможное — всякое их отношение к чему бы то ни было иному[38]. Следовательно, “просто невозможное” (simpliciter impossibile) — это то, чему “через себя” (per se) противоборствует бытие, и что первично “из себя” (ex se primo) есть такое, что ему противоборствует бытие, — а не из-за какого-то отношения к Богу, будь то утвердительного или отрицательного. И более того, ему противоборствовало бы бытие, даже если бы — предполагая невозможное — Бог не существовал[39]. Итак, первое суждение [Генриха] кажется более достойным одобрения, чем второе.
6. Но и против того первого суждения [в той части, где он говорит о первом основании возможности] я аргументирую, во-первых, следующим образом: активная потенция, из-за которой Бог считается “всемогущим”, формально не является интеллектом, но как бы предполагает действие интеллекта, [вне зависимости от того,] является ли это всемогущество (omnipotentia) волей или иной исполнительной потенцией. Но камень есть “возможное бытие” “формально из себя” (ex se formaliter). Следовательно, и возводя его как бы к первому внешнему принципу, именно божественный интеллект будет тем, от чего в камне есть первое основание возможности (prima ratio possibilitatis). Следовательно, первое основание возможности в камне — это не та активная потенция, от которой Бог именуется “всемогущим”[40].
7. Доказательство принятого [в меньшей посылке о камне[41]]. Возможное, согласно тому, что оно является границей[42] (terminus) или объектом всемогущества, есть «то, чему не противоборствует бытие» и что не может быть «из себя (ex se) необходимо»; камень, произведенный божественным интеллектом в «понимаемое бытие» (in esse intelligibili), имеет эти [два характера] «формально из себя», а через интеллект [Бога] — как «зависящий от принципа»[43] (principiative); следовательно, возможен он «формально из себя», а «как зависящий от принципа» — через божественный интеллект.
8. Поэтому кажется, что то первое его суждение[44] полагает неверно, что «всемогущество в Боге и есть та потенция, от которой как от активной потенции первично есть возможность в твари», а именно в том смысле, если мы говорим о той активной потенции, от которой Бог именуется «всемогущим» (omnipotens) и в отношении которой эта [возможность] называется «пассивной потенцией» в твари.
9. Этот довод[45] подтверждается следующим образом: та активная потенция, ‘которая является всемогуществом’, дает чему-то некоторое бытие, только производя его, потому что она и есть потенция, производящая вещь вовне (productiva rei ad extra); но вещь имеет «возможное бытие» до всякого произведения вещи вовне, поскольку — как было доказано нами в 36-й дистинкции[46] — то, что вещь произведена в «понимаемое бытие» (esse intelligibili), не значит, что вещь произведена в «простое бытие» (esse simpliciter), и даже если [произведенность вещи в первое] была бы [произведенностью вещи во второе], то и тогда [вещь] не была бы [произведенной в понимаемое бытие] посредством той потенции, из-за которой Бог именуется «всемогущим»; следовательно, некоторая иная [по отношению] к Богу [т.е. конечная] вещь «первично возможна» не через ту потенцию, ‘которая есть всемогущество’.
10. Опять же, о прецизированных[47] причинах [истинно], что если утверждение [чего-то] есть причина утверждения, то и [его] отрицание есть причина отрицания (согласно тому, что говорит Философ в кн. I «Вторых Аналитик»[48]), так что если обладание легкими — это причина дыхания, то и не-обладание легкими — это причина не-дыхания. Следовательно, если бы та активная потенция, которая в Боге является всемогуществом, была прецизированной причиной возможности в твари, то и отрицание активной потенции в Боге было бы причиной отрицания «возможного бытия» в твари, что он сам же и отрицает[49] (и, что касается этого, правильно, поскольку эта невозможность происходит в твари из-за формального противоборства частей[50]).
11. Кроме того, либо то отношение (respectus), которое следует в Боге за активной потенцией в четвертый момент [порядка, о котором он учит[51]], реально, либо нет.
Если оно реально и [ограничено] вовне, то это опровергнуто нами в 30-й дистинкции[52].
Если же [оно есть отношение] разума, тогда в третий момент [порядка] Бог является границей возможности [как отношения твари] в своем абсолютном объективном содержании (sub ratione absoluta), — и этот вывод я не считаю сам по себе нелепостью, но думаю, что с ним многие должны бы согласиться (если только можно это допустить) или по крайней мере его не должны расценивать как нелепость те, кто придерживается мнения этого учителя [т.е. Генриха], поскольку это следует из него.
12. Подобным образом, на том же основании, я вывожу из этого его полагания и другое заключение, а именно, что какое-либо отношение не может быть со стороны причины [к причиненному] прежде, чем отношение со стороны причиненного [к причине]; и более того, от самой причины как абсолютного происходит, [во-вторых], само причиненное, поскольку оно обладает абсолютным объективным содержанием; а уже потом, в-третьих, следует отношение в причиненном, а в-четвертых, — в причине к причиненному[53]. Следовательно, тот порядок абсолютных и относительных [вещей], который он признает здесь[54], никогда и никоим образом не должен считаться нелепым (inconveniens) теми, кто придерживается [его мнения] об этом порядке.
13. В-третьих, подобным же образом я делаю вывод о том, что всемогущество, поскольку оно является божественным атрибутом и означает простое совершенство (perfectionem simpliciter), не обозначает (dicit) какого-либо отношения к твари (что он сам доказывает в своем первом суждении, в 3 вопросе VI серии «Каких угодно вопросов»[55]), потому что ни одно божественное и простое совершенство не зависит от твари (а это доказывает Ансельм в гл. 15 «Монологиона»[56]). Поскольку же это ‘отношение к твари’[57] не означает простого совершенства в Боге, потому что тогда Бог не был бы таковым [т.е. совершенным таким совершенством], если бы не было твари (ибо Бог совершенен всяким простым совершенством — из себя и из своей природы, а не из какого-либо отношения к твари), — это, стало быть, заключение, каковое я считаю истинным (так же, как и другие два выше[58]), не должны отвергать как нелепое некоторые [ученые], которые придерживаются сказанного им [т.е. Генрихом].
[B. Собственное мнение]
14. Я же говорю иначе, чем сказано в его первом суждении (относительно того, что доказывают те два аргумента выше[59]), а именно: что хотя потенция Бога «в себе» (ad se) — т.е. некоторое абсолютное совершенство, из-за которого Бог является формально «могущим» (potens), — и есть в Боге в первый момент природы, так же, как и какое угодно иное простое совершенство (точно так же, как за теплом следует потенция нагревания, но при этом само тепло есть некая абсолютная форма), однако посредством самой этой потенции в том аспекте, «в каком она является всемогуществом», [ее] объект не обладает [характером, состоящим в том], что он «первично возможен», но имеет это посредством божественного интеллекта, первично производящего его в «понимаемое бытие», а интеллект формально не является той активной потенцией, от которой Бог называется «всемогущим». И тогда[60] вещь, в первый момент природы произведенная божественным интеллектом в такое, т.е. «понимаемое бытие», «сама собой» (se ipsa) имеет «возможное бытие» во второй момент природы, потому что ей формально не противоборствует бытие, и [разом] в нем самом[61] (se ipso) ей формально противоборствует иметь «из себя необходимое бытие» (esse necessarium ex se) (в каковых двух [характерах] и состоит полное объективное содержание [объекта] всемогущества (tota ratio omnipotentiae), соответствующее основаниям активной потенции [для акта творения])[62]. Следовательно, возможность в объекте не будет каким-либо образом первее, чем есть всемогущество в Боге, принимая «всемогущество» как абсолютное совершенство в Боге, — так же, как и тварь не может быть более первым, чем нечто абсолютное в Боге. Однако если [это] понимается в том смысле, что вещь возможна до того, как Бог производит ее [вовне] через всемогущество, то так это[63] является истинным, но в этой [своей] возможности она не будет «просто более первым» (simpliciter prius), но производится [в нее] божественным интеллектом.
15. Что же касается невозможности, я утверждаю, что она не может первично быть в Боге (ex parte Dei), но есть в вещи (ex parte rei) (как и полагает первое суждение[64]), и [я утверждаю] это из-за довода, высказанного против второго суждения [Генриха][65], ибо сама [вещь] является невозможной из-за своего противоборства тому, чтобы быть созданной (propter repugnantiam eius ut fiat).
16. Что я понимаю[66] следующим образом: «просто невозможное» заключает в себе несовозможные (incompossibilia), которые несовозможны из своих собственных формальных объективных содержаний, и [кроме того, их] несовозможность «зависит как от принципа» (principiative) от того, от чего они имеют «как зависящие от принципа» (principiative) свои формальные объективные содержания. Следовательно, процесс там будет таким: точно так же, как Бог своим интеллектом производит (producit) некое возможное в «возможное бытие», так он производит и формально два сущих (и то, и другое в «возможное бытие»), и эти ‘произведенные’ (‘producta’) сами собой формально несовозможны [друг с другом], так что они не могут быть разом [чем-то] одним (simul esse unum), как не [может быть] и нечто третье из них. И эту несовозможность, которую они имеют, формально они имеют «из себя», а как «зависящие от принципа» (principiative) — некоторым образом — от того, кто их произвел. И из этой их несовозможности следует невозможность[67] целого вымысла (totius figmenti), заключающего их в себе, а из этой невозможности вымысла в себе и из несовозможности его частей происходит его невозможность[68] в отношении какого бы то ни было действующего. И именно от этого должен завершиться весь процесс [происхождения] невозможности вещи (processus impossibilitatis rei) в целом, как будто предельной степенью несовозможности или невозможности является отрицание отношения к чему-либо действующему (agens). И [для невозможности вовсе] не нужно[69], чтобы имелось некое отрицательное отношение (respectum negativum) [к невозможному вымыслу] в Боге, как и в чем бы то ни было другом (да, пожалуй, и в природе самой вещи нет какого-либо [такого отрицательного отношения]), хотя [некий] интеллект и мог бы сравнить Бога — или иное действующее — с тем [невозможным вымыслом] в аспекте отрицания такого отношения [т.е. возможности быть сотворенным Богом].
17. Следовательно, первая невозможность есть формально в невозможном (ex parte impossibilis) и «как зависящая от принципа» (principiative) — в Боге. И если «как зависящая от принципа» она и сводится к чему-то [вообще], то все же не сводится к отрицанию возможности в Боге; и даже более того, «как зависящая от принципа» она сводится к божественному интеллекту, начинающему [как внешний принцип] то (principiantem illud) [невозможное] в том бытии, в котором эти [его] части формально противоборствуют друг другу, из-за какового формального противоборства целое [состоящее] из них и есть «просто невозможное».
18. И из этого явно, что ложно представление (imaginatio) тех, кто ищет невозможность некоторых [вымыслов] как бы в чем-то одном, как если бы нечто одно (aliquid unum) — или понимаемое, или как бы то ни было сущее — было «невозможным» «из себя формально», так же, как Бог «из себя формально» (ex se formaliter) есть «необходимое бытие» (necesse esse). Ибо в «не-существенности» не имеется ничего такого первого (nihil est tale primum), а божественный интеллект также не является и основанием (ratio) противоположной возможности существенности, противоположной таковой «не-существенности»; и также божественный интеллект не является прецизированным основанием (praecisa ratio) возможности, противоположной ничто (de nihilo)[70], ибо иначе имел бы силу вышеприведенный аргумент о «прецизированных причинах в утверждении и отрицании»[71]. Но всякое ‘простое ничто’ (omne ‘simpliciter nihil’) заключает в себе объективные содержания многих, так что оно само первично есть «ничто» (primo nihil) не из своего собственного объективного содержания (ex ratione sui), но из объективных содержаний тех, которые понимаются как заключенные в нем, и из-за формального противоборства этих многих заключенных в нем [объективных содержаний] друг другу; и это основание противоборства (ratio repugnantiae) происходит из их формальных объективных содержаний, каковое противоборство они первично имеют посредством божественного интеллекта[72] (per intellectum divinum).
[II. Ответ на первоначальный аргумент]
19. На первый аргумент[73] [я отвечаю], что довод Магистра имеет силу, если предположить, что универсум был бы способен воспринять бόльшее совершенство, потому что тогда, если бы ему была дана эта способность, он был бы создан лучше, чем он создан без такой способности, например, если бы он был способен воспринять [в себя] много иных [сущих или благ]. Однако в абсолютном смысле, а именно: если отрицается то, что универсум мог быть создан лучше, довод Магистра не может быть удержан и принят, — точно так же, как не имеет силы такое следствие: огонь, ‘остающийся огнем’, мог бы быть создан лучше, если бы он был создан способным к интеллекту или воле, — каковой [огонь по своей сущности] не может быть способным к ним. Тогда формально я отвечаю на [первоначальный] аргумент, что Бог не может дать способность тому, что есть «ничто пассивного создания»[74] (nihilo factionis passivae); но не это является здесь первым основанием (prima ratio) [невозможности создания], а то, что такое [ничто] не может иметь такую способность, и это основание сводится к формальному противоборству частей, а далее — к божественному интеллекту.
Параллельные и дополнительные места из сочинений Иоанна Дунса Скота, ОМБ
Репортация I-A. Дистинкция 43. Вопрос 1
СОДЕРЖИТСЯ ЛИ ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЕЩЕЙ В БОГЕ ИЛИ В ВЕЩИ?[75]
[Мнение Генриха Гентского[76]]
4. На это некий учитель[77] говорит, что в тех [атрибутах], что сказываются о Боге, есть тройственное различие. Ибо некоторые из них обозначают простое совершенство, как те атрибуты, которые подобают Богу в себе (in se), а не через отношение вовне. Некоторые обозначают совершенство и достоинство, но не простое совершенство, т.е. то, о котором [утверждают], что в чем угодно ему лучше быть, чем не быть, или же, что [лучше, если есть] ‘оно само’, чем ‘не оно само’, как те [атрибуты], которые подобают Богу в отношении к твари, как например, быть Господом, Творцом, правителем и тому подобное. Другие же подобают Богу привативно или отрицательно, как невозможное, которое лишает (privat) его объективного содержания пассивной потенции[78]. Итак, активная потенция не сказывается о Боге привативно или отрицательно; следовательно, она сказывается одним из двух других названных прежде способов. Активная потенция может, однако, рассматриваться двояко: с одной стороны, в сравнении с тем, в чем она есть, и таким образом активная потенция является простым совершенством и есть в чем угодно «лучше она сама, чем не она сама». С другой стороны, она может рассматриваться в сравнительном отношении к твари как к [ее] возможному объекту, и тогда она не будет простым совершенством, потому что ни одно простое совершенство не подобает Богу в отношении к твари, как это доказывает Ансельм в гл. 15 «Монологиона»[79], ибо если бы твари не было, то и Бог не был бы просто совершенным в этом совершенстве. Бог же совершенен из себя и из природы вещи. Следовательно, поскольку активная потенция в Боге «в себе» (ad se) есть простое совершенство, постольку в твари есть пассивная потенция абсолютно [т.е. не только в отношении к Богу]. А коль скоро пассивная потенция абсолютным образом есть в твари от Бога или от активной потенции в Боге, то отсюда следует отношение пассивной потенции в твари к активной потенции в Боге. И коль скоро тварь таким образом относится к Богу, то и, наоборот, Бог — согласно рациональному отношению (relationem rationis) активной потенции — относится к твари, потому что тварь относится к нему самому. Так что, во-первых, в Боге есть активная потенция «в себе» (ad se), во-вторых, в твари «в себе» (ad se) есть пассивная потенция, в-третьих, есть отношение, следующее из пассивной потенции в твари, и в-четвертых, есть следующее из активной потенции Бога рациональное отношение[80] к твари, т.е. отношение его активной потенции к твари.
5. Но что же относительно невозможного? Он [т.е. Генрих. — В. И.] отвечает: то, что сказывается о Боге отрицательно в отношении к твари, не имеет своего первого основания в Боге; но первое основание невозможности содержится в твари. И, в соответствии с этим, отрицание есть, во-первых, в твари в себе (in se), во-вторых, из этого следует отрицательное отношение твари к Богу, в-третьих же, в Боге есть следующее из этого отрицательное отношение к твари. Таким образом, во-первых, есть пассивная невозможность в твари, во-вторых, [отношение невозможности] твари к Богу, а в-третьих, активная невозможность Бога [в отношении] к твари.
6. Пересматривая это свое суждение, этот учитель в ином месте[81] говорит относительно невозможного следующее: не будет просто истинным [полагать], что Бог потому не может создать невозможное, что оно не может быть создано, но, [напротив, оно потому и не может быть создано,] что Бог не может его создать. Ибо точно так же, как в утвердительной [пропозиции] не говорится, что Бог может создать нечто, потому что его возможно создать, но наоборот, так как Бог может создать нечто, оно и может быть создано, — будь то субъективно или объективно[82], так же будет [обстоять дело] и с отрицательной [пропозицией].
[Опровержение мнения Генриха]
7. Но [я возражаю] против первого его мнения, и сперва — против тех его слов, что «активная потенция Бога “в себе” (ad se) является основанием пассивной потенции в твари». Ибо активная потенция Бога есть его всемогущество (omnipotentia). Однако вещь первично не обладает «возможным бытием» через всемогущество, но — через интеллект, который формально не есть ни всемогущество, ни воля, которая полагается как первый действенный (efficiens) принцип в отношении всех тех [вещей], которые существуют вне [Бога]. Следовательно, до (ante) активной потенции Бога или всемогущества, полагается ли оно как воля или как иная исполнительная потенция (potentia executiva), тварь уже имеет «возможное бытие». Доказательство меньшей посылки: так как тварь, существуя в божественном интеллекте посредством акта интеллекта, уже формально имеет «возможное бытие». Ведь это утверждает сам учитель, который высказал такое мнение. Ибо он сам полагает[83], что камень, благодаря тому, что у него есть образец (exemplatus) в божественном интеллекте, обладает твердо установленной чтойностной существенностью (entitatem ratam quidditativam), и вследствие этого может быть вне [божественного интеллекта]. Ведь именно из-за того, что вещь может быть вне [интеллекта], твердо установленная существенность (entitas rata) отличается от вымыслов (figmentis). Но божественный интеллект формально предшествует всемогуществу — какая бы потенция не подразумевалась здесь под всемогуществом. Следовательно, некоторая вещь первично является возможной не через всемогущество. В подтверждение этого можно привести следующий аргумент: камень имеет «возможное бытие» первично и «как зависящий от принципа» от того, от чего он имеет бытие в интеллекте или в божественном акте понимания. Но именно от божественного интеллекта камень первично имеет бытие как понятый, следовательно, «возможное бытие» он имеет первично и «как зависящий от принципа» от божественного интеллекта. Божественный же интеллект, так как он отличается от всемогущества, предшествует всемогуществу, следовательно, возможность есть в камне не через всемогущество.
8. Кроме того, божественное всемогущество, коль скоро оно отличается от интеллекта, будет принципом вещи только [в аспекте] «бытия существования» (secundum esse existentiae) самой этой вещи[84]. Но вещь уже была возможной прежде, до ее существования вне [интеллекта, т.е. как актуально сотворенная]. Следовательно, уже в своем «возможном бытии» она прежде должна быть «зависящей от чего-то как от принципа» (principiari eam ab aliquo). Не от всемогущества или активной потенции, следовательно, — от интеллекта. Принятое же в аргументе, а именно то, что вещь, существующая как эффект (in effectu), сперва производится в «возможное бытие», доказывается тем же самым магистром [т.е. Генрихом из Гента], который именно из-за этого полагает[85] вечные сущности [тварей в «бытии сущности»], и ссылается при этом на Авиценну, кн. II его «Метафизики», который говорит[86], что ничто не может быть произведено каким бы то ни было действующим, если только оно уже прежде не было возможным в себе. Итак, кажется, что если камень, у которого есть образец [в божественном интеллекте], формально есть сущность[87], то устраняя [из рассмотрения] всемогущество, он уже будет возможным, а следовательно, и будет до всякого действия (ante omnem actionem) или активной потенции в Боге.
[…]
11. А против пересмотра [им своего первого мнения] в серии VIII «Каких угодно вопросов»[88] я аргументирую[89] следующим образом: «просто невозможное» для создания — это то, чему просто противоборствует бытие «согласно себе» и «из себя» (secundum se et ex se), а именно — не из-за некоторого отношения к чему-то внешнему, но из его собственного формального объективного содержания, противоборствующего в себе или [противоборствующего бытию] из собственных формальных объективных содержаний [в нем], так, как противоборствуют друг другу белое и черное, а не через отношение к чему-то внешнему. Следовательно, невозможность создать нечто, связанная с тем, что создание противоборствует этому нечто, происходит не оттого, что Бог не может его создать. И потому, что касается этого [т.е. основания невозможности], я полагаю, что сказанное им прежде [т.е. в его первом мнении] было более истинным.
Кроме того, «просто невозможное» (impossibile simpliciter) заключает в себе противоречие (contradictionem), ибо все то, что не заключает в себе формального противоборства или противоречия, является возможным для Бога. Но противоречивые (contradictoria) [вещи] имеют формальное противоборство из себя, а не из отношения к некоторому внешнему отрицанию; и даже более того, если бы было возможно, чтобы не было Бога, то даже и тогда противоречивые [вещи] противоречили бы друг другу[90]. Следовательно, простая невозможность в твари есть не из-за некоего отрицания или невозможности в Боге.
[Ответ на вопрос]
Итак, я отвечаю на вопрос: и во-первых, относительно возможности в твари, во-вторых, относительно невозможности в ней, согласно ходу [изложения] первого мнения [Генриха].
[Относительно возможности в твари]
15. Что касается первого, я утверждаю, что всемогущество, или потенция Бога, поскольку она является простым и абсолютным совершенством, есть прежде (prior) твари согласно какому угодно ее [т.е. твари] бытию, ибо то, что есть «формально необходимое из себя» (ex se formaliter necessarium), есть прежде «не-необходимого из себя». Тварь, согласно какому угодно своему бытию — будь то согласно «бытию существования», или согласно «понимаемому бытию», — есть возможная, а не «формально необходимая из себя»[91], — так как есть какое угодно абсолютное совершенство в Боге. Следовательно, возможность и активная потенция в Боге есть прежде, чем некая возможность в твари.
16. Но будет ли активная потенция в Боге прежде, чем пассивная в твари именно потому, что эта пассивная потенция в твари «зависит как от принципа» (est principiative) от той активной потенции, что есть в Боге?
17. Отвечаю: я утверждаю, что нет, так как первое основание возможности в твари — это не активная потенция Бога, или всемогущество, но более первичным основанием (prior ratio) ее возможности является [божественный] интеллект, потому что именно посредством интеллекта она первично конституируется (primo constituitur) в «понимаемом бытии»[92].
18. И тогда я аргументирую так: именно то, посредством чего в Боге конституируется первично в «понимаемом бытии» [тварь] (что бы это ни было), это и будет для нее первым основанием возможности; однако посредством всемогущества, поскольку оно отделяется от интеллекта [в Боге], тварь не конституируется первично в «понимаемом бытии», но — посредством интеллекта; следовательно и т.д.
[Относительно невозможности в твари]
19. Что касается второго, я утверждаю: не следует воображать (imaginandum), что «первично невозможным» будет «нечто одно» (aliquod unum), или что будет нечто отрицательное или привативное, чему противоборствует бытие или создание (fieri), потому что никакое одно отрицание (nulla una negatio) или одно утверждение не является «первично невозможным» в сущих; и даже отрицание первого сущего, как «не-Бог», не является «первично невозможным», потому что само оно [т.е. такое отрицание] следует из всего того, что не есть Бог. Ведь и человек есть «не-Бог» и т.д., а следовательно, если отрицание будет одним, то оно будет некоторым отрицанием [чего-то] первично возможного[93]. Но также и никакое утверждение не будет в сущих «первично невозможным»; ибо любое утвердительное, которое может быть схвачено [интеллектом], может быть[94]. А потому ничто не будет «просто невозможным», кроме того, что заключает в себе противоречие (quod implicat contradictionem). Противоречивые же противоречат сами собой, устраняя всякое отношение к чему бы то ни было иному, как например, «неразумный человек» или «черная белизна». Поэтому, так как невозможные противоречат и формально противоборствуют «из себя самих», то не дóлжно искать причину невозможного или «заключающего в себе противоречие» в Боге из-за какого-то отрицания или отрицательного отношения в нем, но — в самом «из себя невозможном» — из-за формальной несовозможности и противоборства частей. Следовательно, невозможность в твари происходит не из невозможности в Боге, но только «из себя» и из ее [т.е. невозможной твари] несовозможных и друг другу противоборствующих частей.
20. Но поскольку есть некое первое основание самого невозможного, точно так же, как [есть и некое первое основание] ему противоположного, то есть необходимого (согласно Философу в IV кн. «Метафизики»[95]), то нужно разыскать первое основание невозможности, так же, как и необходимости.
Об этом должно сказать, что невозможность в невозможном должна возводиться (reduci) к божественному интеллекту, — не потому, что в Боге будто бы содержится первая невозможность как основание и причина (ratio et causa) невозможности в твари, но потому, что в нем самом находится первое основание принципирования (prima ratio principiationis) в отношении противоборствующих друг другу частей невозможного. Ибо части самого этого несовозможного будут несовозможными разом и формально противоборствующими в себе, как белое и черное. Ведь то «первое возможное бытие», которое они имеют, [эти части] имеют от божественного интеллекта, будучи «зависящими [от него] как от принципа» (principiative), и следовательно, от божественного же интеллекта они «как зависящие от принципа» имеют и свою собственную несовозможность, точно так же, как и свои формальные объективные содержания (rationes formales). Но они таковы «формально из себя», если устранить все прочее, что может быть сказано о них, а потому невозможность такой [пропозиции], как ‘белое есть черное’, не сводится (reducitur) к Богу как некоей привативной причине, в которой находилась бы такая несовозможность или формальное противоборство, но сводится к божественному интеллекту как позитивной причине, т.е. к тому, от чего «как зависящие от принципа» есть в «возможном бытии» первые формальные части самого этого невозможного, а следовательно, и [от чего опосредованно происходит] несовозможность целого, [состоящего из этих частей].
21. Из этого вполне ясно, что «вымышленное сущее» (ens fictum), отличное от «твердо установленного сущего» (ens ratum)[96], [такое] как, например, «химера» или «неразумный человек» и тому подобное, заключающее в себе противоречие, не может быть чем-то «одним схватываемым» [интеллектом] (aliquod unum conceptibile), разве что [оно будет схватываться] заблуждающимся интеллектом (intellectu errante). А то, что является схватываемым (conceptibile) заблуждающимся интеллектом, поскольку он заблуждающийся, — ничто. Но такие вымыслы или противоречивые [вещи] не имеют и никаких идей [т.е. образцов] в Боге[97], кроме как согласно своим частям, каковые части, однако, не образуют (faciunt) «через себя одно» (per se unum) ни в вещи, ни в интеллекте. И таким образом ясно, что первый довод о прецизированной причине утверждения и отрицания[98] не будет [аргументом] против меня, потому что точно так же, как я полагаю, что божественный интеллект есть первая причина возможности в твари, так же я признаю и то, что тот же самый интеллект есть причина невозможного, поскольку его части [конституируются] в «первом возможном бытии», но не поскольку [это касается] невозможного [как] целого, или в отношении целого невозможного [вымысла], потому что как таковое [т.е. как целое, невозможное] не имеет причины — ни в бытии, ни в понимаемом [бытии][99].
Иоанн Дунс Скот, ОМБ
ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I. ДИСТИНКЦИЯ 36
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС
Имеет ли фундамент (fundamentum) вечного отношения к Богу как познающему «бытие сущности» истинным образом в силу того, что этот фундамент находится в таковом отношении[100]
1. Относительно тридцать шестой дистинкции я спрашиваю, имеет ли основание[101] вечного отношения (relationis aeternae) к Богу как познающему [т.е. возможная тварь как вторичный объект божественного интеллекта] «бытие сущности» (esse essentiae) истинным образом из-за того, что [этот фундамент] находится в таковом отношении [к Богу как познающему]?
В пользу того, что «да», [имеет] аргументируют так[102]:
Человек не есть «из себя» «твердо установленное сущее» (ex se ens ratum), (потому что иначе он был бы Богом), следовательно, «твердо установленным» [сущим] формально он будет через нечто [иное], а именно, — лишь через отношение (per respectum) к самому «первому из себя твердо установленному» [сущему, т.е. к Богу], но не через отношение к нему как действующему (efficiens), потому что, коль скоро определение является [всегда определением] «твердо установленного сущего», а действующее, ‘поскольку оно есть действующее’, производит «существующее в акте» (exsistens in actu), то если бы человек имел «твердо установленное бытие» (esse ratum) от действующего, поскольку оно есть действующее, то определение было бы его [определением] только постольку, поскольку он является существующим, а тогда определение завершало бы поиск [ответа на вопрос] ‘есть ли’ (an est), что нелепо[103]; следовательно, человек будет «твердо установленным» сущим, поскольку он причастен к первому как образцу (exemplar), т.е. поскольку он имеет вечное отношение к Богу как знающему и служащему образцом (ut scientem et exemplantem), а потому и т.д.
2. Кроме того, соотносящиеся (correlativa) друг с другом по природе суть разом (simul natura), следовательно, по природе разом суть Бог, понимающий камень, и камень, понятый им; следовательно, так как понятый божественным интеллектом камень понимается постольку, поскольку он есть [нечто] иное [по отношению к] божественной сущности[104], и это знание Бога (scientia Dei) было реальным и метафизическим (а не логическим)[105], следовательно, то, что было границей[106] (terminavit) этого понимания [Бога, т.е. его объектом], было истинной вещью, следовательно и т.д.
[I. К вопросу
A. Мнение других]
4. Смотри относительно этого мнение Генриха Гентского о вечности сущностей, и в особенности в его «Сумме», разд. 21, вопр. 4[107].
5. В пользу этого мнения преимущественно аргументируют посредством того довода, который был затронут во втором первоначальном аргументе[108] [выше], — о знании Бога и [его] вечном реальном объекте.
7. Кроме того, как сущее относится к «не-сущему», так и возможное относится к невозможному, следовательно, если поменять местами части [этой пропорции, она останется истинной] (ergo permutatim)[109]: но всякое сущее есть возможное, следовательно, все, что является чистым «не-сущим», будет невозможным.
8. И этот довод[110] подтверждается тем, что если бы некоторое чистое «не-сущее» (или ничто) было возможным, а некоторое [иное] чистое «не-сущее» (или ничто) было бы невозможным, то «одно ничто» (unum nihil) было бы в большей степени «ничто», чем иное [ничто], а это кажется абсурдным. Следовательно, ‘возможное’ — это не «вообще ничто» (omnino nihil), но некое сущее.
11. И Авиценна[111] в последней гл. книги VIII своей «Метафизики» [высказывает мнение] о двояком проистекании (fluxu) вещей из Бога.
[B. Собственный ответ]
26. Я согласен с заключением этих доводов[112], т.е. признаю [истинной] отрицательную часть вопроса[113].
28. А все те аргументы (motiva), которые приводятся [нашими противниками] относительно божественного интеллекта[114], как кажется, могут быть приведены и относительно нашего интеллекта:
Потому что, если что-то не-есть (aliquid non sit), оно [тем не менее] может быть понято (intelligi) нами (будь то его сущность или его существование), однако, только из-за нашего понимания еще нельзя полагать, что оно будто бы имеет истинное «бытие сущности» или существования. И, как кажется, в этом отношении нет никакой разницы между божественным и нашим интеллектом, кроме как в том, что божественный интеллект производит эти понимаемые в «понимаемое бытие», а наш — не производит первично (primo). Но если это [т.е. понимаемое] бытие не будет из себя таким, чтобы требовать «простого бытия», то ‘производить его в такое [т.е. понимаемое] бытие’ — не значит производить [его] в некое «простое бытие» (in aliquo esse simpliciter). А потому кажется, что если это «понимаемое бытие» в сопоставлении его с нашим интеллектом не требует «простого бытия», то и в сопоставлении его с интеллектом, ‘производящим [нечто] в это [т.е. понимаемое] бытие’ [первично], оно[115] не будет «простым бытием», потому что, [приводя аргумент от подобного] — если «бытие белым» есть лишь «качественное бытие»[116], то и ‘производить в бытие белым’ не значит производить в «бытие субстанцией», но [именно и только] в это «качественное бытие».
29. Подобным же образом, наш действующий интеллект производит вещь в «понимаемое бытие», хотя она уже и произведена [в него] прежде[117] (prius), тем не менее из-за этого произведения, осуществляемого нашим действующим интеллектом, ни один [ученый] не полагает, что ‘так произведенная’ [в понимаемое бытие] вещь имеет «простое бытие».
[C. Возражения против собственного ответа и ответы на них]
30. Против этого возражают, что фундамент (fundamentum) отношения[118], постольку, поскольку он обосновывает отношение, есть согласно тому бытию[119], согласно которому он и обосновывает [это отношение], ведь в противном случае он не обосновывал бы его согласно этому бытию. Но камень обосновывает свое вечное отношение к Богу как знающему согласно «истинному бытию сущности», и [обосновывает его] от вечности. Следовательно, камень от вечности и есть согласно этому бытию. Доказательство меньшей посылки: он обосновывает отношение к Богу как знающему согласно тому своему бытию, согласно которому он познается Богом как объект; познается же Богом он в объективном содержании «истинной сущности» (sub ratione essentiae verae), а не в объективном содержании «уменьшенной сущности» (essentiae deminutae), поскольку первое понимание Богом камня не является рефлексивным[120].
36. Тогда я отвечаю на аргумент[121] формально: ‘фундамент (fundamentum) отношения будет соответствовать тому бытию, согласно которому оно обосновывает отношение’ — это истинно, но только если это обоснованное отношение не является просто уменьшающим (simpliciter deminuens) бытие самого фундамента. И реальный фундамент этой [разницы между бытием] ‘согласно чему-то и просто’ (secundum quid et simpliciter), как кажется, состоит в том, что, как представляется, первая дистинкция сущего — это дистинкция между «сущим вне души» и «сущим в душе», — а это [бытие] ‘вне души’ может разделяться на акт и потенцию (сущности и существования), и какое угодно бытие из тех, которые суть ‘вне души’, может иметь также «бытие в душе», и это бытие ‘в душе’ является иным, чем любое бытие вне души. И поэтому относительно всех без исключения сущих и всех [видов] бытия, имеющих «уменьшенное бытие в душе» (esse deminutum in anima), не верно следствие, согласно которому именно в силу этого они будут иметь и «простое бытие» [вне души], потому что абсолютно [т.е. в вещи] это бытие [как объект] есть [бытие] лишь «согласно чему-то», хотя оно и принимается как ‘простое’ [бытие] постольку, поскольку сопоставляется с душой как фундамент (fundamentum) того «бытия в душе».
[II. Ответ на первоначальные аргументы]
48. На первый аргумент[122] [в начале вопроса] я отвечаю[123], что ‘твердо установленным сущим’ (‘ens ratum’) называется или то, что имеет «из себя прочное и истинное бытие» (ex se firmum et verum esse) — будь то [бытие] сущности, или [бытие] существования (ведь как бы их ни разделять, одного нет без другого[124]), — или же ‘твердо установленным сущим’ именуется то, что первично (primo) отличается от вымыслов (figmentis), т.е. то, чему не противоборствует «истинное бытие сущности или существования».
49. Если «твердо установленное сущее» берется в первом смысле, то я утверждаю, что человек — это «твердо установленное сущее» не «из себя», но от действующего [т.е. Творца], от которого он имеет всякое «истинное бытие», — как сущности, так и существования. И когда ты говоришь, что в этом случае человек всегда будет «твердо установленным сущим» только как действие (effectum) [этого действующего], — согласен, [если такое сущее понимается] в этом [т.е. первом] смысле; и коль скоро он есть действие (effectum), он есть и существующее (exsistens), следовательно, он будет «твердо установленным сущим» только тогда, когда он будет существующим, — согласен; следовательно, у него нет определения, кроме как постольку, поскольку он будет существующим, — а это следствие я отрицаю, потому что определение — это дистинктное познание определяемого согласно всем его сущностным частям. Но дистинктное познание может быть о чем-то, хотя бы само оно [т.е. объект] и не было «твердо установленным сущим» [в первом смысле]; ведь этого и не нужно, разве что только потому, что «твердо установленное сущее» было бы границей (terminet) определяющего (definitivam) познания, но и тогда не имело бы силы такое следствие: ‘твердо установленное сущее понимается в определении (definitive), следовательно оно есть твердо установленное’.
50. Если же «твердо установленное сущее» понимается во втором смысле, я утверждаю, что человек — это «твердо установленное сущее» «из себя» (ex se ens ratum), потому что «формально из себя» (formaliter ex se) ему не противоборствует бытие. Ибо точно так же, как если чему-то противоборствует нечто, оно противоборствует ему формально из его объективного содержания (ex ratione eius), так и если чему-то нечто формально не противоборствует, то не противоборствует из-за его собственного объективного содержания (propter rationem). И если бы человеку «от себя» (de se) противоборствовало бытие, то [бытие] не могло бы ему не-противоборствовать через какое угодно привходящее [извне] отношение[125]. Но если ты выводишь из этого такое следствие: ‘человек есть из себя (ex se) «твердо установленное сущее» этим [т.е. вторым] способом, следовательно он есть Бог’, то это следствие не имеет никакой силы, потому что Бог не только есть «то, чему не противоборствует бытие», но и «из себя» есть «само бытие» (ex se ipsum esse)[126].
[…]
53. На второй аргумент[127] отвечаю, что я признаю, что Бог от века постиг камень, и не как тождественный себе [объект, но как иной, т.е. вторичный], — и это постижение было реальным и метафизическим, а не логическим. Однако относительно камня из этого постижения не больше следует [его] сущность, чем существование, и это, опять же, имеет не больше силы при сопоставлении его с божественным интеллектом, чем с моим. Хотя [из такого божественного реального постижения] и следует, что ‘вещь всегда постигалась [божественным интеллектом]’, но если из этого делать вывод, что, ‘следовательно, вещь [от века же] была в некотором реальном бытии’, то это софистическая ошибка «согласно чему-то» и «просто» (fallacia secundum quid et simpliciter).
[III. Ответ на доводы в пользу мнения других]
[…]
57. Итак, относительно предложенного аргумента[128]: в общем смысле такая перестановка никак не может считаться [истинной], если сопоставлять крайние [термины в пропорции] с низшим и высшим[129]; более того, это — софистическая ошибка следствия (fallacia consequentis), потому что крайние [термины] двух противоречий, сопоставленные друг с другом, имеют в выводе обратную пропорцию, а не ту же самую (ибо противоположное следствию (oppositum consequentis) влечет за собой в выводе (infert) противоположное предпосылке (oppositum antecedentis), но не наоборот), а потому аргументировать здесь таким образом: ‘как первое к третьему, так и второе к четвертому’[130] — значит делать софистическую ошибку следствия. Но должно аргументировать (в выводе) наоборот: ‘как первое к третьему, так четвертое ко второму’, — то есть в предложенном [аргументе] так: ‘как всякое сущее есть возможное, так и всякое невозможное есть не-сущее’.
58. А относительно того, что следует далее, т.е. что тогда ‘одно ничто было бы в бόльшей степени «ничто», чем иное [ничто]’[131], я отвечаю следующее:
Отрицание (negatio) может быть присуще чему-то трояким способом. Иногда не из-за противоборства положительного с утверждением этого отрицания, но из-за одного только отрицания причины, не производящей это действие (effectum), — так, как если бы некая поверхность была бесцветной, то, хотя она и была бы «не-белой», но не из-за противоборства поверхности с утверждением, противоположным этому отрицанию, а из-за одного только отрицания причины, не производящей [в качестве действия] того, что белизна будет присуща поверхности. Иногда же отрицание присуще положительному из-за его противоборства с утверждением и с противоположностью такого отрицания (ad oppositum negationis). Это может быть двумя способами: иногда такое противоборство будет присуще в прецизированном смысле (praecise) из-за чего-то одного, что будет [заключаться] в понятии обоих [противоборствующих] (de intellectu utriusque), — как у последних видов одного и того же ближайшего рода их отрицания взаимно сказываются о них самих из-за их противоборства друг другу, каковое есть только из-за [чего-то] одного, заключенного в понятии о них обоих, то есть из-за предельной восполняющей дифференции[132] (propter differentiam ultimam completivam) [в них]. Иногда же — из-за многих [объективных содержаний], заключенных в понятии обоих, или только одного из них, как например, если берутся предельные низшие виды двух высших родов [т.е. категорий], то утверждения относительно [таких видов] противоборствуют друг другу из-за многих [объективных содержаний], заключенных в них, то есть [противоборствуют] во стольких отношениях, сколько будет высказываемых о каждом из них чтойностно предикатов (praedicata dicta in quid) в его собственном роде. Ибо о белизне чтойностно не сказывается ничто, что не было бы средним [термином] доказательства (medium ostendendi) пропозиции ‘человек не есть белизна’, но также и о человеке не сказывается чтойностно ничто, что не было бы средним [термином] доказательства той же самой [пропозиции], а потому пропозиция ‘человек не есть белизна’ истинна из-за простого противоборства крайних [терминов в ней], или же из-за множества [предикатов], заключенных в понятии противоборствующих друг другу [видов], каждый из которых был бы и в том, и в другом [виде] достаточным основанием (sufficiens ratio) такого противоборства.
59. Однако обо всех этих присущностях (inhaerentiis) отрицаний, хотя они и присущи по разным причинам, не говорят, что нечто отрицается больше или меньше (magis vel minus negatum), но [говорят, что] нечто — просто ‘не таково’ (simpliciter ‘non tale’). Ибо как человек, так же и вкус (sapor), есть просто «ничто белизны», и, подобным образом, поверхность не имеет ничего от белизны, если исходить из того [что поверхность была бесцветной], а основание (ratio) того, почему одно отрицание не будет в бόльшей степени [отрицанием], чем другое [состоит в том], что любое отрицание отрицает все противоположное ему утверждение целиком, из какого бы объективного содержания ‘таковое’ [отрицание] не происходило, будь то из-за одного объективного содержания или из-за многих.
60. Так и в предложенном[133] [аргументе]: от вечности человеку присуще ‘не быть чем-то’ (‘non esse aliquid’), и химере — ‘не быть чем-то’; но человеку не противоборствует утверждение, т.е. ‘быть чем-то’, а отрицание [бытия] присуще ему [от вечности] только из-за отрицания причины, не полагающей [его в бытии как нечто], химере же [утверждение] противоборствует, потому что никакая причина не могла бы причинить в ней ‘бытие чем-то’ (‘esse aliquid’). А почему человеку [бытие] не противоборствует, а химере противоборствует, заключается в том, «что это есть это», а «то есть то», и это так, какой бы интеллект ни постигал [их][134], потому что, как сказано выше[135], все то, что «формально из себя» противоборствует чему-то, ему противоборствует, а что ему «формально из себя» не противоборствует, то не противоборствует.
61. Но не следует воображать, что человеку не противоборствует [бытие], потому что он есть сущее в потенции, а химере противоборствует, потому что она не есть сущее в потенции, — и даже более того, скорее наоборот, поскольку человеку не противоборствует [быть чем-то], постольку он и есть [нечто] возможное логической возможностью (possibile potentia logica), а поскольку химере противоборствует, постольку она и есть [нечто] невозможное противоположной невозможностью (impossibile impossibilitate opposita). А за той возможностью[136] следует объективная возможность (possibilitas obiectiva), и следует она, если предположено всемогущество Бога (omnipotentia Dei), которое относится ко всему возможному (respicit omne possibile) (в той мере, в какой оно является чем-то иным, чем само [всемогущество]). Однако та [первая] логическая возможность абсолютно — в своем собственном [формальном] содержании[137] (ratione sui) — могла бы сохраняться (stare), даже если — предположив невозможное — ей бы не соответствовало никакого всемогущества[138].
62. Итак, всецело первым и уже не сводимым к иному основанием (prima omnino ratio), почему человеку не противоборствует ‘бытие’, будет следующее: потому что человек есть формально человек (будь то реально в вещи, или интеллигибельно [т.е. понимаемо] в интеллекте), а первое основание, почему химере противоборствует ‘бытие’, есть химера, поскольку она химера (chimaera in quantum chimaera). Следовательно, такое отрицание, как ‘ничтожность’ (‘nihileitas’), от вечности присуще человеку иначе, чем химере, однако из-за этого одно [ничто] не будет в бόльшей степени «ничто», чем другое.
[…]
66. На последний [аргумент], относительно Авиценны[139], отвечаю: тот говорит о проистекании форм из Бога, поскольку они понятны [его интеллектом], и о проистекании всего того, что есть (т.е. вещей — в «истинное бытие»). Я признаю, что точно так же, как ‘бытие’ понятого, поскольку оно понято (intellectum), отличается от «истинного бытия» (esse vero) (которое есть [бытие] сущностей вне души), так и ‘одно и другое’ проистекание (fluxus) является разным, и вещи проистекают из Бога и тем, и другим проистеканием. Но не так — в нас, потому что вещи существуют прежде (praeexsistunt) вне души или же в причине, для того чтобы они могли сподвигнуть (ut moveant) наш интеллект к акту понимания. Но он [т.е, Авиценна] не утверждает, что это проистекание ‘в понятое бытие’ (‘in esse intellecto’) является проистеканием в «чтойностное бытие» (esse quiditativo), потому что ‘понятое бытие’ есть бытие, отличное от «всего реального бытия в целом» (totum esse reale), — как чтойностного, так и [бытия] существования[140].
ОРДИНАЦИЯ. КНИГА II. ДИСТИНКЦИЯ 1. ВОПРОС 2
Может ли Бог сотворить нечто141
50. Во-вторых, я спрашиваю, может ли Бог сотворить нечто?
[…]
[I. Ответ на вопрос]
58. Отвечаю.
‘Творить’ означает производить, как эффект, из ничто нечто (aliquid de nihilo producere in effectu). Хотя словечко ‘из’ (‘de’) и может быть взято во множестве значений (multipliciter) (что ясно благодаря Ансельму, в гл. 8 «Монологиона»[142]), т.е. оно может означать порядок и т.д., однако, кроме этого, даже если принимать ‘из’ в смысле порядка (ordinem), оно все еще многозначно (multiplex), потому что может обозначать либо порядок природы (ordinem naturae), либо порядок длительности (durationis).
[B. О творении из ничто, поскольку ‘из’ означает порядок длительности]
76. Однако в этом втором члене [разделения] (т.е.: понимая ‘из’, поскольку оно означает порядок длительности) можно различать еще разные смыслы того, чтό есть ‘ничто’ [‘из’ которого творится нечто], а именно: оно может приниматься или как «ничто любым способом» (pro nihilo omni modo) [т.е. ничто вообще], или как «ничто согласно бытию существования» но тем не менее как «нечто согласно бытию сущности».
77. И некоторые[143] предлагают такой пример [этого разделения]: хотя Бог может творить из ничто [взятого] во втором смысле [т.е. из ничто согласно бытию существования], но — не из ничто в первом смысле [т.е. из всяческого ничто], потому что он не может произвести то, что не будет из себя возможно (ex parte sui possibile), согласно Авиценне, в кн. II[144] его «Метафизики». Ведь ‘ничто’ не является возможным «из себя», потому что нет какого-либо основания (ratio), почему одно «ничто» было бы из себя возможно, а иное «ничто» — нет.
78. Этот довод подтверждается также следующим рассуждением[145]: поскольку во всякой твари есть сочетание акта и потенции, и в порядке природы предшествует возможность или потенциальность, всюду, где она есть; следовательно, потенциальность — в какой бы сотворенной вещи она ни была — по природе предшествует и по природе является более изначальной (prior natura), чем актуальность. А потому эта потенциальность есть не «ничто», но [потенциальность] некоторого сущего согласно некоторому бытию, однако не согласно «бытию существования»; стало быть, согласно «чтойностному бытию» (secundum esse quiditativum).
79. И они высказывают это мнение, следуя тому способу, который был описан в 43-й дистинкции первой книги [этого Комментария][146]. Ибо они считают, что через активную потенцию Бога в себе (ad se) вещи первично (primo) производятся в «пассивно возможное бытие в себе» и потом могут быть далее произведены в «бытие существования», однако только в том случае, если прежде по природе (prius natura) они были произведены в «чтойностное бытие» и в «пассивно возможное бытие» (in esse possibili passive).
80. Против этого там же, в 43-й дистинкции[147], приводится следующий аргумент: некоторая вещь не производится в «возможное бытие» через всемогущество (per omnipotentiam), но через интеллект, которым она производится и в «понимаемое бытие»; и поскольку (quando) она есть в «понимаемом бытии», ей не противоборствует бытие, но она не есть и «формально необходимое из себя» [т.е. Бог], стало быть, есть «возможное».
82. Итак, что касается этого раздела[148], я утверждаю, что Бог может творить «из ничто (т.е. «не из чего-то») согласно бытию существования», а следовательно, и «из ничто (т.е. «не из чего-то») согласно бытию сущности», потому что, — как было доказано нами в 36 дистинкции первой книги[149], — «бытие сущности» никогда реально не отделяется (numquam realiter separatur) от «бытия существования».
83. Однако, нечто не может быть сотворено, т.е. произведено в «бытие» (produci ad esse) просто из ничто (simpliciter de nihilo), т.е. из «не сущего никоим способом» (nullo modo ente) (ни просто (nec simpliciter), ни согласно чему-то (nec secundum quid)). Ибо не может быть сотворено то, что прежде (prius) не имело «понятого» и «желаемого бытия» (esse intellectum et volitum) и не было в «понятом бытии» формально возможным[150] (possibile formaliter), как сказано в первом доводе против этого мнения[151] [Генриха]. И тогда [т.е. будучи формально возможным] оно находится уже как бы в ближайшей потенции (in potentia propinqua) [к бытию сотворенным], так что может быть объектом всемогущества и полагаться в «простом бытии» (poni in esse simpliciter)[152].
84. И нечто может быть произведено (хотя и не сотворено) из «простого ничто», т.е. не из «чего-то согласно бытию сущности» — ни «согласно бытию существования», ни даже [из чего-то] «согласно некоему бытию согласно чему-то» (nec secundum aliquod esse secundum quid) [т.е. согласно «понятому бытию» в интеллекте], — потому что тварь производится в «понимаемое бытие» не из «некоторого бытия» (non de aliquo esse), — ни из простого, ни из [бытия] согласно чему-то, ни из [бытия,] которое было бы из себя возможным для такого [т.е. понимаемого] бытия (nec possibili ex parte sui in isto esse). Однако такая «произведенность» — это не «сотворенность» (istud produci non est creari), потому что при этом нечто не творится в «простом бытии», но лишь производится в «бытие согласно чему-то».
[11] Suárez Fr., SJ. Disputationes Metaphysicae. 2.4.1.
[12] См., к примеру: Honnefelder L. Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13/14. Jahrhundert / Philosophie im Mittelalter. Entwiklungslinien und Paradigmen / Hrsg. von J.P. Beckmann, L. Honnefelder u.a. Hamburg: Meiner, 1987. S. 165–186. Idem. Scientia transcendens: Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus — Suárez — Wolff — Kant — Peirce). Hamburg: Meiner, 1990. S. IX–XXI; 403–487; Dumont Stephen D. Scotus’s Doctrine of Univocity and the Medieval Tradition of Metaphysics / Was ist Philosophie im Mittelalter? Qu’est-ce que la philosophie au Moyen Age? What is Philosophy in the Middle Ages? / Jan A. Aertsen, A. Speer (eds). Miscellanea mediaevalia 26. Berlin; N.Y.: Walter De Gruyter, 1998. P. 193–212; Boulnois O. Être et représentation: Une généalogie de la métaphysique moderne à l’époque de Duns Scot (XIIIe–XIVe siècle). Épiméthée. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
[13] Например: Дунс Скот. Ординация. Кн. IV. Дист. 8. Вопр. 1 / Ioannis Duns Scoti, OFM Opera omnia. Editio L. Wadding. Lugduni: sumptibus L. Durand, 1639. T. VIII. P. 407.
[14] Однако Скот занимался схоластической, или спекулятивной теологией (что является содержательной характеристикой некоторой науки, а не просто историографическим ярлыком, как этот термин часто понимают ныне), которая принципиально отличалась от экзегетической, или позитивной, теологии (толкования Писания и предания), а также от той теологической дисциплины каковая — уже под именем догматической теологии — единственно и известна нам в последние два столетия после Просвещения, ибо схоластическая теология была наукой, которая, руководствуясь программой «fides quaerens intellectum», пыталась теоретически, т.е. философски, рассматривать и рационально доказывать положения христианской веры.
[15] Главным из них является «Комментарий на IV книги Сентенций Петра Ломбардского», дошедший до нас в трех разных версиях: ранней версии Lectura, Ординации и Репортации. См. подробнее: Иванов В.Л. Вопрос Дунса Скота об интенсивной бесконечности в Троице в контексте истории жанра теологических вопросов Quodlibet / EINAI: Проблемы философии и теологии. [Электронное научное рецензируемое периодическое издание]. <www.einai.ru>. № 1 (001). СПб.: ГУАП, 2012. С. 214–216.
[16] Первой частью следует признать — по крайней мере начиная с Дунса Скота, — учение о понятии сущего как такового. См. об этом: Иванов В.Л. Интенсивная величина совершенства: Бесконечность как существенное понятие в теологии и философии Иоанна Дунса Скота, ОМБ / Космос и Душа II. Учения о Вселенной и человеке в античности, в Средние века и Новое время (Исследования и переводы) / под ред. А.В. Серёгина. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 379–431.
[17] При этом идеи часто истолковывались как особые «аспекты сравнения», в которых интеллект Бога сравнивает его собственную сущность с лишь возможными тварями как несовершенно подражающими ей, т.е. понимались как чисто рациональные отношения (relationes rationis).
[18] См., например: Hoffmann T. Henry of Ghent’s Influence on John Duns Scotus’s Metaphysics // A Companion to Henry of Ghent / G.A. Wilson (ed.). Leiden; Boston: Brill, 2011. P. 339–368.
[19] По крайней мере до Тридентского собора. В конце XVI в. разгоревшаяся дискуссия о «среднем знании» иезуитов сдвинула фокус теологического внимания к проблематике конституирования в божественном знании ряда возможных в данном мире сущих (индивидуумов), обладающих свободной волей.
[20] См.: Дунс Скот. Ординация. Кн. II. Дист. 1. Вопр. 2. П. 83. Здесь и далее ссылки даны на наш перевод ниже.
[21] Такой вид этот вопрос имеет еще в XVII в. — ср. огромное количество диспутаций и трактатов De scientia Dei, авторами которых были теологи — иезуиты, францисканцы или доминиканцы. Следует отметить, что к этому времени вопрос о возможности конечного обсуждался также и вне теологических трактатов — как одна из важнейших проблем в рамках метафизики (как последней части философского курса). Поскольку, однако, авторами большинства «философских курсов» были профессиональные теологи, то обсуждение сохраняло определенную конгруэнтность.
[22] Ср. название переведенного ниже вопроса дист. 43 кн. I «Ординация».
[23] Мы говорим здесь о «чтойности» не в строгом смысле Скота: «чтойность возможной чтойности» была бы тавтологией, а у ничто и вовсе не может быть никакой чтойности, — имеется в виду скорее само содержание понятия «возможности сущего» и «ничтожности невозможного».
[24] См.: Дунс Скот. Ординация. Кн. I. Дист. 43. Ед. вопр. П. 14, 16; ср.: Там же. Дист. 36. Ед. вопр. П. 61.
[25] О том, может ли божественный интеллект сам производить такое «целое ничто» как таковое, т.е. быть — в терминологии Скота — прецизированной причиной невозможного «ничто», как кажется, Скот дает в п. 21 переведенного нами вопроса 1 из дистинкции 43 «Репортации» I-A вполне определенный отрицательный ответ, поскольку такое «ничто» может быть схвачено/понято лишь заблуждающимся интеллектом, а кроме того, в Боге нет и идей химеры и иных козлооленей.
[26] См.: Скот Дунс. Ординация. Кн. I. Дист. 36. Ед. вопр. П. 61.
[27] Ср.: Там же; а также Дунс Скот. Ординация. Кн. II. Дист. 1. Вопр. 2. П. 80–83. В своих «Вопросах о XII книгах Метафизики Аристотеля» (кн. IX. Вопр. 1–2. П. 21), Дунс Скот даже именует подобную по смыслу возможность «метафизической», противопоставляя ее там же «логической», но это нуждается в отдельном истолковании.
[28] Ср.: Дунс Скот. Ординация. Кн. I. Дист. 36. Ед. вопр. П. 48–50, 60.
[29] См.: Mastrius de Meldula B., OFMConv. Disputationes ad mentem Scoti in XII Aristotelis Libros Metaphysicorum. Ч. II. Дисп. VIII. Вопр. 1. Разд. 1–2. П. 3, 12–21; Там же. Разд. 3. П. 39–41 / Philosophiae ad mentem Scoti Cursus integer. Tomus V. Venetiis: apud Nicolaum Pezzana, 1708. P. 19–23, 27–28; а также: Poncius I., OFMObs. Philosophiae ad mentem Scoti Cursus integer. Tractatus in Metaphysicam. Дисп. II. Вопр. 5. Закл. 1–5. П. 46–55, и особенно его «прибавление» к вопр. 5, там же (Lugduni: sumptibus L. Arnaud et P. Borde, 1672. Р. 904–907).
[30] См.: Ioannis Duns Scoti, OFM. Ordinatio I–IV / Ioannis Duns Scoti Opera omnia. Vol. I–XIV. Civitas Vaticana: Typis Polyglottis Vaticanis, 1950–2013.
[31] См.: Johannes Duns Scotus. Reportatio Parisiensis examinata I 38–44. Joachim R. Söder (Hrsg., übers. u. eingl.) Freiburg; Basel; Wien: Herder, 2005. S. 166–184. Следует отметить, что в нашем переводе мы воспроизвели членение на параграфы, содержащееся именно в этом издании Зедера.
[32] Knebel Sven K. Repugnanz (Art.) / Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel: Schwabe Verlag, 1992. Bd. VIII. S. 879–883.
[33] Перевод с латыни и комментарии В.Л. Иванова.
[34] См.: Пётр Ломбардский. IV книги Сентенций. Дист. 44. Гл. 1 (PL 192, 640). Дунс Скот не цитирует рассуждение Магистра точно, но лишь передает его смысл своими словами.
[35] Cм.: Ансельм Кентерберийский. О падении диавола. Гл. 3, 4 (PL 158, 329–331, 333). Опять же, Дунс Скот не цитирует какое-то место из Ансельма точно, но резюмирует содержание нескольких глав, передавая смысл его рассуждения своими словами.
[36] См.: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Сер. VI. Вопр. 3. Editio Wilson, 1987. Р. 42–48.
[37] См.: Там же. Сер. VIII. Вопр. 3. Editio Badius, 1518. F. 304Q. Ясное и краткое изложение позиции Генриха Гентского Дунсом Скотом см. в параллельном вопросе 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (п. 4–6). Генрих «пересмотрел» свою позицию только в той части/разделе вопроса, которая касается основания невозможности создания вещи (относительно основания возможности он учил в обоих вопросах одно и то же, т.е. что оно содержится в Боге): в первом своем суждении (или мнении) в VI Quodlibet он считает, что невозможность первично есть в создаваемой вещи, тогда как во втором суждении в VIII Quodlibet — что она заключается в Боге. Скот считает первое его суждение достойным одобрения, и опровергает здесь же (п. 5) второе.
[38] Ср. с этим: Ординация. Кн. I. Дист. 36. П. 50 (ниже).
[39] Ср. параллельное место в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (п. 11).
[40] Ср. параллельное место в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (п. 7–8).
[41] В аргументе в п. 6 выше, а именно: «но камень есть возможное бытие формально из себя».
[42] Любая активная потенция («мощь»), даже всемогущество, т.е. активная потенция Бога, обладает, согласно психологии и теологии школьного перипатетизма, некоторым объектом. Объект и потенция находятся в некотором отношении (respectus), так что потенция является фундаментом отношения к объекту, а объект — границей (термином — terminus) такого отношения потенции, поскольку он его как бы «ограничивает».
[43] Ср. п. 14 и 16 ниже, а также параллельные места в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A (п. 7, 15) и в ед. вопр. дист. 36 кн. I «Ординации» (п. 50) ниже.
[44] То есть первое суждение Генриха в разделе о всемогуществе как основании возможности, против которого Скот аргументирует в п. 6–10.
[45] То есть первый довод Скота в п. 6 выше против первого суждения Генриха.
[46] См.: «Ординация». Кн. I. Дист. 36. П. 28–29, 36, 53.
[47] Термины «praecisus» и «praecise», переданные нами в переводе посредством заимствованных из латыни, но употребимых в русской речи, хотя и не часто встречающихся, слов «прецизированный» и «прецизированно», означают «отдельно и точно» или «в каком-то отдельном аспекте рассмотренный». Учитывая особое значение в метафизике и теологии Скота темы формальной дистинкции и формального рассмотрения некой реальности или объективного содержания в вещи нашим «прецизирующим» интеллектом, а также большое будущее темы «объективных прецизий» в позднейшей схоластике, мы намеренно оставили здесь слово с латинским корнем, чтобы таким образом выделить его и четко обозначить терминологический статус.
[48] См.: Аристотель. Вторая Аналитика. Кн. I. Гл. 13 (78b 20–21).
[49] Генрих отрицает это лишь в первом своем суждении в вопр. 3 сер. VI Quodlibet, поскольку там он считает, что основание невозможности содержится в твари, а не в Боге.
[50] Ср. с этим п. 16–17 и 19 ниже, а также параллельные места в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (п. 19–21).
[51] В ответе на вопр. 3 сер. VI Quodlibet Генрих учит о некотором порядке между потенцией Бога, возможностью в твари и в отношениях между ними, разделяя четыре «момента порядка», каковые следует понимать не как моменты в порядке времени, но как причиняющие и причиненные реальности в порядке природы. Ср. краткое изложение Скотом этого учения Генриха в параллельном вопросе 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (в конце п. 4). Учение о моментах природы как порядке реальностей в Боге (или твари) Дунс Скот заимствует у Генриха и применяет во многих местах своей теологии.
[52] Согласно Скоту, любое отношение может быть либо реальным, либо рациональным (отношением разума). Как Скот доказывает в дист. 30 кн. I «Ординации», никакое отношение Бога к твари не может быть реальным, поскольку реальное отношение не может быть без реальной границы (термина), а потому, если бы отношение Бога к твари было реальным, то либо тварь должна была существовать реально от века, либо в Боге после творения должно было бы иметь место реальное изменение, а ни то, ни другое невозможно. Ср.: Ординация. Кн. I. Дист. 30. Вопр. 2. П. 49–51, 56–58.
[53] Здесь Скот уточняет порядок причины и причиненного как абсолютных и отношений, следующих за ними, о котором учил Генрих в ответе на вопр. 3 сер. VI Quodlibet.
[54] То есть в ответе Генриха на вопр. 3 сер. VI Quodlibet.
[55] Там же.
[56] См.: Ансельм Кентерберийский. Монологион. Гл. 15 (PL 158, 162–163). О фундаментальном для схоластической теологии понятии «простого совершенства», впервые введенном Ансельмом, в трактовке Скота см., прежде всего: Duns Scotus. Tractatus de primo principio. Сap. IV. Concl. 3 (Трактат о первом принципе. Гл. IV. Закл. 3); Дунс Скот. Ординация. Кн. I. Дист. 8. Ч. 1. Вопр. 1. П. 20–24; а также: Какие угодно вопросы V. П. 20, 31–34 // EINAI: Проблемы философии и теологии. [Электронное научное рецензируемое периодическое издание]. <www.einai.ru>. СПб., 2012. № 1 (001). С. 245, 251–253.
[57] Имеется в виду то, которое, согласно Генриху, есть в четвертом моменте порядка в Боге.
[58] См. п. 11 и 12 выше.
[59] Два аргумента Скота выше (в п. 6 и 10, вместе с подтверждением первого в п. 7–9) доказывают против суждения Генриха, что первым основанием возможности вещи будет не всемогущество Бога, но скорее божественный интеллект.
[60] Ср. с этим ниже: Ординация. Кн. I. Дист. 36. П. 61; Ординация. Кн. II. Дист. 1. Вопр. 2. П. 80, 83–84.
[61] То есть в «понимаемом бытии», в котором вещь уже произведена божественным интеллектом в первый момент природы.
[62] В тексте Ватиканского издания стоит: «in quibus duobus stat tota ratio omnipotentiae, correspondens rationibus potentiae activae». Ваддинг вместо «omnipotentiae» читает «possibilis», что более осмысленно. Мы вставляем «объект» перед «всемогущества» согласно формулировке Скота в п. 7 выше.
[63] То есть то, что возможность вещи или объекта прежде всемогущества.
[64] То есть то, в котором Генрих утверждает, что невозможность первично есть в вещи. См. снос-ки 26 и 27 выше, ср. также параллельное место в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (п. 5).
[65] См. довод в п. 5 выше.
[66] Ср. параллельное место в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A ниже (п. 20–21).
[67] Мы читаем здесь «невозможность» (как у Ваддинга и в некоторых кодексах) вместо «несовозможность» (как в Ватиканском издании), поскольку это представляется более соответствующим описанию порядка «происхождения» невозможности.
[68] То же самое.
[69] Скот высказывает сильные сомнения относительно того, что нечто, что присуще вещи или есть «из себя» (в том числе и невозможность), может зависеть как от принципа от некоторого отношения, поскольку аксиомой для него является обратное: любое отношение возможно лишь постольку, поскольку его члены уже есть некоторым образом как абсолютные. В особенности это имеет силу здесь, где отношение Бога к твари имеет не реальный, а явно (на что указывают упоминания сравнения, или рефлексивной деятельности, интеллекта) лишь рациональный характер.
[70] Несмотря на то что данное предложение, начиная с выражения «а божественный интеллект», явно дошло в манускриптах в отчасти испорченном состоянии, так как во всех них текст прочитывается несколько по-разному, можно предложить примерно такое истолкование: если бы в не-существенности было некое первое и простое «ничто», то, в силу аргумента о причинах в утверждении и отрицании, божественный интеллект — если бы он понимал нечто первое и простое возможное как противоположное такому ничто — должен был бы понимать и, тем самым, первично производить и само ничто именно как простое в «понимаемое бытие», но тогда оно было бы уже не простое ничто, а нечто возможное. Между порядком существенности и не-существенности вообще нет аналогии: в существенности есть нечто одно и простое как первое формально необходимое (а потому и возможное как не-противоборствующее бытию), т.е. Бог, а в не-существенности нет никакого первого и одного простого «невозможного» ничто, но лишь — сложное противоборствующее в себе псевдо-целое ничто, причиной которого будет не божественный, но лишь «заблуждающийся» интеллект. Интеллект Бога есть лишь причина такого простого возможного, которому не может быть противоположно никакое одно простое невозможное «ничто», но этот интеллект не может быть и прецизированной причиной сложного целого формально невозможного, но лишь его частей.
[71] См. п. 10 выше.
[72] Но имеют его первично посредством божественного интеллекта не «формально», а лишь «как зависящие от принципа», что было неоднократно подчеркнуто выше.
[73] См. п. 1 выше.
[74] То есть «несоздаваемому» или «невозможному» для создания или активного творения Богом. Пассивное создание — «сотворенность», соответствующая на стороне вещи творению как действию активной потенции Бога.
[75] Так как этот вопрос является трактатом, параллельным переведенному выше целиком тексту из «Ординации», он дается здесь не полностью, но в выдержках: переведены наиболее существенные и интересные параграфы текста, которые могут рассматриваться как восполняющие изложение в «Ординации».
[76] См.: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Cер. VI. Вопр. 3. Еditio Wilson, 1987. Р. 42–48.
[77] То есть Генрих Гентский, см.: Там же.
[78] Имеется в виду невозможность для Бога быть подлежащим для претерпевания или любого физического изменения, связанного, согласно школьной физике, с пассивной потенцией материи, а в пределе — с несовершенством некоторой вещи. Высказывание типа: «Бог не может изменяться» истинно, поскольку в нем о Боге отрицательно высказывается предикат «имения пассивной потенции», каковое имение (в отличие от имения активной потенции) в себе есть некая лишенность или недостаток совершенства.
[79] См.: Ансельм Кентерберийский. Монологион. Гл. 15 (PL 158, 162–163).
[80] То есть не реальное, поскольку реально Бог не может относиться к твари, в противном случае, он был бы некоторым образом зависим от нее или связан с ней, что невозможно согласно Генриху и Дунсу Скоту. См. п. 11 и 13 в вопросе из «Ординации» выше, а также сноску 42 выше.
[81] То есть в вопр. 3 сер. VIII Quodlibet. См.: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Сер. VIII. Вопр. 3. Editio Badius, 1518. F. 304Q.
[82] Термины рассмотрения Генриха в вопр. 3 сер. VIII Quodlibet. Под объективно невозможным для создания понимается невозможное как объект некоторого действия (например, невозможное как граница не могущего произойти порождения), под субъективно невозможным — невозможное как отсутствующее подлежащее, которое было бы в потенции для создания.
[83] Учение о двойной «реальности» вещей и об обоснованности «установленного сущего» в образцовой причине (идее) в божественном интеллекте — одно из наиболее важных в теологии Генриха Гентского — было одним из центральных пунктов полемики Дунса Скота с Генрихом и его последователями. См.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21. Вопр. 2, 4. Editio Teske, 2005. P. 52–54, 60–62, 76–90; также: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Cер. V. Вопр. 2. Editio Badius, 1518. F. 154D; Там же. Сер. IX. Вопр. 2. Editio Macken, 1983. P. 26–45. Критическая позиция Скота содержится, прежде всего, в: Ординация. Кн. I. Дист. 3. Ч. 2. Ед. вопр., а также: Там же. Дист. 36. Ед. вопр. (ср. ниже переведенные нами фрагменты из дист. 36, особенно п. 1 и 48–50).
[84] Ср. п. 9 в единственном вопросе дист. 43 кн. I «Ординации» выше, а также разъяснение в вопросе о творении из дист. 1 кн. II «Ординации» (см. п. 83–84 ниже).
[85] См.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21. Вопр. 4. Edition Teske, 2005. Р. 76–90; Какие угодно вопросы. Сер. VI. Вопр. 3. Editio Wilson, 1987. Р. 42–48.
[86] На самом деле Авиценна говорит это не в кн. II, а в гл. 2 кн. IV своей «Метафизики».
[87] Здесь Скот как бы между прочим лаконично высказывает главное положение своего учения о конечном сущем до творения: любое конечное сущее до творения есть в божественном интеллекте как понятый им вторичный объект, но формально этот объект есть не идея как образец или основание знания о твари, а сама сущность твари. На деле, Скот отождествляет идею в божественном интеллекте с конечной сущностью до творения.
[88] Ср. п. 6 и сноску 71 в этом же вопросе выше.
[89] Ср. п. 5 и 16 в ед. вопр. дист. 43 кн. I «Ординации» выше, а также п. 19–21 в этом вопросе ниже.
[90] Это высказывание является одной из наиболее сильных формулировок положения Скота о «независимости» возможности возможных сущих от Бога. По-видимости, оно противоречит описанию произведения возможного в «понятое бытие» божественным интеллектом (см. п. 14 и 17 в вопросе из дист. 43 «Ординации» выше, а также п. 17–18 здесь). Именно это положение (ср. другие формулировки в п. 5 парал. вопр. из дист. 43 «Ординации» выше, а также знаменитое место в: Ординация. Кн. I. Дист. 7. Ед. вопр. П. 27), как кажется, послужило основанием для учения скотиста XVII в. Понция (Панча) о формальной самостоятельности конечных сущностей, и до сих пор является предметом контроверсии в исследовательской литературе по Скоту. Ср. вступительную статью.
[91] По сути, Скот формулирует здесь метафизическую дизъюнкцию сущего: сущее как таковое есть или «формально необходимое из себя» (т.е. Бог), или лишь возможное из себя, т.е. контингентное (или зависящее от свободного решения Бога сотворить его в акте) сущее (тварь). Ср. Дунс Скот. Lectura. Кн. I. Дист. 39. Вопр. 1–5. П. 39–40.
[92] Ср. п. 7–9 и 14 в ед. вопр. дист. 43. кн. I «Ординации» выше, а также разъяснение в вопросе о творении из дист. 1 кн. II «Ординации» (см. п. 80 и 83–84 ниже).
[93] Это место в кодексах испорчено, в манускриптах предложение после слов «а следовательно» прочитывается противоположным образом (вместо «возможное» в некоторых стоит «невозможное»). Предлагается также прочтение: «если отрицание будет одним, то это отрицание будет неким первично возможным». Смысл предложенного нами прочтения: любое отрицание, поскольку оно отрицает нечто определенное и является одним, а не подразумевает неопределенно многие положительные сущие («человек не есть осел», а не просто «не-осел», приложимое и к Богу, и к человеку), есть отрицание чего-то первичного, т.е. некоего положительного объективного содержания, которое уже в себе возможно (в нашем примере «человек не есть осел» — природы «осла», которая в себе первично возможна). Ср. также п. 18 в ед. вопр. дист. 43 кн. I «Ординации» выше.
[94] Подразумевается: истинным интеллектом, а не заблуждающимся, т.е. преимущественно божественным.
[95] Cр.: Аристотель. Метафизика. Кн. IV. Гл. 4 (1006b 31–33).
[96] О «твердо установленном сущем» как отличном от вымышленного см. п. 7 в этом вопросе выше, а также п. 1 и в особенности п. 48–50 в ед. вопр. дист. 36 кн. I «Ординации» ниже.
[97] Иначе говоря, у «первого ничто», как такого «противоречивого целого», нет никакой прецизированной причины в Боге — ни образцовой (идея), ни продуктивного принципа, т.е. самого божественного интеллекта.
[98] Довод в п. 9, который был выпущен нами в переводе как полностью тождественный доводу в параллельном вопросе из «Ординации». См. п. 10 в ед. вопр. дист. 43 кн. I «Ординации» выше.
[99] Скот завершает свой трактат «авторитетным суждением» (auctoritas) из Аристотеля, общим местом схоластической аргументации: «нет причины у не-сущего» (non-entis non datur causa).
[100] Мы перевели здесь только те параграфы из этого сложно построенного и весьма пространного вопроса Скота, которые прямо относятся к теме конституирования возможного конечного сущего, а также посвящены экспликации смысла «ничто невозможного».
[101] Чтобы терминологически разграничить «основание» (одно из значений латинского слова ratio, ср. особенно первые два предложения в п. 36 этого вопроса ниже, где оба термина встречаются вместе) и «фундамент» (fundamentum) как один из трех обязательных элементов любого отношения, наряду с его «границей» (terminus) и собственно «отношением» (respectus) от фундамента — к границе, мы используем в переводе латинскую основу («фундамент»).
[102] Данный параграф является кратким изложением Скота многих мест из разных трактатов Генриха Гентского, прежде всего см.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21. Вопр. 2, 4. Editio Teske, 2005. P. 52–54, 60–62, 76–90; а также: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Сер. V. Вопр. 2. Editio Badius, 1518. F. 154D. Под «твердо установленным сущим» (ens ratum) или вещью, считаемой от «твердой установленности» (res a ratitudine), в противоположность вещи в значении просто полагаемого/мнимого (res a reor/reris), Генрих понимает нечто возможное, первично противоположное невозможному ничто, поскольку первое имеет образец (идею) в интеллекте Бога, а второе нет. Кроме того, Генрих отождествляет бытие такого «твердо установленного» сущего с «чтойностным бытием» твари или с «бытием сущности» в противоположность «бытию существования» твари.
[103] Традиционно считалось, что определение есть ответ на вопрос (или завершение поиска) «что есть?», а не на вопрос «есть ли?». Последний вопрос обычно истолковывался как направленный на установление акта бытия, или существования, хотя у Генриха и Дунса Скота в некоторых трактатах этот вопрос получает несколько иную интерпретацию, будучи как раз направлен на сущее как «не-противоборствующее бытию». См. в связи с этим: Dumont S.D. The quaestio si est and the Metaphysical Proof for the Existence of God according to Henry of Ghent and John Duns Scotus // Franziskanische Studien. 1984. N. 66. S. 335–376.
[104] То есть поскольку он является вторичным объектом интеллекта Бога, а не мыслится лишь как содержащийся эминентно в божественной сущности, являющейся первым объектом божественного интеллекта.
[105] Имеется в виду, что логика имеет дело с вторыми интенциями интеллекта (сущим разума), происходящими, согласно Скоту, из рефлексивной, или сравнивающей, деятельности интеллекта, а потому «логическое знание» как не-реальное противопоставляется метафизическому как реальному, т.е. имеющему объектом вещи или реальное сущее. Обычно это разделение не применялось к знанию Бога, но Скот пользуется этим разделением в своих рассуждениях о каких-либо актах божественного интеллекта неоднократно, например там, где ему нужно выявить некие реальности атрибутов как формально отличные в самом Боге, а не лишь в нашем рассмотрении.
[106] См. сноску 32 выше.
[107] См.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21. Вопр. 4. Editio Teske, 2005. P. 76–90.
[108] Ср. п. 2 в этом же вопросе выше.
[109] То есть истинной, согласно аргументирующим таким образом последователям Генриха, будет и пропорция после перестановки («пермутации») членов: «как сущее к возможному, так и не-сущее к невозможному».
[110] То есть довод в п. 7 выше.
[111] То есть в пользу мнения Генриха Гентского приводится также авторитетное мнение Авиценны. См.: Авиценна. Метафизика. Кн. VIII. Гл. 7.
[112] Под доводами имеются в виду аргументы, которыми Скот опровергает суждение Генриха в п. 13–25 этого вопроса. Так как они не относятся напрямую к теме данной публикации и достаточно длинны, они были выпущены нами в переводе. Из них как заключение следует отрицательный ответ Скота на данный вопрос.
[113] Иначе говоря, Скот считает ответом на вопрос отрицательную часть альтернативы, сформулированной в первоначальном вопросе, т.е. что фундамент вечного отношения к Богу как познающему [т.е. возможная тварь как вторичный объект божественного интеллекта] не имеет истинным образом «бытия сущности» (esse essentiae) из-за того, что находится в таком отношении к Богу.
[114] Ср. главный аргумент в п. 2 выше.
[115] То есть «понимаемое бытие».
[116] Имеется в виду: «бытие качеством», т.е. бытие вещью из рода качества, а не из рода субстанции, что будет «простым бытием» по отношению к бытию качеством как лишь «бытию согласно чему-то», т.е. зависимым от субстанции способом. Ср. также разъяснение о радикальном отличии любого понимаемого бытия (или бытия в душе) от реального бытия (вещей вне души) в п. 36, 53 и 66 ниже.
[117] Вещь была от вечности первично произведена в «понимаемое бытие» божественным интеллектом, схватывающим сущность конечной вещи как «возможное нечто», как бы во втором акте своего понимания. Наше понимание предполагает существование вещи, которое следует за актом творения, который, в свою очередь, следует за тем первичным произведением сущности в понимаемое бытие бесконечным интеллектом Бога. Ср. п. 66 ниже.
[118] См. сноску 32 выше.
[119] То есть «согласно тому способу бытия». Скот не употребляет здесь ставшего популярным в XVII в. понятия «способа (модуса) бытия», хотя и часто обсуждает тему «модусов» сущего (в связи со своей теорией «внутренних модусов» сущего как такового и с дизъюнкцией необходимого–контингентного, или бесконечного–конечного, как модусов).
[120] Скот иногда называет «понимаемое», или «понятое, бытие» (именуемое также «бытием согласно чему-то» в противоположность «простому», или «истинному, бытию») «уменьшенным бытием», отсюда — «уменьшенное сущее, или сущность», как сущность твари до творения. Противник пытается указать на то, что это уменьшенное бытие будет не реальным, а лишь неким способом бытия «сущим разума», т.е. результатом рефлексивного акта божественного интеллекта. Поскольку же первый акт понимания Богом конечного сущего не может быть рефлексивным (всякой рефлексии предшествует акт прямого познания некой вещи), то и понятая в нем сущность твари должна быть не «уменьшенной», но обладать неким «бытием истинной сущности» как чем-то реальным, что пытался доказать Генрих. Скот понимает «уменьшенное бытие» в данном контексте несколько иначе (не как чистое сущее разума в обычном смысле), а отвечает на аргумент в п. 36 тут же ниже.
[121] То есть на аргумент в п. 30 выше.
[122] См. п. 1 этого вопроса выше.
[123] Скот дает в этом и в двух следующих параграфах свое собственное фундаментальное истолкование теории Генриха о «твердо установленном сущем» (ens ratum), считающееся современными исследователями базисным разделом его метафизики, так как именно в нем заключается основание для понимания конечного сущего как такового. См. об этом: Honnefelder L. Die Lehre von der doppelten ratitudo entis und ihre Bedeutung für die Metaphysik des Johannes Duns Scotus // Deus et homo ad mentem I. Duns Scoti. Roma, 1972. S. 661–671. Ср.: Idem. Scientia transcendens: Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus — Suárez — Wolff — Kant — Peirce). Hamburg, 1990. S. 31–56.
[124] В отличие от современных ему последователей Генриха и в особенности от позднейших томистов, Скота не слишком сильно интересует вопрос о типе дистинкции между сущностью и существованием; этот вопрос всегда затрагивается им «на полях», поэтому позднейшим скотистам пришлось специально разработать учение о модальной дистинкции как минимальной, чтобы иметь дело с этим вопросом. Это хорошо демонстрирует невозможность понимания мышления прежних ученых по современным историческим схемам, чем до середины XX в. грешили исследователи-медиевисты и такие мыслители, интерпретировавшие традиционную метафизику, как Хайдеггер. Ср. также п. 82 вопр. 2 дист. 1 кн. II «Ординации» ниже.
[125] То есть любое добавляющееся внешнее отношение (например, к воле Творца) не могло бы тогда сделать так, чтобы человеку не противоборствовало бытие, т.е. сделать его возможным или твердо установленным сущим вторым способом. Воля или всемогущество Творца не может сделать невозможное в себе чем-то возможным.
[126] Иначе говоря, Бог не только есть сущее («то, чему не противоборствует бытие»), но и есть «из себя бытие» или формально необходимое, или бесконечное сущее. Тогда как конечное, хотя и есть сущее, поскольку ему не противоборствует бытие, но есть не могущее быть из себя необходимо, а могущее быть лишь от иного контингентно, — т.е. возможное сущее.
[127] См. п. 2 этого вопроса выше.
[128] См. аргумент о перестановке п. 7 этого вопроса и сноску 99 выше.
[129] Комментатор Скота, Фр. Лихет (нач. XVI в.), разъясняет это место в аргументе Скота следующим образом: такая перестановка может быть истинной только с обратимыми терминами, но она никогда не будет истинной, если совершается с терминами, один из которых «выше», а другой — «ниже», т.е. если сопоставляемые в перестановке термины разные по общности — один выше, т.е. более общий, чем другой. Именно это имеет место здесь, поскольку «сущее» — термин, обозначающий более общее (высшее) понятие, чем «возможное», поэтому они не обратимы друг с другом. (Обратимым с сущим было бы, согласно метафизике Скота, целое дизъюнкции «возможное — необходимое», или «возможное — актуальное».) А следовательно, и в результате перестановки с членами противоречия мы не можем получить ту же самую пропорцию, но только — обратную, как подчеркивает далее Скот.
[130] То есть «как сущее к возможному, так и не-сущее к невозможному».
[131] См. добавление в п. 8 этого вопроса выше.
[132] Например, обезьяна и человек будут отрицаться друг о друге: «человек не есть обезьяна», «обезьяна не есть человек», хотя и то, и другое виды рода «животное», поскольку в них заключена предельная дифференция «разумность–неразумность», из-за каковой они как видовые природы противоборствуют друг другу и взаимно отрицаются друг о друге. Данный пример не вполне строг, поскольку не учитывает сложность понимания Скотом «предельной дифференции». Учитывая большую значимость этого понятия для центрального в метафизике Скота учения об унивокации понятия сущего, а также особые сложности, связанные с истолкованием данного понятия, мы специально выделяем его в переводе как термин, чтобы читатель не спутал его с обычным логическим «последним видовым различием». Предельная дифференция обозначает, согласно описанию Скота в вопр. 3 дист. 3 кн. I «Ординации», некое предельно ограничивающее и простое понятие, не включающее никакого иного чтойностного понятия, а следовательно, являющееся в некотором смысле противоположным сущему как наиболее общему для всех иных понятий, входящему в их состав трансцендентальному «ограничиваемому» понятию. Предельная дифференция в вещи обозначает некую «предельную реальность» или совершенство формы. Является ли «видовое различие» предельной дифференцией в смысле Скота, вопрос не до конца разрешенный и служивший предметом разных интерпретаций как в скотистской традиции, так и у современных исследователей. Иногда также утверждается, что предельными дифференциями в собственном смысле должны считаться исключительно предельные индивидуирующие дифференции, которые позднее именовались «этовостью».
[133] См. аргумент в п. 8 этого вопроса выше, состоявший в том, что если человек как возможное сущее до творения будет «ничто», то «ничто» невозможной химеры будет большее «ничто», чем «ничто» возможного человека, а тогда в «ничто» будут градации, что по мнению схоластики абсурдно.
[134] Это знаменитое разъяснение Скота указывает на последнее формальное основание, или сущность, сущего, а потому формулируется в виде формальной тавтологии, ибо никакого более первого основания, почему человек есть возможное сущее, а химера — невозможное ничто, просто нет. Ср. п. 62 тут же ниже.
[135] См. п. 50 выше.
[136] То есть за логической возможностью. Порядок, описываемый здесь Скотом, таков: конституированное некоторым образом божественным интеллектом в «понятом бытии» «формально не-противоборствующее из себя бытию», которое далее возможно логической возможностью, поскольку не-противоречиво, каковое возможное или «совозможное» далее, при предположении божественного всемогущества, является «объективно возможным», т.е. возможным как объектом всемогущества, после чего Бог может свободно принять волевое решение о творении такого объективно возможного и сотворить его как реально сущее в акте/природе вещей. Данный порядок — вне времени, т.е. это порядок конституции сущности конечного. Ср. с этим также разъяснение в п. 14 ед. вопр. дист. 43 кн. I «Ординации» выше.
[137] Возможен также перевод: «на основании себя самой», но он менее предпочтителен из-за возможной путаницы с основанием как принципом этой конституции в божественном интеллекте (ср. «начинать» как принцип или «как зависящее от принципа», постоянно используемые Скотом).
[138] Речь идет о формальной независимости «логически возможного», хотя логический — неудачная характеристика, следует помнить, что эксплицируется прежде всего знание Бога. Ср. п. 11 в вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A выше и сноску 80 к нему.
[139] См. п. 11 этого вопроса выше.
[140] Ср. тезис Скота о первой дистинкции сущего на «сущее в душе» и «сущее вне души» в п. 36 выше.
[141] Из этого вопроса мы также перевели лишь несколько важных параграфов, разъясняющих различие между творением сущего в акте и произведением возможного в «понимаемое бытие» и смысл «ничто», из которого может быть сотворено или произведено нечто согласно Скоту.
[142] См.: Ансельм Кентерберийский. Монологион. Гл. 8 (PL 158, 156).
[143] То есть Генрих Гентский в своей «Сумме», cм.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21. Вопр. 4. Editio Teske, 2005. P. 76–90. Ср. также: Он же. Какие угодно вопросы. Сер. VI. Вопр. 3. Editio Wilson, 1987. P. 42–48.
[144] Ошибка, имеется в виду IV кн. (гл. 2) «Метафизики» Авиценны.
[145] См. приведенные в сноске 133 выше тексты Генриха.
[146] На самом деле в дистинкции 43 «Ординации» Скот выпустил изложение мнения Генриха, которое он однако огласил в своей ранней версии «Комментария на Сентенции» (Lectura), а также в параллельной версии вопроса дист. 43 в «Репортации» I-A, ср. это изложение в п. 4 вопр. 1 дист. 43 «Репортации» I-A выше.
[147] Ср. п. 6–9 и п. 14 в ед. вопр. дист. 43 кн. I «Ординации», а также п. 61 ед. вопр. дист. 36 кн. I «Ординации» выше.
[148] А именно раздела, аргументирующего о дистинкции двух значений «ничто», ср. п. 76 этого вопроса выше.
[149] Ср. выше: Дунс Скот. Ординация. Кн. I. Дист. 36. Ед. вопр. П. 48, 53, 66.
[150] Здесь в очередной раз уточняется порядок конституирования конечных сущностей (упоминается существенный для творения момент «желаемого бытия», т.е. бытия объектом выбора божественной воли некоего сущего для творения). «Формально возможное» здесь лучше подобранный Скотом синоним «логически возможного» в экспликации выше. Ср. п. 14 в ед. вопр. дист. 43 кн. I «Ординации», а также п. 61 ед. вопр. дист. 36 кн. I «Ординации» выше и сноску 126 к нему.
[151] См. первый довод в п. 80, само полагание в п. 79 этого вопроса выше.
[152] То есть в бытии вне души/интеллекта или в реальном бытии в природе вещей.
II. ЛОГИКА
IIa. Софизмы
С. Эббесен || «О софистических опровержениях» Аристотеля в средневековой традиции
Когда речь идет об анализе нелегитимной аргументации, ни одна работа не может соперничать по исторической значимости с книгой Аристотеля «О софистических опровержениях»[153]. В этой работе Аристотель рассматривает главным образом источники уловок в аргументах, которые только создают видимость опровержения некоторого положения, но на самом деле не опровергают его; также Аристотель рассматривает аргументы, относимые к нелегитимным, потому что они не подчиняются правилам диалектического диспута, и различные способы запутать оппонента в ходе дискуссии. Все известные к настоящему времени классификации аргументативных уловок так или иначе зависят от выделенных Аристотелем тринадцати способов совершения псевдоопровержений — уже в Средние века они стали известны как «тринадцать уловок». Даже тот, кто специально не изучал «неформальную логику» или историю логики, наверняка знает, что предвосхищение основания (petitio principii) — это запрещенный прием аргументации. Однако, зная это, вполне можно находиться в блаженном неведении относительно аристотелевского происхождения этого термина[154].
В настоящем эссе я намереваюсь: (1) дать очерк судьбы «Софистических опровержений» в Греции и греческом культурном мире от поздней Античности до эпохи Возрождения и в латинском культурном мире — вплоть до XII в.; (2) вкратце затронуть вопрос о ранних средневековых классификациях уловок, бывших в употреблении на Западе до того, как начали изучаться «Софистические опровержения»; (3) рассказать о вхождении этого трактата в западные школы и (4) охарактеризовать то влияние, которое оказал на интерпретацию трактата латинский перевод комментария к нему, составленный Михаилом Эфесским в XII в., а также (5) коснуться некоторых трудностей, возникавших у латинян при освоении Аристотеля в связи с тем, что им были известны софистические аргументы, которые нелегко вписываются в аристотелевскую типологию мнимых опровержений. Наконец, (6) я рассмотрю некоторые средневековые интерпретации уловок, находимых у Аристотеля, которые, возможно, заслуживают интереса и со стороны современных ученых.
1. Исторический контекст
«Средневековье» — категория в первую очередь западноевропейской историографии, однако в нашем случае имеет смысл использовать ее применительно как к латинскому, так и к греческому миру.
В истории философии началом Средних веков на Западе принято считать то время, когда умирает Боэций (ок. 525 г.), и вскоре после этого в Италии разражается целая череда разрушительных войн. Благородное стремление Боэция распространить в латинском мире современную ему философию[155] было пресечено известными политическими событиями, и затем (за исключением едва обозначившегося в IX в. возрождения) на протяжении доброй половины тысячелетия здесь так и не возникало какой-либо заслуживающей внимания философии.
В греческой части Римской империи похоронный звон по античной философии начал раздаваться во второй половине VI в., а после арабского завоевания Египта и Сирии около 640 г. она практически перестала существовать. Лишь в IX в. философия предпримет слабую попытку возобновить свое существование, а потом и еще одну, уже чуть более существенную, в конце IX в. — в точности в то же время, что и на Западе; однако на Западе вскоре после возвращения ей будет суждено узнать подлинный расцвет.
Следует напомнить, что датой завершения Средних веков на Востоке принято считать 1453 г. Все те малозначительные явления философии, которые отмечаются в греческом мире после этой даты, в гораздо большей степени инспирированы современными им западными образцами философской мысли, чем средневековой греческой традицией.
На латинских землях ситуация представляется более запутанной. В протестантской Северной Европе в первые десятилетия XVI в. философия поначалу занимает место смиренной служанки богословия. В католическом мире схоластическая философия не только продолжает развиваться, но и процветает — на Иберийском полуострове и в некоторых регионах Северной Италии — вплоть до начала XVII столетия.
И на Востоке, и на Западе единственной и непреложной основой изучения аргументативных уловок был трактат Аристотеля «О софистических опровержениях». Такое положение дел сохранялось и по завершении Средних веков. Предпринятая рамистами попытка предложить некоторую альтернативу Аристотелю очень скоро, уже в конце XVI в., обнаружила свою несостоятельность.
Я позволю себе начать с Востока. Тридцать лет назад я попытался обосновать то разумное предположение, что поздняя Античность все же произвела некоторые комментарии к «Софистическим опровержениям»[156]. Это нуждается в доказательстве, потому что от той эпохи до нас не дошло ни одного из этих комментариев, равно как не знали их и византийцы XII столетия, хотя некоторые поверхностные знания об аргументативных уловках, по всей видимости, начиная с очень раннего времени были частью курса элементарной логики, наряду с предикабилиями Порфирия, категориями Аристотеля, основами учения, изложенного в трактате «Об истолковании», и некоторыми элементами силлогистики, содержащимися в главах 1–7 книги I «Первой Аналитики».
Самое раннее византийское сочинение о софистических уловках — это трактат так называемого Гейбергского Анонима «Логика и квадривиум» (Logica et Quadrivium). Текст прекрасно сохранился; его можно с большой точностью датировать осенью или ранней зимой 1007 г.[157] Логическая часть этой работы содержит раздел, посвященный рассматриваемым Аристотелем уловкам; неоднократное повторение в этом разделе слова ϕησί («он сказал») позволяет заключить, что по крайней мере некоторые фрагменты трактата представляют собой извлечения из какого-то комментария к «Опровержениям», притом что в оригинальном тексте φησί относилось к подлежащему «Аристотель», тогда как в тексте Гейбергского Анонима этот глагол не связан ни с каким подлежащим[158].
Итак, автор, известный нам как Гейбергский Аноним, должен был опираться на извлеченные его предшественниками эксцерпты, а значит, нет никаких подтверждений тому, что он вообще когда-либо видел в оригинальном контексте схолии, из которых эти эксцерпты были взяты.
Наиболее важным византийским сочинением об «Опровержениях» является комментарий Михаила Эфесского, первое издание которого, наверное, следует датировать не ранее чем 1120 г., тогда как окончательная редакция, вошедшая в подготовленное М. Уоллесом издание грекоязычных комментариев к Аристотелю (Commentaria in Aristotelem Graeca II.3) под названием «Приписываемый Александру комментарий к “Софистическим опровержениям” Аристотеля» (Alexandri quod fertur in Aristotelis Sophisticos Elenchos commentarium), появилась спустя десятилетие или даже позже[159].
Как философское сочинение труд Михаила Эфесского не представляет большого интереса и лишь в редких случаях может способствовать лучшему пониманию аристотелевского текста. За исключением логического компендиума XIII в., составленного Никифором Блеммидом, все поздние византийские комментарии и компендиумы представляют собой изложение более ранних источников[160], и никаких принципиально новых идей в греческой традиции не появляется вплоть до начала XV в., когда Георгий Схоларий создает грекоязычную версию трактата Фомы Аквинского «Об уловках» (De fallaciis)[161]. На этом я завершу свой краткий очерк греческой традиции «Софистических опровержений», которую приходится признать в целом бесплодной.
Притом что Аристотелев трактат был переведен на латынь Боэцием в начале VI в., он оставался неизвестным западноевропейским ученым вплоть до начала XII столетия — пока чудесным образом не была обнаружена копия Боэциева перевода[162]. Это событие не только спровоцировало ряд интересных разработок в средневековой логике, но также породило некоторые интерпретации книги Аристотеля, которые могут представлять интерес и для современных ее исследователей.
2. Классификация уловок на Западе до появления книги «О софистических опровержениях»
До обнаружения в начале XII в. Боэциева перевода «Софистических опровержений» единственная известная западным ученым классификация уловок представляла собой перечень шести способов доказательства, позволяющих представить противоречащими друг другу два высказывания, на деле не являющиеся таковыми. Данный перечень содержится в комментарии все того же Боэция на сочинение «Об истолковании» — к пункту 6.17a 34–37, в котором Аристотель кратко упоминает обо «всем том», что касается подлинного противоречия и «что мы еще уточняем против нудных софистических рассуждений»[163].
Эти, упоминаемые Аристотелем, уточнения заключаются в том, что утверждение и отрицание должны относиться к понятию, взятому в точности в одном и том же значении (и поэтому подразумевать одну и ту же вещь): не допускается ни, как бы сказали позже схоласты, эквивокаций, ни различий в суппозициях; далее, утверждение и отрицание должны касаться одной и той же стороны вещи, употребляться в одном и том же отношении, относиться к одному и тому же времени и к одной и той же модальности. Легко показать, как пренебрежение данными условиями порождает уловки в аргументации, и древние комментаторы, к которым относится и Боэций, совершенно справедливо указывают на возникающие таким образом паралогизмы.
Условия, почитаемые Боэцием необходимыми для возникновения подлинного противоречия, в итоге восходят к «Софистическим опровержениям», где опровержение (elenchus) описывается как силлогизм, в заключении которого делается вывод о противоречивости опровергаемого тезиса. Таким образом, есть два основных способа, позволяющих показать ошибочность мнимого опровержения: или опровержение может не быть правильным силлогизмом, или его заключение не может привести к противоречию с опровергаемым тезисом. Фрагмент, на который опирается Боэций, обозначая свои условия, выглядит так: «Ибо [правильное] опровержение есть нечто противоречащее одному и тому же — не имени, а предмету, а если имени, то не соименному, а тождественному; такое опровержение исходит из согласованных [посылок] и следует [из них] с необходимостью (не включая положенного вначале) в том же отношении, в отношении того же, одинаковым образом и для того же времени, [что и положение опровергаемого][164]».
Ученые Средневековья восполнили то немногое, что они могли усвоить из схолий Боэция к сочинению «Об истолковании» вместе с Боэциевым же обсуждением эквивокаций в его комментариях на первую главу «Категорий» и в «О разделении».
Остальные аргументативные уловки были открыты в конце XI — начале XII столетия, в период расцвета логических и грамматических штудий в Северной Франции, и мощная традиция анализа аргументации была уже основана к тому времени, когда в начале XII в. стал известен выполненный Боэцием латинский перевод «Софистических опровержений».
3. Появление трактата «О софистических опровержениях» в Западной Европе
Открытие трактата «О софистических опровержениях» произошло одновременно с повторным появлением после веков забвения «Топики» и «Первой аналитики», однако в скором времени получили широкую известность лишь «Софистические опровержения»: схоласты Северной Франции стали читать лекции по этой книге. Она завоевала такой успех, что сейчас мы располагаем 75 комментариями и компендиумами «Софистических опровержений», созданными ранее 1300 г.[165] Вместе с не дошедшими до нас трудами число посвященных «Опровержениям» сочинений должно было бы быть в несколько раз большим. Основная часть сохранившихся текстов написана после 1230 г., однако имеется достаточное количество более ранних текстов, наличие которых свидетельствует о том, что во второй половине XII в. существовала целая индустрия преподавания и обсуждения «Софистических опровержений». Что же касается «Второй Аналитики» и «Топики», то к ним, напротив, не было написано ни одного комментария вплоть до XIII в., а к «Первой Аналитике» существовал лишь один комментарий[166].
4. Влияние Комментария Михаила Эфесского
Около 1130 г. западноевропейские магистры приобрели надежное подспорье для освоения «Софистических опровержений» — новый комментарий Михаила Эфесского, переведенный Яковом Венецианским[167].
Всего за несколько десятилетий латинские ученые достигли в собственном анализе сочинения Аристотеля такого уровня, что Михаил Эфесский со своей довольно скудной эрудицией едва ли мог уже соперничать с ними.
Лишь две идеи из комментария Михаила произвели на них стойкое впечатление. Первая — различение материальных и формальных ошибочных силлогизмов, которое Михаил почерпнул из старого комментария к «Топике» Александра Афродисийского[168]. Ложность посылки является материальной ошибкой, а несоответствие какому-либо из правильных модусов «Первой Аналитики» — формальной.
Притом что такое различение само по себе вполне целесообразно, его применимость к рассматриваемым Аристотелем уловкам весьма проблематична — это стало ясно уже к 1200 г., хотя попытки обосновать уместность его применения к Аристотелевым уловкам никогда не прекращались.
Другая идея — обоснование произведенного Аристотелем разделения уловок в речи на шесть типов (одноименность, или эквивокация; двусмысленность, или амфиболия; соединение, разъединение, ударение, форма выражения), которое Михаил заимствовал у Галена, врача и логика II в.[169] Основная мысль здесь состоит в том, что выражение может быть либо простым (одно слово), либо сложным (фраза) и иметь несколько значений, будучи истолковано в смысле действительности, реальной возможности или возможности лишь воображаемой. Это позволяет построить таблицу 2 × 3 и таким образом получить шесть видов уловок.
Предложенная Галеном таблица обладает рядом достоинств. В частности, понятие потенциальной полисемии помогает корректно проанализировать уловки, связанные с постановкой ударения, а также с разъединением и соединением. Если рассматривать последовательность фонем в качестве материи высказывания, а различные надсегментные параметры, такие как ударение, интонация и соединение фонем и морфем, — в качестве его формы, то можно сказать, что последовательность фонем «i-n-v-a-l-i-d» является потенциально полисемичной, однако как только высказывание полностью произнесено, она перестает быть таковой, потому что становится ясно, имеется ли в виду «ínvalid» или же «inválid»[170].
Продолжая рассуждать в том же направлении, схоласты осознали также и важность интонации[171]: одна и та же последовательность слов может использоваться для выражения разных суждений в зависимости от интонации. Предложение «Ты и в самом деле талантливый ученый» может звучать как похвала, но если произнести его с иронической интонацией, то оно может означать, что человек, к которому оно относится, — первостатейный дурак.
Существенный недостаток таблицы Галена состоит в том, что каждый из шести рассматриваемых Аристотелем видов речевых уловок не вписывается в точности лишь в одну из шести ячеек таблицы. Эквивокация и амфиболия аккуратно помещаются в две ячейки, предназначенные для актуальной полисемии. Однако притом что однословная ячейка, отведенная для потенциальной полисемии, заполнена ударением, соединение и разъединение оба попадают в одну ячейку для фразы, а фигура речи должна заполнить сразу две ячейки, соответствующие воображаемой полисемии. Эта проблема была справедливо отмечена схоластами, но большинство из них все же продолжали пользоваться таблицей. Правда, Уильям Оккам считал ее нелепостью[172]: «Сказать, что эта уловка (т.е. формы выражения. — C. Э.) порождает некую воображаемую полисемию, — значит сказать бессмыслицу: на самом деле именно это и есть нечто воображаемое!»
5. Паралогизмы, не попадающие в аристотелевскую классификацию уловок
Рассматриваемые Аристотелем тринадцать уловок на протяжении долгого времени представляли собой самую полную классификацию паралогизмов в Западной Европе, но все же в этой классификации непросто было найти место для всех известных типов паралогизмов. Рассмотрим софизм, строящийся на неоднозначности конъюнкции или неоднозначности референции местоимения. Куда следует отнести данный софизм? Подобающее ему место в аристотелевской системе ясно определить нельзя.
Ограничимся одним — весьма типичным для XII в. — примером[173]. «Сократ является разумным или неразумным животным, каковым является осел, следовательно, Сократ — животное, каковое является ослом». Трудность состоит в двусмысленности референции, или, как бы мы могли сейчас сказать, области значений, местоимения «каковое» — относится ли оно только к разумному животному или же к конъюнкции «разумное и неразумное животное»?
Автор, у которого я позаимствовал данный пример, решил отнести этот паралогизм к эквивокациям. Для этого ему пришлось задействовать узкое и широкое толкование «эквивокации».
В узком смысле, близком к тому, что имел в виду Аристотель, в частности в главе 1 «Категорий», эквивокация представляет собой «многозначность слова, которое может обозначать несколько вещей, что является результатом нескольких импозиций (imposition)»[174], т.е. результатом того, что одному и тому же слову приписываются разные значения в разных ситуациях.
Типичным примером здесь может служить английское существительное «ash», которое используется и для обозначения породы деревьев (ясень), и для обозначения вещества, остающегося после сгорания чего-либо (зола, пепел). Современные лингвисты стали бы говорить в данном случае не об одном и том же фонетическом материале, а, скорее, о случайно возникшем в ходе исторического развития совпадении фонетического облика изначально различных слов. Но средневековые авторы не умели еще рассуждать о фонетических изменениях.
Термин «уловка эквивокации», как говорят наши авторы, следует понимать в более широком смысле. К этой уловке относятся явления многозначности, обусловленные 1) несколькими импозициями одного и того же слова; 2) консигнификациями, т.е. разными грамматическими параметрами слова, и, далее, 3) вариативностью дейксиса или анафоры[175]. Вольная трактовка понятия «уловка эквивокации» оставляет место для того, чтобы подвести под него довольно много паралогизмов разных типов.
На самом деле, в XII в. вопрос о том, какие типы полисемии можно отнести к эквивокации и как понимать соответствующие аристотелевские примеры, стал настоящим яблоком раздора. Суть проблемы состояла в том, конституируется ли значение слова раз и навсегда импозицией или же оно может проявлять определенную чувствительность к лингвистическому контексту. Парижские философы были склонны отрицать, а оксфордские — признавать роль контекста в закреплении за словом определенного значения[176].
Я не имею возможности подробно рассматривать здесь эту дискуссию, но замечу, что она затрагивала действительно фундаментальные представления (intuitions) о функционировании слов в языке. Допущение влияния контекста на значение слова делает теорию более сильной — в том смысле, что под нее подходит больше явлений, — и одновременно более слабой — в том смысле, что сложно четко определить границы контекста и понять, как именно контекст влияет на значение и функционирование слова. Дискуссия об эквивокации была тесно связана с дискуссиями о лингвистической теории, а равно и с развитием теории в естественных науках. Представители одного мощного течения в лингвистике — так называемые модисты[177] — хотели бы отделить грамматику как формальную науку, имеющую дело с грамматическими категориями, от реальных наук, в которых важно именно лексическое значение слов, а высказывания, являющиеся необходимыми и универсальными, не оставляют места для дейксиса.
6. Причина кажимости и несуществования. Уловки как общие места (topoi)
В начале XIII в. в анализе уловок начинают использоваться новые термины[178]. Возникает утверждение, что каждая из тринадцати уловок обладает своей собственной causa (причиной), или principium apparentiae (первопричиной кажимости), и собственной causa non existentiae (причиной несуществования); первое понятие также известно как principium motivum (движущее начало). Как мне кажется, все эти понятия оказались весьма полезны. Они отражают понимание их авторами того, что всякий аристотелевский паралогизм — не просто плохой аргумент, а плохой аргумент, который выглядит хорошим (так работает causa apparentiaе), но обладает при этом некоторым изъяном, который не позволяет ему на самом деле быть хорошим аргументом (causa non existentiae). Попытавшись при помощи двух этих понятий сформулировать соответствующие causae для каждой из тринадцати уловок, схоласты сделали явным то, что имплицитно содержится в тексте Аристотеля. А ведь в этом, собственно, и заключается работа хорошего комментатора.
Хороший способ выделить две означенные причины — сформулировать некую максиму, сказать, что «каждое отдельное слово в точности обозначает одну вещь», и добавить, что «данная максима, однако, является ложной, так как существуют и исключения из нее». Это хорошо работает применительно к эквивокации. Авторы XIII в. сформулировали такие максимы и здесь тоже вывели на поверхность то, что в скрытом виде присутствовало в Аристотелевом тексте.
Современный комментатор «Опровержений», Паоло Фаит[179], оперирует тем, что он называет «легитимирующими предпосылками» (validating premisses), которые, по его мнению, можно обнаружить в тексте Аристотеля. Идея такова: если добавить ложную посылку к неправильному аргументу, получится правильный аргумент. Это похоже на то, как «работают» ложные максимы, но, в противоположность максимам средневековой софистики, «легитимирующие предпосылки» Фаита не являются правилами второго порядка, а содержат термины, которые встречаются в аргументе, подлежащем легитимации.
Для того чтобы продемонстрировать, как работают средневековые максимы и их современные аналоги, рассмотрим построенный на эквивокации паралогизм:
All ashes are trees,
some ashes are human remains,
therefore some human remains are trees[180].
Данное рассуждение совпадало бы с правильным силлогистическим модусом Datisi[181], если бы все понятия в нем имели одно и то же значение во всех посылках. Это и подразумевает «легитимирующая посылка» «Ash обладает только одним значением» относительно составляющего проблему понятия «ash», на двойственном смысле которого и строится паралогизм. То же самое утверждает и более общая максима: «Каждое имя обозначает только лишь одну вещь». Другими словами, можно рассматривать такого рода легитимирующие предпосылки, или максимы, в качестве недоговариваемой части софистического аргумента, которую человек, вводимый в заблуждение ее имплицитным характером, принимает — и однако же он смог бы осознать ее ложность, если бы она была произнесена.
Средневековые авторы, имевшие дело с легитимирующими высказываниями, рассматривали их как псевдомаксимы, которые можно сравнить с подлинными максимами диалектики: ведь они видели в тринадцати уловках такое множество loci или, если угодно, topoi, а в соответствии с теорией, унаследованной от Манлия Боэция, каждый locus или topos включает в себя две конституирующих его составляющих: идентифицирующее понятие, или метку (label), locus differentia (общее место «различие»), такое, как locus a specie, или общее место «вид», и locus maxima (общее место «максима») — высказывание, призванное легитимировать подпадающие под данный топос аргументы. Например, максима «что бы ни было предикатом вида, оно также является предикатом содержащегося в этом виде рода» будет легитимировать энтимему: «Осел кричит, значит, животные кричат» — по крайней мере если мы по умолчанию примем, что «осел есть некоторый вид рода животных»[182].
Принадлежащие Боэцию понятия locus или topos никогда не присутствуют у Аристотеля в явном виде, но они вполне проясняют то, что на самом деле сказано в «Топике». Допустим, что тринадцать уловок также являются topoi. Тогда было бы в равной мере уместно привнести понятие топической максимы в интерпретацию «Софистических опровержений».
Но являются ли уловки в действительности общими местами (loci/topoi)?[183] Многие средневековые авторы считали, что являются, и могли подкрепить свою точку зрения фрагментами из «Опровержений», в которых, как кажется, об этом говорится недвусмысленно. К сожалению, если обратиться к рукописной традиции греческого текста «Опровержений», положение будет выглядеть запутанным, потому что в некоторых случаях здесь отмечается колебание между topoi и tropoi, или, если воспользоваться латинскими словами, между loci (общие места) и modi (модусы).
Предполагаю, что данное смешение, уходящее корнями, судя по всему, в античную эпоху, обусловлено тем, что Аристотель, на самом деле, употребляет оба слова для обозначения одного и того же предмета. И по моему мнению, сам Аристотель воспринимал свои «уловки» как topoi. Следовательно, в той мере, в какой допустимо использовать принадлежащее Боэцию понятие «топическая максима» в анализе аристотелевской «Топики», допустимо использовать его и в анализе уловок, описываемых в «Софистических опровержениях». Я думаю, что понятие топической максимы может быть полезным и применительно к «Топике», где topos часто бывает представлен в форме: «Хорошая идея — посмотреть, имеет ли место p для q», где q, которое разъясняет, почему посмотреть на p — хорошая идея, является разновидностью правила, или максимы. К примеру, если кто-нибудь говорит, что А является родом для вида B, он должен «посмотреть и убедиться, являются ли оба понятия одним и тем же <субъектом>, чем бы ни был вид — род является тем же. Например, чем бы ни был “белый”, “цвет” также будет этим, а “знающий грамоту” будет и “владеющим каким-либо знанием”. Таким образом, когда кто-то утверждает, что стыд есть страх или что гнев есть горе, то здесь виды и роды не относятся к одному и тому же, стыд есть рациональная способность, тогда как страх есть эмоциональная способность, а горе есть аппетентная способность (<противоположной> которой является удовольствие), тогда как гнев есть эмоциональная способность. Значит, предполагаемые роды не являются родами, поскольку они не относятся к тому же, что и виды»[184].
Здесь же, сразу за предложением со словами «посмотреть и убедиться», которое Теофраст назвал «побуждением» (παράγγελμα)[185], встречается и полноценная формулировка максимы — чем бы ни являлся вид, этим же будет и род, — и эта максима является составляющей того, что Теофраст и считал топосом в подлинном смысле.
Если в анализе уловок не прибегать к таким понятиям, как causae apparentiae и «ложные максимы», то будет довольно трудно объяснить, почему уловки вообще могут вызывать у кого-либо интерес.
В XVI в. Пьер де ла Рамэ, или Пётр Рамус (1515–1572), и его фанатичные приверженцы обрушились с критикой на Аристотеля и его последователей — схоластов, обвинив их во всех смертных грехах, один из которых состоял в изучении и комментировании «Софистических опровержений»: ведь если правила построения хороших аргументов раз и навсегда установлены, нет никакой необходимости тратить время на то, чтобы отдельно рассматривать плохие аргументы, ибо в их число попадают все те суждения, которые попросту не отвечают критериям хороших аргументов. Рамус говорит:
В «Опровержениях» содержится учение о софистическом силлогизме. Но ведь это то же самое учение, которое неоднократно повторялось и в предыдущих книгах. Однако в изложении подлинного искусства оно не нашло себе места, ибо предписания, касающиеся пороков, не принадлежат к типу предписаний, которые могли бы быть уместны в объяснении того, что представляет собой добродетель. Действительно, прямое позволяет вынести суждение и о себе самом, и о том, что прямым не является[186].
Как следствие, Рамус вкратце упоминает о возможности обмана лишь в самом конце своей знаменитой «Диалектики» (Dialectica). Но уже к сочинению «Диалектические упражнения» (Scholae dialecticae), своего рода критическому комментарию к «Органону» Аристотеля, он добавляет обширное приложение (книги 19–20), посвященное анализу уловок, а некоторые более поздние рамисты продолжают двигаться в том же направлении и рассматривают этот предмет более подробно, хотя и заявляют при этом, что в строгом смысле занятие это ненужное, а следовательно, заслуживающее упрека[187].
Рамусово неприятие изучения уловок никогда или почти никогда не привлекало к себе внимания средневековых авторов, ибо они вполне осознавали, что самое интересное в плохом аргументе, который иногда «работает», — это то, почему же он все-таки работает, несмотря на то, что он плох.
[153] Sophistici Elenchi, далее сокращенно — SE.
[154] Весьма полезный очерк судьбы аристотелевского учения об уловках в позднесредневековый период см. в кн.: Hamblin Ch.L. Fallacies. L.: Methuen, 1970.
[155] О попытках Боэция модернизировать латиноязычную философскую библиотеку см.: Ebbesen S. The Aristotelian Commentator // The Cambridge Companion to Boethius / J. Marenbon (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 33–55; Idem. Boethius аs a Translator and Aristotelian Commentator // Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity — The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad / J. Lössl, J.W. Watt (eds). Farnham: Ashgate, 2011. P. 121–133.
[156] Ebbesen S. Commentators and Commentaries on Aristotle’s Sophistici Elenchi. A Study of Post-Aristotelian Ancient and Medieval Writings on Fallacies // Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum. Leiden: E.J. Brill, 1981. Book VII. P. 236–256. В арабских источниках есть свидетельства в пользу существования комментария Александра Афродисийского (ок. 200 г.). Питер Ридбергер (Университет Тель-Авива) в готовящейся к выходу монографии о Домнине (с которой мне любезно была предоставлена возможность ознакомиться) приводит дополнительные аргументы в пользу существования поздних неоплатонических комментариев. Что касается комментариев Антисфена, Евстафия и Порфирия, они, скорее всего, не являются подлинными.
[157] О датировке см.: Taisbak C.M. The Date of Anonyus Heiberg // Anonymi Logica et Quadrivium. Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 1981. No. 39. P. 97–102; Ebbesen S. Commentators and Commentaries… P. 262–264.
[158] Подробнее о Гейбергском Анониме см.: Ibid. P. 262–264, 269; издание текста «Логики и квад-ривиума»: Anonymus Heiberg. Logica et Quadrivium / J.L. Heiberg (ed.) // Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser 15.1. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 1929.
[159] Подробнее о комментарии Михаила и других в византийских комментариях к SE см.: Anonymus Heiberg. Logica et Quadrivium. P. 268–285.
[160] Все византийские комментарии и изложения «Софистических опровержений» обсуждаются в: Ibid. Vol. 1.
[161] Данная версия опубликована в т. 8 издания трудов Георгия: George Scholarios [Gennadios II, patriarch of Constantinople]. Ceuvres complètes / L. Petit, X.A. Siderides, M. Jugie (dir.). P.: Maison de la bonne presse, 1928–1936.
[162] Перевод Боэция в 1975 г. издал Бернард Дод в т. VI сер. 1 Aristoteles Latinus. Судьбу этого текста Дод описывает в предисловии.
[163] О перечне Боэция см.: De Rijk L.M. Logica Modernorum. Assen: Van Gorcum, 1962. Vol. 1. P. 24–28. Де Рейк был прав, предположив греческий источник, но раздел о проблеме источника (p. 28–39) является устаревшим.
[164] SE 5.167a 23–27: «ἔλεγχος μὲν γάρ ἐστιν ἀντίφασις τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνός, μὴ ὀνόματος ἀλλὰ πράγματος, καὶ ὀνόματος μὴ συνωνύμου ἀλλὰ τοῦ αὐτοῦ, ἐκ τῶν δοθέντων ἐξ ἀνάγκης (μὴ συναριθμουμένου τοῦ ἐν ἀρχῇ), κατὰ ταὐτὸ καὶ πρὸς ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ». Русский текст приведен по изд.: Аристотель. Собр. соч.: в 4 т. / пер. М.И. Иткина, доп. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 536. Обсуждение этого фрагмента см.: Ebbesen S. Commentators and Commentaries… P. 9.
[165] См. перечень в кн.: Idem. Medieval Latin Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts of the Twelfth and Thirteenth Centuries // Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical Texts / Ch. Burnett (ed.). L.: Warburg Institute, 1993.
[166] О комментариях к «Первой аналитике» конца XII в. см.: Idem. Analyzing Syllogisms or Anonymus Aurelianensis III — the (presumably) Earliest Extant Latin Commentary on the Prior Analytics, and Its Greek Model // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin 1981. No. 37. P. 1–20. (Переиздано в: Idem. Greek-Latin Philosophical Interaction: Collected Essays of Sten Ebbesen. Aldershot: Ashgate, 2008. Vol. I.); Thörnqvist C.T. The ‘Anonymus Aurelianensis III’ and the Reception of Aristotle’s Prior Analytics in the Latin West // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 2010. No. 79. P. 25–41.
[167] См. об этом переводе: Ebbesen S. Commentators and Commentaries… P. 286–289; издание фрагментов в т. 2 и комментариев в Addenda к т. 3: Idem. Greek-Latin Philosophical Interaction... P. 198–201; а также: Idem. Yet Another Fragment of James of Venice’s Translation of Michael of Ephesus on the Sophistical Refutations // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 2011. No. 80. P. 136–137. В 1981 г. у меня не было полной уверенности, что переведенный Яковом Венецианским комментарий принадлежит именно Михаилу Эфесскому, но последние исследования убедительно свидетельствуют в пользу его авторства.
[168] Комментарий Михаила Эфесского см. SE Comm. 6–7 в изд.: Michael Ephesius. In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarium / M. Wallies (ed.) // CAG. V. 2.3. Обсуждение см. в кн.: Ebbesen S. Commentators and Commentaries... P. 95–99.
[169] См.: Ibid. P. 78–82. Издание текста Галена см.: Ibid. Vol. 3.
[170] Об этом см.: Ebbesen S. Suprasegmental Phonemes in Ancient and Mediaeval Logic // English Logic and Semantics from the End of the Twelfth Century to the Time of Ockham and Burleigh, Acts of the 4th European Symposium on Mediaeval Logic and Semantics, Artistarium, Supplementa I / H.A.G. Braakhuis (ed.). Nijmegen: Ingenium, 1979. P. 331–359.
[171] Насколько мне известно, первый комментарий о важности интонации принадлежит Жану Буридану (ум. ок. 1359). См.: Ebbesen S. Caspar Bartholin // Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum / M. Pade (ed.). Copenhagen: Museum Tusculanum, 2000. P. 220–221.
[172] См.: William of Ockham. Expositio SE. Р. 44: «nihil est dicere quod ista fallacia [i.e. fallacia figurae dictionis] operatur phantasticam multiplicitatem. Hoc enim est satis phantastice dictum!» (издание текста Оккама см.: Idem. Expositio super libros Elenchorum / F. del Punta (ed.) // Guillelmi de Ockham Opera Philosophica. N.Y.: Franciscan Institute, 1979 Vol. 3).
[173] Комментарий Кантабригенского Анонима на SE 4.165b30: «Quinto modo fit haec fallacia quando decipit dictio diversa significans ex diversa relatione, ut hic ‘Socrates est [animal] rationale vel irrationale quod est asinus, ergo Socrates est animal quod est asinus’, nam in prima propositione potest per hoc nomen ‘quod’ fieri relatio ad hoc ‘vel irrationale’, ut distinguantur termini isti ‘rationale’ ‘irrationale quod est asinus’, et secundum hoc vera est locutio. Similiter hic decipit diversa relatio et soloecismum infert ‘Socrates est rationale vel irrationale quod est homo’». Вскоре ожидается выход в свет издания текста Кантабригенского Анонима: Anonymus Cantabrigiensis. Commentarium in Sophisticos Elenchos / S. Ebbesen (ed.) // Scientia Danica. Series Humanistica. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters (forthcoming).
[174] «Aequivocatio est multiplicitas dictionis plura significantis ex diversis institutionibus» (Ibid.).
[175] «Dicitur enim fallacia aequivocationis quae provenit tum ex multiplicitate vocis plura significantis simpliciter, cum ex multiplicitate vocis significantis plura ex adiunctis et non simpliciter, cum etiam ex diversis eiusdem vocis consignificationibus. Item, tam illa fallacia quam facit dictio plura significans ex diversis institutionibus quam illa quam facit dictio plura significans ex demonstratione vel relatione dicitur fallacia aequivocationis» (Ibid.).
[176] См.: Ebbesen S., Rosier-Catach I. Robertus Anglicus on Peter of Spain // Medieval and Renaissance Logic in Spain, Acts of the 12th Symposium on Medieval Logic and Semantics / P. Pérez-Ilzarbe, I. Angelelli (eds). Hildesheim; Zürich; N.Y.: Olms, 2000. P. 61–95.
[177] О модизме см.: Pinborg J. Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter // Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Münster: Aschendorff, 1967. Bd. 42. N. 2; Marmo C. Semiotica e linguaggio nella scolastica: Parigi, Bologna, Erfurt 1270–1330. R.: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1994; Rosier-Catach I. Modisme, pré-modisme, proto-modisme: vers une définition modulaire // Medieval Analyses in Language and Cognition Acts of the Symposium «The Copenhagen School of Medieval Philosophy, January 10–13, 1996» / S. Ebbesen, R.L. Friedman (eds). Copenhagen, 1999. P. 45–81.
[178] О двух causae см.: Ebbesen S. The Way Fallacies Were Treated in Scholastic Logic // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 1987. No. 55. P. 107–134.
[179] См.: Aristotele. Le confutazioni sophistiche / P. Fait (introd., trad., comm.). Roma; Bari: Laterza, 2007.
[180] К сожалению, русский перевод не позволяет сохранить содержащуюся в английском оригинале эквивокацию:
[181] По модусу Datisi строятся силлогизмы, в которых большая посылка является общеутвердительным суждением, а меньшая посылка и вывод — частноутвердительными. Например:
[182] О принятом в XII в. подходе к locus a specie см.: Peter of Spain. Traсtatus, 5.13 (в изд.: Peter of Spain. Tractatus / L.M. de Rijk (ed.) // Wijsgerige teksten en studies 23. Assen: Van Gorcum, 1972. P. 64). О теории loci Боэция и ее судьбе в Средние века см.: Green-Pedersen N.J. The Tradition of the Topics in the Middle Ages. München; Wien: Philosophia Verlag, 1984.
[183] Проблема принадлежности рассматриваемых Аристотелем уловок к topoi см.: Ebbesen S. Sophistical topoi? (статья готовится к публикации).
[184] Аристотель. Топика. IV.5.126a 3–12: «Ὁρᾶν δὲ καὶ εἰ ἔν τινι τῷ αὐτῷ πέφυκεν ἄμφω γίνεσθαι· ἐν ᾧ γὰρ τὸ εἶδος, καὶ τὸ γένος, οἷον ἐν ᾧ τὸ λευκόν, καὶ τὸ χρῶμα, καὶ ἐν ᾧ γραμματική, καὶ ἐπιστήμη. ἐὰν οὖν τις τὴν αἰσχύνην φόβον εἴπῃ ἢ τὴν ὀργὴν λύπην, οὐ συμβήσεται ἐν τῷ αὐτῷ τὸ εἶδος καὶ τὸ γένος ὑπάρχειν· ἡ μὲν γὰρ αἰσχύνη ἐν τῷ λογιστικῷ, ὁ δὲ φόβος ἐν τῷ θυμοειδεῖ· καὶ ἡ μὲν λύπη ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ (ἐν τούτῳ γὰρ καὶ ἡ ἡδονή), ἡ δὲ ὀργὴ ἐν τῷ θυμοειδεῖ. ὥστ’ οὐ γένη τὰ ἀποδοθέντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ τοῖς εἴδεσι πέφυκε γίνεσθαι».
[185] Александр Афродисийский цитирует Теофраста в комментарии к «Топике», см.: Alexander of Aphrodisias. Commentary on 8 Books of the Topics / M. Wallies (ed.) // CAG. V. 2.2. 1891. P. 135.
[186] Petrus Ramus. Scholae dialecticae. Book XIX. Ch. 1. Сol. 1 (приводим текст по Базельскому изданию 1569 г.): «Sophistici syllogismi doctrina in Elenchis posita est, sed eadem reliquis antecedendibus libris sæpe iterata & repetita: Cui tamen in vera descriptione artis, locus esse non potest, quia nullum de vitiis præceptum est in virtutis explicatione homogeneum: Imó rectum ipsum, index est sui & obliqui» . Последнее предложение является обычным для средних веков парафразом из Аристотеля (De anima I.5.411a.5–6); «index» — ошибочное написание «iudex», но совершенно необязательно, что в издании 1569 г. была опечатка, так как Рамус мог заимствовать пара-фраз из издания, где он уже содержал эту ошибку. Если восстановить чтение «iudex», то фраза звучит так: «Правильное есть судья как самому себе, так и всему неправильному».
[187] Kragius A. Aristotelica et Ramea. Basel, 1583; Buscher H. De ratione solvendi sophismata solide et perspicue ex P. Rami Logica deducta et explicata. 2nd ed. Hamburg, [1591] 1597.
Е.Н. Лисанюк || Софистика vs аргументация: проблемы демаркации188
1. Введение
«Это софистика», — говорят о заумно-путаном споре, когда из-за сложной аргументации не вполне ясно, в чем собственно состоит несогласие и каковы мнения сторон. Назвать дискуссию софистической обычно означает оценить ее негативно, однако не в силу эмоциональной неприемлемости самой дискуссии или позиций ее участников, но по причине, что в ней подозревают наличие нелегитимных действий, сознательно направленных на введение в заблуждение или дискредитацию другой стороны. Соответственно, софистом считают того, кто замечен в преднамеренном использовании нелегитимных приемов, а также того, чьи доводы чрезмерно сложны для понимания другими участниками или соединены в аргументации непонятным для них образом.
Негативный ассоциативный ряд за словом «софистика» тянется с античных времен. Аристотель, обвиняя в этом некоторых учителей красноречия, усматривал основной недостаток софистики в том, что эффективные приемы рассуждения могут быть использованы бездумно, вне осознания ключевых принципов и целей рационального познания (SE 34 184 a 5)[189].
Таковы в общих чертах античная и современная позиции в отношении софистики и софистов, которые во многом видятся близкими друг другу. На противоположном полюсе — средневековая традиция изучения и использования софизмов в форме софизмат (sophismata), представляющая собой совокупность педагогических и исследовательских методов и одновременно устоявшийся жанр научного трактата — сборника задач, поначалу логических, затем также и математических. Средневековый софизм — это сложный вопрос, проблема, требующая обсуждения, обдумывания и решения.
Выделим основные подходы к тому, что может считаться софистикой, или «лица» софистики:
1. Коммуникативный, где софистическим может быть тип дискуссии, допускающий неправомерные действия[190].
2. Процедурный, или совокупность приемов ведения дискуссии, включающая неправомерные действия[191].
3. Эпистемологический, где софизм есть сложная познавательная задача (он же — жанровый)[192].
4. (Социально-)оценочный, или разновидность когнитивной оценки некоторой деятельности.
Последний подход явным образом является социальным следствием по крайней мере одного из первых трех. Первые два подхода недвусмысленно увязывают софистический характер дискуссии или действий в ней с недопустимыми приемами, тогда как в третьем такой смысловой коннотации нет.
Рассмотрим, в чем же состоит этот нелегитимный ракурс, наличие которого в первом и втором подходах дает основание для негативной оценки. Одновременно нам предстоит выяснить, почему для средневекового подхода к софизмам не приходится говорить о присутствии недопустимых аспектов, играющих решающую роль в остальных трех подходах. Таким образом, сначала мы уточним, что понимается под софистикой в античной, средневековой и современной традициях, и затем перейдем к вопросу о том, каким образом софистика связана с исследованием аргументации. Фактически предстоит выяснить, можно ли софистикой считать интеллектуальную задачу, т.е. софизм, или она есть тип дискуссии, или же — особая технология процедурного поведения в дискуссии. Одновременно обсудим, допустимо ли эти три «лица» софистики называть одним словом, и если да, то почему.
Ответ на эти вопросы, отстаиваемый здесь, состоит в следующем. Во-первых, софизм как интеллектуальная задача, софистика как тип дискуссии и софистическая роль как разновидность поведения в дискуссии — все эти три понимания сути софистики имеют различные характерные черты, лежащие в основании того, чтобы называть их софистическими. Во-вторых, каждое из выделенных «лиц» софистики обладает собственной миссией, или целью, ради которой применяется, и эти цели различны. В-третьих, нелегитимность, свойственная первому и второму «лицам» софистики, происходит от того, что совокупность приемов и методик, характерная для них, используется для достижения целей, отличных от тех, для которых они предназначены. Наиболее распространенным примером этого «нецелевого» использования является социальный успех.
2. Пример и сценарий софизма
Рассмотрим пример воображаемого диалога[193] между известными античными персонажами Протагором и Еватлом[194].
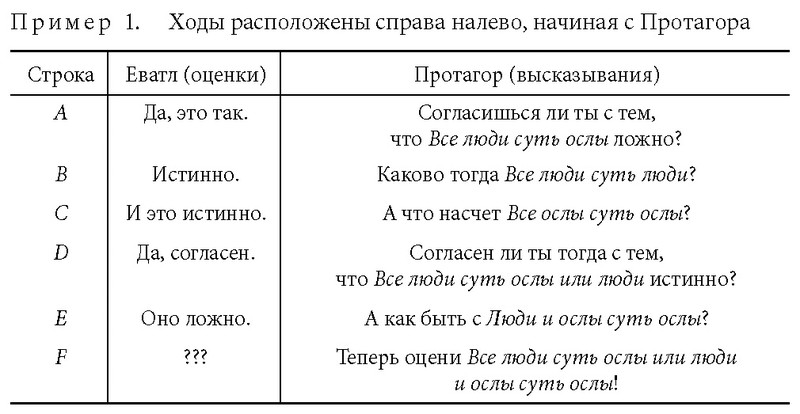
Если такого рода диалог когда-либо имел место, то наиболее вероятно, что он случился, когда Еватл только приступил к обучению у Протагора. Будучи начинающим учеником, он мог быть не настолько умелым, чтобы сообразить, что последнее высказывание Протагора можно рассматривать по-разному, и, соответственно, задача имеет более одного решения. Если высказывание F считать конъюнкцией высказываний D и C, которые оба истинны, то оно истинно. Если же принять, что высказывание F есть дизъюнкция высказываний А и Е, а каждое из них ложно, то и высказывание F ложно.
После того, как Еватл затруднился бы с ответом, Протагор мог растолковать решение своему ученику. В такой версии пример-софизм выступает в роли логической задачи, т.е. имеет место подход 3, и оснований для возникновения негативной оценки не возникает.
Другой сценарий — также воображаемый — этого же диалога таков. Протагор, движимый соображениями то ли обоснования своего учения, то ли самоутверждения, то ли заработка, задает эту нехитрую задачку всем, кто согласен позабавиться, а если его собеседник замешкался с ответом, подвергает последнего насмешкам. Иными словами, второй сценарий состоит в том, что Протагор использует логическую задачу не для обучения, но в иных целях, в результате чего ведет себя софистически в смысле 2, что открывает возможность для негативной оценки 4.
Таким образом, софизм можно рассматривать как задачу, т.е. дидактический прием, а можно как социальную технологию, сценарий которой позволяет знающему решение использовать свое знание в целях убеждения для достижения успеха.
3. Античное «лицо» софистики
Появление софистики и софистов в Античности тесно связано с изучением канонов проведения дискуссий. Подводя итог своим исследованиям в данной области, Аристотель пишет, что, хотя об искусстве дискуссий много было сказано и до него, в разработке учения о строгих умозаключениях он стал пионером. При этом Стагирит разграничивает логику, или учение об умозаключениях; риторику, или искусство красноречия, или искусство говорить речи; диалектику, или искусство испытывания, которое есть также и «умение выслушивать чужие доводы, и, защищая свои доводы, таким же образом отстаивать тезис при помощи как можно более правдоподобных посылок» (SE 35 183 b 5)[195]. Таким образом, сначала он отличает науку о рассуждениях от искусств речи, затем в области искусств речи отграничивает риторику от диалектики, после чего указывает на общие и отличительные черты диалектики и софистики. Для софистики существенным Аристотель видит то, что она есть «мнимая мудрость, а не действительная», потому для софистов «важно скорее казаться исполняющими дело мудрого, чем действительно исполнить его» (SE 1 165а 20–25)[196]. Тем самым выделяются три существенные области знания: наука (логика), искусство (диалектика и риторика) и некая социальная практика, задействующая результаты первых двух. Существенным здесь оказывается то обстоятельство, что, в отличие от наук вообще и логики как науки в частности, ни диалектика, ни риторика науками не являются: они не производят знания о чем-либо, а, напротив, на основе других наук, включая логику, формулируют приемы и методы ведения беседы, участия в вопросно-ответной беседе-диалоге, составления эффективной речи, судебной, публичной или иной. В этом смысле риторика и диалектика, не будучи науками, представляют собой искусства, обучение которым сродни обучению ремеслу. Софистика же, не будучи ни наукой, ни искусством, есть применение указанных знаний и искусств определенным — неправильным, по мнению Аристотеля, — образом, а именно, «ради спора и желания одолеть» (SE 3 165b13)[197].
Основными источниками сведений о софистике и софистах являются Диоген Лаэртский, Платон, Секст Эмпирик, Аристотель. Термин «софист» (σοφιστής) с его производными появился во второй половине V — первой половине IV в. до н.э. и первоначально обозначал социальную и профессиональную группу людей, считавшихся интеллектуалами и пользовавшихся по этой причине особым уважением в греческом обществе (Платон, Софист 216d)[198]. Областью деятельности софистов были не только науки — философия, грамматика, логика, но также обучение этим знаниям юношества с целью воспитания его в духе благочестия ἀρετή[199]. Софисты, занимаясь наукой, обучением и воспитанием, тем самым создавали новое знание, формировали на его основе умения и навыки, чтобы затем преподать их молодежи, а в процессе этого наставляли юношей в добродетелях, поэтому были в одном лице и учеными, и учителями, и воспитателями. Искусство красноречия (риторика) и ведения беседы (диалектика) было частью этих навыков, а добродетель использовать полученные знания и умения во благо — фундаментом благочестия в целом. Высокий социальный статус софистов в обществе объяснялся «необычайным превосходством слова над другими орудиями власти», характерным для греческого полиса[200]. Такая цена слова и, следовательно, искусства овладения им, сыграла с софистами, учителями мудрости, злую шутку. Утратив сакральный смысл, а с ним и притязания на то, чтобы быть единственным выражением истины, слово и речь становятся предметом спора на публике и для публики, превращаясь в состязание. В таком ракурсе знание, ведущее к истине, теряет свое значение источника искусств и умений и делается излишним, выпячивая в структуре благочестия роль практического овладения приемами словесных баталий. «Натаскивание» вместо обучения и воспитания — такой вердикт выносит софистам Аристотель.
Иными причинами негативного отношения к софистам движим Платон. В диалоге «Софист» устами Сократа софисты уподобляются сведущим в словопрениях охотникам за богатыми юношами, а софистика — торговле рассуждениями и знаниями (Платон, Софист, 224 d-e, 226 a)[201]. Главной же целью софистов, по мнению Платона, является не столько нажива, сколько введение юношества в заблуждение путем распространения ложного знания, так как «софист очищает душу не для истинного, но для мнимого знания, создавая призрачные подобия этого знания, но не истинные отображения» (Платон, Софист, 232а–236с)[202]. Учение софистов, против которого выступает Платон, — это проект релятивизации философского знания, выдвинутый Протагором (Платон, Теэтет 152 а)[203]. В соответствии с этой идеей, раз необходимое знание — объект интеллектуальных устремлений Платона — вряд ли достижимо, стало быть, разумно ограничиться поиском оснований для правдоподобного, или мнения, с тем чтобы суметь отстоять свою позицию в споре перед лицом собеседника, имеющего иное мнение по тому же вопросу[204]. Таким образом, Протагорову идею релятивизации знания можно рассматривать как проект, конкурирующий с философией Платона и в гносеологическом, и в методологическом плане. Знаменитый тезис Протагора о человеке как мере всех вещей впоследствии стали рассматривать в русле антропологического поворота в древнегреческой философии.
Источником негативной оценки софистики как деятельности софистов стали их ближайшие коллеги-философы, в стане которых, как видим, единой позиции в отношении софистов не было. Если для Платона софисты становятся, прежде всего, теоретическими оппонентами, то для Аристотеля — противостоящей профессиональной группой, занимающейся небезупречными в этическом плане социальными проектами. Об этих двух ключевых претензиях — платоновской, или интеллектуальной, и аристотелевской, или моральной, — сообщает «летописец» древнегреческой философии Диоген Лаэртский. Данными двумя претензиями к софистам, однако, дело не ограничивается.
В чем сторонники Платона и Аристотеля были согласны, так это в том, что порицания заслуживает неверное применение софистами искусства красноречия, квинтэссенцией которого является знаменитый сократовский, или диалектический, метод. Создание его приписывают Сократу, т.е. тому, кого многие современники сочли бы софистом. Суть этого метода состоит в том, что путем надлежащей постановки диалектических вопросов, требующих ответа «да» или «нет», в ходе беседы можно исследовать сложные теоретические проблемы (Аристотель, Метафизика, XIII, 4)[205]. Из диалогов Платона и сочинений Аристотеля узнаем, что майевтику практиковали одинаково успешно и софисты, и философы, поэтому намерение софистов, коллег по профессиональному цеху, направить данное орудие в неверную, как считали философы, цель вызывает столь ревностный отпор. Показательно, что Протагор был,
...