автордың кітабын онлайн тегін оқу Истории для кино
Аркадий Инин
Истории для кино
© Инин А.Я., текст, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Киножурнал
В советских кинотеатрах перед началом художественных кинофильмов показывали документальные киножурналы. Новости страны, вести с полей, заводов и шахт…
Давно нет советских кинотеатров. Но сам-то я родом из советского детства. И потому традиционно предваряю сеанс моих кинофильмов документальным киножурналом.
Нет, точнее, это еще не фильмы, это сценарии – истории для кино. Не будь сценариев, не было бы и фильмов. Потому что сценарист, извините за нескромность, самый настоящий волшебник, истинный творец, создающий нечто из ничего.
Ну, представьте: еще ничего нет, полная пустота, абсолютный вакуум – и вдруг в голове и душе сценариста рождается не существовавший до сего момента целый мир: завязывается какая-то история, появляются какие-то люди, они начинают о чем-то разговаривать, как-то действовать – любить, изменять, спасать, предавать, сдаваться, побеждать…
И лишь потом, получив рожденную сценаристом историю, режиссер придумывает как ее снять, актеры произносят сочиненные для них слова, оператор запечатлевает все происходящее кинокамерой…
Но в начале-то все-таки было слово!
Набирая во ВГИКе новый курс сценаристов, я рассказываю студентам такую байку.
Киноархив, две мышки грызут пленку фильма. И одна мышка другой говорит:
– А сценарий был вкуснее!
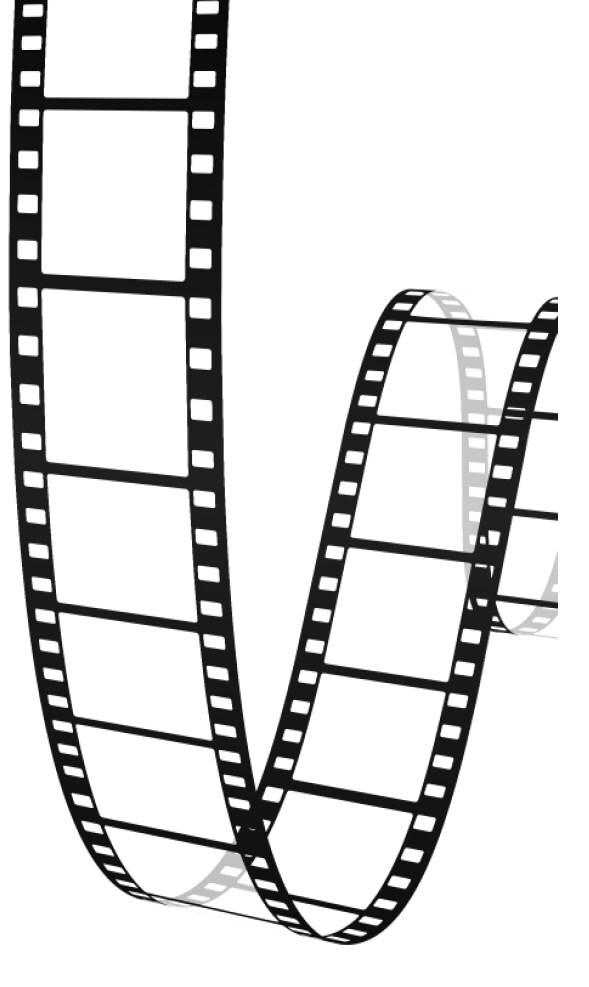

Кинороманы
ВСЕ КИНОРОМАНЫ СОЗДАНЫ В СОАВТОРСТВЕ С НАТАЛИЕЙ ПАВЛОВСКОЙ

Утесов
Песня длиною в жизнь
кинороман
Глава первая
«Есть город, который я вижу во сне»
МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
Москва была еще не многоэтажная. Только семь сталинских высоток – МГУ, МИД и МПС, гостиницы «Ленинградская» и «Украина», дома на Котельнической набережной и площади Восстания – торчали, как памятники ушедшей эпохи. Москвичи считали их «вставными зубами», уродующими город. Так когда-то французы тоже на дух не принимали Эйфелеву башню. А потом творение Эйфеля стало неотъемлемым символом Парижа. Станут такими же символами Москвы и эти островерхие сооружения, но не сейчас, в шестьдесят пятом, а значительно позже.
Пока же на московских окраинах росли кварталы «черемушек» или «хрущоб» – убогих блочных пятиэтажек. Которые тогда новоселам казались вовсе не убожеством, а счастливейшим разрешением жилищной проблемы, подарившим тысячам москвичей их мечту – отдельную квартиру. С крохотными комнатками, низкими потолками, совмещенным санузлом, но – отдельную, свою, и это было счастье!
«Хрущобы» строились, а самого Хрущева уже не было. Вернее, еще жил-поживал Никита Сергеевич, но уже не всесильный Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР, а рядовой пенсионер, которого полгода назад съели – скушали, схрумкали и не подавились – верные друзья и ближайшие соратники.
Отставкой Хрущева закончилась великая политическая «оттепель», и начался грядущий «застой» под руководством Брежнева.
А в остальном, не считая высоток и «хрущоб», Москва оставалась прежней – старинный центр, Красная площадь, башни Кремля, мосты на Москвой-рекой. На вечерних слабоосвещенных улицах было много людей, но еще совсем мало машин. По одну сторону Большого Каменного моста на месте бывшего (и через тридцать лет – будущего) Храма Христа Спасителя пока еще размещался бассейн «Москва», а по другую – знаменитый «дом на набережной» с Театром эстрады.
Туда, в театр, мы еще придем, а пока заглянем в уже не менее знаменитый дом – жилищный кооператив Большого театра на Каретном ряду. В этом доме жили не только певцы и балеруны, но и многие известные деятели культуры других жанров.
Жил здесь и Леонид Осипович Утесов.
И сейчас в его квартире из шикарного прибалтийского приемника «Ригонда» звучит знакомая каждому советскому человеку песня «Дорогие мои москвичи» в исполнении дуэта Утесова и его дочери Эдит:
Затихает Москва, стали синими дали,
Ярко блещут кремлевских рубинов лучи.
День прошел, скоро ночь. Вы, наверно, устали,
Дорогие мои москвичи.
Можно песню окончить простыми словами,
Если эти простые слова горячи.
Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами,
Дорогие мои москвичи!
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье?
Чем наградить мне вас за вниманье?
До свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи,
Доброй вам ночи, вспоминайте нас…
Леонид Осипович – уже грузный, но еще крепкий, уже седеющий, но с еще молодыми глазами, – стоит посреди комнаты, тоскливо подчиняясь рукам шустрого портного, заканчивающего подгонку на нем нового костюма.
Перед старинным, карельской березы, трельяжем наносит последние косметические штрихи сорокалетняя и, увы, слегка увядающая красавица – дочь Дита.
В углу застыл с несколькими галстуками на согнутой руке все еще невероятно привлекательный, с латиноамериканскими жгучими глазами и усами, Алик – муж Диты, кинорежиссер-документалист Альберт Генденштейн.
А когда по домам вы отсюда пойдете,
Как же к вашим сердцам подберу я ключи,
Чтобы песней своей помогать вам в работе,
Дорогие мои москвичи?
Синей дымкой окутаны стройные здания,
Ярче блещут кремлевских рубинов лучи…
Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания,
Дорогие мои москвичи!
Утесов вдруг нервно вскрикивает:
– Дита, выключи кричалку, я уже слышал это произведение!
Рука Диты, подносящей щеточку к глазу, чуть вздрагивает: она знает, очень хорошо знает, от кого у отца эти дурацкие словечки: «кричалка» вместо радио, «чесалка» вместо расчески, «обалденочка» вместо водки… Но Дита ничем не выдает свое знание, а послушно встает, чтобы выключить приемник. Однако песня уже закончилась, и звучит голос диктора: «Конечно, песня „Дорогие мои москвичи“ дорога не только москвичам, но и всем советским людям, которые поздравляют всенародно любимого артиста Леонида Осиповича Утесова со славным юбилеем – семидесятилетием!»
Все верно, дожил. Семьдесят. Когда? Как столько лет пролетело? Не заметил. Просто жил, жил, жил – и дожил. А диктор по радио продолжает заливаться бессмысленным соловьем: «В этот радостный и знаменательный для каждого человека день человек оглядывается на свою человеческую жизнь и по-человечески задумывается: что же сделано за эти семьдесят лет…»
– Эту цифру я тоже уже слышал! – торопит Утесов дочь.
Дита наконец выключает приемник. Но отец не успокаивается:
– И закрой простудилку!
И снова глаз Диты чуть дергается, реагируя на очередное дурацкое словечко. Но она переспрашивает ровным голосом, как ни в чем не бывало:
– Что, папа?
– Я говорю, закрой форточку! На улице прохладно!
– О, есть такой анекдот! – оживляется портной.
Этот портной – не просто так себе портной. Этот портной – Исаак Соломонович Затирка. Фамилия такая. Не просто фамилия – легенда.
Дело в том, что во времена тотального советского дефицита деньги не решали ничего. Все решали связи. Проще и грубее – блат. По блату получали квартиры и поступали в институты, по блату доставали шапки-ушанки и колбасу-сервелат, по блату добывали билеты на поезд и место на кладбище…
Но был блат на уровне директора магазина, начальника ЖЭКа или кассирши в театре, а был блат на высшем уровне. Парикмахер, который делал прически женам членов ЦК КПСС, механик, который ремонтировал машины в гараже КГБ, портной, у которого шили лучшие представители творческой интеллигенции, не ниже уровня народных артистов.
Таким портным и был Затирка, человек, приехавший из Одессы, герой историй, колоритом и числом не уступающих анекдотам про Ходжу Насреддина. Например, история, свидетельствующая о том, что уже в те времена было непримиримое состязание двух столиц России – Москвы и Ленинграда. Так вот, ленинградский писатель приехал в Москву, пришел к Затирке и надменно попросил сшить ему костюм не хуже того, который ему сшил знаменитый ленинградский портной. Затирка долго и тщательно осматривал костюм ленинградца, исследовал каждый шов и пуговицу. А потом спросил: «Так кто вам шил этот костюм?» – «Я же сказал, его сшил самый известный портной Ленинграда!» – «Да-да, это я слышал, но кто он по профессии?»
Портной Затирка не только порождал анекдоты, но и любил их рассказывать. Вот и сейчас, после утесовской реплики про форточку, портной оживляется:
– О, есть такой анекдот!
И, не прекращая колдовать над костюмом, рассказывает, как один еврей просит жену закрыть окно, потому что на улице холодно, а жена удивляется: «Изя, что за глупости! Если закрыть окно, так что – на улице станет теплее?»
Портной хихикает. Утесов бросает на него испепеляющий взгляд:
– К вашему сведению, товарищ Затирка, бог сотворил мир за шесть дней. А вы возитесь со штанами целый месяц!
Портной насмешливо парирует:
– Так вы таки посмотрите на этот мир – и на эти бруки!
Честно говоря, Утесову крыть нечем. Красавец-зять не выдерживает пассивной роли наблюдателя и прикладывает к пиджаку тестя полосатый галстук:
– Этот, по-моему, в тон… Советую…
– Алик, советуй своей жене! А я на сцене всегда в одном и том же галстуке!
Вообще-то, Альберт про это знает. И все близкие знают, что Леонид Осипович почти всегда, особенно на ответственные выступления – а уж сегодня куда ответственней! – надевает один и тот же залоснившийся от многолетнего употребления черный галстук.
– Талисман? – догадывается словоохотливый портной. – Знаете, у меня тоже был талисман: старая зингеровская иголка. И вы не поверите, но когда я эту иголку потерял…
Последствия этой потери остаются неясными, так как звонят в дверь. Утесов взволнованно вскрикивает:
– Алик, что ты стоишь, открой уже!
Альберт уходит и возвращается с кипой телеграмм, читая их на ходу:
– От Сыктывкарской филармонии… От госпиталя Министерства обороны… Просто земляки из Одессы, без подписей… Команда эсминца «Дерзкий»…
Утесов слушает поздравительный перечень раздраженно и с явным напряжением. Дита мягко улыбается:
– Папа, ты думаешь, правительственные телеграммы почтальоны носят?
– А что, телеграммы сами ходят? – пытается улыбнуться в ответ Утесов.
– Нет, тебе все принесут в театр.
– Ага, принесут они…
– Конечно, я уверена, обязательно дадут…
– Ага, дадут они…
– Точно дадут, сама Фурцева приедет.
– Ага, приедет она…
Дита не выдерживает однообразного брюзжания отца и взрывается:
– А не дадут – так не дадут!
Утесов застывает, как от выстрела в спину. То есть что это значит – не дадут?! Такое даже невозможно представить. Он шел к этому семьдесят лет. Он спел сотни песен. Он покорил сердца миллионов. Он стал воистину народным артистом по сути. Так почему же не стать им и по званию – «народный артист Советского Союза».
Слаб человек! Вроде все у него есть… нет, не вроде, а действительно все: фантастическая любовь зрителей, уважение и зависть коллег, благосклонность высшего руководства; есть ордена и медали, есть звания – «заслуженный» и «народный» России. Да, но – только России… Последнее время он спал мало и плохо. Долго ворочался, забывался кратким сном и вздрагивал, просыпаясь от тревожных сновидений. И дятлом долбила одна мысль: дадут – не дадут?
Дита его успокаивала, но сама, честно говоря, думала о том же. И его коллеги, знакомые, друзья и недруги думали о том же. Прикидывали, судачили, как ильфо-петровские «пикейные жилеты», взвешивали все за и против.
С одной стороны, как не дать, ведь такой человек – кумир, мастодонт, корифей эстрады… Да, но с другой стороны, всего лишь эстрады, а не театра и не кино… С одной стороны – великие песни, но с другой – были ведь и не великие, и даже сомнительные… С одной стороны – конечно Утесов, но с другой – все же изначально Вайсбейн…
А время неумолимо летело, и день юбилея неотвратимо приближался, и вот уже он настал, но до сих пор не ясно: дадут или не дадут Леониду Осиповичу Утесову высокое звание «народный артист СССР».
– А не дадут – так не дадут! – не выдержав, взрывается Дита. – Райкину на пятьдесят не дали – и ничего! Жив, здоров, работает…
– Аркаша – еще мальчишка! – запальчиво возражает Утесов. И махнув рукой, переключается на портного: – Ну что, что? Сколько еще ждать?
Великий портной Затирка флегматично отвечает:
– Гораздо меньше, чем вы уже ждали…
МОСКВА, ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
Зал Театра эстрады полон – лучшие люди искусства, цвет Москвы и страны: Михаил Жаров и Фаина Раневская, Аркадий Райкин и Мария Миронова, Сергей Образцов и Клавдия Шульженко, Зиновий Гердт и Лидия Русланова…
Слышится ровный гул голосов, все смотрят на пустую сцену, где висят потрет Утесова в лавровом венке и две цифры: «70» – его возраст и «55» – его стаж в искусстве.
И все ждут. Ждут не юбилейной церемонии, не блестящего действа, не потрясающего концерта… То есть, нет, конечно, всего этого ждут, но и так понятно, что это все будет, однако не это сейчас главное. А главное все то же: дадут – не дадут?
Вообще-то, семьдесят лет Утесову исполнилось еще в марте. Но ясности с присвоением звания еще не было. Поэтому и с празднованием тянули, тянули и дотянули уже до апреля. А ясность так и не появилась. Но дальше тянуть с юбилеем было некуда. Тем более что пронесся слух: точно дадут. Вот и назначили день торжества. Однако пока слух оставался слухом. А точно сообщить (или не сообщить) об этом могла лишь министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева. Но Фурцевой до сих пор не было.
За кулисами поглядывают на пустую сцену Утесов – в новом костюме, Дита – в платье с мехами и ведущий вечера режиссер Иосиф Туманов – в смокинге с бабочкой. Утесов нервничает:
– Я никогда не заставляю зрителей ждать!
Туманов спокойно парирует:
– Ждут не тебя, а Фурцеву.
Утесов закипает:
– В конце концов, это мой юбилей или Фурцевой?
– Твой, папа, конечно, твой, – поглаживает его плечо Дита.
– Да, Лёдя, юбилей твой, – улыбается Туманов. – И значит, ты уже большой мальчик и понимаешь, что министр культуры сама не решает.
Ну, конечно, он все понимает. Отлично понимает, что Фурцева при всей любви к нему не может просто сама взять и выдать ему «народного» из своего кармана. Понимает, что это рассматривают в разных инстанциях, взвешивают, обсуждают… Да, все он понимает. Он только не понимает одного: какого черта они рассматривают, взвешивают и обсуждают? Он не понимает, какого еще рожна им нужно, чтобы дать ему то, что он сто лет как заслужил!
А Туманов все журчит ему на ухо с ласковостью гипнотизера, что решения такого уровня принимает ЦК и Президиум Верховного Совета, а там и других вопросов хватает, видимо, они до этого еще не добрались, а Фурцева сидит и ждет, и обязательно дождется…
Тем временем гул голосов в зале нарастает. Многие нетерпеливо поглядывают на часы. Утесов смотрит в щелку занавеса на волнующийся зал и дергается еще больше:
– Оркестр готов?
– Оркестр готов, – заверяет Туманов и добавляет, предупреждая очередные вопросы: – И балет готов, и поздравляющие ждут, и цветы-подарки на месте. Слушай, Лёдя, на эту тему есть чудный анекдот…
– Да что меня сегодня все кормят анекдотами! – взрывается Утесов. – Все, начинаем!
Он решительно направляется из кулис на сцену.
– Папа! – пытается удержать его за рукав Дита.
Но он отбрасывает ее руку. А что – характер! Босяцкий, одесский характер. Конечно, за долгие годы жизни он пообтесался, пригладился, стал благообразней, научился ждать, терпеть, может даже лишний раз поклониться… Но только до поры до времени. А когда припечет, он не станет вилять и кланяться, он распрямится и пойдет крушить напролом.
Утесов распрямляется и делает решительный шаг из кулисы на сцену… Но на этот раз пронесло: из противоположной кулисы появляется министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева.
Ах, красавица Катерина, Екатерина Великая! Ладная, статная, с косой-короной вокруг головы бывшая ткачиха привлекла внимание Никиты Сергеевича. И Хрущев поднял ее на небывалую высоту – не только министра культуры, но и единственной женщины – члена Президиума ЦК КПСС. Ну, само собой, ходили сплетни про особые отношения Хрущева с Фурцевой, но не в том дело, ей-богу, не в том. Катя Фурцева была хороша на посту министра культуры. Не для всех хороша, но для очень многих. Рука у нее была горячая, нрав вспыльчивый, кое-кому от нее доставалось под горячую руку. Но при этом она стольким помогла, столько судеб актерских устроила, столько спектаклей спасла от карающего меча партийной цензуры… Нет, она не была диссидентом и борцом за справедливость. Но она была женщина, и вполне могла расплакаться на трогательной постановке или мелодраматическом фильме. А искренние слезы смягчают души и нравы. Так что не зря, не зря назначил ее Никита Сергеевич министром культуры.
Правда, сейчас уже Хрущева нет, но Фурцева еще остается на своем посту. Хотя доживает на нем последние дни. И находится не в лучшей форме – моральной и физической, да и попивает она последнее время. Но сейчас она на высоте – в строгом костюме а-ля «член правительства», на высоких каблуках, с красной кожаной папкой в руке. Зал мгновенно затихает. В абсолютной тишине слышен лишь цокот каблучков Фурцевой. Она подходит к микрофону, открывает папку и безо всяких предисловий начинает читать:
– Указ Президиума Верховного Совета СССР…
Больше она ничего не успевает сказать – зал взрывается овацией. Всем уже и так все ясно. Дали!!!
Фурцева слегка вздрагивает, но ее строгое лицо смягчает понимающая улыбка. Она властно поднимает руку, зал послушно стихает. И Фурцева все-таки дочитывает:
– За большой вклад в развитие советского музыкального искусства присвоить Утесову Леониду Осиповичу почетное звание – «народный артист СССР»!
В зале снова шквал аплодисментов. Таких яростных, как будто это его – зала – личная победа. А застывший в кулисах Утесов вдруг обмякает, словно из него выпустили воздух, и как-то устало и негромко говорит сам себе:
– Дали… Таки дали… Ну и что?..
Он впадет в знакомое всем состояние, когда бессонными ночами напряженно готовишься к главному экзамену, а потом сдаешь его – и наступает полное опустошение. Но Дита торопит отца:
– Папа, иди! Иди же, папа!
Утесов встряхивает головой, мгновенно надевает свою обаятельнейшую улыбку – а как же, профессионал! – и выходит на сцену.
Зал встает и аплодирует стоя. Фурцева вручает Утесову папку. И весомо сообщает всем:
– Хочу отметить, товарищи, что Леонид Осипович – первый… я подчеркиваю, первый артист эстрады… которого партия и правительство удостоили столь высокого звания!
Фурцева выжидающе смотрит на Утесова. И он оправдывает ее ожидания. Серьезнеет, делает торжественное выражение лица, настраивает голос на взволнованную глубину:
– Уважаемая Екатерина Алексеевна! Разрешите мне высказать искреннюю и глубокую благодарность за эту высокую награду нашей дорогой коммунистической партии и советскому правительству! – Он умолкает, словно сомневаясь в уместности дальнейших слов, но все же решается и широко улыбается: – И еще спасибо моей родной Одессе!
Екатерина Великая в некотором недоумении чуть приподнимает бровь. Но зал расслабляется и снова восторженно аплодирует. Да еще ведущий Иосиф Туманов, смягчая ситуацию, дает отмашку оркестру, и звучит, пожалуй, самая главная песня Утесова:
Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог
У Черного моря открывшийся мне,
В цветущих акациях город
У Черного моря…
И Утесова уже не удержать, и он уже забыл про официоз и церемониал, и он расплывается в трогательной улыбке, и почти по-дружески сообщает и Фурцевой, и всему залу, и всему миру своим неповторимым голосом – с характерной хрипотцой и одесским говорком:
– Вы ж понимаете, шо многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается! Для этого надо, шоб, как минимум, ваши родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Но не все ж могут себе это позволить. А мои – всю жизнь там прожили…
ОДЕССА, ВЕСНА 1895 ГОДА
Волны Черного моря накатывают на берег, сверкая брызгами в ослепительных лучах южного солнца. Но до пыльного переулочка в районе Малой Арнаутской и Привоза море не достает, и солнце сюда пробивается с трудом сквозь тень деревьев и виноградной лозы.
Треугольный переулок, дом 11. Двухэтажный дом и типичный одесский дворик, опоясанный по всему периметру деревянной галереей с железными витыми перилами. Ворота – тоже железные – ведут из двора в переулок. На левой стороне дома – тяжелая резная дверь. Если войти в нее и подняться на второй этаж по очень крутой лестнице с выщербленной итальянской плиткой, то можно добраться до квартирки из трех комнат – две крошечные, окна во двор, и одна побольше, окна на улицу. Здесь живет семья Вайсбейнов.
А на первом этаже, напротив водяной колонки, проживает мадам Чернявская – известная повитуха, принимавшая всех младенцев в этом дворе, и во дворе рядом, и во дворе напротив, и во всех дворах Треугольного переулка и окрестностей. В ее квартиру и врывается поздним вечером разбитная голосистая девка Маня:
– Мадам Чернявская! Хватайте свой чемоданчик и скачите у пятнадцатую квартиру! Мадам Вайсбейн сейчас рассыплется на кусочки!
Грузная повитуха, в платке, заправленном за уши и подвязанном у подбородка, отрывается от пасьянса, который она раскладывала на столе, покрытом вязаной из ниток скатертью.
– Тихо, ша! И почему это в Одессе имеют моду рожать на ночь глядя, когда нормальные люди уже готовы скушать свой штрудель и спокойно отдыхать…
Продолжая ворчать, повитуха собирает докторский чемоданчик и меняет домашние тапки на уличные чоботы. Маня приплясывает от нетерпения у порога:
– Ой, ну шо ж вы копаетесь, как на похороны!
– Ай, на каждые роды будут свои похороны…
Маня выхватывает из рук повитухи чемоданчик и первой вылетает за дверь.
А в свою квартиру, открыв дверь ключом, устало входит хозяин – Иосиф Вайсбейн.
Он очень аккуратный человек – в отглаженном костюме, в начищенных ботинках, с довольно пышными, но тщательно подстриженными усами и с потертым, но чистеньким саквояжем в руке. Он аккуратно снимает сюртук, обмахивает его щеткой и вешает на плечики. Снимает золоченое пенсне, бережно укладывает в футляр, кладет футляр в комод, а оттуда извлекает простенькие очки, подвязанные веревочкой.
Но тут из соседней комнаты доносится женский стон. И степенный Иосиф, потеряв всю свою размеренность, бросается в комнату, где лежит на широкой супружеской постели его жена Малка. Лоб у нее весь в испарине.
– Малочка, что? Или уже началось?
Вместо ответа врывается Маня, таща за собой повитуху мадам Чернявскую.
– Холоднокровней! – ворчит повитуха. – Это если бы мадам Вайсбейн имела первое дитя, так я бы еще нервничала, а то уже, слава богу, четвертый визит…
Иосиф падает на колени перед женой, хватает ее за руку:
– Малочка, душа моя! Больно, да? Больно?
Малка лишь тихо стонет – черные пряди волос прилипли к мокрому лбу. А повитуха грозно заявляет Иосифу:
– Мосье Вайсбейн, сделайте так, чтобы вас здесь не было!
Девка Маня уже тащит таз с горячей водой. Повитуха расстилает белые простыни. Растерянный Иосиф плетется в кухню. И смотрит, не видя, в темное окно, нервно постукивает пальцами по стеклу. В кухню влетают мальчик Миша и две девочки, Клава и Прасковья, – в длинных ночных сорочках.
– Папочка, папочка, Миша говорит, что у нас будет братик! – кричит Клава. – А мы с Песей – что будет сестричка!
Появление детей мобилизует папу Иосифа, и он с максимально доступной ему строгостью переключается на воспитательную работу:
– Дети, во‐первых, вам нужно спать! А во‐вторых, кто будет – я не знаю…
– А я знаю – братик! – заявляет Миша.
– Нет, сестричка! – хором возражают девочки.
– Нет, братик! – дергает Клаву за косичку Миша.
– Нет, сестричка! – дает ему тумака Клава.
– Дети, не ссорьтесь! – вмешивается папа Иосиф. – Идите спать!
Появляется сияющая Маня:
– Мосье Вайсбейн, у вас – девочка!
Девчонки прыгают, показывая брату Мише «носики»:
– Сестричка! Ага, сестричка!
Из комнаты зовет повитуха:
– Манька, сюда иди!
Манька убегает. Папа Иосиф уже строго приказывает:
– Все, дети, я сказал: спать!
Малыши нехотя, продолжая тайком шпынять другу дружку, удаляются. Папа Иосиф взволнованно одергивает сюртук и направляется в комнату. В дверях его встречает повитуха:
– Мосье Вайсбейн! Вы будете сильно смеяться, но у вас двойня!
Папа Иосиф столбенеет:
– Как… двойня?
– Так, двойня! – усмехается повитуха. – Представьте себе, это бывает… Девочка, а потом таки мальчик.
– Что же вы сразу не сказали! Какое счастье – второй сын!
– Я вас поздравляю с этим счастьем, мосье Вайсбейн!
Папа Иосиф благостно улыбается, потом спохватывается:
– А как она?
– Ой, не берите в голову! Мадам Вайсбейн такая справная женщина, что может родить вам целый синагогальный хор!
Измученная мама Малка сидит на кровати, опираясь на гору подушек, а рядом – два кулечка с новорожденными: мальчик и девочка, сын и дочь. Папа Иосиф нежно гладит распущенные волосы жены. И смотрит ей в глаза, и молчит, и думает, как ему повезло в жизни.
Впрочем, он сам себе устроил это еврейское везение и счастье. Потому что неожиданно для всей своей зажиточной семьи, да и, честно говоря, для себя самого он не дал слабину. А поступил, как настоящий мужчина. Так считал он. Или – как настоящий босяк. Так кричал его отец. А было вот что: Иосиф привел в дом родителей невесту. Тоненькую черноглазую девчушку Малку Граник. Из очень бедной, да просто нищей семьи. Отец сказал Иосифу: «Нет!» Иосиф сказал отцу: «Да!» Отец сказал Иосифу: «Я выгоню тебя из моего дома!» Иосиф сказал отцу: «Я сам уйду!» Оба сдержали свое слово. Отец его выгнал, Иосиф ушел. И женился на любимой своей Малочке, и больше никогда не появлялся в родительском доме.
И вместо обеспеченной жизни богатого наследника стал вести тяжкую жизнь лепетутника. На одесском жаргоне «лепетутник» – это мелкий торговец, посредник в разных коммерческих сделках, маклер для разовых поручений… В общем ничего стабильного, ничего определенного – ни работы, ни заработка. Все зыбко, сиюминутно и воздушно. Мудрый Шолом-Алейхем называл таких людей – «человек воздуха».
Папа Иосиф гладит маму Малку по взмокшим волосам:
– Спасибо, родная моя! Два мальчика и три девочки! Или есть кто-то меня счастливее?
– И все это счастье хочет кушать, – вздыхает мама Малка. – Ох, Йося, с другой женой ты бы купался в деньгах, как утки в луже на Слободке…
– Не говори так, не рви мне сердце! Если мои родители не имели души и из-за бедной невесты отказали мне в деньгах, так пусть забирают их на тот свет! Пусть попробуют купить там на эти деньги хоть полфунта любви и благодарности…
Малка слабой рукой гладит руку мужа. Один из новорожденных – мальчик – разражается пронзительным криком. Мама Малка прикладывает его к груди. А папа Иосиф улыбается:
– С таким голосом он будет невроку хорошим кантором!
Одесса начала века – это кривые улочки и прямые бульвары, корабли и биндюжники в порту, церкви, мечети и синагоги, трамвай-конка и рынок Привоз, который круглый год ломился от фантастического изобилия мяса и рыбы, молока и сладостей, овощей и фруктов… Но какое бы изобилие еды ни царило на Привозе, мама Малка никогда не давала детям целое яблоко или пирожное, а только пол-яблока или полпирожного. От этого сладкое казалось еще желанней и слаще.
Удар ножом – и яблоко разделено на две части. Мама Малка выдает половинки на десерт стоящим перед ней детям – старшему сыну Мише и дочери Клаве.
– Спасибо, мамочка! – хором благодарят дети и уносятся.
В семье Вайсбейнов завтрак, обед и ужин – всегда в точно определенное время. И за столом каждый сидит точно на своем месте. Еще удар ножом – и еще одно яблоко разделено на половинки. Одну мама подает маленькой Полине. Вторую половинку вертит в пальцах:
– И где же Лёдя?
– Не жнаю, мамошка! – отвечает Полина, близнец Лёди, не выговаривая половину букв.
Малышка убегает за старшими. Мама Малка раздумывает еще секунду и протягивает пол-яблока папе Иосифу:
– Ешь, Йося!
– А как же Лёдя?
– Ребенок должен знать порядок! Не пришел к обеду – ходи голодный!
– Но…
– Ешь!
Иосиф нехотя берет яблоко, но тут вбегает разбитная девка Маня.
– Малка Моисеевна! Вы побежите, погляньте, где ваш Лёдька!
Папа и мама спешат по галерее второго этажа, опоясывающей внутренний дворик. Откуда-то доносятся звуки скрипки. Мелодия становится все громче.
Вбежав в коридор, они видят трехлетнего сына, свернувшегося калачиком под дверью. Здесь живет учитель музыки Гершберг. И там, за дверью, сейчас поет его скрипка. Мама Малка бросается к лежащему на полу сыну.
– Лёдя! Что ты тут валяешься, как беспризорник! И что подумает маэстро Гершберг?
Папа Иосиф ее останавливает:
– Тише, он спит…
Родители склоняются над уснувшим малышом. Мама бережно берет его на руки.
– Ой, горе ты мое!
Папа поправляет задравшуюся рубашонку сына. Лёдя открывает глаза, прижимается к материнской груди и сонно улыбается:
– Мамочка… Там хорошо… Там – музыка!..
Мелодия скрипки за дверью становится все нежней и возвышенней.
Совсем другая музыка – разудалая, народная, многоголосая музыка одесской речи – звучит на Привозе, по которому бредет семилетний Лёдя.
– Сахарно-о морожено-о! – тенором заливается мороженщик.
– Кавуно-ов! На разрез кавуно-ов! – басит усатый продавец арбузов.
– Селк! Цисуца! Селк! – шепелявит китаец, торгующий тканями.
– Туфлы грецески! Грецески туфлы, батынки! – бубнит грек-обувщик.
Дородная мамаша со скрипичным футляром в одной руке другой тащит за собой тщедушного пацана в бархатной курточке и с бантом на шее. Мальчик пытается затормозить у тележки мороженщика.
– Мамочка, мороженое! Ну, мороженое!
– Боже упаси! У тебя может приключиться ангина, а потом – менингит головы! Как ты будешь играть на скрипке?
– Но я же играю руками, а не головой!
Этот аргумент не убеждает маму, она тащит вундеркинда с бантом дальше. Лёдя, проводив бедолагу сочувственным взглядом, протягивает торговцу копеечную монетку и важно приказывает:
– На все!
Мороженщик усмехается, берет самый маленький вафельный рожок, зачерпывает круглой ложкой один шарик мороженого, шлепает его в рожок, протягивает мальчику. Лёдя поспешно слизывает стекающую каплю драгоценного лакомства. И хмуро наблюдает, как мороженщик накладывает разодетой девчонке-толстушке целую горку мороженого в самый большой рожок. Девчонка замечает его взгляд, отхватывает немалый кусман мороженого и показывает Лёде испачканный язык.
А Лёдя убегает с Привоза, несется на Итальянскую улицу, мимо тенистых платанов, по булыжникам, по кривым улочкам, пересекает Дерибасовскую и вылетает на Николаевский бульвар.
Здесь тоже звучит музыка. Много музыки. По случаю воскресного дня в излюбленном месте прогулок горожан – от здания Городской думы до Воронцовского дворца, где бывал Пушкин – в центре бульвара на круглой площадке играет духовой оркестр. В ресторане под навесом – итальянский оркестрик. А в пивной без навеса – румынский. Играют они по очереди, друг другу не мешая.
Близнецы – Лёдя и Полина – бегают наперегонки вокруг Дюка.
Папа Иосиф умильно, а мама Малка строго наблюдают за ними. Папа радуется, какие невроку живые дети. Мама требует, чтобы оба – и Лёдька, и Полька – живо таки успокоились, иначе она им надерет уши.
Она вообще была очень скупа на ласку, строгая мама Малка. Если кто-то из детей удостаивался того, что мама погладила его по головке, – он мог быть уверен, что сделал что-то уж очень хорошее. Тогда ребенок бежал к братьям и сестрам, радостно хвастая этой маминой наградой. И еще мама почти никогда не целовала детей. То ли стыдилась такого несказанного, по ее мнению, проявления чувств. То ли считала, что эти нежности портят детей, лишая их твердости в жизни.
А папа Иосиф был совершенно другим человеком. Сентиментальный добряк, очень деликатный, никогда не ругался и не то что не кричал, но даже громко не разговаривал. Обожал любимую Малку и был так наивен, что совершенно не верил, будто есть мужья, которые изменяют своим женам. Он считал, что это все выдумывают писатели, и удивлялся: «Ну зачем же идти к чужой женщине, если есть жена?» А когда ему сказали в шутку, что один муж на Лимане изменил своей жене и умер от этого, он ответил всерьез: «Вот видите, что бывает!»
По одному мановению пальца мамы Малки растрепанные Лёдя и Полина подбегают к родителям. Мама интересуется: или их вывели гулять, чтобы они снесли голову уважаемому Дюку? На что Лёдя нагло, хотя и резонно, заявляет, что, если даже так, то Дюку будет не больно – он железный! Мама гневно заносит руку для подзатыльника. Но Лёдя отскакивает, сообщая, что он-то уж точно не железный.
И тогда папа, милый мягкий папа в отчаянной попытке смягчить конфликт переводит стрелки на исторически познавательную беседу:
– Между прочим, Дюк де Ришелье тоже не всегда был железным. Памятником Дюк стал в благодарность за что, что он, а также Де Рибас и другие французы создавали Одессу. Чем-то похожую на Париж. И улицы названы их именами – Ришельевская, Дерибасовская…
Лёдя перебивает папу – из всего просветительского курса он выловил только одну интересующую его мысль:
– А моим именем могут назвать улицу?
– Это как, Лёдька? – смеется Полина. – Что ли – Вайсбейновская?
Мама даже не желает рассуждать на дурацкую тему и сообщает, что детям пора домой. Дети канючат, просят еще погулять. Нет, не у мамы канючат – у мамы канючить бессмысленно, это они понимают, – и потому уговаривают еще погулять папу. Папа робко пытается заступиться: или мы уже не можем позволить детям еще подышать свежим воздухом в праздничный день? Но мама иронически прищуривается:
– Какой праздничный день, Йося? Я еще понимаю, был бы шабес, а что это за праздник – воскресенье?
Двор в Треугольном переулке был образцом большого интернационала старой Одессы.
Кроме уже знакомых вам семейства Вайсбейнов и одинокой повитухи мадам Чернявской, там жили еще две еврейские семьи.
Первая состояла из учителя музыки маэстро Гершберга с тихой женой-хромоножой Соней и их единственного ребенка Зюни – музыкального вундеркинда, ненавидевшего музыку и ее носителя-мучителя, родного отца.
Вторая еврейская семья была неполной: пухленькая симпатичная Розочка рано потеряла своего мужа Сему, оставившего ее с тремя детьми мал мала меньше. Покойный муж Сема был представителем редчайшего, но все же встречающегося в природе человеческого вида: еврей-пьяница. В свободное от пьянства время он рыбачил и утонул в нетрезвом состоянии, опровергнув пословицу, что пьяному море по колено.
Ридну Украину во дворе представлял прежде всего мясник Кондратий Семенович Загоруйко. Огромный, краснолицый, с закатанными рукавами и грязным фартуком на могучем животе. Под стать Кондратию Семеновичу была и его жена Аня: дородная подруга и помощница мужа, эта дама могла не хуже него одним ударом топора развалить пополам мясную тушу. Впрочем, делала она это не в рабочем порядке, а пару раз – на спор. Но с мужем она вела себя тише воды ниже травы, а свою нешуточную силу и взрывной характер изредка обрушивала лишь на соседей по двору. А вот Никитка – единственный сыночек этих двух богатырей – был будто тоненький стебелек, колышущийся на ветру, задумчивый и застенчивый, чем крайне огорчал отца Кондратия, чуявшего сердцем, что такой хилый сынок вряд ли станет достойной сменой в его мясной лавке.
Еще из украинцев была румяная чернобровая дивчина Маруся. Ну, не совсем дивчина, скорее – мадонна. Она постоянно кормила грудью одного младенца и была беременна следующим. При этом было совершенно непонятно, куда же девались ее предыдущие, уже рожденные и выкормленные дети. То есть они, конечно, где-то были, но существовали как-то отдельно от Маруси, ходившей, повторяем, вечно с пузом и с младенцем у груди. Маруся потрясающе пела украинские песни, а когда к ее голосу присоединялся баритон мужа Николая-Мыколы, босяка и весельчака без определенных занятий, то все соседи высовывались из окон или выходили на галерею, внимая столь неземному пению в исполнении таких земных вокалистов.
Еще во дворе проживали: грек – торговец орехами по фамилию Непростиди, причем никто не верил, что эта фамилия настоящая; татарин – само собой, дворник и, само собой, многодетный отец Калман Калманыч; русская портниха Галина Сергеевна, обшивавшая весь двор не то чтобы бесплатно, но в долгий-долгий долг; а также еще какое-то количество персонажей, которые появлялись во дворе ненадолго и исчезали навсегда.
А еще во дворе жил очень старенький, может быть даже вечный дедушка. Неизвестно, когда он здесь появился. Неизвестно даже, где он, собственно, тут жил. Он просто сидел во дворе всегда. На одном и том же месте. На одной и той же табуреточке. Никому не мешал. Никого не беспокоил. Сидел себе и сидел, улыбаясь солнцу. Или – дождю. Или – снегу.
Многонациональные жители двора в Треугольном переулке были людьми, не ангелами. Они и дружили, и ссорились, и ругались вдрызг, а порой и дрались в кровь. Но все равно жили вместе. И никуда друг от друга не девались. Как будто дворик в Треугольном переулке – это такой маленький островок, за пределами которого нету другой жизни.
И повторяя характеры, нравы, слабость и силу взрослых, жили во дворе их дети, по большей части почему-то пацаны. И тоже дружили, ссорились, дрались, но попробуй тронь их ребята из другого двора… Мало тем не покажется! Это твердо обещал Лёдя, бывший заводилой и главарем всех пацанов во дворе.
И вот что еще интересно – да нет, это просто естественно: украинцы или евреи, русские, греки или татары – все жители двора в Треугольном переулке говорили на одном языке – одесском.
– Розочка! Розочка! – истошно кричит могучая жена мясника Аня посреди двора.
На галерее второго этажа Розочка что-то жарит на примусе и отвечает, не оборачиваясь:
– Я вас слухаю, Анечка!
– Розочка, или вы даете чеснок в фарш?
– Я даю только лук. Желаете попробовать?
– Нет, я желаю угадать, что это так воняет!
Розочка презрительно передергивает пухлым плечиком, не отрываясь от примуса.
Чернобровая Маруся – живот барабаном, младенец у титьки – налетает на Галину Сергеевну, развешивающую на веревке белье:
– Слушайте, мадам Гурина! Вы своим бельем заняли весь двор!
– Ой, только не надо завидовать! – насмешливо отрубает владелица белья.
На террасе мама Малка варит вишневое варенье в медном тазу. Папа Иосиф вынимает шпилькой косточки из свежих вишен и складывает в миску.
– Йося, у тебя еще много?
– На целый таз! – отвечает папа Иосиф.
– Так у меня не хватит сахара.
– Ничего, – успокаивает папа Иосиф, – говорят, что сахар – это вредно.
– Это говорят те, у кого нет сахара! – усмехается мама Малка.
Маруся, отстав от Галины Сергеевны, задирает голову:
– Мадам Вайсбейн, я вам завидую: иметь такого мужа – так не надо никакого богатства!
Малка только улыбается. А Иосиф вздыхает:
– Как раз таки богатство нам бы не помешало. Нет чтобы нам жить в собственном доме, где каждый имел бы свой угол с окошком…
– Будут другие времена, – успокаивает его жена Малка.
– Когда они будут – другие времена? Что я могу, маленький лепетутник, если хлебные биржи трещат по швам… Даже Ротшильд терпит убытки!
– Не гневи бога! Все невроку здоровы, ни войны, ни погромов… Что еще надо?
– Дети растут, им скоро негде будет заниматься уроками…
– А у некоторых твоих детей уроки совсем не в голове!
Поднимая босыми ногами пыль, во двор влетает Лёдя. Его тут же окружают дружки-пацаны.
– Вот! – Мама Малка с галереи указывает на Лёдю. – Уже семь лет, а он и слышать не хочет ни про какую учебу!
Лёдя, не обращая на маму внимания, предлагает дружкам:
– Айда сливы таскать у барыни! – И во главе своей компашки уносится со двора.
– Лёдька! – летит ему вслед возмущенно-беспомощный дуэт мамы с папой.
Таскать у барыни сливы, а также яблоки и груши было любимым занятием этих малолетних паразитов.
Барыня – впрочем, неизвестно, почему они называли ее барыней, – жила одна в старом доме. Ветви деревьев ее небольшого запущенного сада склонялись под тяжестью плодов. А сама барыня – ну или кто она там была, – тощая женщина с растрепанными седыми прядями, взбитыми легкомысленными кудряшками, одетая в пышный розовый пеньюар, тоже легкомысленный и не вязавшийся с ее старческой фигурой, подперев кулачком подбородок, слушала лакированный фонограф, стоявший на столе. При этом она мечтательно прикрывала глаза и странная улыбка блуждала на ее узких губах. Кто знает, о чем думала, что вспоминала, куда уносилась в мечтах эта, вполне возможно, бывшая красавица… А на валиках фонографа крутилась всегда одна и та же мелодия – ария Ленского: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?»
Эта картина – «барыня», слушающая за столом у окна фонограф, – была неизменной, и не важно, что именно воровали пацаны в ее саду в зависимости от сезона. И картина поведения шантрапы тоже была одинаковая: проделав дыру в трухлявом заборе сада, пацаны набивали карманы, пазухи и рты сочными фруктами, а Лёдя, как загипнотизированный, устремлялся на звуки музыки.
Он осторожно подтягивался, влезал на подоконник, тихонько прятался за шторой и замирал, глядя, как крутятся валики фонографа, слушая, как Ленский поет: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни…» Он шевелил губами, повторяя мелодию, выговаривая слова, смысла которых не совсем понимал, и потому пел вместо «удалились» – «увалились», а вместо «дни» – «пни».
Обычно барыня, уплывшая в свои воспоминания и мечты, ничего не замечала вокруг. Но сегодня выходит по-другому. Где-то в саду трещит ветка, и раздается вопль свалившегося с нее пацана. Старуха бросается к окну и обнаруживает Лёдю. Она вцепляется в юного меломана и принимается лупить его мухобойкой.
– А-а-а! – вопит Лёдя. – Тетенька, отпусти!
– Ах ты, бесстыдник! Подглядывать? Как я в неглиже – они тут как тут!
– Да не подглядывал я! Я музыку слушал!
– Вот тебе музыка! Вот! Вот!
Ария Ленского сливается с воплями Лёди.
Но не зря страдал Лёдя, не зря. А страдал он за то, что станет первым в его жизни артистическим гонораром.
В комнате Вайсбейнов соседи по двору празднуют Песах. На столе маца, бокалы с кошерным вином и фарфоровое пасхальное блюдо, на котором лежат яйцо, куриная косточка и хоросис – тертые орехи с хреном. Папа Иосиф заканчивает читать молитву. Все пригубливают вино и желают другу другу счастливой Пасхи.
– А теперь – Лёдя! – категорически приказывает Розочка.
– Просим, просим! – поддерживают ее и другие гости.
Мама Малка недовольно поджимает губы. Но папа Иосиф ласково кивает сыну:
– Давай, Лёдичка…
Лёдя привычно взбирается на табурет, принимает картинную позу оперного певца, выдерживает театральную паузу и вдохновенно запевает, как умеет:
Куда, куда вы увалились,
Весны мой златые пни?
Слушатели, ничуть не смущаясь вольностями текста, с удовольствием покачивают головами в такт. Лёдя допевает арию. Гости аплодируют. Папа подает певцу монетку – три копейки. Гости наперебой веселятся:
– О, невроку заработал! Если так пойдет, с твоего пения вся семья будет жить! Купи себе мороженое!
– А я хочу два мороженых! – заявляет Лёдя.
И уже безо всяких приглашений снова заводит арию Ленского.
Раздается стук в дверь. Папа Иосиф, сделав сыну знак не прерывать пение, тихонько выходит. Потом возвращается и кивает жене. Мама Малка знает, что надо делать: она наливает рюмку, ставит ее на поднос, и папа Иосиф удаляется с подносом.
За дверью топчется огромный багровомордый городовой. Это уже давний ритуал. Ферапонт Иванович – исконный российский городовой и ведет себя, как татарский хан: он собирает дань. С православных христиан – в день светлой Пасхи, с иудеев – в день не менее светлого Песаха, с мусульман – в день их светлого праздника жертвоприношения Курбан-Байрам.
Папа Иосиф протягивает городовому поднос, тот одним глотком осушает рюмку.
– С праздничком светлой христовой… о-о-о… или как там у вас… в общем, Пасхи!
Спасибо, Ферапонт Иванович, большое вам спасибо!
Иосиф достает из карману купюру и вкладывает ее в лапу городового.
– И вам премного благодарствуем! – кивает городовой.
Он прислушивается к тоненькому голоску за дверью, выводящему арию Ленского:
– А это кто там глотку разоряет?
– Сын! – подобострастно сообщает Иосиф. – Лёдя… э-э… Лазарь.
– Глотка здоровая, – одобряет Ферапонт Иванович, – видать, артист будет.
– Ой, не дай-то бог! – пугается папа. – Не наше это дело!
– И то верно, – соглашается городовой. – Каждый свое дело делать должон. Ваше, к примеру, жидовское дело – купи-продай, а наше – за порядком соблюдать!
Да, полицейские силы – надежные блюстители порядка, верная опора режима. В повседневных синих мундирах являют они свою власть на улицах, а в праздничных белых – маршируют на парадах. Но что-то не видно их – ни синих, ни белых, – когда по городу катится разгульная страшная толпа черносотенцев…
Солнечная и как-то странно пустынная улица. Звенящая тишина и пустота создают ощущение тревоги. Впрочем, издалека доносится вполне мирное и торжественное «Боже, царя храни!». На эти звуки – как всегда на любые звуки музыки – из ворот своего дома выглядывает Лёдя.
Поющие голоса все громче, все ближе. Но самих поющих еще не видно. Зато, опережая их, на пустынную улицу выбегает человек – лицо в крови, рыжеватая бородка, огромными страдальческие глаза. Лёдя испуганно пятится во двор.
И наконец, вслед за избитым человеком появляется поющая процессия – крепкие нетрезвые мужики. Во главе процессии несут церковные хоругви. Толпа не гонится за окровавленным человеком, нет, она просто надвигается на него неотвратимой темной массой. Человек пытается бежать, но силы оставляют его, он спотыкается, вот-вот упадет…
Любопытство Лёди пересиливает страх – он опять выглядывает из ворот. Человек обращает к мальчику страдальческое лицо. Лёдя смотрит на него, переводит взгляд на толпу, на хоругви. Лицо мальчика исполняется удивлением и ужасом, потому что на самой первой и большой хоругви – лик Спасителя, как две капли воды похожий на лицо преследуемого. Те же страдальческие глаза, та же бородка, такая же струйка крови у рта.
Лик на хоругви. Окровавленное лицо человека.
Глаза Спасителя. Глаза пытающегося спастись.
Лёдя хватает человека за руку, тащит во двор. Тот из последних сил ковыляет за ним. Они минуют арку, пролезают через дыру в заборе.
Навстречу – обезумевшая от страха, с растрепанными волосами, мама Малка.
– Лёдичка! Родненький!
Она хватает сына, целует и тут же отвешивает подзатыльник:
– Где тебя носит? Горе мое, бежим скорей!
Но Лёдя оглядывается на окровавленного человека.
– Ой, горе мое, горе! – вновь стонет мама.
В подвале мясной лавки, среди висящих на крюках туш, притаилась вся семья Лёди: мама, папа, три сестры и брат.
На полу тихо стонет раненный человек с улицы. Папа Иосиф читает еврейскую молитву. Остальные молчат, прислушиваются к происходящему наверху.
Скрипит подвальная дверь, все вздрагивают и смотрят в темный проем. Оттуда спускается по ступеням, тяжко отдуваясь, огромный мясник Кондратий Семенович.
– Ну, там вже стихаеть, – сообщает он и замечает раненого. – А цэ хто?
Все испуганно переглядываются. Папа Иосиф робко мямлит:
– Понимаете, Кондратий Семенович… Видите ли…
Та усэ я понимаю и усэ бачу: еще одын жид. Ну, нехай…
Он милостиво машет толстой ладонью.
Все облегченно выдыхают. Папа Иосиф трясет руку мясника:
– Спасибо вам, Кондрат Семенович! Вы наш спаситель! Вы…
Мясник смущенно вырывает свою руку:
– Та ладно! Там уже ваши отряды самообороны подтянулыся… Даром, шо жиды, а хлопцы боевые!
– Спасибо вам! – все бормочет папа Иосиф. – Мы вас… мы отблагодарим…
– От люды! – огорчается мясник. – Та якбы ж я хотел магарыч, так чем вас тут ховать, я бы с теми бандюками зараз шарил по вашим комодам!
Кондрат Семенович уходит, в сердцах хлопнув дверью. Папа Иосиф опять читает молитву. Мама Малка смачивает тряпку и утирает лицо раненого.
– Дядечка, – спрашивает Лёдя, – а ты кто?
Раненый поднимает огромные печальные глаза на мальчика.
– Я?.. Я музыкант.
– Музыкант?! – У Лёди перехватывает дыхание от восторга.
– Да, скрипач…
Восхищенный взгляд Лёди падает на руки музыканта и гаснет – обе кисти разбиты в кровь.
А руки дирижера духового оркестра порхают в такт мелодии. Вернее, конечно, наоборот – мелодия подчиняется дирижерским рукам. Оркестр играет на площадке Николаевского бульвара для прогуливающихся нарядных дам и их кавалеров.
Лёдя проходит мимо этого оркестра и направляется к другому – в сотне метров от первого. Этим – немецким – оркестром дирижирует капельмейстер с пышными нафабренными усами а ля император Вильгельм. Он не просто так дирижирует, а восседает при этом верхом на белом коне. Публики аплодирует, а Лёдя вообще в полном восторге – уселся на землю и не сводит глаз с дирижера-всадника. Но вдруг трубач берет невероятное фортиссимо, конь испуганно взвивается на дыбы, и седок падает. К нему бросаются слушатели. Оркестр умолкает.
А музыкальную эстафету подхватывает другой – румынский – оркестр, возле пивной. Лёдя перемещается туда. Слушает, подпевает, даже взмахивает руками, изображая дирижера.
Оркестр доигрывает и усаживается тут же, за столиками – пить пиво. Лёдя робко подходит к гитаристу. Хотя оркестр «румынский», гитаристом в нем служит известный одессит, брутальный красавец со странным прозвищем Фуня-Водолаз. Лёдя наблюдает, как он пьет янтарную влагу из огромной кружки, и робко просит:
– Дядечка, можно я на гитаре попробую?
– А ты умеешь?
– Не-а. Я ж говорю: попробую…
– Да что ж пробовать, если ты не умеешь?
– А вы меня научите!
Фуня-Водолаз смеется, допивает кружку и машет официантке.
– Катюша, еще одну мою!
Лёдя терпеливо ждет. Официантка приносит новую – такую же огромную – кружку пива и призывно улыбается гитаристу. Тот слегка хлопает ее по крутому бедру и добреет.
– Ну, что ж, хлопчик, чего бы тебя и не поучить…
По лестнице из порта на бульвар поднимается папа Иосиф. В руке его рабочий саквояж. И голова его тоже, видимо, занята рабочими проблемами – он бормочет себе под нос, словно подсчитывая что-то в уме.
А что поделаешь, бедный одесский лепетутник должен все время считать, все время соображать, все время вертеться. Папа Иосиф – специалист по хлебной торговле. Ну, это громко сказано – «специалист» и «торговля». Какая там торговля? Ай, удалось сообразить два биндюга с десятком мешков муки от Одессы до Херсона – и уже гешефт. А «специалист» – таки да. Его все-таки немножко знают коллеги и уважают знатоки. Они собираются каждый день в знаменитом кафе Фанкони – скромные лепетутники. И на этой маленькой бирже у каждого из них невроку приличный костюм с жилеткой, и имеются часы на цепочке, и они не зря едят свой хлеб, да еще кормят хлебом своих детей.
Какой-то франт в клетчатом костюме задевает папу Иосифа плечом и, даже не извинившись, шпарит дальше. Вынужденный отвлечься от своих раздумий, папа Иосиф неодобрительно качает головой вслед франту и окидывает взглядом всю беспечную жизнь бульвара с явным неодобрением.
А в пивной Фуня-Водолаз ставит пальцы Лёди на гитарных струнах.
– Так… Так и так… И все вместе – плавно…
Лёдя, сосредоточенно сопя, берет аккорд.
– Ты – мелочь человеческая! У тебя упрямство переросло пальцы! – Гитарист оборачивается к официантке: – Катюша, еще одну!
Тут Лёдя замечает идущего по бульвару папу Иосифа. Он резко сползает под стол. Фуня поворачивается от официантки к столу:
Слушай сюда, хлопчик…
И замирает в изумлении, увидев на стуле только гитару.
А Лёдя, наблюдая за маршрутом папы, на четвереньках покидает пивную, укрываясь за пышной юбкой прогуливающейся дамы, затем ныряет за оплетенный диким виноградом заборчик итальянского ресторана, где сладкий тенор выводит неаполитанскую песенку.
Папа скрывается в конце бульвара. Лёдя облегченно переводит дыхание. И замечает за богато уставленным столиком у ограды красивую пару: загорелый морской капитан и красавица-блондинка. Капитан, почувствовав взгляд Лёди, оборачивается.
– Мальчик, ты что смотришь?
– Я думаю…
– О чем?
Лёдя смущенно мнется.
– О чем, мальчик? – спрашивает блондинка.
Лёдя решается:
– Я думаю, а вдруг я когда-нибудь сяду вот так в ресторане и съем все, чего захочу!
Капитан и дама переглядываются с улыбкой.
– Считай, этот день уже настал, – объявляет капитан. – А ну-ка, давай сюда!
Лёдя не долго думая перемахивает через ограду и плюхается прямо за столик. Тут же возникает строгий официант. Лёдя съеживается на стуле, но капитан останавливает официанта:
– Мальчик – с нами. Ну, друг мой… Ты ведь хотел съесть «все»? Так выбирай!
Лёдя недоверчиво смотрит на капитана, на официанта. Тот поднимает мученический взор к небу.
– Ну же, заказывай! – подбадривает капитан.
Лёдя мучительно соображает и наконец выпаливает:
– Мороженого! Ванильного с клубникой и орехами! На двадцать копеек!
Спутница капитана смеется. Капитан тоже терпеливо улыбается.
– Так, мороженое… Еще что?
– Все!
Официант хмыкает, удаляясь выполнять заказ, и возвращается с целой горой мороженого, украшенного фруктами и цукатами. Лёдя принимается с невероятной скоростью уплетать мороженое. И когда он доедает, капитан интересуется:
– Ну, а все-таки еще что?
Лёдя переводит дух, секунду размышляет и объявляет:
– Еще мороженого на двадцать копеек!
Вторая порция украшена еще затейливее. Лёдя несколько сбавляет темп, но расправляется и с ней. Спутница капитана наблюдает за ним с нарастающим изумлением. А капитан спрашивает:
– Ну, и как в сказке: третье желание?
Лёдя встает и галантно кланяется.
– Благодарю! Больше ничего не хочу.
– Совсем ничего?
– Совсем.
Капитан притягивает Лёдю за рукав обратно на стул.
– Сядь, послушай… Дед нашего одесского Дюка был маршалом. Однажды он подарил внуку сорок золотых монет. А через десять дней решил подарить еще. Но внук гордо показал ему нетронутые золотые. Он ожидал, что дед похвалит его за бережливость. Но старик рассвирепел, схватил деньги и выбросил их в окно нищему, крикнув: «Вот тебе деньги, которые мой внук не сумел потратить!»
Объевшийся Лёдя подпирает голову рукой, пытаясь вникнуть в сказанное.
– Ты понял? – спрашивает капитан.
Лёдя уклончиво пожимает плечами.
– Ничего, пока просто запомни, – улыбается капитан. – Поймешь, когда придет время…
Десятилетний Лёдя купается в море. Он чувствует себя в абсолютно родной стихии: плавает, ныряет, кувыркается, блаженно отдыхает на волнах, широко раскинув руки.
Но всегда найдется кто-нибудь, кто испортит хорошее. На обрыве появляется брат Михаил – серьезный молодой человек. Да, ему уже восемнадцать лет, он уже учится на бухгалтерских курсах, он уже вот-вот начнет самостоятельно работать, он любимчик мамы Малки и гордость папы Иосифа. И голос брата Михаила с обрыва звучит, как глас свыше – в прямом и в переносном смысле.
– Лёдька, домой!
Лёдя, сделав вид, что не слышит брата, ныряет, исчезает надолго в глубине, наконец выныривает, жадно заглатывая воздух, и с надеждой смотрит вверх. Но надежда не оправдывается: Михаил не улетучился, он стоит на том же месте, покусывая травинку. И обещает надавать Лёдьке по шее, если тот сию же минуту не вылезет из моря. Лёдя нехотя выбирается на берег, натягивает на мокрое тело линялую тельняшку и поднимается по обрыву к Михаилу.
Брат отвешивает ему профилактический подзатыльник и направляется к дому. Лёдя плетется за ним, а Михаил, не оглядываясь, его стыдит, что пока он дурака валяет и шлендрает – это такое у солидного Михаила презрительное словечко для бездельников – так вот, пока Лёдя шлендрает, его отец из сил выбивается на работе, а мать из сил выбивается дома, а прочие положительные братья и сестры из сил выбиваются на учебе… А этот десятилетний шлемазл Лёдя и не думает учиться, хотя отец наконец договорился с Кондратием Семеновичем…
– При чем тут мясник? – удивляется Лёдя.
– А как ты в училище поступать собираешься?
– Я никак не собираюсь.
Михаил разворачивается и вновь заносит руку для подзатыльника, но Лёдя отскакивает в сторону, так что Михаил рукой только машет. И нудно поясняет, что для поступления еврея в коммерческое училище Файга, нужно найти русского мальчика и платить за него и за себя, это называется – пятидесятипроцентная система.
Лёдя возмущается: и что, папа будет платить за мясниковского Никитку, когда у них же денег куры не клюют? Это несправедливо. Михаил вздыхает:
– Если ты родился евреем, забудь о справедливости.
– Да на что мне вообще это училище!
– Училище – чтоб учиться, шлемазл! Я, вот, лет через пять бухгалтером стану, потом – старшим… Потом свою контору открою, потом женюсь… А если с хорошим приданым – можно еще дело расширить…
Михаил мечтает. А Лёдя слушает его мечтания с тоскливым ужасом и не выдерживает:
– Ты же тогда уже будешь старик!
Михаил огорченно замолкает. Лёдя виновато утирает нос рукавом тельняшки.
– Короче, тебе уже мундир купили! – сообщает Михаил.
Стройный Лёдя чудо как хорош в длинном черном сюртуке, подбитом белой шелковой подкладкой, с красной выпушкой и шитым золотом воротником, с золотыми обшлагами и пуговицами. Лёдя вертится перед зеркалом и очень нравится сам себе.
Мама Малка замешивает тесто, но нет-нет, да и глянет на сына, пряча довольную улыбку. Папа Иосиф одергивает на Лёде сюртук.
– В таком костюмчике таки не стыдно показаться самому государю императору!
Хитрован Михаил интригует, играя озабоченность:
– А портной примет обратно мундир? Лёдька же не хочет в училище…
– Не-не! Я уже хочу! – поспешно кричит Лёдя. – Буду учиться!
И напяливает в дополнение к шикарному костюму еще и роскошную фуражку.
Дверь приоткрывается, и в нее просовывается вихрастая голова мальчишки.
– Господин Вайсбейн, вы дома?
– Никитка? Ты чего там, заходи! – зовет папа Иосиф.
Тоненький большеглазый Никитка входит и, шмыгая носом, сообщает:
– Батько это… послал сказать… ну, несогласный он… чтоб меня учиться к Файгу…
Папа Иосиф от неожиданности падает на стул:
– Как – несогласный? Он же твердо обещал!
Никитка пожимает плечами. Папа Иосиф вскакивает и в крайнем волнении спешит к выходу:
– Мне это нравится – несогласный он! А мой сын должен всю жизнь, как его отец, лепетутником мучиться?
Огромный мясник сидит в своей лавке, положив на стол пудовые кулаки. На его фоне папа Иосиф кажется еще более тощеньким, но энергии ему не занимать.
– Кондратий Семенович, имейте сострадание к моим больным нервам! Вы уже сказали «а», так не перерывайте же весь алфавит! Вы дали слово, я его взял!
Непонятно, слышит ли мясник Иосифа – его лицо совершенно непроницаемо. Как у Будды. Про которого он скорее всего никогда не слыхал.
– Кондратий Семенович, вы что – враг своему дитю? Или будет плохо, если дите выучится на Рокфеллера? Вы будете целыми днями кушать бланманже и гулять по бульвару в люстриновом жилете…
Оказывается, мясник все-таки слышит Иосифа. Он морщится и весомо роняет:
– Нехай в лавке работу робить!
Иосиф от неожиданности запинается, но продолжает с еще большим жаром:
– Ну какая лавка? Лавка – это тьфу! Ваш сынок заткнет за пояс самого Рокфеллера! А вам это не будет стоить, вы не поверите, ни копейки! Все копейки, нет, таки большие рубли – за мой счет!
Мясник отмахивается от папы Иосифа, как от назойливой мухи, и грузно поднимается со стула.
– Нема такого моего родительского желания. Усе, обедать треба!
Но тут в лавку врывается Никитка и тащит за собой Лёдю в нарядном мундире.
– Батько! Дывысь, мундирчик! Як картинка! Батько, я тоже такой хочу!
Похоже, мясника тоже поразила красота мундира. Он щупает ткань, крутит золоченую пуговицу. А тоненький Никитка все умоляет:
– Батько, ну шо Лёдька – як офицер, а я шо? Хочу мундирчик, батько!
А что, мясник – не человек? Ему разве начихать на своего единственного сына? Тем более что он замечает в дверях свою гренадершу-жену Аню, которая уже утыкает свои кулаки в свои крутые бока. И Кондратий Семенович царственно машет рукой:
– А, хрен с вами! Нехай учится!
Папа Иосиф сияет:
– Я знал: ваше слово – кремень!
А Кондратий Семенович напоследок все же урывает свой кусок от пирога.
– Мундирчик Никитке – за ваш кошт!
17 февраля 1905 года царский манифест даровал гражданам демократические свободы. Одним гражданам этих свобод вполне хватило. Другим гражданам все было мало. Грянула первая российская революция. В Петербурге были демонстрации, в Москве – бои. А в Одессу пришел восставший броненосец «Потемкин» и встал на рейде, наведя свои пушки на город.
Одесситы раскололись – за и против. Котелки, цилиндры и шляпы были в ужасе от этих матросов-бандитов. Кепки и платочки – за героев революции. Рабочие заводов, портовые грузчики, студенты и гимназисты бесконечной чередой провожали в последний путь старшину Вакулинчука, на груди которого покоилась картонка с надписью: «Один за всех и всех за одного».
Потемкинцам были нужны еда и вода. Но власти им ничего не давали, власти хотели взять их измором. И тогда с Пересыпи, с Малого, Среднего и Большого Фонтанов на шаландах и яликах повезли потемкинцам то, что смогли оторвать от своих скудных запасов, рабочие, грузчики, рыбаки… И конечно, тут не обошлось без вездесущих одесских пацанов.
В ночной темноте Лёдя подбегает к пристани, когда у причала остается последний ялик. Кряжистый рыбак Михайла командует цепочкой из несколько мужчин, которые перебрасывают друг другу мешки. Лёдя становится в цепочку, протягивает руки. Но Михайла придерживает мешок.
– А ты, пацан, что тут делаешь?
– Я помогаю непокоренным героям! – гордо сообщает Лёдя.
– Брысь отсюда, герой!
Один из рыбаков усмехается:
– Шут с ним, Михайла, нехай допомогает!
Он передает Лёде мешок. Мальчик сгибается под тяжестью, но все же дотаскивает и скидывает в ялик. Михайла машет гребцу на веслах:
– Привет потемкинцам! Пусть там держатся!
Ялик уходит от берега и растворяется в темноте. Михайла улыбается Лёде:
– А ты ничего, пацан… Приходи в гости!
Раздается трель полицейского свистка. Причал окружают городовые. Один было схватил Михайлу, но Лёдя дико верещит:
– Ховайся! У меня бонба!
Городовые падают наземь. Михайла исчезает в темноте. Лёдя вопит:
– Да здравствует…
Но рот ему затыкает багровомордый Ферапонт Иванович, который приходил поздравлять Вайсбейнов с еврейской Пасхой.
В доме Лёди, как обычно, никто не сидит без дела. Мама Малка гладит белье чугунным утюгом, время от времени помахивая им, чтобы раздуть угли. Папа чистит щеткой свой потертый сюртук. Старшие сестры Клава и Прасковья-Песя делают уроки. Младшая Полина вышивает крестиком. Брат Михаил разлиновывает бухгалтерские ведомости.
Распахивается дверь – на пороге городовой Ферапонт Иванович держит за шкирку Лёдю.
– Вот, любуйтесь, социялист сопливый!
– Лёдичка!
Папа бросается к сыну. Но мама перехватывает мужа за руку и строго вопрошает:
– Лазарь, что ты опять натворил?
Лёдя ковыряет пол носком ботинка. За него отвечает городовой:
– Господин социялист помогал бунтовщикам с «Потемкина».
Мама и папа дружно хватаются за сердце. Городовой прищуривается с прозрачным намеком:
– Ну, и шо теперь? У Сибир его, на каторгу?
– Что вы, Ферапонт Иванович, что вы!
Папа судорожно роется в карманах, находит купюру и сует ее в лапу городовому. Тот одной рукой держит Лёдю, а другой – вертит бумажку. И сурово качает головой:
– Не, у Сибир, у Сибир… На каторгу!
Папа со вздохом выуживает из кармана еще одну купюру, отдает городовому. Тот наконец выпускает Лёдю и грозит ему пальцем-сосиской:
– Но другый раз – точно у Сибир!
Коммерческое училище Файга было престижным, уважаемым и солидным. Добротный особняк с мраморными колоннами и лестницами, тщательно подобранный состав педагогов, концертный зал, музыкальные классы для духовного развития и отличный гимнастический зал для совершенствования тела.
Училище Файга славилось еще и тем, что из него никогда и никого не исключали. И потому рядом за партами сидели учащиеся самого разного возраста. Говорят даже, что в одном классе рядом с малолетками сидел двадцатилетний верзила.
Лёде уже четырнадцать. Явно скучая, он выбивает пальцами ритм на парте, сидя в классе в компании разновозрастных учеников. Директор Файг – маленький желчный человечек с пронзительным взглядом – прохаживается перед учащимися, сообщая, что их ожидает волнующее событие: в честь тезоименитства государя императора в училище состоится праздничный вечер, который посетят уважаемые члены попечительского совета и господа депутаты Городской думы.
Лёдю это волнующее событие совершенно не волнует. Его волнует совершенно другое: удастся ли расколоть сидящего впереди него отличника Шульца. Лёдя сзади щекочет перышком его шею, а тщательно причесанный отличник Шульц из последних сил сидит прямо, как аршин проглотил, боясь нарушить порядок.
Директор Файг продолжает рассказывать о предстоящем празднике, в ходе которого состоится бал с приглашением девочек из женской гимназии; также в честь высоких гостей будет дан концерт силами учеников училища. Вот это сообщение уже интересует Лёдю, он даже оставляет в покое отличника Шульца, не домучив его, и вскидывает руку.
– Я, я, можно я! У меня концертных номеров – куча!
Файг иронично прищуривается:
– Вы? А вы, простите, кто такой будете?
– Как… кто? – на миг теряется Лёдя. – Я студент Лазарь Вайсбейн.
– Вайсбейн? Да-да, что-то такое слышал… Но уже давным-давно не видел!
Одноклассники хихикают.
– А почему я вас не видел? – язвительно продолжает Файг. – Наверное, потому, что вы – злостный прогульщик!
Лёдя насупился и молчит.
– А что же я о вас слышал? А-а, припоминаю: вы замечательный студент, и у вас нет ни одной отметки «удовлетворительно» – только «плохо» и «очень плохо»!
Одноклассники смеются.
– Cлышал я также, что вы заперли в классе церковного регента, когда он не позволил вам петь сольную партию… Слышал, что, не выучив материал по химии, вы ставили опыты по своему разумению, что привело к поджогу лаборатории…
Лёдя пытается перехватить инициативу:
– Но я участвую во всех кружках: и в драматическом, и в оркестре, и в хоре!
– Молодой человек, возможно, вам неизвестно, что у нас – коммерческое училище, а не цирковой балаган! Так что об участии в концерте забудьте!
Файг хлопает указкой по столу и уходит. Но в дверях оборачивается:
– Советую брать пример с вашего товарища – Никиты Загоруйко. Отличная успеваемость и примерное поведение. А вы… Стыдитесь!
Тоненький Никитка, сын мясника, смущенно и виновато смотрит на Лёдю.
На торжественный вечер в честь тезоименитства государя императора собираются лучшие люди Одессы. Студенты встречают их в парадной форме, стоя по обеим сторонам мраморной лестницы. Солидные господа во фраках и смокингах, дамы в мехах и брильянтах поднимаются по ступеням не спеша, исполненные сознания собственного достоинства.
А юные гимназистки вспархивают по лестнице веселой стайкой. Однако специально выделенные для этой цели студенты учтиво подхватывают гимназисток под руку и ведут их в актовый зал.
Директор Файг успевает уделить внимание каждому из членов попечительского совета. Особое почтение он выказывает председателю совета – старику в мундире с иконостасом орденов на груди. Председатель благосклонно принимает приветствия Файга, выслушивая их через приставленную к уху трубку слухового аппарата.
Наконец, все заняли свои места. Школьный оркестр играет туш. На сцене начинается выступление акробатического кружка. Крупный второгодник Шатковский несет на своих широких плечах мальчиков поменьше, которые изображают «звездочку», держась за руки. А уже на их плечах на самой вершине пирамиды выпрямляется совсем маленький студентик.
За кулисами готовится к выходу отличник Шульц с прилизанными волосами и галстуком-бабочкой на шее. Он напряженно шевелит губами, повторяя текст. И не замечает, как к нему подкрадываются Лёдя и Никитка. Лёдя привязывает веревку к хлястику его мундира и кивает Никитке. Тот понимающе кивает в ответ.
В зале овация. Взмокшие юные акробаты убегают за кулисы.
Ведущий на сцене объявляет:
– Песня «Соловушка»! Исполняет студент Илья Шульц в сопровождении хора!
Отличник Шульц делает шаг к сцене, но Лёдя дает отмашку – Никитка веревкой утаскивает отличника вглубь декораций и там наваливается на него.
А Лёдя решительно выходит на сцену и сообщает:
– Дамы и господа! Маленькое уточнение: песню «Соловей» исполняет Лазарь Вайсбейн.
Файг в первом ряду наливается яростью и хочет вскочить, но председатель попечительского совета уже настроил свою слуховую трубку на Лёдю и улыбается в ожидании. Файг тоже выдавливает из себя улыбку.
– Хор, прошу! – командует Лёдя.
Хор несколько растерян заменой солиста, но его – хора – дело простое: надо запевать. И хор запевает, грустно вопрошая:
Что же ты, соловушка,
Зерен не клюешь,
Вешаешь головушку,
Песни не поешь?
А Лёдя печально отвечает хору от имени соловья:
На зеленой веточке
Весело я жил,
В золоченой клеточке
Буду век уныл…
Лёде так жалко бедного соловья, что голос дрожит на пределе, а к финалу песни по щекам Лёди катятся крупные натуральные слезы. Дамы в зале прижимают к глазам платочки. Мужчины сочувственно вздыхают. Синеглазая гимназистка прикусила губку и вот-вот зарыдает.
Песня окончена, зал взволнованно аплодирует, Лёдя гордо раскланивается. Председатель попечительского совета со слуховым аппаратом восклицает:
– Талант, истинный талант!
Это сигнал и для остальных попечителей, они жмут руку Файгу, поздравляя его с наличием в училище истинного таланта. Файг, принимая поздравления, держит натянутую улыбку и с трудом выдавливает из себя:
– Спасибо, благодарю вас, спасибо… Это наш лучший студент, гордость училища…
Потом силач-второгодник Шатковский, державший акробатов, вносит на своем плече Лёдю, как триумфатора, в бальную залу, где уже начались танцы, и бережно опускает его на пол. Гости одобрительно кивают Лёде, барышни стреляют в него глазками, даже Файг с кривой улыбкой приветливо делает ему ручкой.
Лёдя победно оглядывается и замечает синеглазую гимназистку, вальсирующую со старшим студентом. Лёдя решительно направляется к ним.
– Разрешите пригласить вашу даму на тур вальса?
– Ну, давай, соловей! – усмехается студент.
Лёдя умело кружит синеглазую и без излишней скромности интересуется:
– Как вам понравилось мое выступление?
– Неплохо, – снисходительно улыбается гимназистка. – Хотя вы несколько перестарались с эмоциями. Да и с мимикой следует поработать, не говоря уж о сценическом движении.
Изумленный Лёдя притормаживает танец. А синеглазая объясняет:
– Вечерами после гимназии я служу артисткой в антрепризе Суркова.
Лёдя не скрывает своего потрясения:
– Артисткой? В настоящем театре?!
Синеглазая по-взрослому кокетливо поводит плечами:
– А разве бывает театр ненастоящий?
И удаляется, помахивая веером, оставив Лёдю торчать столбом. К нему подлетает распаренный танцами друг Никитка.
– Ну як, победа? Дивчина шик-блеск!
– Ди-и-ивчина, – уныло тянет Лёдя и завистливо вздыхает: – Артистка!
Эстрадная площадка в саду Общества трезвости набита разношерстной публикой и, судя по ее шумному поведению, вовсе не активистами этого самого общества трезвости.
Лёдя и Никитка сидят прямо на земле перед сценой.
А на сцене добродушный толстяк, хозяин площадки, провозглашает:
– Открытый театр Борисова – то есть лично меня – дает шанс каждому! Не надо быть артистом, чтобы вас полюбила публика! Можно выступить впервые в жизни, а назавтра о вас будет шептаться весь Привоз и Новый рынок в придачу! Ну, кто смелый?
На сцену поднимается пижонистый молодой человек с колечками усиков. Борисов его рекламирует:
– Вот он! Наш герой! Слава дышит ему в профиль и анфас!
Пижон принимает эффектную позу и запевает арию Мефистофеля:
Люди гибнут за металл!
Сатана там правит бал!
Страсти и пафоса у него хоть отбавляй, но – ни голоса, ни слуха. Зрители, не дослушав и куплета, бесцеремонно топают, кричат и свистят.
Вдруг Никитка толкает Лёдю в бок, указывая в сторону выхода из сада. Там на скамейке сидит знакомая синеглазая гимназистка с пухленькой подружкой. Они едят черешни, срывая их с оплетенных алыми ягодами веточек, и хихикают над торчащим на сцене пижоном.
А пижон машет рукой, пытаясь утихомирить зал. Но еще никому не удавалось утихомирить одесситов, если они чем-то недовольны. И тогда он сам орет, перекрывая вопящую публику:
– Ша, жлобы! Или мне это надо – петь всякие шансонетки? У меня, шоб вы знали, сапожная мастерская! Ну так я да – не артист! Ай-яй-яй, подумаешь!
Пижон горделиво удаляется. Зрители опять вопят и свистят ему вслед, но уже с некоторым уважением к его открытой независимости.
Лёдя не отводит взгляда от гимназистки. И вдруг вскакивает с земли, устремляясь к эстраде. Никитка пытается его удержать за штанину, но Лёдя вырывается и решительно возникает на сцене. Хозяин Борисов радуется:
– Еще один желающий восторга публики!
Публика не готова переключиться на нового исполнителя, она еще топочет, провожая горделивого пижона. Но Лёдя не собирается отступать, он делает сальто на сцене, после чего иронически вопрошает:
– Ну, шо вы топаете? Так топать – это ж не жалеть своих штиблетов!
Публика, удивленная неожиданным начало номера, наконец стихает.
Синеглазая гимназистка с удивлением смотрит на Лёдю, потом явно узнает его и возбужденно что-то шепчет подружке.
А Лёдя указывает в спину удаляющемуся из зала пижону:
– Вы слышали, шо пел этот сапожник? Люди гибнут за металл… Какой металл, я вас спрашиваю? Люди гибнут за любовь!
Зрители, уже попавшие под его обаяние, согласно смеются.
– Потому что без любви нету жизни! – уточняет Лёдя и машет рукой несуществующему оркестру: – Маэстро, прошу!
И хотя никакого маэстро нет, Лёдя имитирует как бы ожидание музыкального вступления, кивает неслышным тактам головой и лишь затем негромко и проникновенно запевает:
Маруся отравилась,
В больницу повезли…
История несчастной любви девушки Маруси плюс душевное исполнение Лёди трогают зал. Публика снова кричит, топает и свистит, но уже весьма одобрительно. Лёдя победно раскланивается. И видит, что гимназистка с подругой направляются к выходу из сада. Лёдя огромным прыжком покидает сцену, хватает за руку Никитку и безо всяких объяснений тащит его на выход.
Публика еще больше аплодирует эксцентричному юноше. А Борисов ухмыляется ему вслед:
– Артист! Ей-богу, артист!
Вечерний сад Общества трезвости волшебно освещен огнями фонарей. По аллеям неторопливо прогуливаются одесситы. В большинстве своем, естественно, парочками – летний вечер так располагает к лирическим отношениям.
Однако их лирику бесцеремонно нарушает Лёдя, который, рассекая влюбленных, как ледокол, тащит за собой Никитку, стремясь настичь уходящих впереди по аллее гимназистку с подружкой. Сделать это непросто, потому что Никитка отчаянно упирается.
– Лёдь, не треба, я краще пойду… Иды сам…
Лёдя еще крепче держит друга за руку:
– Куда иди? Какой сам? Там же еще подружка… Симпатичная!
– Та ни, Лёдь… Пойду я… Ну, на шо мэни эти девчонки?
Лёдя даже останавливается на миг, пораженный.
– На что девчонки?! Да ты… Ты… – И презрительным тоном опытного ловеласа завершает: – Ты – дите малое!
Не находя более слов и не отпуская Никиткину руку, Лёдя делает последний решительный рывок и наконец настигает девушек. Что, впрочем, заслуга не только Лёди, нет, конечно, юные дамы уже давно каким-то своим особым – боковым, задним или вообще внутренним – зрением засекли приближающихся юных кавалеров, и сами не слишком резко, но все же достаточно сбавили ход, чтобы дать себя догнать.
– Мадмуазели! – галантно восклицает Лёдя – Вы не очень спешите?
Гимназистка оборачивается и с деланным удивлением округляет свои синие глазки:
– А-а, это вы… Триумфатор! Что же вы не остались насладиться успехом?
Лёдя нахально срывает последнюю черешенку с веточки, которую синеглазая держит в руке.
– А может, насладимся вместе?
Гимназистка, играя возмущение, шлепает Лёдю опустевшей веточкой по лбу:
– Вам не кажется, что вы чересчур самоуверенны?
– Нет, мне кажется, что вам это нравится!
Вдруг Никитка, безмолвно торчавший до сих пор столбом, заявляет:
– Я пишов!
– Как это вы пошли? – суетится гимназистка. – Нет, вы уж, пожалуйста, знакомьтесь, это Нина – моя ближайшая подруга! А вас как зовут?
Никитка молчит, за него отвечает Лёдя:
– Никита Загоруйко. Мой лучший друг!
– Вот и чудесно! – радуется гимназистка. – Вот и познакомились…
Она подталкивает Нину к Никитке, Лёдя подталкивает Никитку к Нине, но тот вдруг разворачивается и улепетывает прочь по аллее. Лёдя с гимназисткой растеряны, а подружка Нина обиженно поджимает губы:
– Ну и пожалуйста! Ну, я тоже пойду, не стану я вам мешать!
Гимназистка, конечно, уверяет подругу, что она ничуть и никому не мешает, а наоборот, поможет им всем втроем славно провести этот вечер, но Нина, не слушая фальшивых уверений, гордо перекидывает со спины тощую косичку на пышную грудь и удаляется.
Теперь очередь Лёди фальшивить. Что он и делает, играя искреннее сожаление по поводу того, что нарушил их девичью компанию и в жизни себе этого не простит. В ответ синеглазая утешает, что ничего такого он не нарушил, а Нинка сама виновата, потому что она хоть и лучшая подруга, но слишком много о себе воображает.
Лёдя завершает эти маневры сообщением, что раз уж все так вышло, он просто обязан проводить синеглазую. Та не сразу соглашается, а ловит его на слове: что значит – обязан? Лёдя быстренько поправляется: нет-нет, не обязан, а будет счастлив ее проводить. Только после этого гимназистка благосклонно опирается на подставленную Лёдей руку. И они удаляются, сворачивая с центральной аллеи в боковую.
Лёдя, активно жестикулируя, болтает без умолку. Собственно говоря, болтовня – пока что его главное оружие в деле завоевания девичьей взаимности. И потому он плетет безумную вязь о своих подвигах в стенах училища Файга. Одна из самых героических историй повествует о том, как регент хора, скользкий червяк, вместо лучшего солиста – естественно, самого Лёди – назначил солистом внука председателя попечительского совета, малолетнего дебила, у которого ни слуха, ни голоса, ни даже ума, но Лёдя не стерпел такой несправедливости, заманил регента в спортивный зал, запер его там и не выпускал, пока регент не дал ему клятву назначить его обратно в солисты, в результате чего Лёдя таки спел на новогоднем балу.
Синеглазая слушает, испуганно ахает, восхищаясь смелостью Лёди и заверяя, что она бы так ни за что не смогла. Лёдя, исполненный самоуважения, снисходительно уверяет, что в общем-то это ерундовое дело и бывали в его жизни истории и покруче. А тем временем малолюдная боковая аллея уходит все дальше в темноту, и чем дальше она уходит, тем отчаянней и фантастичней становятся Лёдины истории, и тем восторженней и испуганней ахает синеглазая.
Лёдя еще пуще разводит пары на тему, как вот еще был потрясающий случай… Но потрясти этим случаем гимназистку он не успевает: синеглазая, быстро оглянувшись в темноте аллеи, нет ли кого поблизости, кладет руки на плечи Лёди, зажмуривается и страстно шепчет:
– Наверное, это судьба!
Лёдя отшатывается испуганно и так резко, что руки гимназистки падают с его плеч.
– Ты… вы… чего?!
Гимназистка недовольно открывает глаза и удивленно тянет:
– Ну-у-у?
– Чего… ну? – не понимает Лёдя.
– Ну, поцелуй же меня! Поцелуй!
Лёдя стоит, как истукан. И она все понимает:
– Не умеешь?
Лёдя из последних мальчишечьих сил вскидывается:
– Кто? Я? Не умею? Ха-ха…
И умолкает. Гимназистка томно улыбается, ласково тянется к Лёде:
– Ну-ну, нецелованный ты мой, я тебя научу…
Она наступает, он отступает, она – шаг вперед, он – шаг назад… И наконец наш якобы бывалый ловелас, знаток и покоритель женских сердец не выдерживает – дает стрекача в темноту кустов. А вслед ему несется звонкий смех синеглазой искусительницы.
Пожалуй, самым модным видом спорта в начале двадцатого века была вольная борьба – французская, английская, русская, какой только ее не объявляли. Коренастые мужчины в смешных обтягивающих трико и почему-то в большинстве с лихо закрученными усами, изрядно попотев и попыхтев, укладывали друг дружку на сценах, манежах и аренах. Боролись на деньги, на пари, на славу чемпионов. По всему миру гремели имена российских богатырей Ивана Поддубного и Ивана Заикина.
В борцовских состязаниях не обходилось и без нечистой игры: могли, если гонорар был хорош, и «лечь» под более слабого противника. Но ходила и ходит до сих пор легенда, что раз в год сильнейшие борцы со всего мира собирались в немецком городе Гамбурге и там, в закрытом помещении без публики, боролись по-честному, выявляя, кто действительно чего стоит. Отсюда и пошло известное выражение «гамбургский счет».
В Одессе на Молдаванке был свой борцовский Олимп – Чумная гора или попросту Чумка, постоянное место мальчишеских драк. Здесь дрались не по какому-то поводу, не из-за каких-то ссор, а просто так – игра требующих выхода молодых сил. Иногда дрались и на деньги, но чаще это была битва амбиций – кто сильнее, а значит, кто будет главарем на своей улице или хотя бы в своем дворе.
В центре пустыря сражаются два подростка. Толпа вокруг активно болеет за бойцов. А на перевернутой телеге бесстрастно наблюдает битву парень постарше – «король» Чумки Мишка Винницкий в окружении своей «свиты».
Лёдя подходит, с интересом наблюдает за схваткой, потом спрашивает у стоящего рядом пацана в рваной сорочке:
– На что бьются?
– Кто выиграет – с Мишкой драться будет на «королечка».
Это значит, что победителю схватки будет предоставлена почетная, хотя и безнадежная возможность померяться силами с самим Винницким. Конечно, все равно «королем» останется Мишка, но его соперник может отхватить весьма почетное звание «королечка» горы Чумка.
Один из бойцов – толстяк с головой, вросшей прямо в плечи, без шеи, применяет грубый запрещенный прием, второй боец орет от боли и падает.
– Нечестно! Неправильно! Нельзя так! – вопят болельщики, в том числе и Лёдя.
Нарушитель грозно обводит всех взглядом, его жесткие глазки впиваются в каждого, и мальчишки один за другим умолкают. В конце концов остается один Лёдя:
– Нечестно! Не по правилам!
Но тоже умолкает под взглядом нарушителя правил. Толстяк вразвалочку подходит к Лёде и замахивается кулаком:
– Чего ты поешь, сявка?
Лёдя, стиснув зубы, зажмуривается.
– А ну, ешь землю, а то не видать тебе больше мамкиной сиськи!
Трусливая публика подобострастно хихикает. Лёдя открывает глаза и с трудом заставляет себя сказать:
– Нечестно ты ему дал! Не по правилам!
– Шо-шо, сявка? Ты такой смелый? А ну, давай побьемся по твоим правилам!
Лёдя напряженно молчит. Притихли и болельщики. И «король» Мишка Винницкий не вмешивается в происходящее. Толстяк победно ухмыляется:
– Не дрейфь, малек! Иди, жуй сопли, покеда я добрый…
Он уходит. Лёдя неожиданно для всех, а может, и для себя самого кричит:
– Давай биться, жирный хряк!
Толстяк удивленно поворачивается, а Лёдя без лишних слов врезается ему головой в пузо. И начинается драка не на жизнь, а на принцип. Но силы явно неравны. Лёдя выдыхается, падает, снова вскакивает, снова падает, утирая кровавые сопли.
И тогда с королевского места поднимается Мишка:
– Брось пацана! Со мной биться будешь!
Разъяренный схваткой толстяк с ходу переключается на Мишку, наносит ему несколько неслабых ударов, но «король» двумя приемами укладывает его наземь. Болельщики восторженно орут. Лёдя, улыбаясь, вытирает алую юшку. Мишка тоже ухмыляется ему:
– А ты, пацан, ничего… Подучить только тебя надо.
Лёдя не верит своему счастью:
– Ты научишь меня так драться?
– Это не драка, – весомо говорит «король». – Это – французская борьба.
В фойе кинотеатра «Иллюзион» наяривает небольшой, человек восемь, оркестр. Лёдя играет на гитаре рядом с Фуней-Водолазом. Тот все-таки выучил Ледю гитарному искусству и порой снисходительно разрешает ему немного поиграть вместе с собой. Публика в ожидании киносеанса прогуливается по фойе, пьет сельтерскую воду в буфете и вполуха слушает оркестр.
Впрочем, одна симпатичная брюнетка не отвлекается на прогулки и буфет, а слушает музыку, усевшись прямо перед оркестром. И когда номер заканчивается, брюнетка бросает букетик ландышей. Он летит к Фуне-Водолазу, но Лёдя перехватывает букетик перед самым носом гитариста. Брутальный красавец Фуня грозно интересуется:
– И с каких это пор тебе цветы дарить стали?
– С тех пор, как тебе перестали! – нагличает Лёдя.
Звонок оповещает о начале сеанса, публика тянется в зал, а девушка направляется к музыкантам. Лёдя, победоносно глянув на Фуню, спрыгивает с эстрады навстречу ей, но она проходит мимо него – к Фуне и целует его в щеку.
Фуня подмигивает Лёде. Тот сконфуженно протягивает Фуне букетик. Но музыкант великодушен:
Не надо. Тебе – цветочки, а мне…
Он не договаривает, вполне красноречиво обнимая девушку.
Лёдя огорченно наблюдает чужое счастье.
Зато на горе Чумка Лёдя уже сидит рядом с «королем» Мишкой Винницким.
Сегодня молдаванские мальчишки дерутся на деньги. Побежденный мрачно отдает победителю рубль. Тот вскидывает над головой уже три выигранных рубля. И вызывает очередного соперника:
– Ну, кто еще – на рупчик?
Желающих нет, и победитель уходит, помахивая честно завоеванными «рупчиками». Но на краю пустыря какой-то здоровяк вырывает у него деньги. Лёдя возмущенно вскакивает. Мишка придерживает его за шиворот. А здоровяк ухмыляется обобранному победителю:
– Имеются вопросы? Тогда поборемся…
Парнишка смотрит на здоровяка и тушуется. Здоровяк нагло сует деньги в карман и не спеша уходит. Но Лёдя, все-таки вырвавшись из руки Мишки, подлетает к нему.
– Эй ты, бугай, давай со мной! На все рупчики!
Здоровяк скептически оглядывает небогатырского Лёдю и небрежно, но ощутимо дает ему в челюсть. Лёдя падает, вскакивает, дерется. Здоровяк метелит его от души, но Лёдя как-то выворачивается, строит рожи и подначивает соперника:
– Ой, как страшно! Смотри, штаны лопнут! Ручонку об меня не ушиб?
Зрители покатываются со смеху. А здоровяк злится, наносит яростные, но неточные удары, и Лёдя, улучив момент, несколькими приемами укладывает соперника физиономией в пыль. Болельщики вопят. «Король» Мишка одобрительно кивает:
– Не зря учился, пацан, освоил!
Лёдя достает из кармана поверженного здоровяка деньги и отдает их парнишке-победителю предыдущей схватки. Мишка презрительно усмехается:
– Телячьи нежности!
Душа Лёди тянулась в искусство – хоть где-нибудь, хоть как-нибудь. Кроме редких выступлений с Фуней в «Иллюзионе», он играл и пел просто на улице – на углу Дегтярной и Спиридоновской. И даже порой получал гонорар – благодарные слушатели вели артиста в персидский магазин и угощали пахлавой с разными сиропами.
Кроме того, чудаковатый парикмахер Перчикович, видимо, тоскуя от своей прозаической профессии, сколотил духовой оркестрик из простых уличных пацанов, и Лёдя там не слишком умело, но дудел на трубе.
А еще одной концертной площадкой Лёди был берег моря. Там собирались рыбаки бригады старика Михайлы, с которым Лёдя подружился, когда помогал отправлять ялики с едой и питьем для потемкинцев. Он пел рыбакам простые народные песни, и не было на свете более благодарных слушателей. Иногда рыбаки брали его с собой в море. Однажды это чуть не кончилось плохо…
На море – шторм. Волны швыряют рыбацкую шаланду, в которой – старик Михайла и Лёдя. Юноша довольно умело управляется со снастями.
Но ветер относит лодку от берега. Рыбаки гребут, что есть сил. И Лёдя – наравне. Тяжелый невод, висящий за бортом, заваливает шаланду набок. Лёдя, бросив весло, перебирается к накрененному борту и ножом отсекает канат невода. Лодка выравнивается. Но высокая волна смывает Лёдю за борт. Следом бросаются двое рыбаков.
На берегу рыбаки откачивают Лёдю, он отплевывается фонтанчиками воды. Потом все, бессильно раскинувшись на песке, лежат вокруг костра. Один из рыбаков вздыхает:
– Эх, справный был невод!
Лёдя виновато глядит на него. А Михайла урезонивает:
– Не гневи бога! Лучше спасибо скажи юнаку! А невод новый сплетем, раз все живые.
Лёдя благодарно улыбается. Старик ерошит его вихры:
– Чтой-то ты, юнак, давно нам не спивал? Давай мою любимую!
И Лёдя запевает.
Раскинулось море широко
И волны бушуют вдали,
Товарищ мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.
Дубленные всеми ветрами лица рыбаков светлеют, они подсаживаются теснее к костру, слушая Лёдю.
Не слышно на палубе песен,
И Красное море шумит.
А берег суровый и тесный.
Как вспомнишь, так сердце болит…
Однако и училище Файга требует своего времени. Лёдя тоскует за партой.
Директор Файг, мерно расхаживая по классу, сообщает:
– Наше училище – это место, где студенты хотят учиться…
– Ага! Особенно – я! – шепчет Лёдя соседу Никитке.
Директор бросает на него острый взгляд и продолжает:
– Кто не учится, никогда не станет хорошим инженером, врачом или коммерсантом. И заблуждается тот, кто думает, что в жизни его ждут одни розы…
– Не только Розы, а еще Мани и Кати! – шепотом комментирует Лёдя.
Соученики хихикают. Файг вдруг разворачивается, хватает Лёдю за ухо и вытаскивает из-за парты. От неожиданности и боли Лёдя вопит и непроизвольно тоже вцепляется в ухо Файга. Теперь вопит директор. Так они дружно и вопят, выкручивая друг другу уши, – к веселью и ужасу студентов.
Чуть позже Лёдя понуро спускается по широким мраморным ступеням училища, выходит во двор. А в окне первого этажа, как в раме, торчит гневный директор Файг.
– И запомните, господин Вайсбейн: за двадцать семь лет существования моего училища из него не был отчислен ни один студент! Вы, Вайсбейн, – первый, запомните!
Лёдя останавливается и кричит на весь двор:
– Это вы запомните: я всегда буду первый!
Печально бредет Лёдя по городу. Разнообразные оркестры, как обычно, играют на бульваре, но Лёдя их не слышит.
Он спускается к морю, сидит на песке, уныло глядя на белые паруса вдали. Потом вдруг вскакивает и с каким-то отчаянным азартом начинает делать стойки, крутить сальто, ходить колесом на руках, кувыркаться… Из последнего полета он приземляется у ног плотного усатого мужчины. Тот стоит, широко расставив ноги, уперев руки в бока.
– Извините! – вскакивает Лёдя.
– А ну, еще кувырок, – предлагает усатый. – Только группируйся плотнее…
Лёдя растерян. Усатый властно берет Лёдю за бока:
– Давай крутану и подстрахую…
– А вы кто? – вырывается Лёдя.
Усатый показывает большим пальцем себе за плечо. Там наверху – цирковой шатер.
– Вы из цирка? Здорово! Я тоже хочу в цирке работать!
– Так за чем дело стало? Данные у тебя есть. А нам как раз акробата не хватает.
– Да я не могу… Меня из училища выперли…
– Так если выперли, зачем твоему батьке лишний рот? Короче, мы завтра – на гастроли. Надумаешь, приходи – цирк Бороданова. Спросишь меня.
– А как спросить?
– Так Бороданова же! – удивляется усатый.
В доме Лёди – жуткий скандал.
– Вэйзмир, какой позор! Он таки будет на большой дороге! – стонет папа Иосиф.
– Нет, его даже на большую дорогу не возьмут! – уверяет мама Малка.
– Сколько сил стоит папе платить за училище! – возмущается брат Михаил.
– Теперь не надо платить, – ворчит Лёдя.
– А кормить тебя все равно надо, – замечает сестра Клава.
Мама Малка приказывает:
– Короче, Йося! Иди к господину Файгу, проси, умоляй! Завтра же утром иди…
Но Лёдя перебивает:
– Завтра я уезжаю!
Родственники на миг замирают. А потом кричат наперебой:
– Что? Как уезжаешь? Куда?
На все эти вопросы Лёдя дает один ответ:
– Я уезжаю на гастроли с цирком!
Ошарашенные родственники опять умолкают, беспомощно переглядываются.
– Ты будешь в цирке клоуном? – язвит брат Михаил.
– Нет, акробатом, – серьезно отвечает Лёдя. – Но могу и клоуном.
Мама Малка обхватывает голову руками:
– Люди, мой сын сумасшедший!
А папа Иосиф – с непривычной для него твердостью – молча берет сына за плечо, выводит из комнаты.
Они сидят на вечерней, тускло освещенной террасе, и папа – так же непривычно сдержанно – ведет негромкий, внешне спокойный, но исполненный внутренней боли рассказ:
– Было такое неотложное дело, что я поехал в Петербург. Еще в поезде узнал, где недорого переночевать… Там были другие, как я, которые не имели права ехать за черту оседлости. И только мы сели поговорить за дела, как вбежал хозяин и закричал, что облава. Я испугался: меня могли отправить по этапу, могли вообще в тюрьму посадить за паспортный режим… Не дожидаясь такого счастья, я убежал на улицу…
Он умолкает. Лёдя терпеливо ждет. И папа со вздохом продолжает:
– Ой, Лёдя, что тебе сказать! Всю ночь я боялся присесть хоть на минутку, чтоб не привлечь до себя городовых. Я шел, бежал, опять шел… Мороз такой, что звезды замерзли на небе! А в домах светятся огонечки, видно, что людям там жить тепло, дай им бог… И только я, бедный маленький еврей, бегал по городу, как бездомная собака…
Повисает тяжелая пауза.
– И что? – тихо спрашивает Лёдя.
– Утром я уехал домой.
Они опять молчат. Потом Лёдя говорит твердо:
– Папа, я тебя люблю. Я всех вас очень люблю. Но я хочу быть артистом!
Отец горестно берет руки сына в свои. В его глазах блестят слезы.
– А-а, слова папы тебе дешевле воздуха… Хорошо, поезжай. Но помни, что никогда и никуда ты не уедешь дальше Одессы!
Глава вторая
«Купите бублички!»
МОСКВА, ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
Юбилей новоиспеченного народного артиста СССР Леонида Осиповича Утесова продолжается. Зал уже расслабился – ведь главное событие, которого все так напряженно ждали перед началом торжества, наконец-то произошло. И дальше все покатилось по наезженной юбилейной колее: официальные поздравления и дружеские приветствия, объятия и поцелуи, подарки и цветы.
Юбиляр, сидя в кресле, декорированном под трон, принимает поздравления, выслушивает приветствия, морщится от слишком высокопарных слов и перебивает особо велеречивых поздравлянтов. Вокруг его кресла-трона уже целая полянка цветов. Чуть позади него за столиком, где накапливается гора подарков, сидит Дита.
– А сейчас, – объявляет ведущий Иосиф Туманов, – сюрприз для юбиляра!
На сцене появляются пожилые мужчины с инструментами в руках. Все – в клетчатых джемперах и светлых брюках по моде тридцатых годов.
Утесов взволнованно, еще не веря своим глазам, вглядывается в лица гостей. Ведущий подтверждает, что глаза его не обманывают.
– Да-да, Леонид Осипович, это они – ваши коллеги из Ленинграда, ветераны «Теа-джаза»!
Ну, конечно же это они – совсем седой Трубач, по-прежнему тощий, но чуть сгорбившийся Скрипач, такой же солидный и строгий, практически не изменившийся Пианист, сильно растолстевший, но все равно узнаваемый по улыбке в тридцать два – наверно, уже искусственных – зуба Саксофонист… А чтобы уж совсем не оставалось никаких сомнений, музыканты приветствуют юбиляра своими инструментами: Трубач смеется на трубе, Саксофонист вздыхает саксофоном, Скрипач поет скрипкой…
Утесов и Дита обнимаются, целуются с друзьями. Юбиляр смахивает слезу.
– Хлопчики, какие же вы молодцы! Приехали…
– А ты думал зажать банкет? – усмехается Пианист.
Тромбонист подходит к микрофону:
– Мы долго думали, Лёдя, что тебе подарить. Но у тебя все есть, да уже и мало чего надо в нашем возрасте…
– Шо ты примазываешься к моему возрасту, пацан! – возмущается Утесов.
Все смеются. Тромбонист продолжает:
– В общем, мы решили подарить тебе то, что ты любишь больше всего на свете…
– Диточка, спокойно! – подмигивает Скрипач. – Это не то, что папе запретил доктор.
– Не порть мне ребенка! – немедленно парирует Утесов.
– Короче, – продолжает Тромбонист, – Мы знаем, Лёдя, что больше всего на свете ты любишь нашу с тобой музыку. Хорошую музыку! И мы дарим тебе – хорошего понемножку…
Тромбонист дает отмашку своим тромбоном, и ветераны «Теа-джаза» начинают попурри из старых песен. А на лице Утесова – целая гамма чувств, вызываемых той или иной мелодией.
«Легко на сердце от песни веселой» – и появляется бодрая улыбка.
«Как много девушек хороших» – и взгляд становится лирическим.
«Одессит Мишка» – и сурово углубляется морщина меж бровей.
А когда звучат лихие «Бублички», взгляд Утесова туманится воспоминаниями…
УКРАИНА, 1911 ГОД
По разбитым сельским дорогам тащится караван цирка Бороданова – под аккомпанемент бесконечного дождя и песенки, которую напевает, болтая ногами на одной из тяжело груженых подвод, Лёдя:
Ночь надвигается, фонарь качается,
Босяк ругается в ночную тьму.
А я немытая, дождем покрытая,
Всеми забытая здесь на углу.
Купите бублички, горячи бублички,
Гоните рублички сюда скорей!
И в ночь ненастную меня, несчастную
Торговку частную ты пожалей.
Мускулистый бритоголовый силач Яков Ярославцев резко обрывает песню Лёди:
– Заткнись!
Да, отношения у них не сложились сразу. Хотя совершено не понятно почему.
Вот уже месяц бородановский цирк колесил по украинским селам, молдавским поселениям, татарским и еврейским местечкам, разбивая свой шатер-шапито на рыночных площадях и по мере сил развлекая местную публику
А публики в шапито набивалось немало – особенно детей. Ну, и взрослые, конечно, тоже: простые селянки с живыми румяными лицами, в пышных цветастых юбках и кофтах, манерные дамочки – учительницы и продавщицы, модистки в шляпках с вуальками и кружевных перчатках, мужики в косоворотках и начищенных сапогах, местные франты в клетчатых пиджачках и даже с тросточками… Вся эта разношерстная публика одинаково радовалась, веселилась, хлопала, свистела и дружно лузгала семечки, несмотря на грозное предупреждение Бороданова перед началом программы, что семечки категорически запрещены.
Бороданов – не только хозяин цирка, но и шпрехшталмейстер, объявляющий номера. Номеров было немного, но были они неплохие: жонглеры – два крепыша, акробаты-велосипедисты, конные наездники, силач Ярославцев…
Ярославцев действительно был силачом. Он запросто выжимал штанги, легко играл пудовыми гирями и, запрягшись в телегу, катал на себе чуть ли не всю детвору, набившуюся в шапито.
А Лёдя – мастер все руки и старший куда пошлют: немножко акробат, немножко жонглер, рыжий клоун, зазывала публики, а в свободное от всего этого время убирал манеж и ухаживал за лошадьми.
Так что, казалось бы, у Ярославцева и Лёди – у каждого свое дело, своя жизнь, и делить им нечего. Но нет, была, была в цирке очаровательная, семнадцатилетняя, ну просто куколка – белокурая и с голубыми глазками – дрессировщица собачек Любаша. Она-то и стала пока что еще не очень явным, но уже явно созревающим яблочком раздора силача и клоуна.
Вот и сейчас из-под вороха циркового тряпья, лежащего между Ярославцевым и Лёдей, высовывается ангельская головка дрессировщицы, а вслед за ней выныривают мордочки собачонок.
– Скоро приедем? – спрашивает Любаша.
– А хрен его знает! – ворчит Ярославцев. – По такой-то дороге…
Лёдя улыбается девушке:
– Но вообще-то уже недалеко.
А Ярославцев опять ворчит:
– Спи, спи, егоза… Когда спишь, не так жрать хочется…
– Я не голодная, – заверяет Любаша.
– Ну да, птичка-невеличка, – усмехается силач. – Зернышко в день – и сыта!
Любаша грустно смотрит в серое небо:
– Когда уже этот дождь закончится…
С передней подводы спрыгивает Бороданов, дожидается силача и Лёдю с Любашей, подсаживается к ним.
– Скоро село большое будет, там станем.
– В дождь плохо шатер ставить, – продолжает ворчать Ярославцев.
– Зато публике в такую погоду – только в цирк ходить, – заверяет Любаша.
– До цирка еще дойти надо, – вздыхает Лёдя. – А тут можно в болоте утонуть!
Телега спотыкается и застревает в глинистой колее. Все с немым укором смотрят на Лёдю. Тот виновато оправдывается:
– А я чего… Я просто сказал…
– Сказал – накаркал! – рычит Ярославцев.
Силач спрыгивает в грязь и берется за край подводы. Лёдя хочет помочь, но силач отмахивается от него.
– Отойдь! Еще опять чего-нибудь сглазишь!
Поднатужившись и крякнув, Ярославцев вытаскивает подводу из грязи. Любаша восхищенно хлопает в ладоши. Лёдя ревниво косится на богатыря.
Телега трогается, Ярославцев усаживается рядом с Любашей. Хочет сесть и Лёдя, но силач сталкивает его.
– И без тебя подвода в грязи топнет! Давай на бородановскую…
Лёдя, стиснув зубы, догоняет первую подводу. Бороданов протягивает ему руку, помогая залезть, оглядывается на Ярославцева и усмехается в усы:
– Вот так-то… Это – цирк. А ты как думал?
Вместо ответа Лёдя тоже вдруг улыбается и показывает на светлеющий горизонт:
– Уже, кажись, развидняется!
И верно, непогода сменилась солнцем. На площади большого селения, посреди ярмарки, развернут балаган, к нему со всех сторон стекаются ручейки зрителей.
Лёдя работает на раусе – дощатом помосте у входа шапито. Одетый в клоунский наряд, он зазывает публику.
– Господа почтенные, люди отменные! Билеты берите – к нам заходите! Удивляйтеся! Наслаждайтеся! Чем больше за билет заплатите, тем лучше артистов увидите!
Народу шустрый Лёдя нравится, публика заходит в балаган. А на ярмарке – своя жизнь: крупная девица меряет шаль, хозяин лавки ужом вьется вокруг нее. Оборванный воришка стащил товар с прилавка. Торговка вопит, мужики ловят воришку, отвешивают ему тумаки. И над всей этой суматохой – праздничный зазывный голос Лёди:
– Кто в цирк к нам зайдет, веселье того ждет! Спешите, спешите, нос не воротите! Последний билет – свободных мест нет! Кто в цирк не пойдет – тот от зависти помрет!
Балаган переполнен. Зрители от мала до велика не только лузгают семечки, но и что-нибудь, да то едят – орехи, пироги, конфеты, леденцы. И все – и стар, и млад – с одинаковым детским нетерпением глядят на арену.
Наконец появляется Бороданов во фраке и цилиндре:
– Многоуважаемая публика! Сейчас перед вами выступит всемирная звезда – от Японии до Каледонии! Только этот чемпион поднимает рекордный вес! Вам крупно повезло: проездом из Парижа в Херсон – Яков Ярославцев! Встречайте!
Публика встречает Ярославцева – в черном трико – щедрыми рукоплесканиями. Двое ассистентов из последних сил волокут к силачу гири. Силач разминается, демонстрируя публике внушительные мускулы. Потом легко и ловко жонглирует пудовиками. Потом гнет на своей шее железную кочергу. Публика восторженно ахает, взволнованно затихает и снова ахает.
На арене опять появляется Бороданов:
– Уважаемая публика! Может быть, среди вас тоже есть силачи? И может быть, кто-то желает померяться силами с чемпионом Ярославцевым? Победителю приз!
Лёдя в клоунском наряде выносит рыжего петуха и обходит с ним арену по кругу, заводя публику:
– Кто поборет русского богатыря, тому достанется этот французский петух! Он занял первое место на всемирном конкурсе певчих петухов! Все куры от него в безумном восторге!
В рядах публики какая-то возня, и наконец, подталкиваемые соседями-болельщиками, на арену выбираются трое крепких мужиков. Ассистенты Ярославцева устанавливают на арене столик, и начинается то, что нынче именуется «армрестлинг» – соревнование на руках.
Ободряющие крики публики не помогают отважным мужикам – Ярославцев легко укладывает на столик руку одного, второго и третьего. Под конец они уже все втроем наваливаются на одну руку силача. Но он укладывает и троих.
Публика смеется над посрамленными мужиками, возвращающимися на свои места.
А Лёдя дергает петуха, тот бьет крыльями и кукарекает.
– Ага! Обрадовался! Он не хочет расставаться со своим хозяином! Господин Ярославцев – не только самый сильный, он еще и самый добрый – очень любит птиц и детей!
Лёдя с петухом убегает за кулисы. А на арену ассистенты выкатывают телегу, в нее набивается множество детишек, а одного пацанчика силач усаживает на свою шею и катает всю эту братию, гикая и посвистывая, как извозчик.
Публика ревет от восторга.
На заднем дворе балагана Лёдя кормит с ладони петуха.
Из зала еще доносятся овации. Возвращаются ассистенты, с трудом волокущие по земле пудовые гири Ярославцева. Потом появляется и сам богатырь, утирая пот полотенцем. При виде Лёди он ухмыляется:
– Смертельный номер – «Укротитель петуха»!
Лёдя, не реагируя, бросает остаток зерен наземь, отходит в сторону, к лошадям, и принимается расчесывать им гриву. Но силач не отстает:
– О, это еще лучше! Аттракцион «Лошадиный цирюльник»! Публика всей Касриловки будет рыдать от счастья!
Лёдя стискивает зубы, но продолжает молчать.
Довольный петух вальяжно расхаживает по земле, поклевывая упавшие зерна. Ярославцев спотыкается об него, пинает петуха, тот возмущенно орет, силач орет еще громче:
– Нынче же тебя сварю!
Ярославцев уходит. А с арены доносится голос Бороданова:
– Гвоздь сезона! Для изящных дам и солидных кавалеров! Для почтенных родителей и очаровательных детишек! Мировая знаменитость, мисс Лав Бьютифул! И ее несравненные королевские болонки!
Лёдя оставляет лошадей и убегает в шапито.
На арене – тоненькая прелестная Любаша в облаке голубого кружева и розовых ленточек. Вокруг нее такие же нарядные, в кружевах и ленточках, кудрявые собачонки. Любаша чарующим голоском приветствует зрителей:
– Здравствуйте, многоуважаемая и многолюбимая публика! – Она взмахивает рукой – собачки послушно рассаживаются по тумбам и кланяются. – Мы приветствуем вас на нашем королевском балу!
Собачки, все, кроме одной, соскакивают с тумб и попарно, опершись друг на друга передними лапками, кружатся на задних по арене. Публика даже не аплодирует, а, затаив дыхание, не отрывает глаз от этого чуда.
Любаша подходит к оставшейся на тумбе собачке:
– Милая принцесса, а почему вы не принимаете участия в нашем торжестве?
Собачка горестно воет.
– Что вы говорите! Вам не пишет принц? Какой ужас! И сколько же дней от него нет весточки?
Собачка отрывисто лает пять раз.
– Сколько-сколько? Я не поняла…
Любаша оборачивается к другой собачке:
– Зизи, ты расслышала, сколько дней принц не пишет Мими?
Собачка бежит к разложенным на арене карточкам с цифрами, хватает и приносит в зубах цифру «5». Любаша демонстрирует карточку зрителям. Тут-то они, наконец, разражаются аплодисментами.
И Лёдя, влюбленно наблюдающий за номером Любаши в щелочку занавеса, тоже бурно аплодирует.
А Любаша печально восклицает:
– Ах, неужели уже целых пять дней принц не пишет Мими!
Несчастная Мими спрыгивает с тумбы и падает на арену вверх лапками.
– Ох! Принцесса в обмороке! Доктора! Скорее!
Выбегает собачка в колпачке с красным крестом. Она обнюхивает Мими, трогает ее лапой, садится рядом и скулит. Любаша огорчается:
– Вы ничем не можете помочь? Только весточка от принца может спасти ее?
Любаша театральным шепотом обращается к другой собачке:
– А может быть, нам удастся успокоить ее маленькой хитростью?
Собачка хватает в зубы кисть, подбегает к листу бумаги и водит по нему кистью. Любаша показывает зрителям нарисованное собачкой большое сердце. Сердца зрителей тронуты – они взволнованно аплодируют.
И конечно, сердце Лёди, аплодирующего у занавеса, покорено навеки.
Любаша подает сердечную весточку все еще лежащей без чувств Мими.
– Милая принцесса, вам письмо от принца!
Мими вскакивает, радостно обнюхивает бумагу, возмущенно лает и разрывает фальшивку в клочья.
– О, простите, принцесса, простите! – умоляет Любаша. – Ваше сердце подсказывает вам, что это не настоящее письмо принца?
Мими задирает голову и грустно воет. Все собачки подсаживаются к ней и подхватывают ее печальную песню. Но тут на арену выскакивает лохматый барбос с золотой короной на голове, подлетает к Мими, лижет ее мордочку, она ласкается в ответ. Все собачки радостно визжат. «Принцесса» вскакивает на спину «принца» и счастливая парочка совершает круг почета по арене.
Публика чуть ли не рыдает.
И Лёдя у занавеса, похоже, готов пустить слезу восторга и любви.
Но из мира грез его вырывает за шиворот тяжелая рука Бороданова.
– Что тут торчишь? А кому одеваться на выход!
В закутке между ящиками и декорациями Лёдя переодевается из клоунского наряда в гимнастическое трико.
Впархивает ангелочек Любаша. И, ничуть не смущаясь присутствием Лёди, освобождается от кружев и ленточек. Лёдя замер и уставился на Любашу. Она улыбается:
– Что это вы подглядываете?
– Я не подглядываю!
– Подглядываете-подглядываете… А не рано ли вам на девушек смотреть?
Лёдя поспешно привирает, чуть дав от волнения петуха:
– Мне… двадцать лет… уже!
– Двадцать? – Любаша смеется. – Что, плохо кормили – такой мелкий вырос?
Лёдя совсем теряется, но его выручает крик Бороданова:
– Лёдька, чертово семя! На арену!
Лёдя, на ходу втискиваясь в рукава трико, убегает.
Он работает номер акробата-гимнаста: серия кувырков, стойки на руках, прямые и обратные сальто, проходки колесом на руках. Мужчины к этому довольно равнодушны. А женщинам симпатичен ловкий юноша, они переглядываются, шепчутся и хихикают, указывая друг дружке на Лёдю.
А он уже на трапеции. Раскачивается, взмывает к потолку, отрывается, делает сальто-мортале, летит вниз. Зрительницы в искреннем испуге зажимают рты ладошками. Но Лёдя успевает в последний миг ухватиться за трапецию. И женщины облегченно аплодируют. Одна темпераментная юная селянка даже вскакивает с места, но строгая мамаша дает ей по заднице, на которую темпераментная и приземляется вновь.
Лёдя продолжает совершать прыжки, кувырки, сальто, фляки. Раскланиваясь после каждого трюка, он косит глазом в сторону закрытого занавесом форганга: не наблюдает ли за его подвигами Любаша. Но в проеме занавеса сидит и широко зевает лишь ее лохматый барбос-«принц».
И снова дорога. Тащится обоз с цирковым скарбом.
Лёдя спрыгивает с первой бородановской подводы бежит назад – к подводе, на которой сидят Любаша и Ярославцев. Силач грозно сводит мохнатые брови. И Лёдя не решается подсесть на его подводу, а просто идет с ней рядом, достает из кармана пряники, ломает на кусочки, угощает ими благодарно повизгивающих собачек и преданно поглядывает на Любашу.
Девушка улыбается Лёде – доброжелательно, но довольно равнодушно. А силач зашивает портновской иглой атласную туфельку Любаши и сердито зыркает на Лёдю.
Циркачи раскинули свой шатер на площади очередного городка. Лёдя работает уже не просто акробатический, а еще и музыкальный номер: кувырки, сальто и стойки на руках он перемежает с игрой на развешанных по арене бубнах, балалайках, трещотках и даже обычных бутылках. Да плюс к тому на руках и ногах Лёди – браслеты с бубенцами, которыми он тоже умудряется вызванивать если не мелодию, то хотя бы ритм.
Теперь уже Любаша восхищенно смотрит на него из-за кулис. К ней подходит силач Яков.
– Любуешься на своего конюха?
– Он не мой! – вспыхивает Любаша. – И он не конюх.
– Ага, ну да, старший клоун младшего подметалы!
Презрительно сплюнув, Яков уходит. Любаша огорченно всхлипывает.
Лёдя после номера вылетает за кулисы и при виде Любаши сияет.
– Видала, как я… – Он осекается, заметив ее слезы. – Что с тобой? Кто обидел?
– Да не обидел, а цепляется… Чего он – мы же с тобой просто друзья…
Лёдя осторожно утирает пальцами ее слезы.
– Конечно, друзья… Навеки! И я тебя никогда не обижу…
Любаша благодарно улыбается.
Лунной ночью Лёдя собирает в поле цветы, бережно складывает их в букет.
С этим букетом он подходит к отгороженному декорациями закутку, нерешительно топчется у входа. Вдруг оттуда раздаются шум борьбы и голоса:
– Яков Петрович, миленький, не надо… Ну, отпустите меня, ну, Яков Петрович! – жалобно просит Любаша
– Тихо, глупая! – бубнит Ярославцев. – Тихо, тебе ж лучше будет!
– Ну, пожалейте, ну не надо! – Любаша уже плачет в голос.
Лёдя не выдерживает и врывается в закуток.
Там на убогих цирковых матах Ярославцев ломает Любашу. Лёдя без лишних слов лупит его букетом по спине.
– Ах, сморчок! – удивленно и легко, как от мухи, отмахивается Яков. – Ты откуда нарисовался?
– Скотина! Не трогай ее!
– А-а, ты сам намылился ее потрогать? Хрен тебе!
Силач ударом кулака отправляет Лёдю в нокаут.
– Не надо, Яков Петрович! – умоляет Любаша. – Он тут случайно… он нечаянно…
– А за нечаянно бьют отчаянно!
Яков снова замахивается на Лёдю, но тот, обученный на Молдаванке французской борьбе, ловко уходит от удара и наносит свой удар. На стороне Якова – сила и масса, а у Лёди – умение и ловкость. Драка идет яростно: падают декорации, разлетается реквизит, плачет Любаша, визжат ее собачки.
Лёдя уже выдыхается, силач явно побеждает, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы от перевернутой ими в драке керосиновой лампы не загорелась декорация. Бойцы прекращают схватку и вместе с Любашей бросаются гасить огонь.
Утром Ярославцев и Лёдя стоят перед Бородановым.
– Кто зачинщик? – громыхает хозяин. – Ты, Яков?
Силач лишь презрительно сплевывает.
– Ты, Лёдька?
Лёдя тяжко вздыхает.
– Молчишь? Ну-ну… Сдается мне, Яков Петрович – мужчина солидный, не стал бы тебя попусту задирать?
Лёдя сохраняет упорное молчание.
– Из-за чего хоть подрались? Пигалицу эту, что ли, не поделили? – Бороданов ухмыляется. – А чего там делить – пшик один!
Тут уж Лёдя не выдерживает, вступается за честь любимой:
– Она не при чем! Просто мне его рожа не нравится! И я ему дал в эту рожу! Первый дал!
Бороданов удивленно смотрит на Лёдю. Не меньше удивлен наглостью юнца и Ярославцев.
– Ладно, – Бороданов указывает на фингал под глазом Лёди. – Ты первым дал и вторым схлопотал. Так что вы квиты… Миритесь!
Силач нехотя, но все же протягивает руку Лёде. А юноша прячет свою руку за спину:
– Мириться с этим… Ни за что!
Бороданов свирепеет:
– Смуты не потерплю! В цирке все должны быть – во как! – Хозяин сжимает кулак и трясет им в воздухе. – А ты… Сопляк с гонором! Прочь отсюда! Вон!
Одинокий Лёдя сидит на холме и, опустив подборок на прижатые к груди колени, печально наблюдает, как внизу по дороге удаляется цирковой обоз. Без него.
Когда обоз скрывается за поворотом дороги, Лёдя встает, подхватывает узелок со своими убогими пожитками и решительно направляется по пыльному избитому колесами шляху в том направлении, куда уехали циркачи.
Он будет идти долго и упорно, оборванный и голодный. Ночевать там, где застанет ночь. Есть то, что заработает своим актерским умением. Но он будет идти и идти, он не остановится, пока не догонит цирк, где его Любаша.
Украинское село.
В прокуренном трактире на базарной площади Лёдя с чувством выводит задушевную украинскую песню:
Нич яка мисячна, ясная, зоряна,
Выдно, хоч голки збырай!
Выйды, коханая, працею зморена,
Хоч на хвылыночку в гай!
Нетрезвые посетители трактира слушают, роняют слезу, требуют еще выпивку.
А Лёдя заливается печальным соловьем:
Ты ж не лякайся, что ниженьки босии
Змочиш в холодну росу.
Я ж тебе, милая, аж до хатыноньки
Сам на руках виднесу…
Денег за выступление Лёде не платят, просто кормят на кухне. Лёдя уминает за обе щеки шмат сала с хлебом. А пышная хозяйка трактира сочувственно наблюдает за ним, подперев ладонями пухлые щеки.
– Молодець, як гарно спиваешь! Сьогодни я горилки вдвое бильше продала! – Она проводит пухлым пальцем по выглядывающей из-под рубашки ключице Лёди. – Тонесенький ты, наче херувимчик!
Лёдя невольно ежится, застегивает ворот рубахи и отодвигает еду.
– Спасибо большое!
– Та ешь, ешь еще… А то оставайся насовсем, я буду тебе кормить, поить, ласки свои дарить… А ты мени тильки спивать будешь!
– Нет-нет, – Лёдя отстраняется от пышущей жаром хозяйки и бормочет: – Мне надо… ну, идти… дальше надо…
Ночует Лёдя под обрывом морского берега, прямо на песке, укрывшись какой-то рваниной. Он спит, и снится ему прекрасная Любаша – в пенных кружевах и розовых ленточках. Да и сам Лёдя ей под стать – в сверкающем блестками и звездочками трико.
Они вдвоем летают на трапеции под куполом, а собачки пляшут внизу на арене. Лицо Любаши приближается в полете к его лицу, оба прикрывают глаза, их губы тянутся друг к другу.
Но на арене появляется силач Ярославцев с брандспойтом. Он направляет его на влюбленных, и брандспойт мощной струей воды сбивает их с трапеции.
Лёдя падает на опилки манежа и… просыпается. Брандспойт… нет, просто реальный дождь поливает его, как из ведра. Над морем сверкают молнии.
Молдавское село.
В отличие от грустной украинской песни, молдавская песенка в исполнении Лёди звучит веселее, хотя и она тоже – про любовь.
Куй нуй плаче драгостя,
Думнезеу се ну ей бя!
Се мье дэе нумай мие,
Еу рог бин копилерие.
Ну мий фрика, мэй, де моарте,
Дар мий фрика де пэкатэ,
Ши де тоате релеле, мэй,
Че ам фэкут ку мындреле меле!
Горячие молдаване, ставши в круг, пляшут под песню Лёди.
Потом они провожают его до околицы села и там долго прощаются, жмут руку, заводят короткие танцы уже безо всякой музыки. И долго машут вслед уходящему Лёде.
А солнце садится и тоже провожает последними лучами Лёдю, в одной руке у которого – сочная молдавская плачинда, в другой – початок вареной кукурузы. Он ест и то, и другое, попеременно кусая то сырный пирог, то кукурузу. Вообще-то не очень совместимые блюда, но какое это имеет значение, если с утра в желудке было пусто.
Татарское село.
На лавочках у добротных домов сидят степенные мужчины в шитых золотом тюбетейках. А женщин практически не видно, только мелькнет одна-другая в низко надвинутом на лоб платке-хиджабе.
Здесь Лёдя ничего не поет – татарского языка не знает. Местные же не знают русского. И не получается у них никакого разговора, когда Лёдя расспрашивает, был ли здесь цирк, а если был, то когда уехал и куда. Татары вполне уважительно слушают Лёдю, понимающе кивают, но явно ничего не понимают.
Лёдя переходит на международный язык жестов: он изображает силача с гирями, делает сальто, становится на четвереньки и лает, как собачки Любаши. Теперь уже татары переглядываются с тревогой. Один седобородый сочувственно качает головой и что-то сообщает другим мужчинам.
Но мальчик, который все терся у сапога седобородого деда, звонко кричит:
– Нет, ата, он не больной, он спрашивает про артистов! – И сообщает Лёде: – Артисты вчера здесь были… Такой сильный батыр и красивая хатын!
Седобородый гладит смышленого внука по головке и тоже обращается к Лёде на ломаном русском:
– Ты хатеть… арытысты?
– Да! Да! Артисты! Цирк! – радуется Лёдя.
– Арытысты – ек… нету… уехать арытысты… ёк.
– А куда поехали? В какую сторону? Покажите!
Седобородый непонимающе пожимает плечами. Но опять выручает мальчишка:
– Они сказали – поехали в Затоку.
– Затока? Точно?
– Заток, Заток, – подтверждает седобородый. – Мой сын ехать… туда… завытыра.
– Пусть возьмет меня! – умоляет Лёдя.
– Тебя? – Седобородый прищуривается. – А ты рука-нога работать?
Лёдя, обливаясь потом, грузит мешки на арбу, у которой прогуливается, похлопывая кнутом по своему сапогу, молодой татарин.
Когда мешки погружены, татарин залезает на место возчика и указывает кнутом Лёде на кучу мешков. Лёдя взбирается на вершину кучи и, обессиленный, падает, раскинув руки и глядя в небо.
Седобородый отец что-то строго приказывает сыну, тот почтительно отвечает, прикладывая ладонь к груди. Наконец седобородый машет рукой, молодой стегает кнутом лошадей, и арба отправляется в путь.
На площади села Затока разбит шатер цирка Бороданова. На раусе, где прежде зазывал публику Лёдя, теперь работает зазывалой Любаша. Делает она это не так темпераментно, как Лёдя, но зато по-своему очаровательно:
– Уважаемые зрители! Дяди, тети и родители! Дедушки, бабушки и детишки-лапушки! Наши артисты чудно хороши! Заходите, посмотрите – отдых для души!
На площади появляется Лёдя. И замирает при виде циркового шатра. Потом медленно, нерешительно приближается к нему. Стоит и взволнованно смотрит на Любашу.
Почувствовав его взгляд, девушка оборачивается и радостно бросается ему на шею:
– Лёдька! Ты нашел нас! А я скучала!
Позади них раздается голос Бороданова:
– И долго будем обжиматься?
Молодые люди испуганно отшатываются друг от друга. Лёдя виновато и умоляюще смотрит на хозяина цирка. Бороданов глядит на него в упор. И строго повторяет:
– Долго будем обжиматься? А кто за тебя, паразита, работать будет!
– Я буду работать! Я! – кричит счастливый Лёдя
От избытка чувств он делает колесо на руках – одно, второе, третье – и так удаляется к служебному входу цирка. Бороданов и Любаша с улыбкой глядят ему вслед.
И не замечают силача Якова, провожающего Лёдю взглядом, не сулящим ничего хорошего.
Любаша перед установленным на ящике зеркалом взбивает золотистые локоны, борясь с одной непокорной прядью, никак не желающей укладываться на лбу.
Лёдя – в огненно-рыжем клоунском парике – вышагивает туда-сюда за ее спиной, и пламенно фантазирует. Он рассказывает девушке про сон, который снился ему под дождем на морском берегу. Про то, как они летали вдвоем на трапеции под самым куполом – красивые, нарядные и сильные. И про то, что они с ней обязательно сделают этот номер не во сне, а наяву – под куполом большого настоящего цирка.
Любаша, продолжая борьбу с локоном, лишь тихо улыбается: сон все это, фантазия, сказка… Но Лёдя не сдается: сон непременно станет явью, если только сильно верить, если только очень стараться, если стремиться к этому и быть всегда вместе…
Любаша, почуяв, что разговор сворачивает с темы высокого циркового искусства в сторону сложных личных отношений, машет рукой на непокорную прядь и освобождает Лёде место у зеркала – пусть гримируется, а то опоздает на выход.
Лёдя усаживается перед ящиком, пообещав, что они еще обсудят общий номер. Любаша соглашается: обсудим, обсудим, – и выпархивает из шатра. А Лёдя зачерпывает из коробки грим, наносит мазок на лоб, растирает его и кричит от боли:
– А-а! О-ой! А-а-а!
На его крик возвращается Любаша:
– Что?! Что случилось?
– Жжет! О-о, печет!
Лёдя вопит, держась за лоб и раскачиваясь из стороны в сторону.
Сбегаются другие циркачи. Быстро входит Бороданов.
А ну цыть, не пугать мне публику! Что за базар?
Он отнимает руки уже не вопящего, а жалобно стонущего Лёди от его лица, приглядывается к вспухающим волдырям:
– Так, известь! Быстро воды!
Любаша убегает, приносит воду, смывает со страдающего Лёди грим. А цирковые перешептываются в сторонке. Один вспоминает, как в Бердичеве молодой клоун старому сыпанул извести в грим, и старый вообще ослеп, а молодой взял и стал работать его коронный номер. Другой возражает, что Лёдин-то номер вроде бы делить некому. Третий уверяет: что поделить – всегда найдется…
Лёдя тихо поскуливает. Бороданов осматривает обожженный лоб. И заверяет, что до свадьбы заживет. Надо только смазать жиром.
Любаша опять убегает. Появляется силач Яков. С деланным удивлением он оглядывает собравшихся.
– Что за шум, а драки нету?
Бороданов смотрит ему в глаза. Яков спокойно выдерживает его взгляд. Хозяин раздраженно приказывает:
– Ну, чего сбежались – идите, работайте!
Цирковые понуро расходятся.
Лёдя лежит на попоне, Любаша делает ему перевязку. Лёдя стискивает зубы от боли, но стоически молчит. Любаша сочувственно гладит Лёдю по лицу. Юноша задерживает ее руку на своей щеке:
– Такая теплая…
Любаша улыбается.
– А можно еще погладить? – просит Лёдя.
Любаша приглаживает его волосы:
– Вы, наверное, по дому скучаете?
– А вы?
– Мой дом – здесь.
– Ну, теперь и мой – здесь. – Лёдя морщится, трогает повязку.
– Больно? Бедненький вы мой!
Любаша склоняется к Лёде и, едва коснувшись губами, целует его. Глаза Лёди расширяются от радостного изумления. Он обхватывает Любашу за шею, но она мягко отводит его руки и встает:
– Выздоравливайте поскорее…
– Да я уже здоров! – Лёдя хочет сорвать повязку, но стонет и падает навзничь.
Волны моря набегают на берег. Лёдя с Любашей отпрыгивают от них. Голова Лёди по-прежнему перевязана, а в его глазах – восторг первой любви. Умаявшись, они падают на песок. Лёдя пускает камешки «блинчиками» по воде. А Любаша будничным голосом рассказывает печальную историю своей жизни.
Детство раннее у нее было золотое: мамка любила, отец баловал. Только отец болел сильно. Болел-болел, да и помер. Вскоре после него и мамка на тот свет отправилась. А тетка – мамкина сестра – та прямо сказала, что ей Любаша вовсе не нужна. Тогда и настало времечко – хоть с голоду помирай. И тут ей повстречался Яков Петрович. Это ничего, что он с виду такой жуткий, но в душе-то он добрый. Силач Любашу на улице подобрал, в цирк привел. А там надоумил собачками заняться. Сама-то она ничего не умела, ничего не понимала…
Лёдя, сочувственно слушающий Любашу, пламенно обещает:
– Не бойся, мы теперь с тобой вместе будем!
Она грустно улыбается:
– Ты еще такой молодой, не знаешь жизни…
– Да знаю я! Вот гастроль с Бородановым отработаем, и сами двинем в Одессу или в Харьков, в настоящий театр наймемся. Мы с тобой станем знаменитыми артистами!
Любаша усмехается, рисуя что-то пальцем на песке.
– Так не бывает…
– А у нас будет! – Лёдя возбужденно вскакивает. – Ты мне верь! Будет!
Очередное пристанище цирка – еврейское местечко Тульчин.
Три дня назад в Днестровске цирк покинули его музыканты. Их переманил хозяин местного ресторанчика. У которого, в свою очередь, музыканты сбежали попытать свое музыкальное счастье в одесском варьете. Потому представление в Тульчине сопровождают местные тульчинские музыканты: два скрипача – юная, но не сказать, чтоб очень хорошенькая Аня и ее долгоносый папа, а также толстяк с барабаном.
Барабанщик бухает колотушкой, когда силач Ярославцев играет с гирями.
Скрипачи играют вальс, когда Любаша работает со своими собачками.
После Любаши на арену кувырками выкатывается Лёдя в наряде рыжего клоуна:
Публика встречает его смехом. Юная скрипачка Аня от восторга распахивает рот и даже забывает о своей работе. Но папа толкает ее в бок, Аня подхватывает скрипку, и музыканты выдают туш.
Любаша возвращается после номера в свой закуток. А там ее поджидает Ярославцев. Он хватает девушку за руку:
– Кукла чертова! Вчера опять со щенком путалась?
– Ай, пустите! Мы просто гуляли…
На арене Лёдя, совершив еще несколько клоунских кульбитов, вдруг громко лает по-собачьи и вопит:
– Ой! Злая собака! – Продолжая лаять, он в мгновение ока вскарабкивается на центральный шест. – Ай! Спасите, помогите!
Публика хохочет. Юная скрипачка Аня восторженно хлопает. На арену выходит грозный Бороданов:
– А ну, слезай! А то уволю!
– Ой, дяденька, не увольняйте!
Лёдя умоляюще складывает ладони и от этого срывается с шеста. Публика ахает. Но Лёдя удерживается на шесте ногами – вниз головой. Публика аплодирует.
А за кулисами силач нависает над забившейся в угол Любашей:
– Догуляетесь вы с ним… Я его убью!
– Нет! Вы и так уже чуть не убили…
– Ха, это я еще только предупреждал!
Лёдя, цепляясь за шест одной рукой и одной ступней, лает и вопит:
– Ни за что не слезу! Я этого волкодава боюсь!
Публика веселится. Бороданов обращается к ней:
– Дамы и господа! Прошу вас, снимите этого болвана!
Но никто не проявляет такого желания.
За кулисами Любаша тихо плачет. Силач немного смягчается:
– Любаня, девочка, пойми: он – малец, сопляк… Ничего не знает, не может. А я тебе – опора в жизни. – Он пытается обнять девушку.
Она отталкивает него. Он снова разъяряется:
– Ну, гляди, я его раздавлю! Одним пальцем!
– Не надо! – вскрикивает Любаша. – Не трогайте его… – И начинает покорно расстегивать кофточку…
На арене Бороданов взывает к публике:
– Господа, нам нужно продолжать представление! Кто поможет снять этого паразита – плачу рубль!
Подтверждая свое обещание, он поднимает рубль над головой. На арену лезут несколько мужиков-добровольцев. Но Лёдя опережает их:
– Шо? Вам – рубль? Та нехай все злые собаки на свете подавятся – за рубль я и сам слезу!
Лёдя – не просто, а с акробатическими фокусами – спускается с шеста. Публика не жалеет ладоней. Оркестр опять играет туш. Скрипачка Аня не отрывает от Лёди восхищенного взгляда.
А он выхватывает у Бороданова рубль, снова заливисто лает, изображая бегство от собаки, и покидает арену.
Окрыленный успехом Лёдя, еще с намалеванной на пол-лица клоунской улыбкой, вбегает в закуток Любаши и замирает. Девушка, распростертая на куче тряпья, уставясь невидящим взглядом в потолок, мерно дергается под натиском мощного тела Якова.
Услышав появление Лёди, силач оборачивается и, не прерывая своего занятия, мерзко ухмыляется.
Лёдя вылетает из цирка, стаскивая на бегу рыжий парик.
Идет проливной осенний дождь. Лёдя бежит, не разбирая дороги, по кривым глинистым улочкам. Ливень смывает грим, и по лицу Лёди текут грязные потоки – то ли дождь, то ли слезы. Лёдя выкрикивает какие-то слова, разобрать их в шуме дождя невозможно, но и так ясно, что слова эти, как сказано у классика, «облиты горечью и злостью». Лёдя грозит кулаком затянутым пеленой дождя небесам. Но небеса равнодушны к его угрозам и даже не унижаются до того, чтобы ответить Лёде хотя бы громом, не говоря уже о молнии.
Ноги Лёди разъезжаются на глине, он спотыкается, падает ничком в лужу, лупит кулаками по грязи и постепенно так и замирает – лицом в луже. А потом бессильно переворачивается на спину и закрывает глаза, чтобы больше никогда не видеть этот бесконечный дождь, это равнодушное небо, эту несправедливую жизнь…
А когда Лёдя все-таки с трудом открывает глаза, он уже лежит на белоснежной подушке под разноцветным лоскутным одеялом в чисто выбеленной комнатке.
Над ним склоняется юная скрипачка Аня, которая вместе с отцом сопровождала цирковое представление.
– Где я? – Лёдя еле шевелит языком.
Аня прижимает палец к губам:
– Доктор не велел вам разговаривать. Отдыхайте…
Она осторожно меняет компресс на лбу Лёди. Глаза юноши закрываются сами собой.
Лёдя уже сидит, опершись на груду подушек. Аня поит его чаем из блюдца.
Заглядывает долгоносый Анин папа:
– Очухался? Ну, от и добре… Аня, собирайся на похороны.
– Кто-нибудь умер? – волнуется Лёдя.
– Ну, ясно, умер, раз похороны…
Папа достает из шкафа скрипку. Дочь поспешно объясняет Леде, что в цирке они, к сожалению, играли только раз, а вообще у них такая работа – играть на похоронах.
Папа бодро уточняет: почему только на похоронах – они играют и на свадьбах, и на обрезаниях, и на бармицве… Он со своей скрипкой выходит, а дочь достает из футляра свою, тихонько трогает струны и сообщает, что лично она как раз даже больше любит играть на похоронах. Потому что музыка печальная и красивая. А на свадьбах нужны только гоп-цоп два притопа, да еще мужчины напиваются и начинают приставать.
Лёдя сочувственно кивает. Аня укладывает скрипку в футляр и добавляет, что ей очень понравилось играть у господина Бороданова – было так празднично, весело. Жалко, что цирк уехал.
– Как уехал?! – Лёдя пытается вскочить, но сил не хватает.
– А-а, – спохватывается Аня, – вы же ничего не знаете, вы столько были без памяти… Господин Бороданов сказал, что уже вся публика Тульчина в цирк сходила и надо ехать дальше.
Лёдя потрясен:
– А я?! Как же я?!
– Вот и девушка, которая с собачками, спросила: а как же вы? А господин Бороданов говорит: ничего, он крепкий – выдюжит! Так и сказал – выдюжит…
– Бросили они меня! – горестно заключает Лёдя.
Аня хочет его утешить, но раздается голос папы:
– Иди же, доча! Покойник ждать не будет!
Через неделю уже чуть окрепший Лёдя сидит в кресле, безвольно уронив руки на подлокотники. На нем слишком просторная рубаха – явно с чужого плеча. Аня кормит его бульоном с ложечки. И вдруг, отстранившись, смотрит на Лёдю.
– Какой вы красивый!
Лёдя смущается и выпаливает:
– Если кто здесь красивый, так это вы!
– Ой, бросьте!
– Правда-правда… У вас удивительно тонкие черты лица…
Аня грустно улыбается:
– Мне никто еще так не говорил. И не только мне… У нас в Тульчине девушке трудно… Если она из богатой семьи, родители, конечно, находят ей жениха, а если нет… – Она умолкает.
Лёдя пытается встать. Аня его удерживает:
– Доктор вам не разрешил самому! Я помогу…
– Да не надо…
– Надо! И не стесняйтесь, когда-нибудь вы мне тоже чем-нибудь поможете.
– Обязательно помогу! – обещает Лёдя.
Аня помогает ему доковылять от кресла до кровати, укладывает, укрывает одеялом. Лёдя отворачивается к стене, закрывает глаза. Аня любуется им. Думая, что он уже уснул, осторожно проводит рукой по его волосам. Лёдя приоткрывает глаза и тут же снова зажмуривается.
И вот наконец, опираясь на Анино плечо, Лёдя делает первые шаги по комнате.
– Молодец, умница! – поощряет его Аня. – Сейчас пойдем во двор – на солнышко…
В комнате появляются ее родители; мама – такая же долгоносая, как папа. Аня замирает в предчувствии дальнейшего. А Лёдя еще ни о чем не догадывается.
Папа с мамой как-то преувеличенно любезно улыбаются. Лёдя вежливо улыбается в ответ. Мама многозначительно предлагает:
– Анечка, доча моя, что бы тебе не сходить в курятник – выбрать для Лазаря Иосифовича свежих яичек на обед.
Аня со странной поспешностью выходит. Неловкая пауза. Лёдя вопросительно смотрит на родителей Ани. Мама усаживает Лёдю в кресло:
– Присаживайтесь, молодой человек…
И опять повисает пауза. Потом начинает папа:
– Лазарь Иосифович, вам уже нивроку достаточно лет…
– Семнадцать! – быстро уточняет Лёдя.
Папа с мамой переглядываются. Мама вздыхает:
– Да? А в цирке говорили – двадцать. Ну, семнадцать – тоже хорошо… Не пора ли вам, Лазарь Иосифович, подумать о семье?
– А я о ней думаю, – все еще ни о чем не догадывается Лёдя. – У меня в Одессе мать, отец, три сестры, брат…
– Да-да-да, – кивает папа, – но у вас там, если я не очень ошибаюсь, нету жены?
– Жены нету.
Папа наконец берет быка за рога:
– Так у вас будет жена! Возьмите нашу Аню!
От неожиданности Лёдя вскакивает и снова падает в кресло. А папа развивает наступление:
– Аня – хорошая дочь и будет таки хорошей женой!
Папу быстренько поддерживает мама:
– И у Анечки нивроку хорошее приданое: серебряный портсигар и часы от дедушки! Где вы, хочу я знать, найдете лучше?
Оглушенный родительским напором, Лёдя беспомощно лепечет:
– Я… Конечно, я перед вами в долгу… Но я не думал… Я…
Появляется Аня – вся смущение, волнение, ожидание – и протягивает лукошко:
– Мама, вот свежие яички для Лазаря Иосифовича.
– Ай, зачем ему теперь яички! – восклицает папа. – Ему теперь надо рюмочку нашего домашнего вина!
Аня млеет от счастья. Лёдя потерял дар речи. А мама уже шустро накрывает стол вышитой скатертью.
– Сейчас пообедаем! По-семейному!
Аня мечет из буфета на стол тарелки и приборы. Папа подмигивает Лёде, указывая на дочь:
– Золотая будет хозяйка! Правду люди говорят: судьба и за печкой найдет!
Папа достает из буфета и ставит в центр стола бутыль вина. А мама волнуется:
– Жениху много не наливай – он еще слабенький!
Потом Лёдя – уже вполне здоровый, но очень скучный – сидит на крыльце дома, перебирая струны гитары. Аня подыгрывает ему на скрипочке. Получается странный музыкальный дуэт: бессмысленное, невпопад треньканье на гитарных струнах и нежный красивый голос скрипки.
Из дома выглядывает папа:
– От голубочки! Спелись? Будем теперь играть трио. Нет, на похоронах, конечно, гитара не пойдет, но на свадьбах – очень даже!
Довольный папа ныряет обратно в дом. А дуэт-какофония дополняется неожиданным аккомпанементом – жалобным тявканьем. Во дворе появляется собачка – тощая и грязная, но, похоже, когда-то вполне белоснежная, точь-в-точь Любашина болонка.
Лёдя откладывает гитару, бежит к калитке, распахивает ее, вылетает на улицу… Улица абсолютно пуста. Лёдя уныло возвращается во двор.
Там Аня гладит собачку:
– Бедненькая! Потерялась? Ну, мы тебя покормим, вымоем… Правда, Лёдя, она похожа на собачек из цирка?
Лёдя не отвечает, напряженно думает о чем-то своем, потом решительно направляется в дом. Аня растерянно смотрит ему вслед.
В доме на кухне папа прокручивает мясо через мясорубку. Мама раскатывает скалкой тесто. Лёдя входит, чуть мнется у порога и выпаливает:
– Мне нужно в Одессу – забрать свой гардероб!
– Что? – переспрашивает папа.
– Ну, мои вещи, вся одежда остались в цирке… Я ведь ношу – спасибо вам – все ваше… А мне нужен мой гардероб.
– Гар-дэ-роб? – мечтательно повторяет красивое слово мама.
– А как же без гардероба? – уважительно соглашается папа. – Поезжайте, Лазарь Иосифович!
Лёдя мучительно краснеет и выдавливает:
– Но… Бороданов… не выплатил мне содержание…
– А сколько вам нужно? – интересуется мама.
– Ну, на билет… – Лёдя поспешно добавляет: – Четвертого класса.
Перед воротами дома Ани возница сидит на телеге, наблюдая, как вся семья – папа, мама и Аня – провожает у ворот дома Лёдю, одетого в чересчур просторный для него костюм Аниного папы. Папа торжественно вручает Лёде деньги.
– Вот вам, Лазарь Иосифович, один рубль семьдесят копеек! Ровно на билет из нашего Тульчина до вашей Одессы.
Мама протягивает Лёде бумажный сверток с проступившими пятнами жира.
– Котлетки вам на дорогу. Домашненькие.
Возница нетерпеливо помахивает кнутом:
– Как бы к поезду не опоздать…
– Вы, пожалуйста, не гоните! – волнуется мама. – Это же таки жених нашей единственной дочери. Он едет у в Одессу за гардэробом!
Лёдя и Аня в неловком молчании стоят друг перед другом. Папа и мама деликатно отворачиваются. Молодые начинают что-то говорить одновременно, но замолкают и нервно смеются.
– Ну, – решается Аня, становясь на цыпочки и прикрывая глаза.
– Ну, – вздыхает Лёдя и целует Аню в щечку.
Мама и папа умиленно наблюдают за сладкой парочкой.
Не рассказать никакими словами и не живописать ни на каком полотне состояние души Лёди, когда он – счастливый и свободный – возвращается домой! Он идет, шагает, фланирует, летит, порхает по родной Одессе.
Кривая и узкая Малая Арнаутская улица… Прямая, как стрела, Итальянская… Тенистый Французский бульвар… Тихие переулочки, выщербленные ступеньки лестниц, витые чугунные ограды…
И море – спокойное, бескрайнее, искрящееся в солнечных лучах…
На Привозе Лёдя, как в еще вроде бы таком недавнем, но уже и таком далеком детстве, покупает мороженое. Маленький кудрявый мальчик, каким и Лёдя был когда-то, протягивает мороженщику копейку. Лёдя подмигивает ему и, облизывая сладкий шарик мороженого, легкой походкой свободного человека идет дальше – мимо овощных рядов, мясных, рыбных… И по людям, по их разговорам, по бессмертному юмору, Лёдя окончательно понимает: он таки да – в Одессе.
По рыбному ряду проходит разодетая не по-будничному дама. Торговки сразу же оживляются.
– Вы погляньте, какая дамочка! Красавица! Муж должен быть из нею счастливый! Мадамочка, возьмите у меня скумбрию! Это ж цельный кит, а не скумбрия! Красавица, возьмите!
– Ну, и почем ваша скумбрия? – интересуется дамочка.
– Гривенник.
– Что-то дорого…
– Дорого?! – Торговка мгновенно переходит от подхалимства к агрессии. – Вам дорого, так скидывайте парижское платье, кидайтесь у море, ловите рыбу сами – и вам будет бесплатно! Не, вы только погляньте на эту конопатую – ни рожи, ни кожи!
Все торговки радостно поддерживают коллегу дружным и презрительным:
– Тю-ю-ю!!!
Лёдя с интересом ждет развязки бабской дуэли. И дожидается – нарядной дамочке тоже, оказывается, палец в рот не клади. Она интересуется:
– Но скумбрия-то ваша хоть свежая?
– Еще какая свежая! – Торговка столь же мгновенно возвращается к подхалимству: – Вы, дамочка-красавица, не сомневайтесь, рыбка свежайшая!
– Да? А что ж, я смотрю, над ней мухи летают? Мухи – они знают, над чем летать, ха-ха-ха!
Дамочка язвительно хохочет и удаляется. Торговка остается с открытым ртом.
Лёдя пересекает площадь перед знаменитым круглым Оперным театром, который местные остряки называют «тортом». Огибая театр, Лёдя слышит из открытых окон голоса певцов, звуки инструментов. Взобравшись на какую-то тумбу под окном, Лёдя заглядывает в репетиционный зал, где пузатый тенор выводит арию Герцога из «Риголетто»:
Сердце красавицы склонно к измене
И к перемене, как ветер мая…
А в скверике Пале-Рояль беседуют одесситы-меломаны в белых чесучовых костюмах.
– Что вы мне будете рассказывать! Да я знаю наизусть все эти ваши оперы!
– Это не мои оперы. К сожалению! Вчера в «Паяцах» я не услышал ни одного приличного тенорового «до», ни баритонального «соль»!
– А я обязательно хожу в оперу с клавиром. Я слежу и за оркестром, и за певцами.
– Ну, и что вы уследили за этим Де Нери?
– А что там можно уследить?
– Ну, так вам нечего делать в Одессе, можете ехать в Николаев.
– Зачем мне ехать в Николаев?
– А Де Нери поехал туда продавать петухов, которых он пускает в «Гугенотах».
– Слушайте, перестаньте кидаться на Де Нери, он хороший певец.
– Может, для Италии хороший, но для Одессы – это не компот!
Лёдя пересекает Пале-Рояль, распевая во весь голос только что услышанную арию Герцога.
Сердце красавицы склонно к измене
И к перемене, как ветер мая…
– Ненормальный! – качает головой один меломан.
А другой, напротив, радуется:
– Что я вам говорил? «Ла Скала» отдыхает! Все таланты – в Одессе!
И наконец Лёдя дома.
Надо заметить, к чести всех домашних, нет ни слова упрека блудному сыну и брату, ни слова издевки над неудавшимся циркачом. Только – объятия, поцелуи, а кое у кого из женской половины семьи – даже слезы радости. Кроме, конечно, суровой мамы Малки. Нет, она тоже не выдержала, прижала сына к груди. Но не более. И сухо объявила:
– Сейчас будем обедать.
Младшая сестра Полина подливает воду из кувшина брату-близнецу, умывающемуся с дороги над фаянсовым тазом. Средняя сестра Прасковья подает полотенце. Лёдя утирается и норовит обнять маму, поцеловать ее в щеку. Но мама отстраняется и снова командует:
– Все за стол!
Во время обеда родственники не столько едят сами, сколько наблюдают, как уплетает домашнюю еду Лёдя. Прасковья приглядывается к брату:
– Повзрослел ты, что ли… Глазки уже не такие щенячьи…
– Что ты удивляешься, Песя? – строго замечает старшая сестра Клава. – Пора бы уже ему и повзрослеть – не мальчик!
– А похудел как! – огорчается папа Иосиф.
– Ты на гастролечках своих случайно не подженился? – усмехается брат Михаил.
Лёдя поперхнулся, закашлялся и отрицательно трясет головой. Мама ощутимо лупит сына кулаком по спине:
– Дайте человеку спокойно покушать с дороги! Фиш, между прочим, с косточками.
Все послушно умолкают, принимаясь за еду. Мама ставит блюдо с домашними пирожными. И по давней традиции, режет каждое на половинки, раздавая их взрослым уже детям. Лёдя получает свою половинку пирожного, с наслаждением откусывает кусочек и расплывается в облегченной улыбке, свидетельствующей, что вот теперь он уже окончательно и бесповоротно – дома.
Однако идиллию нарушает папа Иосиф.
– Ну, сыночка, что тебе сказать… Все мы, конечно, счастливы, что ты вернулся своими ногами и без конвоя. Но пора таки подумать о будущем…
Улыбка Лёди гаснет, он с тоскою ждет продолжения. И папа продолжает:
– Ты нивроку хорошо нагулялся…
– Я работал в цирке! – перебивает Лёдя.
– Ну да, ну да, ты нагулялся в цирке, – гнет свое папа, – а теперь пора за дело. Мы с мамой подумали: ты поедешь к дяде Фиме…
– В Херсон?!
– Да, в Херсон, у него там магазин: «Ефим Клейнер. Скобяные товары и садовый инструмент».
– И что я там буду делать?
– Работать. Конечно, это не так весело, как крутиться-вертеться в цирке. Но на старости лет ты уже не покрутишься, а лопаты, топоры и грабли будут нужны людям до самого Страшного суда.
– Но я не сумею! – умоляет Лёдя. – Это совсем не мое дело… Вы поймите…
Молчавшая до сих пор мама сурово обрывает Лёдю:
– Мне сдается, никто не предлагал тебе высказаться!
Лёдя безнадежно машет рукой и понуро опускает голову. А мама смягчается и протягивает ему вторую половинку пирожного.
– На, скушай… Папе уже вредно много сладкого.
Куда идет Лёдя в трудные минуты, в отчаянные моменты? Конечно же, к морю. Там отдыхают его душа и тело. И кажется, что все не так уж плохо. А может, скоро даже будет хорошо. Лёдя прыгает в море со скалы, ныряет надолго, потом выныривает, хватая ртом воздух, яростно работает руками и ногами, борясь с волнами моря, как с волнами жизни.
Потом он неподвижно покоится на воде, раскинув руки и глядя в солнечное небо.
И наконец, неспешно плывет к берегу. Выбирается на сушу, бесконечно усталый, шатающийся, делает несколько шагов и падает без сил на спину. Неподалеку расположилась веселая компания – мужчины и женщины расстелили скатерть на песке, выпивают, закусывают и болтают. Лёдя печально смотрит в небо, невольно подслушивая оживленную беседу.
– О боже, как наша прима вчера разбушевалась!
– А чего это? Ей ведь принесли на сцену десять корзин роз…
– Да, но заплатила-то она за двенадцать!
Компания смеется. Лёдя тоже слегка улыбается. И уже внимательней прислушивается к разговору.
Томная красивая брюнетка, слегка растягивая слова, рассказывает:
– Я как-то спросила этого индюка Потемкина… ну, из Малого драматического: «Сколько времени у вас в театре идет „Отелло“»? Он так важно надулся и отвечает: «Мадам, день на день не приходится: иногда – три часа, иногда – два». – «Как это?» – «А так: мы играем до последнего зрителя!»
Ее рассказ подхватывает бойкая толстушка:
– А я помню этого Потемкина еще совсем юнцом. Мы едем на гастроли, я говорю: «Возьми саквояж!» А он: «Зачем?» – «Как зачем? Сложишь в него костюм, белье…» – А он так испуганно: «Костюм и белье? Но тогда в чем же я поеду?»
Компания опять смеется. Лёдя садится на песке, с интересом наблюдая за происходящим. Кудрявый, вальяжный и заметно нетрезвый красавец разливает вино по бокалам.
– Дамы и господа! Предлагаю тост за нашу наивную и, увы, ушедшую юность!
– Наивную – да, ушедшую – ни за что! – возражает томная брюнетка.
Все выпивают. Вальяжный опять разливает вино, приговаривая:
– Ох, уж эти юнцы… Слыхали, мой-то Карпов, юное дарование, укатил!
– Как укатил?
– Вдова, гречанка-миллионерша, втюрилась в него, наобещала с три короба: я для тебя театр построю! Он с ней и уехал…
Сухопарая дама морщится:
– Обычно подобные истории – про актрис, а не про актеров.
Ей возражает мужчина с пышными бакенбардами:
– В наш век эмансипе от женщин и не такого дождемся!
– Да чихать мне на эмансипе! – восклицает вальяжный. – Этот Карпов, подлец, оставил меня без партнера…
Лёдя вскакивает и решительно направляется к веселой компании.
– Извиняюсь, что невольно подслушал ваш разговор, но вам, кажется, требуется артист?
Компания с любопытством смотрит на Лёдю.
– Артисты требуются всегда, – заявляет вальяжный. – А вы, простите, кто?
– Я как раз артист!
– А какого, позвольте полюбопытствовать, театра?
– Еще не знаю.
Компания удивленно переглядывается. Лёдя поспешно объясняет:
– Вообще-то, я работал в цирке, но это так, для разминки… А истинное будущее меня ждет в театре!
Артисты смеются, но не обидно, а доброжелательно. Вальяжный подает руку.
– Евгений Скавронский!
– Лазарь Вайсбейн! – пожимает его руку Лёдя.
Скавронский задумывается и решает:
– Ничего, это поправимо.
– Что? – не понимает Лёдя.
Скавронский не успевает ответить – Лёдю приглашает томная брюнетка:
– Присаживайтесь к нам!
Уговаривать Ледю не надо, он запросто плюхается на песок рядом с артистами. Скавронский, покачнувшись и слегка расплескав бокал, протягивает его Лёде:
– Выпьем!
– Спасибо, я не пью. Но с удовольствием разделю вашу компанию.
Лёдя сразу чувствует себя здесь своим и начинает травить байки.
– У нас, кстати, с вином был забавный случай. Я делал акробатический номер: на канат ставил стул, сам на него забирался, ставил на голову стакан вина и играл на скрипке!
Дамы восхищенно ахают. Польщенный Лёдя распускает павлиний хвост:
– Да-да! Так вот, я балансирую на канате и стуле с вином, и слышу, как господин в первом ряду громко сообщает своей спутнице: «Броня, помнишь, у нас выступал скрипач Шульман, так он таки играл лучше!»
Компания смеется. А Лёдю уже не остановить.
– Еще помню, как-то на представлении слышим скандал среди зрителей: «Мадам, снимите вашу шляпу! Я отдал за билет два рубля и хочу видеть артистов!» – «А я, – отвечает дама, – отдала за шляпу десять рублей, и хочу, чтобы ее видели все!»
Артисты опять смеются. А Скавронский поднимает палец:
– О! Хорошая мысль! Молодой человек, хотите заработать два рубля?
– Кто же не хочет? – удивляется Лёдя. – Если нужно что-то носить или грузить…
– Фи! – морщится Скавронский. – От вас требуется не физический труд, а интеллектуальный. Нужно сыграть в театре.
– В театре?! Да это я могу и бесплатно! – Лёдя поспешно уточняет: – Но за два рубля тоже согласен!
– Прелестно! Будете играть со мной «Разбитое зеркало».
В театре «На Большом Фонтане» идет репетиция интермедии «Разбитое зеркало». Суть незамысловатой комической сценки в том, что денщик нечаянно разбил зеркало, а его хозяин-офицер после бурно проведенной ночи пытается привести себя в порядок перед этим самым зеркалом, вернее перед пустой рамой, по другую сторону которой денщик лихорадочно повторяет все жесты и гримасы офицера, имитируя таким образом отсутствующее зеркальное стекло.
Комизм происходящего усиливается тем, что Лёдя – тощенький и шустрый, а Скавронский – крупный и неторопливый, так что признать одного в другом можно лишь после действительно бурной ночи.
Работники театра покатываются со смеху. А режиссер – маленький лысый человечек – наблюдает репетицию с выражением вселенской скорби на лице. Впрочем, по окончании он произносит неожиданно жизнерадостно:
– Блеск! Восторг! Завтра спектакль, юноша! Не опаздывайте!
Скавронский хлопает Лёдю по плечу:
– Я в тебя верил, Лазарь Вайсбейн!
– Спасибо! – Лёдя весело сбегает со сцены.
– Минуточку! – останавливает его режиссер, – Чего вы скачете, как бычок на сковородке! А что я напишу в афише? Вот это?!
– Что… это? – не понимает Лёдя.
– Ну, это… Лазарь… как?
– Вайсбейн.
– Представьте себе эту афишу: «Денщик – Лазарь Вайсбейн». Да зритель высмеет весь свой смех возле афишной тумбы и уже не дойдет до театра!
Скавронский повторяет загадочную фразу, сказанную им еще на пляже:
– Это поправимо.
– И поправлять надо немедленно! – приказывает режиссер. – Чтобы к вечеру мне было такое имя, какое можно написать на приличной афише!
Лёдя со Скавронским бредут по Дерибасовской в мучительных поисках выхода из сложившейся ситуации. Лёдя полон сомнений:
– Псевдоним… Легко сказать… Это же раз – и на всю жизнь!
– Не всегда, – возражает Скавронский. – Я, к примеру, был – Вронский. Ну, Лев Толстой, «Анна Каренина» – чем не имя для героя-любовника? Но как-то к нам приехал на гастроли столичный премьер. По фамилии… как ты думаешь?.. Вронский! Что оставалось делать? Я-то был всего лишь начинающий… Ну, сделал приставочку и стал – Скавронский.
Значит, надо придумать такой псевдоним, чтоб ни у кого не было! – решает Лёдя.
Он вертит головой по сторонам, замечает табличку с названием улицы – Дерибасовская:
– Вот, может, Дерибасов?
Скавронский скептически хмыкает. И сам Лёдя качает головой:
– Не, еще подумают, что дальний родственник Дюка…
Скавронский указывает Лёде на открытое кафе:
– У меня здесь назначена встреча. Деловая.
Скавронский и Лёдя сидят в кафе. Лёдя ест мороженое, сосредоточенно думая о своем. Скавронский блаженствует: пьет пиво с креветками.
– Лёдя, я успел заметить: у вас какое-то детское пристрастие к мороженому. Причем всегда – один сорт.
– Да, ванильное с клубникой и орехами… О! А если – Орехов?
– Критики станут язвить: надо Орехову выдать на орехи!
Лёдя уныло ест мороженое. Скавронский блаженно щурится на солнце.
– Так бы всю жизнь и сидел на бульваре!
– О! Бульваров! А?
– Нет… Это что-то кафешантанное.
– А как вам… ну, скажем… Звездов?
– Чего скромничать, уж лучше сразу – Солнцев!
В кафе впархивает очаровательное круглоглазое создание. Скавронский улыбается, приподнимаясь навстречу барышне. Лёдя насмешливо шепчет:
– Это и есть ваша встреча… деловая?
Скавронский шепчет в ответ:
– Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает! – И усаживает девушку за столик:
– Прошу, Ниночка! Знакомьтесь, Лёдя, моя протеже – Нина Синявина, мечтает о сцене, собирается к Станиславскому… А это – восходящая звезда Малороссии… э-э-э… ну вы еще услышите его громкое имя! Ниночка, вы приготовили отрывок?
Барышня молча и часто-часто кивает. Скавронский вальяжно машет рукой:
– Ну-с, прошу!
Барышня робеет:
– Прямо… здесь?
– А почему бы и нет? Привыкайте к публике!
Барышня глубоко вдыхает, как перед прыжком в воду, и испуганно тараторит стихи:
– Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана…
Скавронский перебивает:
– Не верю! – и передразнивает писклявым голосом: – На груди утеса-великана… Я не вижу утеса! Лёдя, я вас прошу: покажите, как это делают профессионалы…
Лёдя теряется, но почтительный взгляд барышни придает ему смелости. Он прикрывает глаза, принимает театральную позу и басит нараспев:
– Ночева-ала ту-учка золота-ая на груди-и уте-е-еса-велика-а-ана… – И вдруг оборачивается к Скавронскому: – А как вам – Великанов?
– Великанов? С вашим-то ростом?
Лёдя обиженно надувается. Скавронский подхватывает под руку барышню:
Ниночка, пойдемте, вам нужны более глубокие и проникновенные знания! А вас, коллега, я оставляю в раздумьях!
Скавронский и барышня направляются к выходу.
А Лёдя, и верно, остается в напряженных раздумьях:
– На груди утеса-великана… Грудинин?.. Тьфу, бред! Утеса-великана… Утес! Утесин?.. Нет… Утесский? Нет… Утесов? А что, звучит – Утесов! Да! Утесов!
Лёдя выбегает из кафе за ушедшим Скавронским:
– Послушайте, а как вам – Утесов?
Но Скавронского уже и след простыл. А по улице идут люди, и все они заняты своими делами, и думают свои мысли, и никто из них даже не подозревает, что вот только что, сейчас, буквально на их глазах, рождается великий артист Лёдя… нет, какой Лёдя – Леонид… да, Утесов!
И он не выдерживает и кричит на всю улицу:
– Утесов!
Эхо многократно повторяет его крик. И кажется, что Лёде вторят улицы, дома, скалы, обрывы, море – вся Одесса:
– Утесов! Утесов!! Утесов!!!
Глава третья
«Пара гнедых, запряженных с зарею»
МОСКВА, ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
Юбилейный вечер Утесова продолжается.
Среди поздравляющих деятели искусств перемежаются с представителями общественных организаций. После Аркадия Райкина и Зиновия Гердта на сцене появляются представители МИДа – пожилой сухопарый чиновник и молодая симпатичная женщина.
– Уважаемый товарищ Утесов! – торжественно начинает чиновник. – Разрешите от имени Министерства иностранных дел Союза Советских Социалистических республик зачитать официальную ноту…
Утесов перебивает с усмешкой:
– Только учтите: у меня с детства плохо с нотами – музыкальную грамоту я прогуливал!
Реплика не по сценарию сбивает чиновника, он ищет нужное место в бумажке.
Симпатичная спутница приходит на помощь:
– Дорогой Леонид Осипович! Наша нота очень простая: вы назначаетесь чрезвычайным и полномочным представителем Одессы во всем мире!
Зал аплодирует. Утесов уточняет:
– Чрезвычайный и полномочный – это вроде как посол?
– Совершенно верно – посол, – серьезно подтверждает чиновник.
А женщина-коллега улыбается:
– Да, Леонид Осипович, минуя все предыдущие ступени карьеры дипломата, вы сразу получаете звание посла.
– Почему же – минуя? – удивляется Утесов. – Нет, это просто повышение по службе. Я ведь уже ношу звание консула.
– Как… консула? – теряется чиновник.
Утесов радуется, как ребенок:
– А-а, у нашего МИДа не так уж хорошо работает разведка! – И объясняет залу: – Понимаете, мои земляки-одесситы давно называют меня консулом. Консулом одеколона.
– Одеколона? – еще больше теряется мидовец.
– Да, консул одеколона – то есть одесской колонии. На всем свете!
Зал смеется. Мидовцы вручают Утесову грамоту. Он целует ручку даме.
– Одесситы все такие галантные? – улыбается она.
– Абсолютно! Вся Одесса – от семи до семидесяти! – И спохватывается: – Нет, и после семидесяти – тоже!
Зал опять смеется, аплодирует.
А Утесов, подхватывая одесскую тему, направляется к микрофону:
Одесский порт
В ночи простерт,
Маяки за Пересыпью светятся.
Тебе со мной и мне с тобой
Здесь, в порту, интересно бы встретится.
Хотя б чуть-чуть со мной побудь,
Я иду в кругосветное странствие.
В твой дальний край идет трамвай
Весь свой рейс до шестнадцатой станции.
ОДЕССА, ЛЕТО 1912 ГОДА
Да, это все Одесса – и старый порт, и трамвай на шестнадцатую станцию Аркадии, и улочки Молдаванки и Пересыпи, и Французский бульвар, и Греческая площадь, и пляжи Ланжерона, и конечно – море, море, море…
Я не поэт
И не брюнет.
Не герой, – заявляю заранее.
Но буду ждать и тосковать,
Если ты не придешь на свидание.
Шумит волна, плывет луна
От Слободки на Дальние Мельницы.
Пройдут года, но никогда
Это чувство к тебе не изменится.
Лёдя, радостно перепрыгивая через ступени лестницы и не замечая ее крутизны, поднимается от порта на Николаевский бульвар. В руке его – большой бумажный рулон.
В этом радостном порыве Лёдя влетает в дом, где мама Малка штопает носки, натянув их на деревянный грибок, а папа Иосиф собирает на столе бумаги в свой рабочий саквояж. Лёдя на глазах онемевшего папы перебрасывает его саквояж со стола на стул, а вместо него раскатывает на столе бумажный рулон. Это – театральная афиша. И с театральным же широким взмахом руки Лёдя заявляет:
– Вот! Любуйтесь! И гордитесь сыном!
Папа с мамой недоуменно переглядываются.
– Что это? – обретает дар речи папа Иосиф.
– Читайте! Нет, я сам прочту! «Интермедия „Разбитое зеркало“, денщик – Леонид Утесов»!
– Малочка, ты что-нибудь понимаешь? – жалобно интересуется папа.
– Я понимаю, Йося, что наш сын нездоров своей больной головой, – ставит диагноз мама Малка.
Боже ж ты мой! Бедный Лёдя так долго – можно сказать, всю свою семнадцатилетнюю жизнь – готовился к этой минуте, предвкушал театральный триумф, ожидая от любимых, но не веривших в его актерскую звезду родителей, прозрения и понимания, а возможно – и восторга, и очень даже может быть – аплодисментов… Но вместо всего этого – медицинский диагноз.
– Мама! Папа! Ну, о чем вы… Это же я, это – мое имя на афише театра!
Папа Иосиф меняет пенсне на домашние очки с веревочкой, изучает афишу:
– Тут написан какой-то Леонид Утесов… Но я не знаю, кто такой этот Утесов… Леонид…
– Это мой сценический псевдоним! Так делают все настоящие артисты!
– Артисты – возможно. Но я знаю, что моего сына зовут Лазарь Вайсбейн, и что он никакой не артист, а едет работать к дяде Ефиму в Херсон. Вот что я знаю.
– Но папа…
Что – папа? Вайсбейн, чтоб ты знал, в переводе на ваш гойский язык означает – «белая кость». И это звучит гораздо лучше, чем какой-то паршивый утес!
Папа Иосиф сбрасывает со стола афишу и водружает на ее место свой саквояж.
– Я не хочу ехать к дяде Ефиму! – упрямо заявляет Лёдя. – Я работаю в театре!
В разговор наконец, вступает мама:
– Да? Ты работаешь в театре? И за эту работу ты имеешь деньги? Значит, когда я пойду на Привоз, мне взять на продукты у тебя?
– Пока нет, но…
– Что «но»?
– Но я же только начал…
– А кушать ты еще случайно не кончил?
Лёдя уныло молчит. Мама указывает на афишу:
– Передай этому… Утесову, что человек должен не кривляться перед публикой, а иметь в руках хорошую профессию, с которой можно кушать свой кусок хлеба!
В славном городе Херсоне, в лавке «Ефим Клейнер. Скобяные товары и садовый инструмент» – идеальный порядок и четкая иерархия расположения на прилавках и на полках лопат, топоров, молотков, замков, пил, кос…
Дядя Ефим – в отличие от щуплого и суетливого двоюродного брата Иосифа – весьма дородный и неторопливый. Сунув большие пальцы в проймы жилета, а остальными пальцами похлопывая себя по груди, он поучает уныло торчащего за конторкой племянника Ледю:
– Торговля – дело такое: ушами не хлопай, а то выгоду упустишь. К примеру, заходит человек, смотрит товар, а ты примечай, как он смотрит. Если он сразу молоток берет и к руке примеряет, значит – мастеровой, знает-таки, что ему нужно. А если является и спрашивает: «И где тут у вас молотки?», так с этого швицера можно двойные гроши слупить.
– Но это как-то нечестно, – подает голос Лёдя.
– А чего ж нечестного? Пускай ума-разума набирается. Или вот еще… Покупатель интересуется: «В какую цену, допустим, фунт этих крючков?» Ты говоришь: рубль. И ждешь… Если он не дрогнул, продолжаешь: рубль раньше стоил, а это новая партия – по рублю с гривенником. И опять выжидаешь… Если он снова не дрогнул, заканчиваешь: по рублю с гривенником за штуку!
– Я так не смогу-у! – стонет Лёдя.
– Сможешь. – Дядя Ефим поднимает указательный палец: – Коммерция!
Завершив свое наставление, дядя Ефим уходит обедать – это святое. Конечно, он зовет с собой и Лёдю, но тот с благодарностью отказывается – честно говоря, ему сейчас кусок в горло не полезет.
Оставшись в лавке один, Лёдя бесцельно бродит вдоль полок, заглядывает во все углы, не находя ничего интересного.
Но, возвращаясь к прилавку, Лёдя случайно задевает пилу. Пила дрожит, поет. Лёдя прислушивается к голосу пилы. Берет лезвие косы, проводит им по зубьям пилы, извлекая диковинные звуки. Потом, довольно улыбаясь, берет молоток, отбивает ритм на днище медного таза. Улыбка Лёди становится шире. Он азартно мечется по всей лавке, извлекая какофонию звуков из лопат и серпов, ножниц и совков.
В лавку заглядывает селянка в клетчатом платке. Увидев безумствующего Лёдю, она быстренько ретируется.
А он ее даже не замечает, он продолжает играть на скобяных инструментах, и какофония звуков постепенно складывается в довольно четкий ритм. Лёдя счастливо смеется.
Входит мелкий мужичонка. Поначалу при виде беснующегося Лёди он тоже пятится на выход, но затем осеняет себя крестным знамением и подает голос:
– Хозяин, мне бы гвоздей…
– Хозяина нет! – Лёдя не отрывается от своего музицирования.
– А будет когда?
– Часа через два.
Пожав плечами, мужичонка уходит. А Лёдя в найденном им ритме начинает выплясывать чечетку.
Но покоя ему нет – является мастеровой в картузе, с холщовой сумке через плечо. Этот совершенно не реагирует на странное поведение Лёди и спокойно сообщает:
– Мне треба молоток!
– Хозяин будет через два часа.
– Не, мне треба сейчас.
– Так нету хозяина, иди, иди! – отмахивается Лёдя.
– А ты что тут робишь, если хозяина нет? Ты, что ли, грабитель?
Озадаченный этим нелепым предположением, Лёдя, наконец, прекращает свое занятие.
– Молоток мне треба! – напоминает мастеровой. – А еще шурупов. Больших – фунт, а малых – два.
– Ну, надо – бери! – разрешает Лёдя.
Мастеровой идет к полкам, по-хозяйски отбирает нужный товар и сваливает его на прилавок перед Лёдей. Лёдя чешет в затылке:
– А сколько…
– Цены мы знаем, – заверяет мастеровой.
Он шевелит губами, что-то подсчитывая, и выкладывает на прилавок пятирублевую купюру. Лёдя растерянно смотрит на деньги, не зная – много это или мало за набранный товар. Мастеровой, уловив его сомнения, гарантирует:
Как в аптеке!
И, загрузив покупки в свою холщовую сумку, уходит.
Лёдя кладет купюру в расходно-приходную книгу и тоскливо смотрит в окно. За окном синее небо, в котором свободно парят какие-то пернатые.
Лёдя решительно вырывает из книги разлинованный под дебет-кредит лист, и размашисто пишет:
Не сердитесь, дядя Фима! Соловей в неволе не поет! Долг верну, когда стану настоящим артистом. С почтением. Лёдя.
Он сует в карман пятирублевую купюру и уходит. Но от дверей возвращается, тщательно зачеркивает «Лёдя» и подписывается: «Леонид Утесов».
И вновь счастливый Лёдя летит на крыльях надежды по дорогим его сердцу одесским улицам.
Французский моряк в шапочке с помпоном ведет под ручку размалеванную девицу в чуть не лопающемся на ее крутых бедрах шелковом платье. Рука морячка скользит все ниже вдоль спины девицы. А девица тормозит своего спутника у витрины ювелирного магазина и просит сделать ей подарочек – вон тот браслетик. В ответ француз только страстно стонет:
– О, шарман! Шарман!
Девица канючит, складывая губки бантиком:
– Ну, что завел шарманку! Купи мне браслетик!
Француз непонимающе смотрит на нее. Лёдя, наблюдавший эту сценку со стороны, решает вмешаться на французском языке – все-таки учеба у Файга принесла свои плоды.
– Месье, понимаете, мадмуазель желает браслет…
Моряк отвечает тоже по-французски:
– Я все понимаю. Но, к счастью, она не понимает, что я понимаю!
И тут девица неожиданно взрывается и выдает на вполне сносном французском:
Да все я понимаю, придурок! Думаешь, такой умный, облапошишь бедную девушку? Вот тебе!
Девица складывает и демонстрирует французу мощный кукиш и гордо удаляется к трамвайной остановке.
Лёдя и моряк переглядываются и произносят растерянным хором:
– Шарман!
Француз, озадаченно покачивая головой, уходит по улице. А Лёдя заскакивает в проходящий мимо трамвай.
Девица уже стоит в вагоне. Увидев Лёдю, усмехается:
– Ну че, шарман – держи карман? Все лягушатники – жадины!
Лёдя выдавливает из себя комплимент:
– А вы неплохо владеете французским.
– Йес. Оф корс.
– И английским? – удивляется Лёдя.
Девица насмешливо щурится:
– Красота моя, ты столько девочек не целовал, сколько я языков знаю!
– Откуда?
– От верблюда! Дуся, это ж Одесса… У нас в порту – весь земной шарик, и этот шарик каждый день хочет поговорить с девушкой за тепло и ласку!
К ним подходит кондуктор:
– Проезд оплачиваем…
Девица лезет в сумочку и меняется в лице:
– Кошелек! Сперли кошелек! Да когда ж успели?!
– Шо вы хотите – это ж Одесса! – объясняет кондуктор, но настойчиво повторяет: – Проезд оплачиваем.
Лёдя видит, как к выходу торопливо пробирается рыжий детина, пряча в карман лакированный кошелечек.
– Стой! Стой, ворюга!
Лёдя бросается за здоровяком. Трамвай останавливается. Детина выскакивает, за ним выскакивает и Лёдя. Он бежит за вором. Тот – за угол. Лёдя – за ним. И оказывается в каком-то переулке.
Лёдя растерянно оглядывается. Детины нигде нет. А из подворотни появляется мужская фигура в плаще, шляпе, с тростью в руке, затянутой в перчатку. И вежливо, но с ощутимой угрозой интересуется:
– И что это вы хочете от маленького мальчика?
Набалдашником трости мужчина сдвигает шляпу на затылок. Взгляд его не сулит ничего доброго. Но Лёдя приглядывается и расплывается в радостной улыбке:
– Михаил!
Мишка Винницкий с Молдаванки, а теперь – Мишка Япончик, повзрослевший и шикарный, тоже недоуменно приглядывается к Лёде и в свою очередь узнает его:
– Ха! Это ты, что ли? Шкет сопливый, что на Чумке у фраерка гроши отборол и заморышу отдал?
– Я!
Япончик снисходительно усмехается:
– Как не было с тебя толку, так и нету! Ай-ай, у марухи лопатник помыли, так ты уже тут… Какие мы благородные!
Лёдя только вздыхает в ответ.
– Ладно, не журысь! Слово Япончика: нравишься ты мне! Иди, гуляй!
– Спасибо… А деньги?
Япончик хмурит брови:
Ша, телячьи нежности закончились! Какие деньги? Если б тут здесь не я, так мои мальчики тебя бы вообще в расход списали. Держи петуха!
Япончик, стащив перчатку, протягивает руку, и Лёдя пожимает ее.
Он понуро выходит из переулка к трамвайной остановке. А там его поджидает девица и сгребает в объятия.
– Та что ж ты такой дурень! Я ж волновалася! Ты ж такая фитюлька – я думала, тебя уже насмерть убили!
Обиженный Лёдя вырывается из ее объятий и фанфаронит:
– Меня? Убили? Смешно сказать, не то что слушать! Да я ж французской борьбе обучался… Я с них все выбил!
– Молодчик! – радуется девица. – Так давай денежки!
Лёдя оторопел, про это он как-то не подумал. Но надо выкручиваться.
– А сколько там у вас… было?
– Двадцать копеек.
Лёдя лезет в карман, выкапывает на свет божий мелочь – все, что осталось от денег, взятых у дяди Ефима в долг под будущую актерскую славу, и пересчитывает монетки на ладони. Но девица оказывается шустрее его в устном счете:
– Девятнадцать! От босяки! Копейку таки зажали!
Она сгребает монеты к себе в сумочку и осыпает Лёдю лавиной страстных поцелуев. Лёдя опять пытается освободиться из ее объятий. А девица сама вдруг прекращает бурное изъявление благодарности:
– Слухай, ты сбегай – может, они тебе и кошелечек мой вернут? Хороший же был кошелечек…
Лёдя не успевает ответить на эту наглость, как лицо его вытягивается от ужаса: к трамвайной остановке идет папа Иосиф со своим неизменным саквояжем в руке. Увидев Ледю в объятиях вульгарной девицы, папа останавливается, как громом пораженный. Отец и сын смотрят друг на друга. Девица, почуяв неладное, бочком-бочком исчезает. А папа растерянно бормочет:
– Лёдя?.. Как же ж так?.. Лёдя?..
Ничего удивительного, что дома Лёдю опять ждет грандиозный скандал. Папа Иосиф уже не бормочет, а гневно мечет тирады о том, что Лёдя – не сын Рокфеллера, и что поэтому он не может себе позволить кататься туда-сюда, Херсон-Одесса, швыряя деньги на ветер, да еще – совсем стыд! – чужие деньги дяди Ефима, и что вообще это какое-то божье наказание: в семье все люди как люди, а этот – артист!
Брат Михаил не ругает младшенького, а просто кивает в такт справедливым речам папы и выражает свое молчаливое презрение к уроду в семье. При этом он аккуратно вешает свой новенький – белый в синюю клетку – костюм на плечики, отряхивает его щеткой, смахивает пальцем никому не видимую пылинку, и помещает костюм в шкаф.
Это дает все основания папе указать на Михаила перстом и потребовать, чтобы Лёдя брал таки пример с брата: у него хорошая работа и от всех уважение, вот, на новый костюм себе накопил. Лёдя бурчит, что ему не нужен никакой новый костюм, что у него еще старый костюм – совсем как новый. Но папа пресекает все эти попытки уйти от сути проблемы и ставит вопрос ребром: в лавке Лёдя работать не хочет, а что же он хочет?
Лёдя, недолго думая, сообщает, что он хочет учиться на скрипке.
Брат Михаил лишь презрительно хмыкает и выходит из комнаты. А Лёдя, не обращая внимания на образцового брата, сам себя распаляет этой неожиданно для него самого возникшей идеей: да, он будет учиться на скрипке, и он выучится, и будет давать концерты, причем не только в Одессе, но и гастролировать – Москва, Париж…
Мама Малка, на протяжении всего разговора невозмутимо гладившая белье, ставит утюг, как точку, и сообщает:
– За Париж – я не знаю, а похорон и свадеб на век этого скрипача хватит. Нехай идет учиться к маэстро Гершбергу – он недорого берет…
Сосед по двору маэстро Гершберг, под дверью которого, слушая его скрипку, засыпал трехлетний Лёдя, действительно был известен тем, что брал за свои уроки по-божески и готов был начать обучение в любом возрасте.
Великовозрастный Лёдя изучает музыкальное ремесло у Гершберга в компании трех мальчиков в бархатных курточках и коротких штанишках. Все устроились на детских стульчиках, и Лёдины коленки – на уровне ушей.
– Дети мои, – вещает Гершберг, – основа музыки – это ноты…
– А, ноты! – отмахивается Лёдя. – Музыка – это чувства!
Маэстро снисходительно смотрит на него поверх очков:
– Без нот, дети мои, вы не сыграете никакого даже «Собачьего вальса».
В комнату заглядывает жена маэстро:
– Сема, там пришли! Еще одна сумасшедшая мамаша с худосочным дитем!
Гершберг выходит, бросив на прощание:
– Занимайтесь, дети мои!
Мальчики, уставившись в пюпитры, играют скрипичные этюды. А Лёдя, пытаясь разобраться в нотах, чешет в затылке:
– Китайская грамота! – И просит одного из мальчиков: – А ну, вундеркинд, сбацай этот этюдик!
Мальчик смотрит в ноты Лёди и играет.
– Ну-ка, ну-ка, – прислушивается Лёдя. – Так, что ли?
И довольно точно повторяет на своей скрипке услышанную мелодию. Мальчик показывает смычком в ноты.
– Все правильно, только тут не «до», а «до-диез».
– А, диез-шмиес! Лучше скажите, мне, хлопчики, кто из вас умеет барабанить?
Мальчики недоуменно переглядываются.
– Понял, шлемазлы! Барабанщик буду я. Мы сейчас сыграем, как на пляже в Аркадии!
Один из вундеркиндов робко возражает:
– А мама говорила, что я буду играть в консерватории.
– Ну, нехай в консерватории. Но в Аркадии!
Гершберг ведет по коридору мамашу в шляпке с цветами на полях и чистенького мальчика с набриолиненным пробором. Маэстро рисует перед гостями радужную картину:
– Сейчас вы будете иметь возможность наблюдать мой академический процесс. Предупреждаю: чтобы овладеть мастерством, нужна строгая дисциплина. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина!
Мама согласно и радостно кивает, сын тоскливо втягивает голову в плечи. Гершберг распахивает дверь комнаты и застывает при виде бурного веселья. Лёдя изображает темпераментного дирижера, вундеркинды жизнерадостно наяривают на скрипочках, а Лёдя еще успевает барабанить ладонями на табурете.
У Гершберга глаза лезут на лоб. Прилизанный новичок радостно сияет. Возмущенная мамаша тащит его прочь из комнаты.
Тем временем во дворе появляется юноша-посыльный из гостиницы «Лондонская» – в нарядной ливрее, с вышитым золотом названием отеля на фуражке. Он подходит к вечному старичку, греющемуся на солнышке.
– Скажите, где живет господин Утесов?
– Нигде, – отвечает старичок.
– Что значит нигде?
– Это значит, что здесь такой нигде не живет.
– Странно… – Посыльный сверяется с запиской, которую держит в руке.
Во двор выходит соседка Розочка с тазом выстиранного белья на крутом бедре.
– Кого вы ищете, молодой человек?
Вечный старичок обижается:
– Какая разница, кого он ищет, если я его не знаю!
– Я ищу Леонида Утесова, – объясняет посыльный. – Но, наверное, я ошибся адресом.
– Нет, это Лёдька Вайсбейн ошибся! – заявляет Розочка. – Причем на всю голову! Идемте, я вас провожу…
Маэстро Гершберг беседует с мамой Малкой на террасе возле их двери. А Лёдя стоит, понурив голову – похоже, это его самая привычная поза и самое привычное занятие: выслушивать нотации за свои безобразия.
– Мадам Вайсбейн, ваш сын – способный мальчик, ничего не могу сказать. Он играет с чувством, у него есть темперамент… Но он не желает учить ноты! А ноты – это основа музыки! Без нот вы не сыграете даже «Собачий вальс»…
– Мне не надо никакой вальс! – обрывает его мама Малка. – Вы столько говорите, что я теряю нить… Вы мне просто скажите: Лёдя играет на скрипке?
– Конечно, играю! – влезает Лёдя.
– Играть – это одно, а музыкальная грамота – это другое! – возмущается маэстро. – Понимаете, мадам Вайсбейн…
– Не понимаю! Играть он умеет?
– Конечно, умею! – опять влезает Лёдя.
Гершберг только закатывает глаза. Появляется Розочка с тазом белья и следующий за нею посыльный. Розочка им любуется:
– Смотрите, кто до вас притопал! Чистый херувимчик!
– Вы – мадам Утесова? – интересуется посыльный.
– Боже упаси! – отшатывается мама Малка.
– Я, я Утесов! – кричит Лёдя.
Посыльный вручает ему конверт:
– Вас ждут в номере-люкс гостиницы «Лондонская» для важного разговора.
– Номер-люкс? «Лондонская»? – Розочка вопит на весь двор: – Аня! Анечка! Что я имею вам рассказать!
Из своего окна высовывается могучая жена мясника Аня:
– Если вы, Роза, про то, шо Моня-сапожник опять напился и опять побил жену Симу, так я уже в курсе…
Лёдя мечется по комнате, лихорадочно пытаясь сообразить, что же ему надеть для ответственного визита в «Лондонскую». Там, небось, очень важные господа, а его старый костюмчик, хотя и совсем еще как новый, но в общем-то уже совсем старый, не то что Мишкин… Лёдя, ни секунды не колеблясь, распахивает шкаф. Там висит новенький – синий в белую клетку – костюм брата Михаила.
И вот уже Лёдя в этом шикарном, хотя и висящем на нем, как на вешалке, костюме стучит в солидную, инкрустированную золотом и с золоченой ручкой дверь люкса гостиницы «Лондонская».
– Войдите! – откликается мужской голос.
Лёдя входит в богато обставленный номер, где компания хорошо одетых, холеных мужчин и женщин собралась за столом с шампанским и фруктами. Среди них выделяется очень толстый, неулыбчивый человек в парчовой жилетке, с золотой цепью на животе.
Лёдя слегка пятится, полагая, что не туда попал. Но ему распахивает объятия старый знакомый артист Скавронский:
– Что ты там топчешься, проходи!
Скавронский – как обычно, слегка подшофе – обнимает Лёдю и ведет к толстяку с цепью:
– Шпиглер, это юный талант, о котором я вам говорил!
Исаак Шпиглер, крещеный еврей, был известным антрепренером, владельцем театральной труппы «Буфф». Антреприза его бывала более удачной, бывала менее, но, независимо от суммы денег в кассе, толстяк всегда снимал лучший номер в лучшей гостинице города. Потому что он был уверен, что, как говорили в старой Одессе и как повторяют сегодня, «понты дороже денег».
Лёдя, подталкиваемый другом Скавронским, подходит к Шпиглеру, учтиво склоняет голову и представляется:
– Утесов. Леонид.
А Шпиглер безо всяких представлений указывает ему место за столом и задает вопрос в лоб:
– Петь умеете?
Лёдя не успевает открыть рот, как Скавронский отвечает:
– Я же говорил: у него бархатный голос!
Волоокая дама-вамп в ажурной шляпе, играя жемчужным ожерельем на груди, замечает:
– Вот и хотелось бы, Скавронский, услышать его голос, а не ваш!
Скавронский шутливо раскланивается:
– Как пожелаете, мадам Арендс!
– Мадмуазель, – кокетливо уточняет дама-вамп и оборачивается к Лёде: – Так что же, мы вас слушаем…
Лёдя благодарно улыбается ей, слегка задумывается и не находит ничего лучшего, чем затянуть шедевр, за который когда-то получил свой первый гонорар:
Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он…
Шпиглер взмахивает пухлой рукой:
– Хорошо, хорошо! Только учтите: ничего оперного вам день грядущий не готовит. Так – водевильчики, куплетики…
– А я еще на скрипке могу, – сообщает Лёдя.
– Скрипки тоже не надо! Короче, вы желаете работать в нашем театре «Буфф»?
– В театре?! – Лёдя задыхается от неожиданности. – Желаю, да!
– Ваши условия?
– Условия?.. Мои?..
– Ну, не мои же, – смеется красавица Арендс, наблюдая мучения Лёди. – Шпиглер, дайте ему семьдесят, он милый мальчик.
– Семьдесят?! – изумляется Лёдя.
Скавронский под столом наступает ему на ногу. А Шпиглер ворчит:
Таких денег я платить не могу. Если он так хорош, как вам кажется, дам шестьдесят пять. И сейчас— аванс.
Шпиглер отстегивает Лёде из толстого портмоне несколько хрустящих купюр.
Лёдя обалдел от счастья. Такая сумма гонорара – из какой-то сказки. Последний раз он получил два рубля за выход со Скавронским в интермедии «Разбитое зеркало». А тут сразу: семьдесят… шестьдесят пять… целое состояние, дивный сон! Но самый прекрасный сон может легко обернуться совсем не прекрасной явью, и потому Лёдя поспешно, чтоб не передумали, исполняет ускоренную комическую пантомиму: нервно прячет деньги, не попадая в карман незнакомых брюк Михаила, энергично трясет пухлую руку Шпиглера, обнимает Скавронского и целует ручку Арендс.
Свободной – не целуемой – рукой актриса приглаживает Лёдины кудри.
– У вас красивые волосы… Знаете, Шпиглер, он подойдет на амплуа героя-любовника.
– Посмотрим, – ворчит толстяк.
– Вы убиваете меня, Жанна! – огорчается Скавронский. – Герой-любовник – это же я!
– Только на сцене… – томно замечает Арендс.
Лёдя раскланивается, как китайский болванчик, во все стороны:
– Спасибо! Спасибо! Всем огромное спасибо! – И спешит на выход.
Но его останавливает Скавронский:
– Лёдя! Потратьте аванс с пользой – купите себе фрак.
– Зачем? – удивляется Лёдя.
– Вам придется играть графов и лакеев. И те, и другие в водевилях ходят во фраках.
– Сейчас же куплю! – обещает Лёдя.
Арендс смеется низким хрипловатым смехом:
– И костюмчик купите. Этот вам не совсем впору…
Лёдя растерянно одергивает полы костюма брата.
А дома разъяренный Михаил мечется в нижнем белье: у него через час встреча с управляющим банка, а его замечательный новый костюм куда-то исчез. Папа Иосиф бессмысленно перерывает небогатый набор вещей в шкафу, как будто костюмчик мог затеряться в этом пространстве. А мама Малка лезет под кровать и достает оттуда скомканную одежду.
– Это Лёдька!
Брат Михаил воздевает руки к потолку:
– О, боже! Из-за этого шлемазла я погорю на службе! Скотина!
– Монечка, – укоряет папа Иосиф, – это все ж таки твой брат…
– Это не брат! Это наказание господне!
Если пройти по Тираспольской улице вверх до Старопортофранковской, то эта дорога приведет на площадь, которую одесситы называли «толчок» или «толкучка». И то, и другое наименование исчерпывающе описывало место, где с утра и до вечера толклись желающие продать и мечтающие купить. Причем и те, и другие проявляли гениальное умение торговаться – естественно, каждый в свою пользу.
Лёдя бредет вдоль ряда торговцев одеждой. Его окликает интеллигентного вида продавец:
– Мусье, что вы желаете приобрести?
– Фрак, – не без гордости сообщает Лёдя.
– О, фрак – это вам не пальто! – уважительно кивает интеллигент.
Его коллега – дядька попроще – немедля встревает в разговор:
– Какое пальто? Пальта нету.
– Что он говорит? – откликается третий продавец. – Он говорит, что у него нет пальта? Это прямо-таки смешно: не иметь пальта для такого милого студентика!
– Я не студент, – уточняет Лёдя.
Вот и я думаю, откуда у студента средства на такое шикарное пальто, как я имею предложить? Вот, с диагоналевой подкладкой дубль-фас! Прямо с Парижа! А ну, прикиньте, мусье…
Продавец набрасывает пальто на Лёдю, сдувая невидимые пылинки с видавшей виды одежки.
– Да не нужно мне пальто! – отбивается Лёдя.
Может быть, вы беспокоитесь, что оно станет вам слишком дорого? Так не волнуйтесь, мы договоримся! Яша, поможи!
Вдвоем с помощником продавец втискивает Лёдю в пальто.
– Да оно мне широко…
– И где?! – Продавец собирает в кулак пальто сзади. – А ну, попробуйте застегнуть.
– Не застегивается… Узко…
– А теперь? – Продавец отпускает пальто.
– Теперь – широко…
– Так я ж говорю: это не пальто, а сказка! Вам надо – оно узкое, не надо – широкое!
Лёде все-таки удается освободиться от пальто.
– Я хочу купить не пальто, а фрак!
– Что вы капризничаете, где я вам возьму фрак? Что у меня тут – оперный театр?
Лёдя спасается бегством из ряда верхней одежды и оказывается шляпном ряду. Его тут же цепляет торговец с широкополой шляпой из мягкого фетра:
– Вот эту вещь вы надеваете, так любой банк дает вам кредит! А ну, накиньте на головку!
Лёдя не удерживается и водружает роскошную шляпу на голову. А торговец отворачивается от него и приказывает мальчишке-посыльному:
– Бежи на склад, возьми еще партию этих шляп, скажи: забрали последнюю!
Затем он поворачивается к Лёде и озабоченно смотрит поверх его головы.
– Слушайте, а где тот жлоб, шо мерил шляпу?
Лёдя доверчиво клюет на простенькую приманку:
– Это же я…
– Нет, – качает головой продавец, – тот был такой простой парень…
– Да я это, я! – продолжает клевать на его удочку Лёдя.
Продавец отступает на шаг, картинно закатывает глаза:
– Не может быть! Князь, ей-богу, князь! В этой шляпе вы можете идти на прием к самому градоначальнику!
И дальше по толкучке Лёдя идет уже в новой шляпе.
Наконец он набредает на сидящих в тени под деревом старичка и старушку. Старушка держит на коленях облезлый страусовый веер и шелковые бальные туфли. Она спит. А над старичком на ветке дерева покачивается поношенный фрак.
– Сколько стоит фрак? – интересуется Лёдя.
– Сколько стоит? – вздыхает старичок. – Всю мою жизнь! – но потом все-таки уточняет: – Десять.
И начинается великая одесская торговля.
– Десять… чего? – удивляется Лёдя.
– Чего? Рублей! – оживляется старичок.
– А-а, я думал – копеек…
Лёдя делает вид, что уходит. Старичок его останавливает:
– Ну, пять!
– Чего?
– Рублей.
– Два!
– Чтоб вы были так здоровы за такие деньги!
– Хорошо, еще пятьдесят…
– Чего – пятьдесят?
– Копеек.
– Чтоб вы так ночью видели солнце!
– Могу дать еще рубль.
– Можете. Но на фрак вам не хватит.
– Ну, полтора.
– Давайте руку, и на четыре мы покончим!
– Я не знаю никакие четыре! Скиньте хоть рубль…
– Скидаю рубль. Но – пополам.
– Уже договорились!
Вспотевшие, но довольные торговлей партнеры производят обмен денег на фрак.
А старушка вдруг просыпается и кричит вслед уходящему Лёде:
– Купите веер, молодой кавалер! Хороший веер! Почти новый…
Дома мама Малка властно утихомиривает все еще бушующего Михаила:
– Прекрати геволт! Я тебе одолжу костюм у Бени-парикмахера.
Миролюбивый папа Иосиф радуется любому выходу из положения:
– Вот! У Бени таки справный костюм!
Но пойти к Бене мама не успевает – появляется сияющий, как новая монета, Лёдя в довольно странном наряде – фрак и широкополая шляпа. По мышкой у него бумажный сверток.
Папа с мамой застывают в изумлении. Михаил бросается к брату:
– Шлемазл! Где мой костюм?
Лёдя отдает ему сверток:
– На! Я такой фасон не ношу!
– Лёдя… а что это… на тебе? – лепечет папа.
– Что-что – фрак! Получил деньги – и купил.
– Какие деньги?.. Где ты их получил? – спрашивает мама.
– Ну, где я могу получить деньги? – Лёдя снисходительно улыбается такой наивности: – Конечно, в театре!
Провинциальная театральная жизнь начала века. Комедии и трагедии, драмы и водевили… Все страсти в них изображались крайне преувеличенно. Если слезы, то в три ручья, если смех, то до колик. И зрители откликались такими же бесхитростными, порой до примитива, но очень искренними эмоциями.
Лёдя впервые едет на гастроли – в поезде с театром «Буфф». Он уже ощущает себя своим в компании, собравшейся в купе. Ну, не совсем, конечно, на одной ноге с бывалыми актерами, но все же довольно свободно поддерживает разговор, удачно отвечает на их театральные байки своими одесскими анекдотами, а когда Скавронский протягивает ему бокал вина, Лёдя бокал принимает.
На это немедленно реагирует волоокая вамп Арендс:
– Что я вижу? Вы, наконец, решили стать испорченным мальчиком?
– Ваше общество пьянит сильнее, чем вино! – выпаливает Лёдя.
– Ого! – смеется актриса – Вы еще и выбиваетесь в донжуаны? Дамам следует вас опасаться!
Нет, все-таки светская львица, от одного взгляда которой Лёдя то бледнеет, то краснеет, а в общем – любовно млеет, ему пока что не по зубам. Он смущается и, не умея еще фехтовать репликами в подобных беседах, принимает традиционное спасительное решение – выпивает бокал до дна.
А вниманием компании завладевает лохматый мужчина:
– У нас поставили Белохолмского. Одно представление, второе, пятое… Автор прибегает в дирекцию и кричит: «Вы что, нарочно мою пьесу в репертуар ставите, когда публики нет?»
Слушатели смеются. А лохматый продолжает:
– А как-то Костя с Володей поссорились. Костя говорит: «Как ты смеешь всем говорить, что я – бездарь!» А Володя ему: «Ну, извини, я не знал, что это – твоя профессиональная тайна!»
Все опять смеются. Арендс, подсаживается поближе к Лёде. Он спрашивает у нее шепотом:
– А кто эти… Костя и Володя?
– Станиславский и Немирович-Данченко, – шепчет она в ответ.
Лёдя изумленно косится на лохматого:
– А кто же он? Тоже режиссер?
– Берите выше! Это Коля Литвинов, по прозвищу Пушок. Про Станиславского он, конечно, привирает, но Пушок – тоже важный человек. Суфлер!
– Суфле-ер, – пренебрежительно тянет Лёдя.
– Наивный юноша, от суфлера очень многое зависит. Каждые два дня – новая пьеса, выучить роль наизусть – никакой возможности. А суфлер подскажет… или нет. Так что постарайтесь ему понравиться.
– Я бы предпочел понравиться вам! – восклицает Лёдя.
Арендс смеется своим волнующим хрипловатым смехом. В купе заглядывает сморщенный старичок:
Коллеги! Нельзя ли потише? Некоторые люди в это время уже отдыхают!
Изложив свое требование скрипучим голосом, старичок удаляется.
Арендс предупреждает очередной вопрос Лёди:
– Это наш куафер.
– А кем работает… Куафер?
– Куафер – не фамилия, а как раз работа. – Арендс безо всякого стеснения треплет вихры Лёди. – Вот когда он завьет вам волосы так, что до старости не распрямите, тогда и поймете, кто такой куафер!
Шпиглер отбирает у Скавронского бутылку:
– Вам хватит!
– Да что вы, я – как стекло!
– Причем очень хрупкое. Если вы на гастролях разобьетесь…
– Исключено! Я же кремень!
– Стекло… Кремень… Да будьте вы просто человеком! – устало вздыхает Шпиглер.
Потом в отдельном купе происходит то, что рано или поздно должно было произойти. Лёдя барахтается в шелковом и кружевном ворохе платья Арендс. Она смеется хрипло и призывно:
– Мальчик… Милый мой мальчик… Погоди, я сама, сама расстегну… Ой, осторожно, порвешь… Ну, иди же, иди сюда скорее…
Лёдя падает в объятия умелой искусительницы.
Не слишком большой, но и не малый, а главное – любимый театральными гастролерами город Кременчуг. Довольно много каменных домов, но по преимуществу деревянные, огороженные потемневшими заборами.
На одном заборе висит афиша:
Сегодня будет представлена
пьеса «Отелло» Вильяма Шекспира —
любимца кременчугской публики!
Под афишей свинья сосредоточенно чешет бока о забор.
На сцену под аплодисменты выходят в финальном поклоне Скавронский – Отелло, Арендс – Дездемона, Ирский – Яго. А Лёдя в костюме шута стоит во втором ряду, где топчутся Кормилица, Эмилия и другие второстепенные персонажи бессмертной трагедии.
– Автора! Автора! – скандирует публика.
Артисты поклонились и ушли, а публика все требует:
– Ав-то-ра! Ав-то-ра!
Появляется Шпиглер и сообщает:
– Почтенная публика! Автор не может выйти, потому как он уже умер.
Наивная публика – та самая, любимцем которой, по утверждению афиши, является Шекспир, при известии о его кончине сочувственно затихает. Одна дама даже утирает глаза платочком.
За кулисами Шпиглер объявляет:
– Господа артисты! Завтра – водевиль «Игрушечка». Граф Шантерель – Ирский, граф Лоремуа – Утесов. Роли возьмете у Пушка.
Арендс, проходя мимо Лёди, волнующе шепчет:
– Жду вас после ужина…
– Да-да, конечно! Жанна, а кто этот граф Лоремуа?
– Обыкновенный рамоли.
– Рамоли?..
– Ну, противный старикашка, лет под восемьдесят…
– Восемьдесят?! – ужасается Лёдя.
Да, но он очень любит хорошеньких молоденьких девушек, – Арендс взмахивает газовым шарфиком Дездемоны перед носом Лёди, – и совершенно равнодушен к хорошеньким молоденьким мальчикам!
Она удаляется, оставляя юношу в полном недоумении.
Весь день Лёдя проводит в муках: как ему, мальчишке, играть восьмидесятилетнего старика? Он усиленно горбится, ходит шаркающими мелкими шажками, прихрамывает, пытается бормотать невнятным старческим голосом, потом решает, что граф подслеповат, и принимается ходить по комнате, натыкаясь на предметы.
Так ничего и не придумав и придя от этого в отчаяние, Лёдя вечером перед спектаклем надевает фрак с черной бабочкой и усаживается в гримерной, безнадежно глядя на себя в зеркало. Потом сжимает лицо, чтобы оно покрылось морщинами, но, разумеется, как только он убирает руки, лицо снова разглаживается.
Входит старичок-куафер и подает Лёде парик-лысину. Лёдя вертит его, не зная, что с ним делать. Куафер отбирает парик и умело водружает его на голову Лёди.
– Спасибо! – облегченно благодарит юноша.
– Учитесь обходиться сами, – скрипит куафер. – Мое дело – только приготовить парик. И смените бабочку!
– Зачем?
– Бабочка отличает графа от лакея. У лакея она – черная, у графа – белая.
– Спасибо! – еще горячее благодарит Лёдя.
А куафер неожиданно улыбается, и голос его теряет скрипучесть:
– Не волнуйтесь. У каждого бывает первая роль.
Он уходит, а в гримерную вбегает тоже молодой, но более опытный актер Ирский, играющий второго графа.
– Ты чего не гримируешься? До начала – полчаса!
– Сейчас, сейчас, – бормочет Лёдя.
Ирский принимается за грим. Лёдя не в силах признаться, что не умеет этого делать, и находит спасительный выход – просто повторяет все то, что делает партнер.
Ирский рисует морщину на лбу. Лёдя рисует такую же.
Ирский наводит чахоточный румянец на щеки. Лёдя поступает так же.
Ирский приклеивает кудрявые бачки. Лёдя делает то же самое.
А потом на сцене появляются внешне абсолютно одинаковые, как близнецы, два графа – два старичка на полусогнутых дрожащих ногах.
Публика в зале смеется уже только от одного этого сходства.
Пушок в суфлерской будке хихикает и показывает артистам большой палец.
И Арендс – в роли горничной – с трудом удерживает смех, пряча лицо в бутафорском букете, который она несет к столику с вазой.
– Ах, какой милый розанчик! – блеет Лёдя, граф Лоремуаль
– Это не розанчик, ваше сиятельство, это, изволите видеть, ромашки! – кокетничает Арендс.
– О да, ромашки, какие ромашечки! – Лёдя наводит лорнет на вырез платья Арендс, тоже украшенный цветочками.
– Ваше сиятельство, вы меня смущаете! – хихикает горничная.
– Это вы меня смущаете, моя милая! – напирает на нее граф.
– Что вы пристаете к моей горничной? – вмешивается второй граф, Ирский. – В вашем возрасте такие волнения вредны для здоровья!
– Какой возраст? – возмущается Лёдя. – Я моложе вас!
– Ах, на целых три часа! – насмешничает Ирский.
– Да, но за это время до вашего рождения я успел соблазнить мою кормилицу! – победно завершает Лёдя.
Благодарная публика хохочет.
А назавтра Лёдя носится по театру, размахивая местной газетой.
– Читали? – налетает он на Скавронского. – Вот: «Недурно играли Ирский и Утесов». Читали?
– Это успех, – снисходительно похлопывает его по плечу Скавронский.
Счастливый Лёдя бежит дальше. И тычет всем под нос газету.
В гримерной – куаферу:
– Вот, вот: «Недурно играли Ирский и Утесов»…
В суфлерской будке – Пушку:
– Недурно! Понимаете: не-дур-но!
Последний вариант Лёдя уже выпевает, как песню, в номере Арендс.
– Неду-урно-о игра-али И-ирски-ий и Уте-е-есов!
– Мальчик мой, ты так возбужден…
– Но это же первая в моей жизни рецензия! Первая!
– Да, нужно это отметить…
Обольстительная дама обвивает руками шею Лёди. Газета с первой рецензией падает на пол из его слабеющих рук.
Раз в неделю Шпиглер раздает жалование артистам. Вручает конверт и Лёде.
Лёдя отходит в сторонку, заглядывает в конверт, но жалование из его рук нагло выхватывает Пушок. Суфлер оценивает сумму и заявляет, что новоявленному премьеру совершенно необходимо отметить свою первую сценическую викторию.
Лёдя растерян, не зная, как отказать и без того вечно пьяному Пушку. Но скользнувшая к ним Арендс, как ни странно, поддерживает суфлера, убеждая Лёдю, что первый успех следует обмыть непременно. Лёдя предполагает, что они хотя бы сделают это втроем, но Арендс ссылается на разыгравшуюся у нее мигрень. И уже потом, наедине, напоминает Лёде то, что уже объясняла ранее: нельзя ссориться с Пушком, потому что от суфлера зависит очень и очень многое в спектакле. Так что надо потерпеть, милый Лёдя, надо потерпеть.
И Лёдя терпеливо выслушивает в ресторане, как уже изрядно захмелевший Пушок третий час травит свои байки.
– Иду я по Кузнецкому с Колькой, встречаю Пашку и Мамонта. Желаешь, говорят, с нами выпить? Только свернули на Дмитровку – на глаза нам Костя. Ты-то, говорит, как раз мне и нужен. И стал меня уговаривать: «Переходи в мой в театр! Ты же талантище!»
– Костя – это Станиславский? – догадывается Лёдя.
– А кто же еще!
– А Пашка и этот… Мамонт?
– Ясное дело: Орленев и Мамонт-Дальский.
– А Колька?
– Надоел ты со своими расспросами! Кто Колька, кто… Ну, считай – император Николай Второй!
Лёдя изумлен. Пушок машет официанту:
– Человек! Еще икры и водки!
Лёдя не без напряжения поглядывает на уже опустошенные графины и блюда. Пушок обнимает его за плечи.
– Ты – талант, какой редко встретишь! Поверь, я ведь всех знаю… Тебя ждет большая сцена! Пора, пора тебе в Москву, в Петербург…
Несмотря на явную алкогольную подоплеку этих комплиментов, Лёдя – как и любой тщеславный актер – принимает их за чистую монету и расцветает:
– Спасибо! Очень тронут вашими словами! Но я, увы, не могу в Москву…
– Что значит – не могу? Трусишь?
– При чем здесь трусишь… Черта оседлости.
– Какая еще к чертям черта!
– Ну, евреи не имеют права жить в больших городах.
– Все-все евреи? – удивляется Пушок.
– Кроме купцов первой гильдии, врачей, адвокатов… И проституток
В мутных глазах Пушка ощущается тяжелое движение мысли.
– Ну, для купца у тебя кишка тонка… Врач, адвокат – тоже… Выходит, тебе остается одно…
– Чего-о? – гневно приподнимается Лёдя.
– Ты что, что! – Пушок стучит себя кулаком по лбу. – Остатком ума тронулся? Я имею в виду, тебе остается одно: крестись – и езжай, куда хочешь!
– Нет.
– Почему? Бог-то один!
– Бог один, но и отец у меня один. Не могу я его предать. Да и врать не хочу – ни ему, ни себе! – Лёдя указывает пальцем в небо, а потом тычет себе в грудь.
Официант приносит заказ – икру и водку. Пушок наполняет рюмки и пьяно всхлипывает:
– Ты дурак! Но – благородный. Уважаю!
Суфлер залпом выпивает и от переизбытка чувств лезет целоваться с Лёдей. Но на полпути вдруг останавливается и вскидывает палец:
– Вспомнил! Ну да, точно! Мы же ставили в Жмеринке «Честь за честь».
Несмотря на опьянение Пушок не просто цитирует, а еще и актерски разыгрывает монолог героини: «Прости меня, бедная моя мамочка! Я зарегистрировалась как проститутка, чтобы поехать учиться в Петербург… Я хочу стать доктором, мое призвание помогать людям… И за эту высокую честь я жертвую своей честью!»
Пушок всхлипывает, роняет голову на стол и тут же издает могучий храп.
Официант подходит к Лёде:
– Я полагаю, счет следует подать вам?
Лёдя со вздохом лезет в карман.
На следующий день в театре дают водевиль «Теща в дом – все вверх дном».
Арендс – в пышных юбках купчихи – произносит реплику:
– Дорогой зятек, какой прекрасный нынче денек!
И выжидающе косится в суфлерскую будку. А там спит еще хмельной после вчерашнего Пушок, свесив голову на грудь. Актеры как могут тянут паузу.
– Да-а, день прекрасный… – говорит зять-Лёдя.
– Редко выдаются такие замечательные деньки… – вторит сосед-Ирский.
В суфлерскую будку врывается Шпиглер, трясет Пушка, тот вскакивает, не понимая, что происходит, и листки с текстом пьесы рассыпаются по полу. Пушок и Шпиглер ползают на четвереньках, сталкиваясь лбами, и собирают пьесу.
На сцене Лёдя пытается как-то двинуть действие дальше:
– А мама-то упала с балкона! – И добавляет безнадежно: – Причем в такой прекрасный денек…
Публика смеется. А на сцене снова тягостная пауза.
Тем временем Пушок, собирая страницы, опять сталкивается лбом со Шпиглером, и вскрикивает:
– Черт, ну, что за дурацкий день сегодня!
Ирский, обрадовавшись поданной суфлером реплике, послушно повторяет за ним:
– Черт, ну что за дурацкий день сегодня!
– Да, совершенно дурацкий! – вторит ему Лёдя.
И опять на сцене пауза.
Шпиглер находит нужную страницу, сует ее Пушку и уходит. А Пушок радостно восклицает:
– Нашел восемьдесят третью страницу – играйте!
– Нашел восемьдесят третью страницу – играйте! – звонко объявляет Ирский.
Арендс и Лёдя смотрят на него, как нас сумасшедшего.
А Пушок, желая смочить пересохшую глотку, хватает стакан, но тот пуст.
– Ни одна сволочь чаю не принесет! – рычит Пушок.
– Ни одна сволочь не принесет чаю! – патетически восклицает Арендс.
Лёдя ломается пополам от еле сдерживаемого от хохота.
Пушок, наконец, приходит в себя и шипит:
– Да не то! Не то! – и читает по тексту: – «Если бы не моя мама, даже имение пошло бы с молотка!»
– Не то что имение, даже моя мама пошла с молотка! – восклицает Ирский.
Пушок выразительно вертит пальцем у виска.
Лёдя тоже послушно крутит пальцем у виска Арендс.
– Да как вы смеете! – не по роли, а от себя возмущается Арендс.
А Пушок в будке машет новой страницей:
– О! Вернемся к прошлому – нашел шестьдесят вторую!
– Вернемся к прошлому, – бормочет Лёдя, косясь на разъяренную Арендс. – Я нашел шестьдесят вторую…
– Кого – шестьдесят вторую? – визжит Арендс.
– Маму?.. – растерянно предполагает Лёдя.
А Пушок отыскал нужную страницу и счастливо сообщает:
– Дорогой зятек, какой нынче прекрасный денек!
– Это я уже говорила! – топает ножкой Арендс.
– Ну, тогда скажите, что денек ужасный! – обижается Пушок и швыряет собранные с таким трудом страницы многострадального текста.
Взбешенный Шпиглер собственноручно опускает занавес.
Но зрители, как ни странно, с энтузиазмом аплодируют всей этой водевильной белиберде.
Всклокоченный и мрачный Пушок поджидает Лёдю у выхода из театра.
– Шпиглер, скотина, уволить грозится! Да ладно, меня Станиславский звал! Пойдем скорей, здоровье поправим…
– Но у меня нет денег.
– Чего? – морщится Пушок.
– Вы же… то есть, мы же вчера… все пропили… то есть проели…
Пушок, покачиваясь на нетвердых ногах, уничижительно смотрит на Лёдю.
Черт знает что! Всякое дерьмо на сцену лезет! Никакого благородства!
И суфлер удаляется, полный ледяного презрения к Лёде.
А из театра выкатывается сердитый Шпиглер:
– Где Скавронский?
– Не знаю… Видел его вчера…
– А со вчера его никто не видел! Болван!
– Скавронский? – уточняет Лёдя.
– Нет, я – старый доверчивый болван! А Скавронский – алкоголик!
– Вроде не похож…
– Откуда вы знаете, похож – не похож!
– У нас на Слободке был сапожник Юсупка – алкоголик, так по нему сразу было видно…
Запомните, юноша: от артиста до сапожника – всего пара лет пьянства! – Шпиглер ослабляет галстук, тяжело дышит. – А на завтра бенефис объявлен – «Разведенная жена». Все билеты раскупили… Что делать?!
Огорченный Шпиглер направляется к входу театра.
Лёдя робко останавливает его:
– А что если… а можно… а я за Скавронского сыграю?
– Ой, не смешите! Как это вы за него сыграете?
Шпиглер опять хочет уйти, но Лёдя, уже вдохновленный своей идеей, удерживает его за руку:
– Пожалуйста! Ну давайте, ну попробуем, я смогу!
Шпиглер смеривает Лёдю долгим взглядом.
– А ну, пойдемте!
Они идут в театр, разговаривая на ходу:
– Вы что, все арии его знаете?
– Знаю!
– И дуэт?
– И дуэт!
– А танцы?
– И танцы! Я же на всех репетициях был…
В костюмерной Арендс примеряет вуалетку. Шпиглер за руку выводит Лёдю пред ее ясны очи.
– Жанна! Этот юноша заверяет, что способен заменить в «Разведенной жене» вашего Скавронского.
– Во-первых, Скавронский не мой, – холодно отрезает Арендс, затем взгляд ее теплеет: – Но во‐вторых, этот юноша действительно на многое способен.
– Большой риск! – восклицает Шпиглер.
– А кто не рискует, тот не пьет шампанского! – Арендс отбрасывает вуалетку и предлагает Леде: – Дуэт из второго акта. На маскараде.
– Муж и жена под масками не узнают друг друга? – уточняет Лёдя.
– Да-да. Готовы?
– Готов!
Арендс и Лёдя, используя подручные средства костюмерной – шарфик, боа, шляпка, поют и танцуют зажигательный дуэт.
КАРЕЛ-ЛЁДЯ
Вдруг Домино походкою проворной
Спешит к кому-то в тесноте.
И хоть лицо прикрыто маской черной,
Твердило все о красоте.
Пред кавалером элегантным стала
И на ушко шепнула так:
«Сегодня я в газете прочитала,
Что был расторгнут по суду твой брак».
Тот ей в ответ: «О, да, Амур!»
И взял ее на вальса тур…
Потанцуем, чтоб я мог
Передать их диалог.
ЯНА-АРЕНДС
Можно! Можно! Можно!
КАРЕЛ
Так ты танцуешь, словно жена.
Ты вальсируешь, словно жена…
Так ты пикантна, словно жена.
Глазки у маски, как у жены.
Держит головку так, что сноровку
Узнал сразу жены!
Блистательный дуэт Арендс и Лёди завершается уже не в костюмерной, а на сцене театра:
ЯНА
А после танцев ужин в кабинете,
Сидят вдвоем на канапе.
Готов забыть он с нею все на свете,
Хватив бутылки две фраппе.
Горят глаза, ждет от красотки ласки,
Твердит, должна понять сама,
Что нам с тобой не нужны больше маски,
Я от тебя, как видишь, без ума.
Она ж заботливо в ответе: «О, нет, мой друг!»
И слышит звуки вальса вдруг…
Потанцуем, передам
Все, что говорилось там.
КАРЕЛ
Охотно! Охотно! Охотно!
ЯНА
Так ты танцуешь, как мой супруг.
Ты вальсируешь, как мой супруг.
Так элегантен, как мой супруг.
Так ты пикантен, как мой супруг.
Страсти во власти, как мой супруг.
Ты обнимаешь и опьяняешь
Совсем, как мой супруг!
Бенефис Лёди решено отметить тем же вечером в ресторане. Коллеги, как только что публика в зале, рукоплещут Лёде и вручают ему цветы, поздравляют его и предрекают большое будущее юному таланту.
Шпиглер подает Лёде сверток в шелковой бумаге с ленточкой в качестве презента от всей труппы на долгую память. Лёдя в радостном нетерпении разворачивает сверток. Там – серебряный портсигар и коробок спичек в серебряной же оправе.
Лёдя смущенно вертит подарок и душевно всех благодарит, хотя при этом замечает, что он не курит. Арендс утешает его, напоминая, что совсем недавно он и не пил. Артисты смеются. Пушок наполняет свой бокал и снисходительно-примирительно предлагает выпить за истинный талант, в мощности которого он, Пушок, оказывается, ни минуты не сомневался. Все выпивают. И Лёдя – до дна. Хотя он и так уже вполне навеселе.
И когда коллеги просят его спеть, он не заставляет себя долго упрашивать, берет свою гитару и выдает душераздирающий романс:
Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и жалких на вид,
Тихо плететесь вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит.
Были когда-то и вы рысаками,
И кучеров вы имели лихих.
Ваша хозяйка состарилась с вами,
Пара гнедых, пара гнедых.
Лёдя берет пару страстных аккордов на гитаре и продолжает, влюбленно глядя на Жанну Арендс:
Грек из Одессы, еврей из Варшавы
Юный корнет и седой генерал,
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у нее засыпал.
Где ж вы теперь, какой новой богини
Ищете вы в идеалах своих?
Вы, только вы и верны ей поныне,
Пара гнедых, пара гнедых.
Красавица Арендс только загадочно посмеивается, не разделяя страстей Лёди и не усматривая никаких аналогий между собой и героиней его песни. А Лёдя, наивный влюбленный Лёдя еще больше распаляется от ее загадочной улыбки.
Тихо туманное утро в столице,
Улицей медленно дроги ползут.
В гробе сосновом останки блудницы
Пара гнедых еле-еле везут.
Кто ж провожает ее на кладбище?
Нет у нее ни друзей, ни родных…
Несколько только оборванных нищих
Да пара гнедых, пара гнедых.
Лёдя напоследок ударяет по струнам, и в воздухе дрожит, постепенно уплывая, прощальный аккорд. Коллеги аплодируют Лёде. Он польщенно раскланивается, пытаясь поймать взгляд Арендс. Но взгляд ее устремлен в другую сторону – от соседнего столика к театральной компании направляется бравый офицер.
Он отвешивает поклон Арендс и просит почему-то у Шпиглера разрешения пригласить даму на вальс. Лёдя мгновенно петушится и сообщает офицеру, что, во‐первых, это его, Лёдина, дама. На что офицер насмешливо раскланивается и просит у юноши «пардона». Но Лёдя не унимается и сообщает, что, во‐вторых, его дама танцует только с ним.
Но тут уже Арендс величественно поднимается из кресла и в тон Лёде сообщает, что, во‐первых, она – ничья дама, а во‐вторых, она танцует с тем, с кем хочет. Актриса кладет руку на плечо офицера, он приобнимает ее за талию, и они уносятся в ритме вальса.
У обиженного Лёди по-детски дрожит подбородок.
Арендс и офицер танцуют блистательно. Он что-то шепчет ей, она кокетливо смеется.
Лёдя бухает себе в бокал коньяка. Шпиглер придерживает его руку, напоминая свое недавнее предостережение, что от артиста до сапожника – всего лишь… Но Лёдя, не дослушав его, выпивает залпом коньяк. И глаза его лезут на лоб. Причем не только от коньяка, а еще и от того, что он видит, как Арендс под ручку с офицером направляются к выходу.
Всю ночь Лёдя бродит по гостинице, ежеминутно и безответно стучит в номер Арендс, потом снова бродит, проклиная коварную соблазнительницу, выстраивая воспаленным мозгом планы жестокой мести, а затем великодушного прощения.
Остаток ночи он мечется по переулку, с надеждой вглядываясь в каждого входящего в гостиницу и бросаясь навстречу каждому подъехавшему экипажу.
Рассвет застает Лёдю, продрогшего до судорожного стука зубов, сидящим на ступенях гостиницы. Пытаясь согреться, он хлопает себя по груди, по бокам. В кармане что-то звякает. Лёдя достает только что подаренные портсигар и спички, несколько секунд тупо смотрит на них, потом решительно, но неумело закуривает и закашливается.
К гостинице подкатывает открытая пролетка. Лёдя ошеломленно наблюдает, как из пролетки выпрыгивает знакомый офицер, подает руку Арендс, она выпархивает к нему в объятия, но не задерживается в них, а посылает кавалеру воздушный поцелуй и направляется в гостинцу.
Лёдя вскакивает со ступеней преграждает ей путь. Актриса фальшиво играет удивление:
– Мальчик мой, ты не спишь?
Лёдя снова затягивается и мучительно кашляет. Арендс отбирает у него папиросу:
– Не нужно, мальчик, тебе это совсем не идет. Это делается так… – И умело затягивается папиросой сама.
Лёдя с молчаливой болью смотрит на нее. Арендс отбрасывает папиросу, потягивается с ленивой кошачьей грацией:
– Как спать хочется… Спокойной ночи!
– Подожди! Я ждал тебя!
– Зачем?
А ты не знаешь?! Где ты была? Что вы с ним делали?
Лёдя чуть не плачет.
Арендс устало равнодушна:
– Слишком много вопросов…
– Пойдем к тебе!
Лёдя пытается ее обнять, но она отстраняется:
– Не стоит, милый… Еще надо собраться, театр завтра уезжает в Москву…
– Театр – да! Но ты… ты же обещала, что мы вернемся в Одессу! Что будем вместе играть…
Арендс хрипловато смеется:
– Ах, мало ли что обещают в порыве страсти! Ну разве можно сравнить – Одесса и Москва…
– Но ты же знаешь, я не могу ехать в Москву!
– Сочувствую, но…
– Хорошо, я подделаю паспорт!
– Не говори глупостей…
– Я… Я… покрещусь!
– Мальчик, ты явно выпил лишнего.
Арендс поднимается по ступенькам гостиницы. Лёдя плетется за ней.
– Но как же … Как?!
– Я буду вспоминать тебя, – искренне обещает Арендс.
– Но мы же… Мы так близки!
– Не стоит принимать всерьез обычный театральный роман.
– Не говори так! Ты просто шутишь, да? Шутишь?
Лёдя снова пытается обнять Арендс. Она уклоняется. Он хватает ее за платье. Она его отталкивает. Он едва не падает, цепляясь руками за ее шаль. Она вырывается и убегает в гостиницу. Лёдя остается с шалью в руках. Прижимает ее к лицу и бессильно опускается на ступени.
Утром на перроне вокзала одиноко застыл Лёдя.
Артисты машут ему из окон еще стоящего поезда. Ирский и Пушок тащат к вагону нетранспортабельного артиста Скавронского. Тот, заметив Лёдю, хочет что-то сказать, но лишь взмахивает рукой и покорно дает затолкать себя в вагон.
Раздается гудок паровоза. Артисты еще активнее машут Лёде. Он не машет в ответ, он лишь бормочет сквозь стиснутые зубы:
– Ничего! Вы еще про меня услышите! Все вы услышите!
В окне показывается Арендс под ажурной шляпой с большими полями. Она смотрит на Лёдю. Тот отворачивается и шагает прочь. Поезд снова гудит и медленно трогается.
Лёдя уходит по перрону, ссутулившись, засунув руки в карманы пальто, один – против движения поезда…
Глава четвертая
«Скажите, девушки, подружке вашей…»
МОСКВА, ТЕАТР ЭСТРАДЫ, 23 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА
Разбавляя процессию поздравляющих юбиляра маститых корифеев искусства, на сцену выпускают и подающую надежды творческую молодежь. Ведущий Туманов объявляет:
– Дорогой Леонид Осипович! Вас пришли поздравить молодые артисты.
– Шо, еще моложе, чем я? – удивляется Утесов.
– Нет-нет, моложе вас – никого! – заверяет ведущий. – Скажем лучше так: ваши ровесники. Точнее – ровесницы. Студентки Щукинского училища!
На сцену выпархивает стайка симпатичных девушек с большим бутафорским самоваром. На груди у каждой – табличка: «Маша», «Даша», «Наташа», «Глаша»…
Они ставят самовар перед Утесовым и поют, соперничая друг с другом, борясь за место рядом с юбиляром:
У самовара – вы и ваша Маша!
Да нет, совсем Наташа возле вас!
А вам заварку заварила Саша!
А вот лимончик Даша вам подаст!
Глаша чаю наливает!
А взор Марьяши много обещает!
У самовара вы и ваша… ваша…
Ну кто же – ваша? Ждем от вас ответ!
Девушки пускаются в пляс вокруг Утесова.
А он улыбается, вспоминает…
Одесса, 1913 год
В одесском кабаре Лёдя поет эту же песню и отплясывает канкан с лихим девичьим кордебалетом.
У самовара – я и моя Маша,
А на дворе совсем уже темно.
Как в самоваре чай, кипит страсть наша.
Смеется месяц весело в окно.
Немало воды утекло в жизни Лёди с того печального утра на вокзале, когда поезд увозил коварную красавицу Арендс в недоступную для бедного еврейского артиста Москву, а он шептал вслед: «Ничего! Вы еще про меня услышите!»
Нельзя сказать, что про него уже услышала Москва и тем более вся страна. Но в Одессе Утесов – это уже имя. Лёдя не робкий новичок, а опытный артист, ведущий себя на сцене легко и свободно. Да и у публики он уже стал любимцем, судя по аплодисментам и цветам, которые летят к Лёде из зала.
Маша чай мне наливает,
И взор ее так много обещает.
У самовара я и моя Маша —
Вприкуску чай пить будем до утра!
Закончив песню, Лёдя спускается с эстрады к столику, где гуляет шумная компания его приятелей. И здесь Лёдя – тоже совсем другой, не романтичный влюбленный, а бывалый донжуан: алая шелковая рубаха навыпуск, шальной блеск в глазах, в одной руке бокал шампанского, в другой – гитара с бантом. На колени к Лёде усаживается девица в чулках с подвязками, выглядывающими из-под пышной юбки. Здесь же и старый знакомый – хмельной артист Скавронский.
– Эх, Лёдька, куда ж я без Одессы! – роняет он нетрезвую слезу. – Уж как просили: останься в Москве! А я – нет, не могу, в Одессу мне, в Одессу…
– Хорош врать! – смеется Лёдя. – Пил наверняка, вот тебя и вышибли!
– Ну, пил, – не спорит Скавронский. – Ну, вышибли…
– Так выпьем еще, я-то старого друга не выгоню!
Лёдя наливает шампанское Скавронскому, себе и девице на своих коленях.
Но выпить он не успевает – чувствует на себе чей-то взгляд и оборачивается. В дверях ресторана застыла – вся из себя сплошное страдание – юная курсистка в скромном сером платье и в шляпке с вуалькой. Лёдя сбрасывает девицу с колен и с бокалом в руке спешит к гостье:
– Бэллочка!
– Я ждала вас на нашем месте! – восклицает курсистка. – Ждала два часа!
Лёдя свободной от бокала рукой колотит себя в грудь:
Прости, забыл, негодяй, конченый подлец! Ко мне старый друг приехал, и мы тут все – об искусстве, об искусстве… Хочешь шампанского?
Лёдя протягивает Бэллочке бокал. Она гневно отстраняет его руку:
– Я… я думала, вы другой! Я любила вас!
– За любовь! – Лёдя сам выпивает шампанское.
На глазах Бэллочки слезы.
– Я искала вас в театре, но мне сказали… сказали, что вы каждый вечер в… кабаке… с падшими женщинами!
Лёдя удивленно оглядывается на свою веселую компанию:
– Какие же они падшие? Они – служительницы муз!
– Леонид! Вы же обещали любить меня вечно!
И тут Лёдя доказывает, что уроки коварной Арендс не прошли даром. Он произносит ее прощальную фразу:
– Ах, мало ли что можно обещать в порыве страсти!
– Какая пошлость! – вспыхивает Бэллочка. – Какой стыд!
Она убегает. А Лёдя с облегчением возвращается к столу. Но едва он присел, как Скваронский мрачно изрекает:
– Топиться побежала!
– Да ну, – отмахивается Лёдя. – Пугает только…
Девица в подвязках опять забирается к нему на колени и вздыхает:
– Любовь способна толкнуть людей на любое безумство!
– Ты-то откуда знаешь? – удивляется Лёдя.
– А я что – не люди? – обижается она. – Да я три раза травилась, два – резалась! А эти юные и трепетные создания вообще способны на все…
Лёдя секунду размышляет, потом опять сбрасывает девицу с колен и выскакивает на улицу.
На берегу Лёдя видит фигурку девушки, бегущей к пирсу.
Лёдя догоняет ее. Бэллочка, не оглядываясь, спешит на край пирса.
– Бэллочка! Ну что вы, в самом деле? У нас с вами был чудный месяц…
– Не месяц! Не месяц, а тридцать шесть суток и три с половиной часа!
– Да? – искренне удивляется Лёдя.
– Да! А теперь моя любовь… вся моя жизнь… растоптана!
Лёдя вновь повторяет уроки Арендс:
– Милая девочка! Не стоит принимать всерьез обычный летний роман.
– Что?.. Как вы?.. Да как вы можете… Вы! Вы… – Бэллочка захлебывается в словах и слезах.
Лёдя хочет успокоить ее, берет за руку. Но девушка вырывает руку, плотно зажмуривается и прыгает в море.
На волнах колышется ее шляпка с вуалькой.
Лёдя, не задумываясь, ныряет с пирса. Находит Бэллочку, они некоторое время борются под водой, и наконец Лёдя выталкивает девушку на поверхность.
Он выносит бездыханную курсистку на берег, кладет на песок и начинает делать ей искусственное дыхание. Это не помогает, и перепуганный Лёдя прибегает к крайнему средству – дыханию рот в рот.
Бэллочка приоткрывает глаза, брови ее выгибаются изумленной дугой, но Лёдя, поглощенный миссией спасателя, не видит этого. Бэллочка тут же зажмуривается. Лёдя старается все активнее. Бэллочка снова приоткрывает один глаз, не веря своему счастью. Лёдя отрывается от девушки, быстро заглатывает воздух и снова припадает губами к ее губам. Бэллочка обвивает руками шею Лёди:
– Я знала! Я чувствовала! Ты все-таки любишь меня!
Лёдя вырывается из ее рук:
– При чем тут любовь?! Я действую по инструкции спасения на водах!
Белочка меняется в лице. Улыбка сползает с ее лица. И она влепляет Лёде звонкую пощечину. Лёдя замирает на миг, а потом оглушительно хохочет.
Домой Лёдя является только под утро. Голый по пояс, он жадно пьет воду из кувшина, и струйки стекают на его живот. Мама Малка отжимает в тазу алую рубашку, в которой Лёдя спасал Бэллочку, и, не жалея эпитетов, костерит сына:
– Байстрюк! Горе мое! Если вот это все они называют быть артистом, так почему тогда не закрыли все театры? Это где же такое видано: позор на всю Одессу!
К маме подключается папа с традиционной семейной темой:
– У всех дети – как дети! И у нас тоже нивроку… Брат Миша таки имеет приличную работу… Сестры – умницы… ну да, не красавицы… но такие воспитанные, трудолюбивые…
Лёдя опустошает кувшин и заявляет:
– Если все такие хорошие, так и будьте счастливы!
– Мы серьезно, а ему – смех, – огорчается папа Иосиф.
– А что же – плакать? Слез не хватает – все нынче плачутся…
– Плакать-таки приходится нам, – вздыхает мама Малка. – И от соседей стыдно!
– Да что соседи? Вы бы посмотрели, как меня публика принимает…
– Слава богу, мы на такое безобразие не смотрим, – поджимает губы мама Малка.
Папа Иосиф ее поддерживает:
– Между прочим, тетя Дора с Ольгиевской сказала, что ее соседка была на твоем концерте и им никому ничего не понравилось!
Лёдя искренне возмущен:
– Всем нравится, а тете Доре не нравится? Нет, мне нравится эта тетя Дора!
– Это не тете Доре, это ее соседке, – уточняет папа.
Но Лёдя его не слушает, он оскорблен до глубины души:
– Тетя, соседка… Да я каждую шутку до сцены сто раз проверяю – на всех тетях и дядях!
Это правда: Лёдя никогда не позволяет себе выйти на сцену с репризой, которую он не проверил до этого – в своем дворе, на улицах города, в дружеской компании, со случайными знакомыми… Каждый анекдот, каждую байку, каждую одесскую хохму он многократно пересказывает и по результатам пересказа тщательно корректирует, оттачивает, доводит до полного блеска.
Пока чистильщик обуви надраивает его ботинки, Лёдя рассказывает:
– Рабинович, где вы работаете?
– Нигде.
– А шо вы делаете?
– Ничего.
– Слушайте, это таки отличное занятие!
– Да, но какая конкуренция!
Чистильщик смеется. Лёдя доволен.
Следующая подопытная – торговка мелкими вареными рачками на Привозе.
– Скажите, вы часом не с Винницы?
– Нет, я не с Винницы.
– О, так мы с вами – земляки!
– Это как так?
– Ну, я же тоже не с Винницы!
Торговка заливается смехом и насыпает Лёде рачков, как семечки, в бумажный кулек.
А на лавочке у синагоги Лёдя проверяет байку на пейсатом мужчине в черной шляпе.
– Что вы будете делать, если получите миллион долларов?
– Ничего.
– Как?
– А зачем?
Лёдя смотрит на пейсатого в ожидании реакции. Тот озадаченно смотрит на Лёдю. И наконец спрашивает:
– Как – зачем?
– Что – как зачем? – озадачивается и Лёдя.
– Слушайте, кто тут кого спрашивает? Вы передайте этому малахольному, что если он не знает, куда деть миллион, пусть несет ко мне – Израилю Шварцу. Я ему вложу что надо и куда надо. С процентами!
На этот раз смеется сам Лёдя.
Кроме театра и кабаре, Лёдя еще подрабатывает конферансье в городском саду на показе мод. А что, это ведь тот же театр: Лёдя появляется на сцене в щегольском полосатом костюме, соломенном канотье и с тросточкой:
– Дамы и господа! Позвольте прочитать вам небольшую лекцию…
Публика недовольно шумит – не на лекцию она сюда пришла.
– Спокойно! Это ж лекция не о вреде алкоголизма и табакокурения, а на интересующую вас тему. Про моду – от Евы до наших дней!
И Лёдя исполняет куплеты:
Эх, жили наши предки!
Счастливые, как детки!
Не знали ни турнюров,
Ни лент, ни куафюров!
И всех расходов, между прочим, —
Сорвать лишь фиговый листочек!
А что сейчас? Другое дело!
Нам без модисток никуда,
Шелками обвивают тело,
А шелк чулочков – ой, беда!
И от расходов – если б знали,
Так вы б, наверное, упали!
В финале куплетов Лёдя выдает бойкий танчик и раскланивается.
Публика аплодирует. Появляются манекенщицы в разнообразных туалетах. Лёдя галантно подает им руку, помогая взойти на подиум. Последняя – яркая красотка итальянской внешности. Публика аплодирует красавице, но Лёдя недоволен:
– Господа, разве ж это аплодисменты? Котлета на сковородке громче шкворчит, чем вы хлопаете!
Публика добавляет энтузиазма. Громче всех ляпает ладонями-оладьями здоровенный пристав в первом ряду. И гордо поглядывает по сторонам, оценивая прием публикой итальянской красавицы. Красавица же с тайной благосклонностью улыбается Лёде.
Потом она переодевается за кулисами. На ее обнаженное плечо ложится рука Лёди. Итальянка оборачивается и заявляет совсем не по-итальянски:
– Та вы шо? Уходите, зараз мой муж придет!
Рука Лёди перемещается с ее плеча на талию:
– Уйду только через ваш поцелуй.
– Бесстыдник! – Красавица быстро целует Лёдю.
– Не-ет! Через такой поцелуй я даже шага не сделаю…
Красавица целует Ледю самозабвенно. Слышатся тяжелые шаги. Лёдя отпрыгивает в бархатные занавеси. Входит могучий пристав, лихо подкручивая усы.
– Рыбонька моя, ты сегодня блистала! Весь бомонд был в аффектации!
Пристав тянется поцеловать красавицу. Она уворачивается:
– Ой, я куда-то шальку задевала!
Красотка подбегает в занавесям и шепчет притаившемуся там Лёде:
– Приходьте завтра в два, его не будет! – И снова в полный голос: – Куда же ж я подевала шальку? Ах, вот же ж она! Зайчик, поедем в ресторацию!
Лёдя – слегка навеселе, в костюме с цветком в петличке, напевая песенку о модах, возвращается домой, разбрасывет по прихожей начищенные штиблеты.
Из комнаты выглядывает папа Иосиф со скорбным лицом. Но излить свою скорбь не успевает – Лёдя опережает его, сообщив, что он и так все знает: у всех дети как дети, а этот Лёдька… Однако папа только машет рукой – на этот раз дело совсем в другом. Сегодня папа скорбит о том, что действительно у всех дети как дети, а у него – бедного лепетутника Иосифа – дети крамольщики. Ну, не все и не сами – это их испортила Клавдия. Откуда, ну скажите, пожалуйста, откуда девочка из приличной еврейской семьи нахваталась со-ци-я-ли-стических мыслей против существующих устоев и даже, страшно сказать, против самого государя императора!
Окончив свой горестный монолог, папа Иосиф обличающим перстом указывает на кухню и со вздохом возвращается в комнату. А Лёдя недоуменно отправляется на звук разговоров.
За кухонным столом сидят полтора десятка молодых людей, среди которых – брат Михаил и сестры Полина и Прасковья. Все слушают старшую сестру Клавдию, взмахивающую кулачком.
– Товарищи! Судьба России в наших руках! Нужно разъяснять, что именно каждый из нас может сделать для революции. И тогда ваши имена будут вписаны золотыми буквами в историю освобождения народа от тиранов!
Лёдя появляется за спиной Клавдии, и один из сидящих лицом к входу парней делает ей предупреждающий знак. Клавдия резко оборачивается, но улыбается с облегчением:
– Это наш брат Лазарь! Проходи, Лёдя, садись… Я думаю, тебе, как мыслящему человеку, близки идеи революции?
– Это бомбы кидать? – уточняет Лёдя.
– Какая же путаница у тебя в голове! Бомбы бросают террористы из боевой организации эсеров.
– Кто-кто?
– Эсеры. А мы – эсдеки.
– Чего?
– Мне стыдно, что у меня такой брат! Эсеры – это социал-революционеры, а эсдеки – это социал-демократы! Понятно?
Лёдя неопределенно пожимает плечами:
– Мне бы чаю попить…
– Не увиливай! Скажи прямо: что ты готов сделать для революции?
Лёдя честно задумывается. Потом излагает:
– Знаете, один еврей говорит другому: слушай, я знаю, как нам разбогатеть – давай вместе откроем ювелирный магазин на Дерибасовской. А второй отвечает: нет, лучше ты будешь открывать, а я постою на шухере.
– Лёдя! – вскипает брат Михаил. – Кончай свои хохмы, говори по теме!
– Так я ж по теме. Я – простой артист, и в вашем деле могу только постоять на шухере.
– Но, Лёдя, – огорчается Клавдия, – если так будет рассуждать каждый …
– … то кто же будет открывать ювелирный? – заканчивает за нее Лёдя.
– Да! То есть нет! Вот я согласна, что ты – артист, значит, ты умеешь воздействовать на массы…
– Нет, я только пою, танцую, а гипноз еще не пробовал.
– Опять хохмочки! – возмущается Михаил.
Клавдия придерживает старшего брата:
– А что, юмор – тоже неплохо. Только вместо шуточек про тещу ты можешь давать беспощадную сатиру на самодержавие и его прислужников.
– И газеты напишут обо мне на первых полосах? – интересуется Лёдя.
– Конечно! – обещает Клавдия. – А пойдем завтра с нами на демонстрацию?
– Пойдем… А, нет, завтра у меня спектакль.
– Ладно, тогда пойдем в четверг к рабочим на Канатку.
– А в четверг у меня концерт. Я уже аванс получил. И деньги потратил…
– А расклеивать прокламации в субботу можешь?
Лёдя не успевает ответить, так как опять вмешивается Михаил:
– Как можно что-то делать в субботу?
– Но, Миша… – теряется Клавдия.
А Лёдя страшно веселится:
– Да, как можно – в субботу? Революция – революцией, а шабес – шабесом!
Клавдия вновь берет инициативу в свои руки:
– Прекрати, Лёдя! Да, товарищи, сложен и тернист путь революционера. Но борьба наша интернациональна, ибо наш лозунг: пролетарии всех стран, соединяйтесь!
И тут дверь распахивается, в ее проеме возникает гневный папа Иосиф и произносит свою историческую фразу:
– Уважаемые пролетарии всех стран! Пожалуйста, на здоровье, соединяйтесь! Но только не у меня на кухне!
В 1913 году Россия ликовала по случаю трехсотлетия династии Романовых. Празднества по этому поводу в Санкт-Петербурге и в Москве, прибытие иностранных гостей, кавалькады выездов царской семьи – все было пышно, торжественно, надежно. И еще не брезжило никакого предощущения грядущей революционной бури.
А наш Лёдя и вовсе находится бесконечно далеко от всяких бурь – в спальне итальянской красавицы, жены пристава. Оба в неглиже, и Лёдя развлекает подругу анекдотами:
– Значит, приходит муж домой, а жена, естественно, с любовником. Муж орет, а жена спокойна: «Чего ты кричишь, здесь нет никого постороннего, честное слово!» Муж лезет на стенку: «Как – никого?! Я вижу этого типа своими глазами!» А жена возмущается: «Ты что, веришь своим бесстыжим глазам больше, чем моему честному слову?»
Красавица заливисто смеется и кокетливо грозит пальчиком:
– Ой, гляди, не накаркай!
– Как я могу накаркать, душа моя? Господин пристав отбыл по государственно важным делам, а если господин пристав занимается государственно важными делами, то…
– Не хочу ничего про пристава! Хочу еще смешное!
– Пожалуйста! Но смешное пополам с трагическим. Потому как трагикомедия – это самый прекрасный жанр искусства…
– Ой, не умничай, – капризничает красавица, – смеши меня!
– Ладно, встречаются два приятеля…
– Еврея?
– Ну, почему обязательно еврея? Допустим – француза. Один говорит: «Представляешь, прихожу с работы домой и застаю свою жену в постели с китайцем!» – «Ну и что ты ему сказал?» – «А что я мог ему сказать? Я же не знаю китайского!»
Красавица опять заливается смехом. Но раздается стук в дверь, а затем громкий шепот горничной:
– Ой, хозяйка! Господин пристав вернулись!
– Накаркал! – ахает красавица.
Лёдя мечется по комнате, собирая и надевая одежду, бросается к двери.
– Не туды! В окно!
Лёдя выглядывает из окна – довольно высоко.
– Может, в шкаф?
– Не, помнешь мои платьячки!
За дверью уже слышна тяжелая поступь и голос пристава:
– Рыбонька! Это твой зайчик!
Лёдя залезает на подоконник и отчаянно сигает вниз. Приземляется, вскакивает, прихрамывая, догоняет биндюг, груженый бочками, и вскакивает на него.
– Поехали!
– Уже едем, – равнодушно сообщает биндюжник.
– Быстро! Скорей! Скорей! – умоляет Лёдя.
Биндюжник хмыкает и стегает лошадь.
А в окне появляется рожа пристава со свистком в зубах. И вслед спасающемуся на биндюге полуодетому Лёде несется яростная трель.
Бежать Лёде пришлось дальше, чем он рассчитывал. Грозный одесский пристав обладал ревностью, какая и не снилась мавру Отелло. Он перекрыл Лёде кислород на всех тайных и явных его убежищах, он запугал всех владельцев кафе и кабаре, на сцене которых мог играть Лёдя, он денно и нощно размахивал своим внушительным пистолетом и клялся при первой же возможности пристрелить Лёдю без суда и следствия.
Ну, что оставалось нашему герою? Не корчить из себя бесстрашного героя-любовника и убираться из Одессы подобру-поздорову аж в самый Херсон.
Там его взяли в местный театр без колебаний, потому что для Херсона Одесса – это как для Одессы Париж. Более того, в Херсоне Лёдя был окружен ореолом легенды о том, как он избежал жуткой участи быть растерзанным ревнивым приставом.
И пережевывать эту тему совершенно не надоедает актерам, собравшимся в гримерке вокруг Лёди:
– Так ты и бежал до самого Херсона? Без передышки, да? И без штанов?
– Штаны для настоящего артиста не главное! – гордо отвечает Лёдя.
– А что главное? То, что в штанах?
– То, что в голове! – парирует Лёдя.
Прибегает помощник режиссера:
– Утесов, на выход!
Лёдя спешит на сцену и с ходу начинает, а по сути – продолжает тему разговора в гримерной, да и вообще, увы, бессмертную тему:
– Представляете, господа! Один пожилой муж неожиданно возвращается домой. А мимо него в дверь выскакивает молодой парень… Ну, ясное дело, не совсем одетый… Муж страшно возмущен и говорит жене: «Вот она, современная молодежь! Ни мне здрасьте, ни тебе спасибо, ни нам обоим до свиданья!»
Публика смеется. А Лёдя без передышки переходит к куплетам:
Что случилось? Что такое?
Почему такой геволт?
Муж на тещу волком воет,
Жена курицей орет!
Жена наша – молодец,
В муже прям души не чает!
Как увидит на крыльце —
Колотушкой привечает!
Кошка и собака дружат —
Лаются, дерутся!
И жена вот так же с мужем —
Авось, не убьются!
А еще в Херсоне Лёдя отдал долг. Пришел в скобяную лавку «Ефим Клейнер. Скобяные товары и садовый инструмент» и вручил дяде Фиме пять рублей, которые взял у него, когда бежал из мира скобяных товаров в большое искусство.
– Возвращаю с благодарностью!
Дядя проверяет купюру на просвет.
– Не беспокойтесь, все как в банке! – улыбается Лёдя.
Дядя Ефим аккуратно укладывает купюру в карман жилета, засовывает большие пальцы в его проймы и тоже улыбается:
– Вы посмотрите на этого цуцика… Он таки стал артистом!
– Ну, это еще так… начало, – скромничает Лёдя.
– Не скажите! Тетя Хая говорит, что подруга Рива ее соседки Сони ходила на тебя посмотреть и ей понравилось.
– Ох уж эти тети с соседками…
Лёдя вспоминает о своем, но дядя Ефим не знает этого и обижается:
– А что тетя, что соседка? Херсон, конечно, не Одесса, но и у нас, слава богу, люди понимающие!
– Конечно, дядя, конечно… Но знаете, как один еврей говорит другому: «Слушайте, у вас за душой – три гроша, а вы кричите на весь Бердичев, что вы – миллионер. А вот у барона Ротшильда целый миллиард, так он у себя в Париже тихо помалкивает!» А другой отвечает: «Это таки беда – иметь такую кучу денег и сидеть в такой дыре!»
Оба смеются.
Лёдя, а как там у тебя эта штучка… Мне Фроим с Арбузной гавани напел…
Дядя жутко фальшиво напевает: «Что случилось? Что такое? Почему такой геволт? Муж на тещу волком воет, жена – курицей орет…»
Лёдя морщится и вздыхает:
– Ерунда это все!
– Что ерунда?
– Да куплетики эти, анекдотики.
– Ну, если люди тебе за это платят деньги…
– Деньги, деньги… А искусство?
– Ха! Искусство на хлеб не намажешь.
– Да лучше без хлеба, но быть настоящим, серьезным артистом!
Дядя Ефим окидывает племянника долгим оценивающим взглядом и вздыхает:
– Э-эх, собирался я отписать Иосифу, что его дитя, слава богу, на ноги встало. Но рано, я так посмотрю, собирался…
В гримерной Лёдя лепит себе смешной нос.
Появляется длинный, как каланча, антрепренер Рудзевич, помахивающий газетой.
– Читал? Вот, про тебя: «Уй, кто ж его не знает! Одесский смешняк и каламбурец Леонид Утесов!»
Рудзевич зря надеялся этим порадовать артиста. Наоборот, это Лёде как вострый нож в сердце. Последнее время его одолевают унылые мысли, что не то он делает, не то играет, не то несет зрителям.
– Смешняк, – уныло повторяет Лёдя. – Каламбурец…
– Чего киснешь? – удивляется Рудзевич. – Даже эти паршивые писаки тебя полюбили!
– Надоело кривляться, – хмуро отвечает Лёдя.
– А ты хочешь короля Лира? И кто на него в Херсоне пойдет?
– На Лира, может, и не пойдут – он чужой. Но я нашел одну штуку… «Повесть о господине Сонькине». Там все наше, живое, узнаваемое… На это пойдут!
– И кто он такой – этот… Сунькин?
– Сонькин. Конторщик. Маленький человек мечтает о крупном выигрыше…
– Ага, и поет об этом куплеты?
– Никаких куплетов! – Лёдя вдохновенно излагает: – Сонькин верит, надеется, что нищета, подавляющая его личность, закончится. И он действительно выигрывает двести тысяч!
– И тут – веселенький танчик?
– Никаких танцев! Он пачками разбрасывает деньги и кричит: «На колени перед Сонькиным! Все на колени!»
– А-а, так это комедия? – все еще надеется антрепренер.
– Трагедия! Он сошел с ума! Но хоть на миг прорвался к бескорыстию и единению с людьми!
– Нет, – отрезает антрепренер. – Публика не пойдет.
– Пойдет! Люди все поймут, все почувствуют…
– Публика – дура! – убежденно заявляет Рудзевич.
– Ну, попробуем, ну, пожалуйста! Я буду работать без гонорара!
– Ой, как будто твой гонорар покроет аренду…
– Так увеличьте мой гонорар!
Антрепренер смеется:
– Ты таки мертвого уговоришь!
И вот, на сцене скромного херсонского театра Лёдя без комического грима, в костюме бедного конторщика, играет «Повесть о господине Сонькине».
– Во мне все танцует! Вы думаете, от жадности? Вы думаете, мне деньги нужны? Что мне деньги! От радости во мне все танцует! Я могу все деньги раздать. Сколько я вам обещал? Десять тысяч? А я вам дам пятнадцать. А вам, сколько вам нужно, чтобы быть счастливым? Берите все, кому нужно, берите у меня! Все маленькие, забитые, несчастные, идите ко мне…
Публика, затаив дыхание, смотрит на сцену.
В финале зрители несут Лёде цветы.
Он раскланивается с достоинством столичного премьера.
А на другой день в гримерку, где Лёдя надевает костюм Сонькина, входит долговязый Рудзевич с газетой и бросает ее на стол.
– Я читал, – улыбается Лёдя. – Очень хвалят.
– Да, хвалят, поздравляю!
– Знаете, что мне больше всего дорого? – Лёдя цитирует по памяти: – «Господин Утесов пьет из маленького, но – собственного стаканчика».
– Да, однако из этого стаканчика мне ни на какие расходы не хватит! – вскипает антрепренер.
– Как? Был полный сбор!
– Один вечер. Друзья, поклонники, пресса … И половина зала – по приглашениям. А на сегодня продано пятнадцать билетов, на завтра – три!
Лёдя грустно снимает картуз Сонькина.
– Очень жаль… Но все равно – я сменил амплуа.
– Ах, ты сменил амплуа? Но я не менял театр! И у меня зритель хочет получить немножко смеха. А все трагедии со слезами они имеют дома – за бесплатно.
– Публика тоже разная, – упрямится Лёдя. – Образованный человек не выносит пошлых водевильчиков.
– Это кто здесь образованный? Может, ты по ночам читаешь Спинозу?
– Кого? – не понимает Лёдя.
Антрепренер поднимается во весь свой рост и нависает над Лёдей:
– Брось эти глупости и работай, пока сезон!
В книжной лавке Лёдя разглядывает дешевые олеографии, лубочные картинки, красочно изданные книжки. К нему подходит хозяин.
– Ищете что-то конкретное или так интересуетесь?
– Я… Да, ищу… У вас есть Спиноза?
Хозяин с уважением смотрит на Лёдю.
– Я держу эту лавку уже тридцать лет, и еще никто ни разу не спрашивал Спинозу!
– Ну, а что-нибудь другое… серьезное… есть?
– Несомненно! – заверяет хозяин.
Из лавки Лёдя уходит, исполненный достоинства, потому что в руке у него внушительная пачка книг, перевязанная бечевкой.
На сцене театра идет очередной водевиль – «Балетоман». Лёдя за кулисами углубился в чтение толстой книги. Подбегает помреж:
– Ты что, оглох? Твой выход!
Лёдя вскакивает, роняя книгу на пол, и спешит на сцену. На обложке распахнувшейся книги значится: «Древнегреческие трагедии».
А Лёдя на сцене распевает привычные водевильные куплеты:
Я театры обожаю,
К н
