Ольга Балла
Дышащий чертёж
Сны о поэтах и поэзии. Том 1
Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»
Литературное бюро Натальи Рубановой
Редактор проекта Наталья Рубанова
Дизaйн обложки Дмитрий Горяченков
На обложке Микалоюс Константинас Чюрлёнис. «Утро» (1904)
© Ольга Балла, 2021
В первом томе двукнижия собраны рецензии на поэтические сборники и эссе о поэтах (а также об одной поэтической премии), публиковавшиеся в разных бумажных и электронных периодических изданиях в последние полтора десятилетия и не вошедшие ни в один из предыдущих сборников литературно-критических работ автора.
ISBN 978-5-0055-5808-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0055-5809-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
ГЕРОИ ТОМА 1
Часть I
Русская поэтическая речь: персональная азбука
Богдан Агрис
Андрей Анпилов
Алёна Бабанская
Николай Байтов
Александр Банников
Александр Бараш
Вилен Барский
Александр Башлачёв
Регина Бондаренко
Николай Васильев
Марина Гарбер
Михаил Генделев
Елена Генерозова
Анна Грувер
Владимир Губайловский
Николай Данелия
Григорий Дашевский
Николай Звягинцев
Геннадий Каневский
Евгений Карасёв
Алёна Каримова
Виктор Качалин
Бахыт Кенжеев
Тимур Кибиров
Павел Кричевский
Сергей Круглов
Катя Капович
Галина Климова
Григорий Кружков
Денис Ларионов
Станислав Львовский
Вадим Муратханов
Сергей Надеев
Владимир Полетаев
Вера Полозкова
Алексей Порвин
Виталий Пуханов
Илья Риссенберг
Александр Скидан
Алексей Сомов
Мария Степанова
Юрий Стефанов
Андрей Тавров
Карен Тараян
Михаил Фельдман
Людмила Херсонская
Юрий Цветков
Сергей Шестаков
Глеб Шульпяков
ГЕРОИ ТОМА 2
Часть II
О переводах непереводимого
Войцех Венцель
Ян Польковский
Януш Шубер
Антония Поцци
Эдит Сёдергран
Асар Эппель
Часть III
О толкованиях таинственного
Томас Венцлова
Борис Гаспаров
Линор Горалик
Александр Житенёв
Григорий Кружков
Виталий Лехциер
Александр Марков
Ольга Розенблюм
Андрей Тавров
Михаил Яснов
Часть IV
Россыпью. Почти постскриптум:
снова персональная азбука
Михаил Айзенберг
Михаил Бараш
Елена Баянгулова
Александр Беляков
Василий Бородин
Мария Галина
Владимир Гандельсман
Линор Горалик
Алла Горбунова
Анна Глазова
Михаил Гронас
Филипп Дзядко
Ирина Ермакова
Геннадий Каневский
Катя Капович
Михаил Квадратов
Тимур Кибиров
Галина Климова
Алексей Колчев
Владимир Коркунов
Ирина Котова
Инга Кузнецова
Елена Лапшина
Людмила Логинова-Казарян
Чеслав Милош
Василий Нацентов
Лев Оборин
Лесик Панасюк
Ян Пробштейн
Виталий Пуханов
Илья Риссенберг
Галина Рымбу
Илья Семененко-Басин
Андрей Сен-Сеньков
Сергей Соловьёв
Сергей Стратановский
Андрей Тавров
Амарсана Улзытуев
Анна Цветкова
Наталия Черных
Сергей Шестаков
Аркадий Штыпель
Асар Эппель
Лета Югай
Олег Юрьев
Василий Якупов
От автора
Так и хочется сказать: от сновидца. Почему все-таки это двукнижие, составленное по большей части из рецензий на поэтические книги и тексты, а также из предисловий к ним и некоторых колонок в одном сетевом издании на прикосновенные к поэзии темы, последних, примерно, полутора десятилетий, названо «снами о поэтах и поэзии», зачем оно структурировано именно так (простодушно — по алфавиту) и что за цели оно преследует?
Начнем с конца. Алфавитный способ упорядочивания материала — по фамилиям поэтов или, в случае коллективных сборников, по их названиям, — «персональная азбука», был выбран автором-составителем, по некотором размышлении, как наиболее нейтральный и дающий героям максимально возможную свободу; попытка загонять обсуждаемых поэтов, а с ними и читательское их восприятие в как бы то ни было выделенные группы и рубрики довольно скоро обнаружила свою насильственную природу. Всех поэтов, о которых здесь идет речь, безусловно объединяет то, что каждый из них оказался в том или ином отношении (а то и весь целиком) важен и интересен автору на разных этапах его читательской, человеческой, смысловой биографии. Но нет ничего дальше от авторского замысла и чувства, чем забавлять читателя рассказами о собственной жизни, — еще и поэтому потребовался нейтральный алфавитный порядок: для дистанцирования, насколько возможно, от личных пристрастий и интересов (почти невозможно, но стремиться к этому стоит). Чтобы не навязывать цельности структуре (а именно цельность, признаюсь, забегая вперед, составляет тут первейшую заботу автора), в которую та не складывалась бы сама собой. (Ну, наконец, было соображение и совсем утилитарное: чтобы легче было найти искомого поэта. Прежде всего — самому автору, кому ж еще. Можно было упорядочить написанное и хронологически, но алфавитный способ победил именно силой удобства.)
Первый том — рецензии на поэтические сборники и эссе о поэтах (а также об одной поэтической премии), публиковавшиеся в разных бумажных и электронных периодических изданиях в последние полтора десятилетия.
Второй том — рецензии на сборники поэтических переводов, книги о поэзии и микрорецензии: тексты совсем небольшого объема, писавшиеся о поэтических книгах по преимуществу для хроники поэтического книгоиздания журнала «Воздух».
Признаваться так признаваться: собирание своих писаний о поэтах и поэзии, не вошедших в две предыдущие книги[1], в ту самую искомую цельность автор предпринял поначалу с целями черновыми и внутренними, чтобы иметь под рукой, — спохватившись, как многое из этих текстов, растерянных по бумажному и электронному свету, не помнится ему самому (и по сию минуту не уверен он, что собрал все, того достойное).
Разумеется, тут же стало ясно, что тексты тяготеют к цельности и напрашиваются быть прочитанными одним взглядом, причем не только авторским. Потому что сколько ни будь автор избирателен и пристрастен, уже само количество написанного, несколько даже на вкус автора избыточное, заставляет предположить, что в некую картину современного русского поэтического письма оно все-таки складывается (герои этой книги — в решающем большинстве те, кто пишет сегодня — или писал относительно недавно — по-русски; есть и переводы, но ведь и они тоже — русское поэтическое письмо), некоторые тенденции его все-таки оказываются здесь обозначены.
Итак, цельность: вот она, главная тема всего сказанного и самый настойчивый его внутренний вопрос. Складывая написанное в разное время, в разных форматах как фрагменты одного паззла, автор пытался угадать, что удерживает все книги и тексты, о которых речь, — вместе, независимо от порядка, в котором следуют друг за другом рассуждения о них, и даже от времени написания, — какому подводному материку принадлежат эти острова, какие предположения возможно по ним делать о его очертаниях.
О названии, которое автор заимствовал у одного из своих любимых поэтов (он же — первый герой этого двухтомника): оно, представляется автору, в точности отражает существо дела. Ведь поэзия и есть, с одной стороны, чертеж — обозначение главных черт существования, его несущих конструкций, — а с другой стороны, чертеж дышащий, ибо живой.
И, наконец, почему — сны? Да потому что, как бы ни исхитрялся автор, все написанное им на нижеприлагаемых страницах остается непреодолимо: до своеволия, субъективным. И азбука, никуда не деться, — все-таки персональная. Что, в самом деле (кроме слепого случая — но это не он, — или неразборчивости — но это и не она), способно свести в пределах одного рецензентского взгляда, скажем, Веру Полозкову и Юрия Стефанова, Евгения Карасёва и финалистов Премии Аркадия Драгомощенко? Я подозреваю (скинул автор авторскую маску и начал говорить от допрофессионального и внекоординатного, разнузданного в своей внекоординатности самого себя), что такое под силу исключительно логике сновидения, обнаруживающей связи (и, соответственно, пути к чаемой цельности) там, где дневное сознание их и не предполагает.
Особенно если это сновидчество наяву.
О.Б.
«Пойманный свет: смысловые практики в книгах и текстах начала столетия». — Б.м.: Издательские решения, 2020. — (Литературное бюро Натальи Рубановой); Библионавтика: выписки из бортового журнала библиофага. — М.: Совпадение, 2021.
«Пойманный свет: смысловые практики в книгах и текстах начала столетия». — Б.м.: Издательские решения, 2020. — (Литературное бюро Натальи Рубановой); Библионавтика: выписки из бортового журнала библиофага. — М.: Совпадение, 2021.
Часть I
Русская поэтическая речь: персональная азбука
Дышащий чертеж[1]
Макробиография Богдана Агриса
Поэт Богдан Агрис стал открытием — и, думаю, не только моим — совсем недавно — в 2019-м. Он явился читающей публике из почти-безвестности сразу сложившимся, готовым, как Афина из Зевесовой головы, когда издал первую небольшую книгу стихов — сильных и зрелых: «Дальний полустанок» (М.: Русский Гулливер, 2019), результат многолетней одинокой работы. До этого он публиковался в журналах «Новый мир», «Плавучий мост», «Волга», «Новая Юность», на онлайн-порталах «Сетевая Словесность», «На Середине мира», но в целом, по всей видимости, находился в стороне от того, что называется актуальной литературной жизнью, и эта невключенность пошла ему, вне всякого сомнения, на пользу. По собственному признанию, серьезно и систематически он, родившийся в 1973-м, пишет вообще с 2015 года, хотя въедливый читатель сумеет разыскать в сети и куда более ранние его тексты: обнаруживается даже сборник «Тело ангела», включающий стихотворения 1992–2016 годов. Из всего прежде написанного в свой первый сборник Агрис включил очень немногое, относя эти тексты, видимо, к своей поэтической предыстории. Теперь он подготовил к изданию вторую — «паутина повилика»[2].
По образованию Агрис — философ (окончил философский факультет МГУ), что не могло не повлиять и на его поэтическую оптику. Другие внепоэтические источники этой образности — естественные науки и европейские мифологии, прежде всего кельтская.
Поэтическая же генеалогия (по меньшей мере, одна из ее линий) восходит через Мандельштама, Заболоцкого, Тютчева (один из корней внятно тянется к Хлебникову) к Державину и Ломоносову; из современников он считает родственным себе — до некоторого ученичества у него — Олега Юрьева. Агрис принадлежит к редкой у нас, редкой вообще породе поэтов-натурфилософов, выговаривающих устройство мироздания в целом, ход пронизывающих его процессов и сил. В его случае, пожалуй, есть основания говорить о персональной мифологии, натурфилософии, онтологии при — одновременно — очень сильном (чем дальше, тем, кажется, сильней) музыкальном начале. Тоже крайне редко соединяющиеся свойства. А еще Агрис очень цельный внутренне: в каком-то смысле через любой его текст можно рассмотреть свойства его поэтической ткани в целом.
Охватывая взглядом — чуть ли не в каждом тексте — мировое целое на разных его уровнях («от морщинок руды до колючек звезды»), Агрис развивает в себе подробнейшее зрение, позволяющее разглядеть структуры вещества вплоть до микроскопических. У него (по крайней мере, в первой книге, изданной на бумаге) что ни текст — то метафизический трактат, притом остро-личностно пережитый. И это по меньшей мере столько же взгляд метафизика и астронома, сколько минералога, зоолога, ботаника — многоликого естествоиспытателя, — естествоиспытанию которого не противоречит, но, напротив, составляет его часть и питающий источник: взволнованная, и притом конструктивная, мифологичность.
Автор одного из небольших предисловий, предпосланных первой книжечке Агриса, Кирилл Анкудинов, писал, что «лирического героя в этих текстах нет». С этим согласиться никак невозможно: тексты Агриса ими буквально перенаселены.
Его лирические герои — время, пространство, воды и почвы, времена суток и года, звери и небесные тела, птицы и минералы, растения и созвездия. Герои именно лирические, потому что обо всех этих предметах для Агриса возможна и необходима речь исключительно личностная, страстная — сразу и адресованная, диалогическая; речь, которая раскаляет и сжигает. «Еще наговоримся добела», «еще наговоримся дочерна», обещает поэт в первом же стихотворении книги — о чем же? — «О сотах времени, об озере вне веса, / О полом тростнике в созвездии Орла <…> О том, что время нам насобирало в соты, / О том, как озеро текло в свои высоты». Оно все живое, дышит, действует, чувствует… — оно все — и в целом, и в каждой своей точке — субъективно и пристрастно. Для поэта возможно «виноватить» миры — «соседние миры в обводе стога» способны быть субъектами этики; осень «вздыхает уклончиво»; вещи «сгибающиеся, сонные и животные»; стена, не хуже растения, способна «вянуть» и «распускаться». В этом мире нет ничего отвлеченного, чисто умозрительного — все чувственно и осязаемо. Речь держится «жилисто и плотно»; время «возводится», «как дышащий <…> чертеж». Раз все живо — то все и смертно. Всему может быть больно. Все оно даже в той или иной степени сакрально — и есть все основания обратиться к встречной птице: «Помилуй мя, о горлица сквозная».
Этот мир еще творится. Он не закончен. Он творится и каждым выговариваемым здесь движением: как двинешься — так и будет. Возводится, как дышащий чертеж.
Человек тут не имеет привилегий, но оказывается точкой особенной чувствительности ко всему мирозданию — чувствительному и без того. Со всем перечисленным и не перечисленным человек образует одно большое сложночувствующее целое, все части которого устроены очень родственным друг другу образом — и не только в смысле подробного человекоподобия, скажем, деревьев: «Сонливых тополей сточились каблуки, / и где им выйти вереску навстречу…». Нет, шире и сложнее: все, что в этом целом происходит, становится телесным событием человека, отражается в нем («…когда пройдет волна по зеркалу руки»).
Проживание всего этого в образах — несомненно, философская практика.
Кроме этого человека-вообще, человека-как-вида, соучаствующего в мировом целом, несомненно присутствует здесь и своевольный, узнаваемый, даже настойчивый голос наблюдателя-созерцателя, его «я» с собственной — с первых же страниц заявляемой — позицией: «Вам нужен лай собачий наизнанку, / Мне — долгий дом у млечного откоса / С дроздами и свечением рябины», с рефлексией: «Мне надо бы пока остановиться <…> Я затаюсь у вянущей стены…» (не говоря уж о том, что есть и не менее настойчиво возникающее «мы», к которому говорящий изнутри этих стихов себя причисляет: «Мы копим имена в укрывищах лесных / И если держим речь — то жилисто и плотно»).
Допустим, это «я» не биографическое (притом что явно обладает темпераментом, норовом, избирательностью, да и вообще сложным душевным устройством: «А вон — не я ли: ломок и в раздвое?» — смотрится повествователь в зеркало мироздания). Кстати, исторического времени у Агриса нет или почти нет: его время — метафизическое.
Но у него несомненно есть — и выговаривается в текстах — то, что хочется начерно назвать макробиографией: жизнь, измеряющая себя тысячелетиями и космическими масштабами. «Уже погибаешь, — а в новую эру шагнешь / И выйдешь живым в незнакомые области мира».
2020
Открыты двери неба[3]
Андрей Анпилов. Воробьиный куст. — СПб.: Вита Нова, 2017
Можно, конечно, сказать, что стихи Андрея Анпилова — «религиозная лирика». Можно сказать и «метафизическая», но это не совсем точно: религиозное отличается от «просто» метафизического интенсивной обращенностью, диалогичностью, восприятием своего существования как реплики в большом и непрерывном диалоге с Собеседником (именно он здесь и происходит). Главное — лирика, страстная и пристрастная: об отношениях человека и бытия. И поскольку в разговоре об этих отношениях всегда помнится — лишь изредка называясь по имени — его Источник, — вот в этом смысле, в этой мере анпиловская лирика религиозна.
Выговоренная в этих стихах религиозность — особенного свойства: она впитана в повседневность, осуществляется всяким повседневным действием. А прежде всего прочего — ясно осознаваемой уязвимостью, иногда попросту катастрофичностью — и драгоценной хрупкостью, хрупкой драгоценностью всего человеческого. Причем особенно такова — это у Анпилова отдельная сильная сквозная тема — уязвимость и катастрофичность детства.
Вся повседневность превращается у него в орган смысла, в чувствилище для восприимчивости к надповседневным — и надчеловеческим — смыслам. Улавливает их, как чуткая антенна, всей собой — включая ее бессмыслие, слепоту, трудности, тупики. Может быть, задворки существования, «времянки мира», «скудный мусор всячины» восприимчивы к основе всего еще более иных его областей.
Вообще-то, всякая повседневность такова, но далеко не каждый это видит. Это даже не принято видеть, обычно человек от этого экранируется: это слишком трудное видение. У человеческого восприятия мира есть, в некоторой общекультурной норме, два режима: «повседневность» и «экстатика» — так сказать, ближнее и дальнее зрение. В «экстатике», понятно, видится то, что в защитные, защищающие пределы повседневности не вмещается. Так вот, у Анпилова два эти режима видения совмещены.
Он (почти) весь — об осязаемости надчувственного, о чувственной его данности, очевидности и безусловности.
Скрипит корабль Великого Поста,
Стоит волны соленая верста,
Друг к другу овны жмутся, вслух псалом
Звучит, солен.
Человеческое тут — все целиком — открытый канал в то, что его превосходит. Только это дано тут в виде не отвлеченного умствования, но чувства, пережитого всем телом. Особенно же важна мне тут прямая соединенность, почти тождественность уязвимости и восприимчивости к истокам бытия, к его питающему, защищающему, творящему корню. Метафизическая проницаемость и распахнутость всего сущего, пронизанность, — трудная, болезненная — духом и смыслом и повседневного, и человеческого вообще, и не только человеческого. Так и летучая рыба морская летит над водами, «как некогда Дух в первый день бытия».
Открыты двери неба, пух и перья
Витают над страною, чудь и меря,
Поляне, вятичи идут за родом род
На землю вспять рекою зыбкой снега,
и на иконе смаргивает веко
Святую каплю, волгу, днепр, онегу,
Не вычерпать шеломом, Бога вброд —
Не перейти.
2017
Блокнот для пауз[4]
Стихи Алены Бабанской стремятся к предельной простоте. Почти устраняют сами себя.
Они — скорее графика, чем живопись: их образуют осторожные (при этом уверенные, твердой рукой наносимые) штрихи, скупо точные, обозначающие только самое главное. Только свет и тень.
«Черное дерево горит, а белое тлеет. / Черное дерево вдали, / А белое рядом…»
Схема, чертеж. Можно было бы сказать — базовые структуры существования, но эти сдержанные, ироничные в своей сдержанности стихи чуждаются пафоса.
Простые, «бедные», почти аскетичные рифмы: «умирал — выбирал», «яблоки — зяблики», «пуст — «куст», иной раз почти тавтологичные «окрест — крест»; просторечия: «пёрушки», «поврозь», «Буратиной», «приколы»… — речь, как бы не принимающая себя вполне всерьез. Приближенная к устной. К проборматыванию, к шепоту.
Почти прозрачная простота оборачивается, однако, плотным — и сложно внутри себя устроенным — сжатием.
Это — мнимая простота притчи, обманчивая простота фольклора, который тут то и дело постукивает узнаваемыми приметами, характерными ритмами, присловьями, почти цитатами из него: «пешком — гребешком», «Там и ты мед пива не пивал»… Внутри этой простоты чуткая и роскошная в своей сложности звукопись, точная, как магнитофонная запись: слышен жесткий шорох, с которым ветер ерошит «веток ершистый веер», слышно, как «огонь с хвостом барсучьим / Ползет по сучьям» — тут слышен треск и ползучий шорох самого огня; «слезной слякотью» мягко взблескивает тающий снег) — стремление совпасть в говорении с самим шепотом мироздания.
Это мир скорее подслушанный, чем выговоренный; позволение говорить миру. Не потому ли и «Акустика»? Основное движение этих стихов — вслушивание.
Поэт вслушивается и в то, что, казалось бы, не имеет голоса — в само течение времени в предметах («А если дерево — дичок, / с тугими, мелкими плодами, / В нем время медленней течет, / Незамутненное садами»). Время вещественно, осязаемо («Бери его, пальцами трогай»), да и не оно одно: сам дух одной из здешних героинь «вязок, плотен, / Как вязаный зимний шарф», а словами можно кормить рыб, и окуньки будут «жиреть». И слух неотделим от осязания, и оба они — от зрения, ясного и чувственного видения, буквально ощупывающего предметы — по большей части, те, что ближе к глазам. Первоначальная, мифическая синкретичность чувств, изначальная их конкретность — как на заре мира.
Потому-то этому взгляду видны вещи невидимые: то, например, как каждый из живущих «висит на своей леске», которую одна «только смерть подходит и подсекает». Можно видеть, как время, большая рыба, «шевеля плавниками в Каме, / Шевеля плавниками в Волге», «медленно утекает». И, разумеется, оно живое. Оно вообще здесь настолько главный персонаж, что все другие насельники этих текстов — по существу, его облики: вот оно в облике грача «беснуется, летит, / брошенную корку волоча», то обернется секундной стрелкой-синицей, то часовой-вороной (и уж не весь ли мир предстает как плоть времени?).
Мифологические персонажи существуют тут на равных правах с прочими живыми существами («За кустами леший бродит, / И тревожно кычет птица…»), неживые на равных же правах с ними — живы (аэроплан «в нас глядит глазами птиц», земля машет кулаками, тучи «ищут свое зерно, / В клюве переминают»); а человек обнаруживает телесное родство со всем сущим, он плоть от плоти мира, и у бедра его «шершавая кора».
(Не об этом ли родстве всего сущего — и звукопись отзывающихся друг в друге вроде бы разносемантичных слов, а через них — и самих явлений: «точно жимолость — одержимость», «зябнут как зяблики»? )
Бестиарий этих стихов вообще вполне фантастичен; однако это фантастичность, так сказать, фоновая, как бы сама собою разумеющаяся, она — ни в коем случае не основной предмет внимания, она почти по умолчанию. Но обнаружиться может в любой момент: так птица, грянув оземь «сизою голубицею», вдруг да «станет / Лебедем, царь-девицею, / Огненными цветами».
Фольклор здесь — корень, уходящий глубоко в прапочву мифа. О ней опять же не говорится специально — ее достаточно чувствовать.
Важно еще, что это — речь почти безличная, с уклоняющимся «я».
«Я» в этих стихах смиренно: оно никоим образом не в центре повествования и не образует его главной темы. Оно и вообще-то не о себе, а если о себе — то как можно более через другое. Оно делает себя незаметным, его почти нет.
(То же касается и совсем ускользающего «мы», в которое это «я» как будто себя включает: «Птицам и агнецам / В нашем саду» — кто тут эти «мы»? Неизвестно — и высказано никогда не будет. Это интуитивная общность.)
Иногда «я» проглядывает очень осторожно («Мой добрый бог с цигаркою в руке / Творил меня на фрезерном станке…»), но в целом по большей части присутствует как угол взгляда, как форма его, как сама его возможность, как направление и повышенная интенсивность внимания: «Звоночки мои, колокольчики, скрипы!», «Сестра моя, проталина…» И здесь важно не «я», но проталина и чувство родства с нею. Важна — и совершенно достаточна — возможность присутствовать в мире и чувствовать его. Это «я» вообще больше и охотнее чувствует мир, чем себя — проникается чувствами всех предметов, ощущает всем своим невидимым телом, как проталина «в снегу лучом продавлена / Легчайшим — до корней», как «больней и глубже ранит легкое», как «млеет под лучом / травы живой пучок».
Здесь нашептывает себя сама жизнь, «я» и не мыслит ее заслонять. В облике слов во внимательное ухо входит ее «дословесный <…> шепоток».
«Я» же почти не обозначает своих качеств (само его возникновение показано как в своем роде минус-процесс, как убирание лишнего: «добрый бог», творя повествователя этих стихов, «лишнее, как стружку, выбирал» — и именно это, что характерно, оказывается условием того, «чтоб божий дух во мне не умирал»). Обозначается оно еще через свои координаты в бытии («я ведь тоже — одна из них, / Перепутавших верх и низ», — говорит лирическая повествовательница, глядя на ходящих в воздухе огненных рыб), через принятие иных обликов: «Обернусь я бумажным змеем, / Полечу голубиной почтой». Да еще — через ускользание из всех координат, через то, что мир ловил, да не поймал: «Не берут меня неводы»; «Даже если минуешь сети, / на поверхность всплываешь реже», через непринадлежность и отсутствие: «Ничего-то тебе не светит. / Ничего-то тебя не держит», «И плывешь в никуда, объясняешься знаками». Ему, кажется, проще, свободнее выговаривать себя во втором лице — или хоть в косвенных формах, но тоже редко: «мой», «моя»… И совсем-совсем редко — впрямую, — но по крайне важным, предельным поводам, когда невозможно иначе: «А я у смерти под пятой. / А я у смерти понятой» — самая честная речь о которых тоже может быть только предельно, до прозрачности простой:
Она отнюдь не праздник,
Хотя манит и дразнит.
Она наступит в семь утра
От совместимых с жизнью трав,
От синевы и елей,
Без всяких важных целей.
Эту по видимости простодушную речь пронизывают внутренние цитаты — полускрытые, вросшие в речь, считываемые почти боковым зрением: «Получи предлинным письмом в конверте, / Погоди, не рви…» — эта цитата из настойчивых, и всплывет еще раз: «Как письмо отверженной, / погоди, не рви»; «пусть утро казалось седым и туманным…», «если яблочко песни на мертвых губах…». Культура здесь бормочет свое заодно с природой, едва отличимая от нее. Или неотличимая вообще.
А вообще-то — возникшая почти как обмолвка — «сестра моя, проталина» — это не только Пастернак с «сестрой моей, жизнью» (хотя и он тоже), это уже сам Франциск Ассизский.
На самом-то деле в этих почти аскетичных стихах свернуты еще и большие пласты мировой культуры. Которая здесь тоже — по умолчанию. Никогда не предмет прямого взгляда.
Бабанская словно бы избегает обобщающих суждений. Она как будто только о том, что перед глазами, только о том, что можно пощупать рукой, что вмещается в единичный акт восприятия. Каждому из небольших стихотворений соответствует не более одного события, одного внутреннего движения: мысли, воображения, чувства. Не истории, а ситуации — точечные. Акты созерцания. И не попытка ли это говорить о жизни прежде смысла ее, в досмысловых ее движениях? Событие не разворачивается, но обозначается как возможность будущего движения — за пределами текста. И не указывает ли в этом смысле каждый текст — за свои пределы?
Вот блокнот для нот.
Осталось
Прикупить блокнот для
Пауз.
Чтоб носить под старость
В сумке
Немоты моей
Рисунки.
Однако за вниманием к малому («и от него всего-то прок / что летом тень и птичий посвист»), к преходящему — как «тень и птичий посвист», неизменно стоит внимание к тому, что «между строк», на что каждый предмет самим собой показывает, к «неписанной повести», к нескАзанному и несказАнному.
В каждом невеликом стихотворении, готовом стянуться в точку, — по формуле мироздания.
2019
Миф, миф и миф[5]
Николай Байтов. Энциклопедия иллюзий / Вступ. ст. И. Гулина. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — (Новая поэзия)
Книга эта — действительно своего рода энциклопедия: в каком-то смысле, конечно, и иллюзий тоже (литературного сознания, сознания вообще), но главным образом — персональных байтовских способов работы с ними. Слово «работа» тут напрашивается настойчиво — и не будем ему сопротивляться; впрочем, еще вернее бы тут было слово «практика» — в том же смысле, в каком мы говорим о духовной практике. Потому что поэзия (как и проза) Байтова — это именно духовная практика. Литературными средствами, да, — однако преодолевающими литературу в ее устоявшемся понимании (преодолевающими любое устоявшееся понимание как таковое).
Книгу составили восемнадцать поэм (точнее сказать — больших текстов; в случае Байтова такая видимая неточность именно точна: этот принципиально ускользающий от определений человек должен же сопротивляться и определениям жанровым), написанных Николаем Байтовым более чем за четверть века, с 1984-го по 2000-й, и расположенных в порядке почти хронологическом. Выбивается из этого порядка разве только текст, имеющий все основания претендовать на роль ключевого и давший книге название — «Энциклопедия иллюзий» — написанный в 1993-м, он стоит в начале, но это и понятно: ключевой же. Да почти декларативный. Практически, обнажающий прием.
Как будто это утро раннее,
на самом деле это утка раненая.
Как будто это автомат,
на самом деле это водопад.
Как будто это мост через овраг,
на самом деле это дуб №500.
Как справедливо пишет Игорь Гулин во вступительной статье к сборнику, «в европейской традиции жанры большой поэтической формы — от баллады до романа в стихах, — это жанры уверенности. Подобные тексты описывают мир». Именно в этом смысле — и тут уже автору вступительной статьи, считающему, что «к поэмам Байтова это разительно не относится», можно возразить — Байтов вписывается в европейскую традицию совершенно. Он тоже описывает мир!
Он вообще о том только и говорит, как мир устроен. Правда, делает он это через демонстрацию разных способов того, как об этом говорить невозможно, каким описаниям основы мира в руки не даются (а никаким не даются). Более того: он говорит об этом — когда вдруг находит нужным — на редкость реалистично, с почти натуралистической точностью.
Ночью снег сквозь воду проступал сыпью:
солью на неверном юном льду в проруби.
Вьюга шелушила чешую рыбью,
мутным комом леденела слизь с кровью.
К сроку я безгласного заклал агнца
(выпучены мертвые глаза, — круглый
рот хватает холод, — плоский хвост в танце
судорожном стынет), — и уже в угли,
солью внутренности окропив, сунул.
Ни огня вокруг на берегу белом.
Только тусклый жар еще не весь умер,
разметаемый в золе сырым ветром.
(«Пасха в декабре», 1989)
Байтов хитер — он дает читателю увидеть, понюхать, пощупать чрезвычайно убедительные слепки с разного рода оболочек и участков мира, и читатель, чувствующий себя почти физически присутствующим при том, о чем идет речь, отождествившийся сочувственно уже и с запекаемой в костре рыбой, и с тем, кто ее запек, — совсем готов поверить, что дело именно в этом.
Иногда Байтов как будто попросту тащит в текст куски наскоро, подручными литературными средствами обработанной реальности, — можно подумать (да, ошибемся), что он просто фиксирует ее в том виде, в каком она подворачивается его наблюдающему взгляду:
Видите ли эти великие кукиши,
бойко друг против друга вздымающиеся? —
Скоро на месте их раскинут пустоши
до горизонта только мусор дымящийся.
На ржавой проволоке цветочки бумажные,
хвоя, хвоя и ленты вылинявшие.
От лени и долгой скуки упавшие,
тлея, блекнут эмблемы пышные…
Протоколирует эту реальность двумя руками сразу, не успевая одной, — левой и правой, в два столбца: два — перебивая друг друга, переходя друг в друга и снова раздваиваясь, оспаривая друг у друга первенство, так и не обретая согласия — параллельных потока наблюдений, две линии событий — внешняя и внутренняя, наблюдения и воспоминания, факты и внутренние голоса, повседневность и история, физика и метафизика, натурализм и апокалиптика.
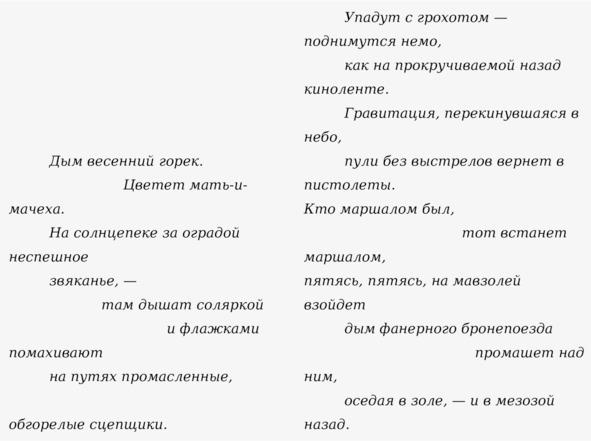
А то и просто — чистое уже протоколирование: реальность сырая, неочищенная, литературно невозделанная — перечень имен на попадающихся навстречу надгробиях:
Шкатуло
Трифон Иванович —
Зоя Евгеньевна Слоновская —
Кормышовы —
Богуш —
Антоновы —
Анна Филипповна Сукозова —
Вьюнов, Вьюнова —
Это «Ваганьково» (1987), один из самых «понятных» текстов в этом сборнике.
Чем, однако, каждое из таких описаний вернее, тем увереннее заявляет оно о собственной недостаточности.
Что до текстов откровенно «непонятных», то они просто заявляют то же самое совсем уж в лоб:
Левая скобка, левая скобка, ротор
синус-два-альфа, дай синих шлейфа, минус —
надо де-эль по де-эф по контуру против
а-угловое-катое… брызнул индекс
белым… и — арфа косить на косинус-флейта…
(«Пустыня. Вторая книга». 1985)
(По датировке, кстати, можно заметить, что эволюция Байтова шла не в направлении убывания или, наоборот, прирастания темноты его речи. Она была какой-то другой, какой — над этим еще следует думать. Мне пока не ясно.)
Для того, что культивирует своими текстами Байтов, напрашивается также название апофатической онтологии.
Здесь речь вот о чем: есть зримое, осязаемое, исследимое разумом — и есть незримое, неосязаемое, разумом не исследимое: собственно, главное, благодаря чему и ради чего вся эта зримая чувственная шелуха и существует.
Байтов показывает различные виды виртуозной, сложноорганизованной растерянности перед миром — и в таком определении одинаково важны обе его части: и то, что это растерянность, и то, что она — сложноорганизованная и виртуозная. Тут принципиальна также и множественность стилей, с которыми по-хозяйски управляется автор, демонстрируя, что все это — не более, чем инструменты из его инвентаря. А версификатор Байтов — блестящий. Он владеет — не говоря уже о тонкой, чуткой звукописи — изрядным разнообразием стилистических регистров, наработанных культурой и хранящихся в литературной памяти способов имитации реальности, и не упускает случая это владение продемонстрировать, — как, например, в насквозь и нарочито «литературном», сшитом из цитат и аллюзий, блестяще имитирующем вторичность тексте «Нескончаемые сетования» (1994–2000).
Уж осень. Зябко на ветру
дрожит засохшая травинка,
склоняясь к твоему бедру.
Кругом холодный дождик сеет,
и нагота твоя белеет
на постаменте средь кустов
полунагого бересклета.
Твои глаза застыли слепо
среди живых его зрачков, —
уперлись окнами пустот
в скелет разрушенного лета,
в его прорехах ты за ним
вплотную следуешь, как эхо…
Когда-нибудь мы вспомним это,
и не поверится самим.
Это — апофатика многоречивая, говорящая обилием разных языков, включая языковидное звукобормотание, возникающее на ходу, куда речь поведет, стремящееся стать языком — вот-вот, кажется, получится! —
В огне схасур я хынше нанов.
Десла не мисьпаю, а тич.
Ой, кабы сою лес в сейсуле…
— и терпящее поражение прямо на наших глазах:
в окно зима, — да на носу ли
мои очки? — одень и виждь!
(Или это выбивается из-под засохшей речевой корки, мгновенно обнажая ее условность и хрупкость, предречевой хаос?)
Во всяком случае, сразу думается о том, что байтовская речь — это речь принципиального, намеренного поражения так называемого здравого смысла.
Да, Байтов описывает мир — однако со стороны его неочевидных движений, которые не ловятся заготовленными шаблонами, видятся как бы боковым зрением, не-зрением, улавливаются такими чувствами, для которых не заготовлено имени. Собранные как будто из узнаваемых сходу элементов принятого в нашей культуре мироописания («Дым и сырость, запах мокрых елок, холод, / в зарослях движенье: тихий шорох капель…»), эти тексты дают понять доверившемуся было всем этим деталям, потерявшему бдительность читателю, что мир ни предлагаемыми элементами, ни хоть даже всей их совокупностью не улавливается. Он сквозит в щелях между ними. И если автор в чем-то совершенно уверен, то именно в этом.
Как будто это звук, фон, дым, речь, фильм, клип, сленг и знак,
на самом деле это миф, миф и миф.
2017
Глагол несбывшегося времени[6]
Поэтическая речь Александра Банникова (1961–1995) натянута между полюсами испытанных поэтом влияний — столь же разных, сколь и характерных для его поколения и времени. Разные голоса, стилистические манеры, модели поэтического поведения, внутренние цитаты, с трудом, если вообще, образующие цельность, не столько взаимодействуют внутри этой речи, сколько конфликтуют друг с другом, спорят, выталкивают друг друга.
Здесь можно расслышать то Маяковского — почти неизбежного для взрослевших в советское время:
Через ущелие боли моей головы
дует сквозняк прегрешений всего человечества,
то фольклор (а вслед за тем и русский рок, как раз начинавшийся в его время):
Тут пятый — темный — угол по-вороньему каркнул,
а валенок спрыгнул с печи — да плясать давай…
Иногда он очень напоминает своего чуть старшего ровесника и тезку Башлачёва:
…закваска вина и любви, убийства и похоти — жажда.
Я впился в нее исподнизу голодною трещиной,
и будто бы кровью чужою губы испачкал,
потом превратился в сплошные жадные губы…
А ночь, перейдя за третью — последнюю — пачку
сухих сигарет, пошла внезапно на убыль.
На другом полюсе явно усвоенных им влияний — «бродская» нарочитая рассудочность (замедляющая стремительное внутреннее движение — не без насилия над ним): «Возраст есть геометрия — измерение пройденного расстояния»; «бродские» длинные строки (в которых он несколько вязнет), переламывающие слово посередине:
Следует, смерть для нее — это предел, нарисованный
мелком берцовой кости — очертание мета-
физической вечности…;
и анжабеманы:
Ответный мой кивок —
есть завершение приветствия знакомцев,
как говорится, шапочных,
«бродский» показной цинизм: «Так, женская нога — всего лишь снятый / с нее чулок — и ничего нет под чулком»; иногда — прямо-таки интонационные цитаты из тогда еще живого и неканонизированного классика «Нет, в наше время папироса значит больше, / чем насыщенье этой папиросой».
Кто и что еще? Может быть, Высоцкий, тоже почти неизбежный для родившихся в шестидесятые; может быть, авторская песня с ее нарочитой, принципиальной неформальностью, как бы неумелостью как гарантиями подлинности и искренности высказывания. (Впрочем, у Банникова неумелость не так уж редко вполне настоящая. Правда, у него она — еще и от стремления поскорее выговорить большие объемы внутреннего движения, и от обилия не вполне подвластной ему самому, недообузданной внутренней силы.)
Следы всего этого способны уживаться иной раз в пределах одного и того же стихотворения. Но из-под всех этих влияний он выбивается.
Когда идут вперед — сгущают грудью, лбом
Пространство…
— говорит он, и в этом, вроде бы совсем не военном, стихотворении мы вдруг отчетливо слышим голос поэта другой войны, Второй мировой: «Когда на смерть идут — поют, / А перед этим можно плакать…» (Семен Гудзенко).
Только Банников — жестче, катастрофичнее, безнадежнее.
Да, Банников — поэт военный. Несмотря на то, что стихи о войне как таковой — а он на ней был — у него как будто не преобладают. Было бы, пожалуй, огрублением выводить его поэзию из травмы афганского опыта целиком, но очень похоже на то, что именно этот опыт (занявший год с небольшим — с августа 1985-го по октябрь 1986-го) стал во многих отношениях решающим и в его поэтической жизни, и в его короткой жизни вообще.
В каком-то смысле на войне он и остался.
Удивительно (ли), но собственно афганские стихи у него — из самых умиротворенных, почти нежных:
Слит с плечом моим ремень Калашникова.
Я есть продолжение курка.
А в России дочь моя калачиком
У жены уснула на руках.
А в России ночь живет для любящих,
свежим ветром затыкает щелочки.
Лягушатами ныряют звезды в лужицы
на обочинах дорог проселочных…
По возвращении в Россию умиротворенность кончилась. Дальше он — сплошная боль и горечь:
Я знаю: мое место в прошлом. И знаю, что занято.
Его битва и тяжба — с самим бытием. Его сквозные темы — одиночество, недопонятость, невозможность понимания, невозможность и недостижимость гармонии, цельности и полноты жизни вообще:
Все то, кем я не смог, кем я не стал,
где не был я и где не рос —
в небудущих — небывших небесах,
где отрицательные числа звезд
не стали звездами — но как пиявки
высасывают кровь дурную — птичью.
Там — в глубине несбывшести, неяви
меня уже не ищут…
Его постоянное чувство — телесно ощущаемая затрудненность и боль существования, которую он иногда выкрикивает, но чаще выговаривает тяжеловесными (не нарочито ли затрудненными?), задыхающимися конструкциями:
Смиренье — место опоздавших. Вновь безраздельное вино
в моем стакане — я второго уж не держу который год.
Как из пращи — твое «прощай» — и даже не само оно,
а представление о нем — мы не прощались. И глагол
теперь так редко в речь мою приходит. И к тому же как
глагол несбывшегося времени — как призрак корабля во мгле
пространства мертвых. Но явил немой закон из-под замка:
«Кто мертвым призрак — тот вдвойне живой. Вдвойне»,
физиологически проживаемые тоска и протест:
А глину лиц людских измяли пальцы
теней предметов — близких и далеких.
Ночь на осколки зрения распалась.
Углы усмешек встречных колют локти,
затылок, спину рвут на полосы.
Я ощущаю липкое и гадостное:
как встречный обернувшимся становится,
и влазит взгляд в меня — как градусник…
Но этот протест — не социален (притом что отношения с социумом у автора — крайне сложные, полные отталкивания: «Из летописи человечества: человечеством движет глупость, / ибо в него сбиваться — это есть глупость первая»). Он шире, глубже и безнадежнее. Банников — метафизик.
Я так научился искать: что раньше казалось щелью
между ночью и днем, сейчас — вход в преисподнюю.
И если бывает болевая, всем телом проживаемая метафизика, то это она. Она — и антропологический ужас:
После того, что случилось с людьми — не надо о жалости,
при них говорить — сами опомнятся скоро,
когда прикоснувшись к себе — собою ужалятся,
а тело рассыплется и — расползется по норам.
Я этим про
