автордың кітабын онлайн тегін оқу Гротески
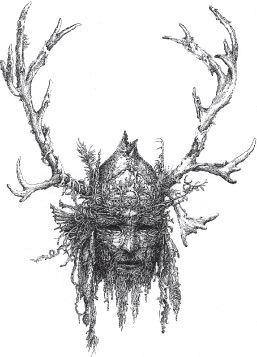
Ханс Хайнц Эверс
Гротески
Hanns Heinz Ewers
GROTESKEN
Переводы с немецкого языка выполнили:
«Соус из томатов», «В краю чудес», «Бледная дева», «Человекубатор», «Аристократка Элли Барвальд», «Кадисский карнавал», «Свободные отношения», «Смерть черепахи», «Хелла», «Утро Паломиты» – Г. О. Шокин; «Одиннадцать тысяч дев и четыре волхва», «Кольцо», «Призрак Раммина», «Ходатайство», «Заседание» – Е. О. Крутова; «Как я побывал в раю», «Кривая», «Приключение в Гамбурге», «Распятый Тангейзер» – В. И. Колыхалова; «Сердца королей», «Господа юристы», «Утопленник», «Конец Джона Гамильтона Ллевелина», «Из дневника померанцевого дерева», «Мертвый еврей», «Мамалои» – анонимный переводчик (печ. по изд.: Эверс, Г. Г. Ужасы. СПб.: Т-во А. Ф. Маркс, 1911); «Тофарская невеста» – анонимный переводчик (печ. по изд.: «Огонек». – 1909. – № 10. – С. [2–3, 6–7, 10–11]); «Мои похороны», «Оригинальная коллекция», «Почему Арно Фальк влюбился» – З. Д. Львовский (печ. по изд.: «Иностранный юморъ». – 1913. – Дешевая юмористическая библиотека «Сатирикона». – Вып. 90. – С. 3–52).
© Шокин Г. О., составление, перевод на русский язык, 2022
© Колыхалова В. И., вступительная статья, перевод на русский язык, 2022
© Крутова Е. О., перевод на русский язык, 2022
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2023
Нераскаявшийся Тангейзер
Германия – страна, подарившая миру не одно поколение выдающихся поэтов и писателей, мастеров художественного слова, в которое они облекали бурные страсти, терзания мятущихся душ на пути самопознания, зловещие тайны и мистические события.
Эпоха романтизма к концу XVIII века сменила школу «Бури и натиска»: тема борьбы с тиранией, мятежа и конфликта с существующим порядком, схлынув, подобно штормовой волне, подготовила почву для возникновения в искусстве настроения эскапизма, желания вырваться из скучного мира бюргерства, цифр и рассудка. Возникло знаменитое, до сих пор воспеваемое немецкое Sehnsucht – порой страстное, порой робкое и безнадежное томление по недосягаемому идеалу, совершенной гармонии – недосягаемое в силу неопределенности цели.
Sehnsucht – это и есть упоительный процесс поиска, путь желания, неутолимая жажда, удовлетворяющая ищущего гармонии романтика именно своей неутолимостью.
Произведениям эпохи романтизма свойственны оттенки широкой гаммы чувств, в том числе боли, печали и горечи, – это и воспоминания о былых наслаждениях, горечь от утраченных радостей, страстное желание вернуть ушедшие ощущения хотя бы в виде воспоминаний. Светлое томление часто оборачивается тоской, нередко даже скорбью, и будит фантазии пугающие, кровожадные и исступленные. В этом смысле английский готический роман на равных соревнуется за интерес читателя с немецким романтизмом, тяготеющим к мрачному фольклору – к страшным сказкам и легендам средневековой Европы. Описание необычного, сверхъестественного через переживания участников событий во многом определили законы и эстетику литературы ужасов – хоррора, каким мы его знаем и любим в настоящее время.
Опираясь на целый ряд трактовок, которые предлагают нам современные толковые словари, можно выстроить некое комплексное определение мистики как необъяснимой и всецело потаенной области человеческой жизни, основанной на вере в существование сверхъестественных, фантастических сил, с которыми особым таинственным образом связан и может общаться человек. Соприкосновение с этой областью, как правило, ведет к различным трансформациям человеческой души; для слабых и малодушных это процесс отнюдь не всегда позитивный, чаще – плачевный и ужасающий. И только истинно сильные духом, наделенные мощным самосознанием и талантом индивиды способны через катарсис и мистический экстаз достичь единения с самим собой и даже с Богом.
Это вполне укладывается в мировоззрение романтизма: серые обыденные декорации привычного мира лишь заслоняют, порой не слишком тщательно, мир сверхъестественный – мир страшный, но и чудесный. В этой связи уместно привести в качестве примера как классические истории о привидениях, так и основанные на фольклоре и античных мифах произведения об искусственно созданных людях: идея создать копию по своему образу и подобию всегда манила человека, но «игра в Бога» всегда осознавалась как смертельно опасная затея, и это нашло отражение в большинстве произведений на данную тему.
Немецкие романтики не стали исключением: и в «Песочном человеке» Эрнста Теодора Амадея Гофмана, и в знаменитом романе «Альрауна» Ханса Хайнца Эверса действуют роковые обольстительницы – человекоподобный механизм и плод жуткого биологического эксперимента. И если Олимпия Гофмана послужила вдохновительницей многих и многих произведений научной фантастики, то рожденная проституткой от семени висельника Альрауна, без сомнения, принадлежит миру хоррора; она властно влечет нас в тень, в мир странных желаний и жутких образов. «Альрауна» – литература высшей пробы, не просто роман ужасов, но и пронзительная любовная драма с нотками поэтизированного эротизма; ее заглавная героиня – это эверсовская интерпретация «инфернальной дамы»: смертоносная, сексуальная, загадочная, дьявольски привлекательная и жестокая.
Само название романа «Альрауна. История одного живого существа» (Alraune. Die Geschichte eines lebenden Wesens) ясно дает понять, что автор весьма далек от мысли идеализировать героиню. Более того, он не оставляет читателям ни малейшего шанса симпатизировать ей. Знакомство с ней вызывает смешанные чувства, а ее последующее поведение – нарастающее отвращение. В ходе повествования робкая надежда на изменение ситуации и некий твист, который позволит взглянуть на героиню другими глазами, с сочувствием или пониманием, разбивается о ее бездушие, корысть и изощренное коварство. В качестве своеобразной попытки примирить нас с этим существом Эверс противопоставляет ему многочисленные пороки и мерзость общества, предлагая читателю самому решать, кого он устрашится и возненавидит больше – человека искусственного или обыкновенного. Ein lebendes Wesen, не больше и не меньше – и не стоит питать иллюзий.
«Альрауна» – роман весьма неторопливый, но не затянутый. Средства выражения в повествовании – образные, живые, насыщенные; некоторые сцены можно перечитывать снова и снова – настолько они правдоподобны и вместе с тем необычны. Кажется, вся красота, которой лишены души персонажей, заключена именно в форме, которую придал своей выдумке автор. Это завораживающе прекрасная мистика, наполненная остроумными аллегориями, с вкраплениями насилия и безумия. Истинное эстетическое наслаждение!
Однако в галерее выдающихся женских портретов у Эверса есть место и образу жертвы. Но и здесь все далеко не однозначно. В рассказе «Великая любовь» о любви сказана едва ли пара слов, но исключительно мастерски показано то, что делает любовь великой. Но «…как раз эта любовь ко всем кровоточащим ранам в ее душе добавила новую, которая болела сильнее других».
Höchste Liebe – это буквально созвучие евангельскому «Нет выше той любви…» Жертвуя собой, Инге Астен не исчезает в небытии, а возносится на новый, недосягаемый для земной любви уровень – и, что самое парадоксальное, получает то, чего была лишена при жизни. Речь здесь о чувстве гораздо большем, чем простая взаимность – для своего возлюбленного Инге становится божеством, которому он поклоняется: «Он играл „Воздух“, и цветы переставали существовать, от них оставался лишь сладкий аромат, содержащий в себе ее душу, чистую душу мертвой женщины… и душа эта была счастлива». Так Инге, жертвуя собой, становится главной движущей силой, вершительницей судьбы героя, при этом едва проявившись в тексте – исключительно в виде обрывочных воспоминаний разных людей.
С равновеликим мастерством Эверс выводит на сцену (в виде полубредовых видений) образы женщин в рассказе «Распятый Тангейзер». В отличие от их безымянного соблазнителя у каждой есть имя, которое тот не забудет до самой смерти, – из его жертв они превращаются в его палачей. Он прячет свое лицо под слоем пудры – их же прекрасные черты, даже превратившись в лики смерти, будят упоительные воспоминания, и он наслаждается уготованной ему судьбой, с восторгом позволяет вершить над собой казнь.
Хмельной Тангейзер Эверса предстает перед нами на зацелованном солнцем Капри – распятым, но не раскаявшимся, он словно говорит нам: «Я ни о чем не жалею!» Это гимн гедонизму в его «оскар-уайлдовском» варианте. Таким же жадным до жизни был и сам Ханс Хайнц Эверс, наполнявший каждый свой день новыми знакомствами, открытиями, путешествиями, разнообразными занятиями и увлечениями… Трудно вообразить, сколько он успел сделать и насколько обогатил свою жизнь – и тем более повезло нам, ведь так же обширно и его литературное наследие!
Нельзя не отметить и тот любопытный эффект, благодаря которому интригующая история героев Эверса не ограничивается рамками описываемых событий, просматриваясь далеко за гранью вмещающего ее произведения. Благодаря ему мы можем пофантазировать о том, как ранее отчаянно чудил герой рассказа «Распятый Тангейзер», что и стар и млад при встрече привычно называют его безумцем – и явно не за сегодняшний шутовской внешний вид, здесь кроется нечто более эксцентричное, а может быть, и шокирующее.
Заключив хронометраж событий едва ли в пару часов, Эверс, совсем не прибегая к флешбэкам, позволил нам без труда вообразить картину жизни повесы, сластолюбца и эстета; вместил в короткий рассказ и жизнь, и смерть. Редко кто из авторов малой формы владеет таким мастерством.
Писатель, считавший себя наследником Эдгара По и Оскара Уайльда, увлекавшийся спиритизмом и оккультизмом, изучавший на Гаити культ вуду и водивший знакомство с Алистером Кроули, просто не мог избежать в творчестве мотива смерти. И хотя рассказ «Распятый Тангейзер» Эверс написал в достаточно молодом возрасте, кто нам помешает предположить, что именно такое memento mori виделось ему наиболее привлекательным и предпочтительным: картина распятия настолько прекрасна, что заставляет не страшиться неизбежного, а страстно желать его. И то верно: легендарный Тангейзер просто не может быть умерщвлен каким-то тривиальным способом и банально закопан в землю. После такого чудесного распятия он, скорее, будет уложен в хрустальный гроб, а упряжка лошадей в торжественных плюмажах навечно увезет его в дальнюю даль.
Ваша покорная слуга, работая над переводом рассказа, позволила себе еще одну смелую фантазию: коль скоро автор лишил своего Тангейзера реального имени, но облачил в наряд Пьеро, было соблазнительно примерить на него личность знаменитого русского Пьеро, русского миннезингера и такого же любителя знойного Капри – Александра Вертинского: яркий представитель богемы, любимец женщин, резкий в суждениях, полный честолюбивых замыслов, с сердцем, отравленным пьянящей поэзией о Прекрасной Даме…
Именно обилие в произведениях Эверса мощной эстетической составляющей и совершенно особенного черного юмора позволяет причислить их к жанру хоррора с очень большой оговоркой. Дотошный блюститель чистоты жанра из огромного наследия писателя сможет, не поморщившись, отнести к готике с элементами кровавого декаданса едва ли дюжину текстов. Поклонник чистой мистики о вампирах и привидениях и вовсе будет разочарован.
Эверса в целом трудно вписать в однозначный канон: для любовной лирики он слишком кровожаден, для сплаттерпанка – слишком сентиментален, для романической саги – чересчур циничен. «Ужасная» составляющая произведений Эверса довольно специфична. Но бесспорно то, что его сюжеты невероятно изобретательны, парадоксальны, увлекательны – и при этом сверхъестественного в них почти нет.
Отдельного восхищения заслуживает совершенно особенный язык произведений Эверса. Упоительный – наиболее подходящее определение. Немецкий язык отличается многообразием способов выражения модальности, богатством и многозначностью прилагательных, тонкостью нюансов глагольных конструкций – и всем этим роскошеством Эверс владеет в совершенстве, виртуозно использует его для создания повествования многослойного, парадоксального, иногда – ироничного, иногда – сентиментального, иногда – драматичного, мрачного. Но неизменно – прекрасного.
Виктория Колыхалова,писатель, переводчик
Ужасы
Das Grauen
1907
Соус из томатов
Кто дальних стран границы пересек,
Средь видов непривычных видел все,
И делится рассказом обо всем —
Того зовут на родине лжецом.
Увы, для маловерного закон —
Лишь то, что осязать способен он…
<…>
Но верят мне иль нет – а все ж глупы
Упреки недоверчивой толпы.
Ариосто. «Неистовый Орландо». Песнь VII, Вступление
В первый раз – пять недель тому назад на корриде, когда черный бык Миуры ранил в руку маленького Квинито, в следующее воскресенье – опять, а также и в последующее – на каждой корриде встречал я его. Я сидел внизу, в первом ряду, чтобы делать снимки; его же место, выкупленное по абонементу, находилось рядом с моим. Маленький человечек в шляпе-котелке, в черных одеждах английского пастора – вот кто он был, бледный, безусый, в очках с золотой оправой, с одной примечательной чертой – у него совсем не было ресниц.
Я сразу обратил на него внимание. Когда первый бык поднял на рога гнедую клячу, и с нее грузно сверзился рослый пикадор, когда лошаденка с трудом вскочила на ноги и заковыляла с распоротым брюхом, наступая на свои волочившиеся по песку окровавленные внутренности, путаясь в них… тогда я услышал возле себя тихий вздох, отчетливо полный удовлетворения.
Днем мы сидели рядом, но не обменялись ни единым словом. Зрелищные игрища бандерильеро[1] его мало интересовали. Но когда эспада вонзал свой клинок в затылок быка и рукоять подобно кресту водружалась над могучими рогами, он хватался руками за перила и подавался вперед. Garrocha[2] – вот что было для него самым главным. Когда кровь фонтаном била из груди лошади или когда чулос[3] ударом кинжала в темя приканчивал смертельно раненное животное, когда разъяренный бык растерзывал на арене лошадиные трупы, зарываясь рогами в их зияющее нутро… тогда этот человек нежно потирал руки.
Однажды я спросил его:
– Вы горячий поклонник боя быков! Полагаю, вас впору величать… афичионадо[4]?
Он кивнул, не проронив ни слова, всем видом давая понять – не мешайте смотреть.
Гранада не так уж велика; вскоре мне довелось узнать его имя. Он был духовником маленькой английской колонии. Его соотечественники постоянно называли его «Падре» и, по-видимому, считали не вполне нормальным. С ним никто не водил знакомства.
В одну из сред я посетил бой петухов. Проходил он в маленьком амфитеатре в форме круга, с возвышающимися рядами скамей. В середине, аккурат под стеклянным просветом, раскинулась арена. Малодушного способна была с ходу отвадить атмосфера, царившая там: сотканная из телесной вони толпы, ругани и повсеместного харканья.
Вот вынесли пару петухов, похожих на куриц – им заранее отрезали гребешки и хвосты. Взвесили, опустили на арену, и они тут же, точно одержимые, кинулись друг на друга. Вихрем закрутились перья; вновь и вновь соперники кидались друг на друга, бились насмерть клювами и шпорами… не издавая ни звука. А кругом человеческий скот – орет, горланит, свистит, делает ставки:
– Ага, желтый белому глаз выдрал!
– Вижу, вижу! И склевал его тут же!
Птичьи головы на давно уже ощипанных докрасна и истерзанных шеях недобро покачивались – таким качаньем змея грозит факиру. Противники ни на миг не отставали друг от друга, пурпур окрасил их перья. Формы уже почти неузнаваемы; птицы кружатся, как две алые юлы. Желтый потерял оба глаза и слепо тыкался по сторонам; клюв увечного белого ежесекундно врубался ему в голову. Наконец он свалился – без сопротивления, без крика боли, позволяя врагу окончить дело. Это не так скоро, минут пять-шесть нужны для этого белому – он сам измучен насмерть ударами шпор и клевками.
Вот они сидят вокруг, мне подобные, хохочут над бессильными ударами победителя, кричат ему и считают клевок за клевком… забавы ради.
Наконец! Тридцать минут – установленная норма – прошли, бой окончен. Детина – владелец побеждающего петуха – подымается и со злорадным смехом добивает птицу своего противника – это право принадлежит ему. И вот трупы берут, обмывают у колодца, считают их раны… забавы ради.
Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча.
– Как поживаете? – спросил Падре. Его оголенные водянистые глаза излучали из-за широких стекол воодушевление. – Вам же понравился этот бой?
В первый момент я не понял, говорит ли он серьезно или шутит. Его вопрос казался мне настолько оскорбительным, что я уставился на него недоуменным взглядом, ни словом не обмолвившись. Но Падре не понял моего молчания, принял его за знак согласия – такова была сила его убежденья.
– Да, – произнес он спокойно и тихо, – это сущее наслаждение.
Нас оттеснили друг от друга, а на арену уже выносили двух новых петухов.
В тот же вечер я был приглашен на чашку чая к английскому консулу. Придя точно ко времени, я оказался первым из гостей. В то время как я здоровался с ним и с его старой матерью, он крикнул мне:
– Рад, что вы пришли так рано, как раз хотел вас на пару слов!
– К вашим услугам, – ответил я с улыбкой.
Придвинув мне качалку, консул заговорил со странной серьезностью:
– Я далек от того, чтобы читать вам наставления, дорогой мой. Но если вы намерены остаться здесь на более долгое время и сохранить свои связи с обществом, а не только лишь с английской колонией, я бы дал вам дружеский совет…
Я старался догадаться, к чему он клонит:
– А именно?..
– Вас часто видели с нашим священником.
– Я знаю его, но поверхностно. Сегодня днем мы впервые обменялись парой слов…
– Тем лучше! – горячо воскликнул консул. – И я бы посоветовал вам по возможности избегать этого знакомства – по крайней мере, публично…
– Благодарю вас, господин консул, – сказал я. – Не будет ли нескромно спросить о причинах вашей обеспокоенности?
– Конечно, я обязан дать вам объяснение, – ответствовал он. – Но не думаю, что оно вас удовлетворит. Падре… знаете же, что все его так прозвали для краткости?
Я утвердительно кивнул.
– Ну так вот, – продолжал консул, – Падре не пользуется уважением в обществе. Он регулярно посещает корриду – это еще ничего! – и не пропускает ни одного петушиного боя – словом, одержим страстями несносного, совершенно не европейского толка.
– Господин консул! – воскликнул я. – Если его так сильно осуждают за это, на каком основании оставляют на таком, вне сомнений, почтенном посту?
– Все-таки он – наш преподобный, – заметила старая матушка чиновника.
– А к тому же, – подхватил консул, – за все те двадцать лет, что прослужил он здесь, не было ни одного существенного повода подвергнуть его остракизму. Место священника в нашем маленьком приходе наиболее скудно содержится на всем континенте, и нам не так легко было бы найти заместителя…
– Следовательно, его проповедями вы довольны? – обратился я к матери консула, стараясь, насколько возможно, подавить коварную улыбку.
Старая дама выпрямилась в кресле.
– Никогда бы я не позволила ему произнести в церкви хотя бы одно его собственное слово, – сказала она решительным тоном. – Каждое воскресенье он читает один и тот же текст из книги проповедей.
Ответ этот несколько смутил меня, и я замолчал.
– Впрочем, – снова начал консул, – было бы несправедливо не упомянуть и о славных сторонах личности нашего священника. У него немаленькое состояние, проценты которого расходуются им исключительно на благотворительные цели, в то время как он сам, не касаясь его злосчастных страстей, живет не только скромно, но даже и бедно.
– Хороша благотворительность! – прервала его мать. – Кого же он поддерживает? Раненых тореадоров и их семьи, жертв сальсы, и только.
– Жертв… чего? – уточнил я.
– Моя мать говорит о «сальса де томатес», – пояснил консул.
– О томатном соусе, выходит? – удивился я. – Какие же от него жертвы?
Консул взялся объяснять с улыбкой:
– То есть о другом значении вы и не слышали? Речь идет о древнем и бесчеловечном обычае в Андалузии, который, к сожалению, дожил и до наших дней, вопреки наказаниям, налагаемым за приверженность ему церковью и судьями. За все время моего консульства «сальса» дважды состоялась в Гранаде, и тогда не удалось дознаться толком подробностей, ибо соучастники, несмотря на практикующиеся в испанских тюрьмах решительные методы, охотнее бы согласились откусить себе язык, чем проронить словечко. Вот почему я могу сообщить лишь неточные, а может, и вовсе неверные сведения; если вас интересует тайна столь дикого рода, то попросите Падре рассказать вам о ней! Ибо его считают – впрочем, без доказательств за душой – приверженцем этой чудовищной мерзости; это подозрение и есть главная причина, по которой с ним избегают знаться!
Тут пришли еще несколько гостей, и наш разговор был прерван.
В следующее воскресенье я захватил на бой быков несколько особенно удавшихся фотографических снимков с последней корриды. Я хотел их подарить ему, но он даже и не взглянул на них.
– Простите, – сказал он, – но это меня вовсе не интересует.
Я сделал вид, что удивился.
– О, я не хотел вас обидеть! – пробормотал он. – Видите ли, я люблю, когда есть цвет – ярко-красный цвет крови… – Это прозвучало почти поэтически, когда этот бледный аскет произнес: «Красный цвет крови».
Но мы разговорились, и в разговоре я совершенно внезапно спросил его:
– Мне страшно хотелось бы посмотреть «сальсу», не возьмете ли вы меня как-нибудь с собой?
Священник замолчал, его бледные истрескавшиеся губы дрожали.
– Сальсу?.. – переспросил он. – Хотите сказать, вы… знаете, что это такое?
– Разумеется! – солгал я.
Он снова посмотрел мне прямо в лицо; в это время взгляд его упал на застарелые рубцы у меня на щеках и на лбу, оставшиеся от участия в мензурных фехтовальных боях[5]. Дрогнувшей рукой он потянулся к моему лицу и нежно огладил рытвины шрамов пальцем; эти знаки пролитой в ребячестве крови точно стали тайным пропуском, ибо священник торжественно произнес:
– О да, вас я возьму с собой!
Несколько недель спустя как-то вечером, часов около девяти, ко мне постучались. Я не успел еще крикнуть «войдите», как вошел Падре.
– Я за вами, – произнес он.
– Что вам угодно? – спросил я.
– Вы же сами знаете, – ответил он мне. – Готовы?
Я поднялся на ноги:
– Сию минуту! Могу ли я предложить вам сигару?
– Благодарю вас, не курю.
– А стаканчик вина?
– Сан воспрещает мне угождать животу без меры. Спешите!
Я взял шляпу и последовал за ним вниз по ступеням в лунную ночь. Молча шли мы по улицам – вдоль берегов реки Хениль, под обагрившимися свежим цветом пирровыми деревьями. Свернув налево, мы поднялись на гору Мавров и зашагали по Полю Мучеников. Впереди, купаясь в тепло-серебристых лучах, сияли снежные вершины Сьерры; кругом, над холмами, вспыхивали слабые зарева – шли они от землянок, в которых обычно ютились цыгане и иной сброд. Мы обогнули глубокую долину Альгамбры, почти доверху залитую морем зеленых вязов, миновали высокие твердыни династии Назаридов, прошли по аллее древних кипарисов к Хенералифе и кверху на гору, где последний маврский эмир, светлый Боабдиль, посылал свой прощальный привет канувшей Гранаде минувших лет.
Я посмотрел на своего странного спутника. Его задумчивый взгляд не замечал красы этой ночи. Лунный свет играл на его тонких бескровных губах, на ввалившихся щеках и в глубоких височных ямах. Вдруг мне показалось, что я уже целую вечность знаю сего аскета. Совершенно непроизвольно я понял, откуда бралось это узнавание: да ведь именно такие лица суровый Франсиско де Сурбаран рисовал у исступленных монахов!
Теперь дорога шла среди широколистных агав, что тянули ввысь, на высоту роста трех мужчин, свои жесткие, как древесина, цветочные стебли. Слышно было, как за горою шумит Дарро[6], разбивая буруны о скалы.
Вдали показалось трое мужчин в изодранных коричневых плащах; они еще издали привечали моего спутника.
– Это охранники, – заметил Падре. – Остановитесь здесь, я поговорю с ними.
Он направился к этим людям, которые, казалось, ждали его. Я не мог понять, о чем они вели речь – вернее всего, обо мне. Один из них оживленно жестикулировал, поглядывал на меня недоверчиво, размахивал руками и вскрикивал: Ojo, el caballero[7]. Но мой спутник успокоил его, и в конце концов тот сам кивнул мне.
– Sea usted bienvenido, caballero[8], – поприветствовал он меня, снимая шляпу.
Другие двое караульных остались на своих постах, а этот третий пошел нас провожать.
– Он – патрон, manager всего дела, – пояснил Падре.
Пройдя несколько сотен шагов, мы подошли к землянке, ничем не отличавшейся от легиона других подобных жилищ, разбросанных по горным склонам Гранады. У входа в эту пещеру был расчищен небольшой участок, обнесенный кактусами. Там толпилось человек двадцать, но среди них цыган не было. В углу, меж двух камней, горел небольшой костер, а над ним висел котелок.
Падре полез в карман, вытащил один за другим несколько дуро[9] и отдал их нашему провожатому.
– Этот народ страшно недоверчив, – сказал он. – Они берут только серебро.
Андалузец присел к огню и взялся проверять каждую монету, пробуя на зуб, стуча ею об камень. Потом стал считать. Вышло что-то около сотни в песетах.
– Не дать ли и мне ему денег? – спросил я.
– Не стоит, – ответил Падре. – Лучше играйте, это будет более безопасно.
Я не понял его:
– Более безопасно? Каким же образом?
Падре улыбнулся:
– О, вы этим становитесь на более равную ногу… и в равную ответственность с этими людьми.
– А скажите, ваше преподобие, – воскликнул я, – вы сами-то почему не играете?
Он спокойно выдержал мой взгляд и ответил небрежно:
– Никогда не играю. Дрязги по ставкам… они не дадут мне получать чистую радость от созерцания.
Между тем подошли еще несколько подозрительных личностей, все закутанные в неизменное коричневое сукно, из которого андалузцы издавна шьют накидки.
– Чего же мы ждем? – спросил я одного из них.
– Луны, кабальеро, – ответил он. – Сперва она должна закатиться.
Мне предложили большой стакан агуардиенте[10]. Я было отказался, но англичанин преподобный настоятельно втиснул его мне в руку.
– Пейте, пейте! – настаивал он. – Вы – в первый раз… может, вам это необходимо!
Другие также успели порядком выпить, но никто не шумел, лишь быстрый хриплый шепот нарушал безмолвие ночи. Луна спряталась на северо-западе, за Кортадура. Наружу из землянки вынесли несколько смоляных факелов и зажгли их. Из камней, валявшихся окрест, соорудили небольшой круг, то была арена. Вокруг нее вырыли лунки, в которых укрепили факелы, и в красном отблеске пламени медленно принялись разоблачаться двое мужчин. Оставив только кожаные штаны, они ступили в круг, уселись друг напротив друга и скрестили ноги по-турецки.
Только теперь я заметил, что в землю были горизонтально врыты два толстых бревна с вделанной в них парой железных колец. Между этими-то кольцами и расположились оба парня. Кто-то из присутствовавших сбегал в землянку, принес оттуда пару толстых веревок. Веревками обмотали туловище и ноги у каждого парня, крепко привязав каждого к бревну. Они оказались будто в тисках, лишь верхняя половина тела имела свободу движений.
Так сидели они, не произнося ни слова, курили свои папиросы и стаканами пили агуардиенте; им подливали раз за разом. Без сомнения, оба были уже сильно пьяны, что по их бездумно выпученным глазам делалось очевидным. А кругом, среди чадящих смоляных факелов, расположились остальные.
Вдруг позади меня раздался отвратительный, раздирающий ухо, визжащий лязг. Я обернулся: на круглом точильном камне кто-то неспешно заострял маленькую наваху. Он попробовал ее о ноготь большого пальца, отложил в сторону и взял другую.
Я обратился к своему спутнику:
– Итак, эта «сальса» – вид дуэли?..
– Дуэли? О нет, это подобие петушиного боя.
– Вот как! – воскликнул я. – И по какому поводу эти господа петушатся? Они затаили вражду друг на друга? Соперничают за женщину?
– Ничего подобного, – спокойно вымолвил англичанин. – У них нет ни малейшего основания биться. Быть может, они лучшие друзья… быть может, даже не знают друг друга. Они только хотят доказать свою смелость. Хотят доказать, что не уступают ни быкам, ни петухам… Это нечто вроде ваших немецких студенческих мензур.
За границей я всегда патриот, чему научился у британцев: «Если в моей стране так принято, значит, это правильно»[11]. Поэтому я ответил резко:
– Ваше преподобие, сравнивать глупо! И не вам об этом судить!
– Как знать, – заметил Падре. – В Геттингене я имел честь быть свидетелем отборной мензуры… Много крови там было, так много крови…
Между тем патрон действа уселся возле нас. Он вытащил из кармана засаленную записную книжку и огрызок карандаша.
– Кто ставит на Бомбито? – крикнул он.
– Я!
– Один песет!
– Два дуро!
– Нет, я ставлю за второго – за Лагартихило!
Пьяные голоса накладывались один на другой, и Падре схватил меня за локоть.
– Скомбинируйте ваши ставки так, чтобы вы проиграли, – крикнул он, – играйте один против многих, с этой бандой необходимо быть крайне осторожными!
Таким образом, я пошел на целый ряд предложенных мне пари, причем в каждом отдельном случае играл один против троих. И так как я ставил на обоих, то неминуемо должен был проиграть. В то время как manager неуклюжими росчерками заносил на бумагу ставки, кругом из рук в руки переходили острые навахи. Сложив ножи вместе, их передали обоим борцам.
– Какую ты хочешь, Бомбито Чико, петушок мой? – смеялся точильщик.
– Давай уже сюда! Все равно! – зарычал пьяный.
– Я желаю свой собственный нож! – крикнул Лагартихило.
– Ну так давай и мне – мой! Так будет лучше! – прохрипел Бомбито.
Все ставки были учтены, и manager велел поднести обоим еще по стакану выпивки. Они опрокинули подачки залпом, отшвырнули папиросы. Каждому вручили красное сукно и пояс, которыми они крепко обвязали себе левую руку ниже локтя и кисть.
– Можете начинать, ребятишки! – крикнул патрон. – Раскройте ножи!
Выкидные клинки обеих навах показали стальные языки, когда пружинные шарниры зафиксировали лезвия с громкими неприятными щелчками. Оба борца хранили кажущуюся невозмутимость, замерев без движения.
– Начинайте же, зверушки! – повторил патрон.
Борцы сидели неподвижно, не шевелились.
Андалузцы начинали терять терпение:
– Отделай же его, Бомбито, бычок мой! Ударь его рожками в брюхо!
– Начинай, малый, я три дуро поставил на тебя!
– Какие из вас петушки – вы же сущие курицы, пара наседок!
И всеобщий нестройный хор загорланил:
– Курицы! Наседки! Кладите же яйца, птички трусливые!
Бомбито Чико вытянулся и ударил своего противника. Тот поднял левую руку; лезвие навахи глухо прошлось по толстому сукну. По-видимому, оба парня были настолько пьяны, что еле владели своими движениями.
– То ли еще будет, то ли еще будет, – разгоряченно шептал Падре. – Дайте только этим господам увидеть кровь!
Андалузцы не переставали натравливать одного на другого, то подбодряя, то желчно насмехаясь. Крики давили на уши:
– Курицы! Курицы-наседки! Ну что, отложили яйца?..
И вот они бросились друг на друга, сделав выпады едва ли не наугад. В первую же минуту один боец получил легкий удар ножом в левое плечо.
– Браво, милый мальчик, браво, Бомбито! Покажи ему, петушок, что у тебя и шпоры есть!
Они сделали маленькую паузу, отерли грязный пот со лба.
– Воды! – крикнул Лагартихило.
Им подали большие ковши, и они пили долгими глотками. Было видно, как они отрезвлялись. Их почти равнодушные прежде взгляды становились упорными, острыми; полные ненависти, глядели они друг на друга.
– Ты готов, курица? – прохрипел тот, что пониже.
Вместо ответа противник замахнулся и распорол ему щеку снизу доверху. Кровь тут же хлынула на голый торс.
– О, начинается, начинается… – забормотал возбужденный Падре.
Андалузцы молчали; жадно следили они за движениями того борца, на которого поставили свои деньги. А двое людей бросались друг на друга, а ножи все вонзались, все вонзались…
Блестящие клинки серебряными искрами вспыхивали в красных отблесках пламени, крепко впивались в суконные щиты на левых руках бойцов. Большая капля кипящей смолы упала одному из борцов на грудь – он и не заметил этого.
Так быстро мелькали в воздухе их руки, что невозможно было понять, достигали ли их удары цели. Лишь кровавые ручьи, прорезавшиеся всюду на теле, свидетельствовали о новых атаках.
– Стоп! Стоп! – вдруг закричал патрон.
Парни продолжали все дальше.
– Стойте! У Бомбито сломался клинок! – крикнул он снова. – Разнимите их!
Двое из присутствовавших вскочили, схватили фанеру, на которой сидели, и грубо бросили ее между борцами, потом подняли ее кверху – настолько, чтобы те не могли более видеть друг друга.
– Дайте сюда ножи, зверьки! – крикнул патрон.
Парни неохотно повиновались.
Острый глаз не обманул его; клинок Бомбито треснул пополам. У Лагиртихило нож срезал почти всю ушную раковину, и лезвие переломилось, ударившись о твердь черепа.
Парням налили по стакану, дали новые ножи, подняли разделитель…
И вновь они бросились друг на друга, как два петуха, обезумев, в слепой ярости, нанося удар за ударом… Бронзовые тела их окрасились в пурпур, из дюжины ран сочилась кровь. Со лба маленького Бомбито свисал истрепанный лоскут кожи, мокрые пряди темных волос залепили рану. Его нож запутался в повязке его противника, и последний нанес ему два-три глубоких удара в затылок.
– Убери эту тряпицу, если не трус! – крикнул маленький и сам сорвал зубами сукно с левой руки.
Лагартихило помедлил мгновение, а затем ответил на вызов. Бойня продолжалась; бессознательно парировали враги и после того своими левыми руками взаимные удары, и руки их через несколько минут оказались непоправимо, до алой пульпы, искромсаны. Вот у кого-то опять сломался клинок, опять поставили барьер, опять подали им спирта и пару новых ножей…
– Ударь его, Лагартихило, сильный бычок мой, ударь его! – крикнул один из мужчин. – Выпусти кишки этой бесполезной коняге!
И в ту минуту, когда подняли барьер, Лагартихило неожиданно нанес своему врагу страшный удар в живот; провернув лезвие, точно ключ в двери, рванул его снизу вверх – и ворох кишок выпал из длинной раны. Потом в мгновение ока он снова ударил его сверху – и попал ему под левый плечевой сустав, перерезав большую артерию, питающую руку…
Бомбито вскрикнул, скрючился, и могучий фонтан крови брызнул в лицо его врагу. Казалось, что, обессиленный, он должен был упасть, но он еще раз выпрямил свою могучую грудь, замахнулся и ударил ослепленного кровью оппонента; ударил его между двух ребер, поразив прямо в сердце.
Лагартихило всплеснул обеими руками, наваха выпала из правой. Его могучее тело безжизненно склонилось вперед, навстречу противнику. Умирающему Бомбито, из чьей раны по широкой дуге била ужасная алая струя, орошая мертвого врага, это зрелище будто придало сил. Как одержимый, он вновь и вновь вонзал ненасытную сталь в окровавленную спину Лагартихило.
– Перестань, Бомбито, храбрый малыш! Ты победил! – промолвил спокойно патрон.
И вот произошло самое чудовищное: Бомбито Чико, чьи последние жизненные соки влажным красным саваном заволакивали побежденного, крепко уперся обеими руками в землю и выпрямился что было мочи – так выпрямился, что из широкого разреза на животе масса внутренностей поползла вперед, точно выводок гадких желтых змей.
Он вытянул шею, запрокинул голову, и в глубоком безмолвии ночи раздался его триумфальный клич:
– Кукареку-у-у!
Затем он рухнул замертво; то был его последний привет жизни…
На мое сознание как бы спустился внезапно красный кровавый туман. Я ничего не видел, не слышал. Я погрузился в пурпурное, бездонно-глубокое море. Кровь заливала мне уши, нос. Хотелось кричать, но едва я открыл рот, как в тот потекла густая и теплая жижа, перекрывая дыхание… И хуже всего – этот отвратительный сладковато-соленый привкус на языке. Потом я почувствовал где-то острую боль, и мне понадобилось немало времени, чтобы понять, где ее источник. Пока шел бой, я прикусил палец от волнения – сточил до корня ноготь и взялся уже за мясо, – и он теперь саднил. Немалым усилием воли я разжал зубы – и очнулся наконец-то!
Какой-то из андалузцев ухватил меня за колено.
– Не произведете ли вы расчет по вашим ставкам, кабальеро? – спросил он.
Я кивнул, и он стал многословно объяснять мне, сколько я, по всеобщему мнению, проиграл, а сколько – выиграл. Зрители окружили нас. О мертвецах никто не заботился – деньги представляли больший интерес, деньги – всему голова!.. Я передал патрону горсть монет и попросил его распорядиться ими. Он стал считать и потом, под аккомпанемент хриплых криков, начал разбираться с каждым спорщиком по отдельности.
– Здесь не хватает, кабальеро, – сказал он наконец.
Я чувствовал, что он меня обманывает, но спросил, сколько с меня следует, и снова без лишних вопросов дал ему денег. Когда он после того заметил, что мои карманы еще не опустошены до конца, то предложил:
– Кабальеро, не хотите ли купить ножичек маленького Бомбито? Он привлечет к вам удачу – целые реки удачи!
Я приобрел наваху за пустячную цену. Андалузец сунул мне ее в карман.
Теперь на меня никто больше не обращал внимания. Я встал и, шатаясь, поплелся в мглистую ночь. Палец распух и болел; я крепко обвязал его платком. Глубокими, долгими вздохами пил я свежий ночной воздух.
– Кабальеро! – окликнул меня кто-то. – Кабальеро!
Я обернулся; навстречу мне шел один из давешних мужчин-зрителей.
– Меня послал патрон, кабальеро, – сказал он. – Не захватите ли вы с собой вашего друга?
Ах да, священник, мой Падре! Все это время я не видел его, не думал даже о нем!
Я снова вернулся, обогнул кактусовый плетень. На земле покоились две неубранные бесформенные груды в красных лужах. Священник, склонившись над ними, ласково гладил руками истерзанные тела. Но я точно заметил, что крови он не касался – только по воздуху двигались его руки, тонкие, ухоженные, почти что женоподобные…
Губы его шевелились в забытьи.
– Прекрасная сальса, – лепетал он, – дивный красный соус из этой парочки сочных томатов!
Пришлось отрывать его силой, ибо он не желал лишать себя зрелища. Выдавая что-то несвязное, он, шатаясь, побрел за мной на своих худосочных ногах.
– Перепил, видать! – бросил, смеясь, один из андалузцев, но я-то знал, что священник не взял в рот ни капли.
Патрон снял шляпу, и другие последовали его примеру.
– Vayan ustêdes con Dios, Caballeros![12] – произнесли мужчины в унисон.
Когда мы вышли на большую дорогу, Падре послушно проследовал за мною. Он взял меня под руку и забормотал:
– О, как много крови! Как много чудной красной крови!
Куском свинца повис он на мне; с большим трудом я дотащил его до Альгамбры. В какой-то момент мы сделали привал, присели на камень.
После долгой паузы мой спутник промолвил тихо и восторженно:
– О жизнь! Какими поистине чудными наслаждениями одаривает нас жизнь! И как же радостно, как это хорошо – жить!..
Подул пронизывающий холодный ветер, и стало очень зябко. Я слушал, как скрипел зубами англичанин по прозвищу Падре. Медленно, нехотя отступал его кровавый угар.
– Может, уже пойдем, ваше преподобие? – предложил я, протягивая ему руку.
Он поблагодарил.
Молча мы стали спускаться вниз, к спящей Гранаде.
Гранада (Альгамбра)Март 1905
Ступайте с Богом, джентльмены! (исп.)
Алкогольный напиток на основе фруктового сырья, традиционный для областей северо-запада Испании.
Высказывание приписывается легендарному моряку, герою Триполитанской войны Стефану Декатуру.
Aficionado (исп.) – любитель чего-либо; фанат.
Чулосы – пешие бойцы в бою с быками.
Река провинции Гранада в Испании, является притоком реки Хениль. Река была первоначально названа от римского слова для обозначения золота (Aurus), потому что во времена Древнего Рима люди добывали золото на ее берегах.
Мензурное фехтование – поединок на острых саблях-шлегерах между двумя представителями студенческих объединений в центральноевропейских государствах. Название происходит от термина mensur, который, в свою очередь, происходит от латинского mensura («размерность»). Правила мензурного фехтования подразумевают строго фиксированное расстояние между противниками, что придавало схватке статичность. В прошлом мензуры были широко распространены в Германии, Австрии, Швейцарии, а также в Бельгии, Польше и балтийских регионах; целями таких поединков были демонстрация фехтовального мастерства и испытание собственного мужества, – они не являлись ни спортом, ни дуэлями, никогда не проводились для разрешения споров, не предполагали определения победителей и проигравших.
Добро пожаловать, джентльмен (исп.).
Этот джентльмен – шпион (исп.).
Испанская монета весом 25 граммов из серебра 900-й пробы.
Гарроча – деревянный шест, который всадник держит в руке и выполняет с ним разные движения, управляя лошадью посадкой и одной рукой.
Участник корриды, выступающий во второй терции зрелища. Его цель – воткнуть в тело быка пару небольших копий (бандерилий) наподобие гарпуна. – Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, примечания переводчиков.
Сердца королей
Венец мой – в сердце, он не на челе,
Его ничто не красит – он невидим,
Его зовут стремленьем, и немного
Найдется королей на этом свете,
Которым дан в удел такой венец…
Шекспир. «Король Генрих VI», часть 3, акт III, сцена I
Когда в конце сентября 1841 года герцог Фердинанд Орлеанский возвратился из летней резиденции в свой парижский отель, камердинер подал ему на золотом подносике целую кипу корреспонденции разного рода, которая накопилась за это время, ибо герцог не позволял пересылать к нему в летнее уединение ничего, даже важных известий. Среди всех этих писем находилось одно странное послание, которое более других заинтересовало герцога:
«Милостивый государь!
У меня есть несколько картин моей работы, которые я намереваюсь Вам продать. За эти картины я потребую от Вас баснословно высокую цену – все же достаточно ничтожную, в сравнении с теми богатствами, которые награбило Ваше семейство. Вы найдете эту цену весьма скромной, если сопоставите ее с исключительно высокой ценностью, какую эти картины, в смысле материальном, составляют для королевского дома, и даже будете благодарны мне за то, что я даю Вам возможность воспользоваться оказией. Впрочем, скажу Вам заранее, что я намерен делать с деньгами, который Вы мне заплатите. Я – старик, не имеющий ни семьи, ни личных интересов; живу маленькой рентой и этим довольствуюсь. Поэтому всю сумму я намерен завещать «Незапамятным Горцам». Вам, верно, известно, милостивый государь, что это за сообщество – честные люди, которые остались преданы традициям тех, кто казнил Луи Капета[13]. Понятно, король, Ваш отец, изгнал это сообщество из Парижа и Франции, но оно держится теперь в Женеве и свободно там процветает; я надеюсь, что Вы еще не раз о нем услышите. Этим „Незапамятным Горцам“ я тотчас же по получении передам эти деньги, но при одном непременном условии: использовать их на пропаганду убийства короля. Я думаю, что подобное применение Ваших собственных денег едва ли покажется Вам симпатичным, но Вы должны согласиться, что каждый волен делать со своим доходом то, что ему заблагорассудится. При этом я вполне уверен, что такое предназначение Ваших золотых луидоров вряд ли побудит Вас отказаться от покупки. Вы во что бы то ни стало приобретете мои картины, и я даже требую, чтобы Вы написали мне скрепленное королевской печатью собственноручное письмо, в котором выразите благодарность за мое предложение.
Мартин Дролин»
Бесцеремонная откровенность этого письма, в котором не указывались ни число, ни адрес отправителя, произвела некоторое впечатление на избалованного герцога. Первое предположение, какое разделял и адъютант, что это письмо отправлено душевнобольным, как-то не укладывалось в голове герцога. Но редкостное любопытство, которым он всегда отличался – и которое однажды в Алжире почти уже стоило ему жизни, – побудило герцога поручить одному из своих адъютантов навести справки о фактах, упомянутых в письме, и доложить о результатах.
Это было исполнено на следующий же день. Адъютант, господин Туайон Жеффрар, донес герцогу, что в Женеве взаправду существует сообщество «Незапамятных Горцев». Правительство обнаружило этот союз два года тому назад; некоторых его членов заключило в тюрьму и более уже не придавало ему серьезного значения, ибо, по-видимому, все дело сводилось к нескольким экзальтированным, но вполне безопасным фразерам. А Мартин Дролин взаправду был художником – старцем, разменявшим восьмой десяток, который ничем не обращал на себя внимания в течение всей своей жизни. Уже десятки лет его было не слышно и не видно, ибо он никогда не покидал своей мастерской на Rue de Martyrs; уже долгое время он ничего не выставлял. В молодости же Дролин был, напротив, деятелен, писал много выдающихся картин, притом исключительно кухонных интерьеров. Одна из таких «кухонных сцен» была приобретена государством и размещена в Лувре.
Эти сведения, лишавшие необычайное послание всей его романтической окраски, мало обрадовали герцога Орлеанского.
– Этот господин, должно быть, необычайно высокого мнения об аппетите Бурбонов, – заметил герцог, – раз полагает, что мы так сильно интересуемся кухонными интерьерами! Я думаю, что едва ли необходимо отвечать этому чудаку. Ce drôle de Droling![14] – добавил он в сердцах, а адъютант засмеялся, что ему и подобало.
Но «чудак» держался, по-видимому, иного мнения в этом вопросе. По крайней мере, через несколько дней герцог снова получил от художника письмо, своей категорической определенностью далеко оставлявшее за собой первое. Дролин выражал свое недоумение по поводу того, что герцог до сих пор не посетил его, сетовал на старческие хвори и близкую смерть и указывал на то, что для обеих сторон будет лучше, если дело уладится как можно скорее и не будет расстроено его внезапной кончиной. Герцога он ожидал уже завтра утром, в полдвенадцатого, в мастерской, прося не являться раньше, ибо вылезать из кровати даже ради столь знатного гостя Мартин Дролин не имел ни малейшего желания.
Герцог вновь передал письмо своему адъютанту.
– Даже сейчас адрес не указал, – посетовал он. – Вероятно, для него не подлежит сомнению, что мы знаем, где он живет. Что ж, теперь мы взаправду это знаем! Как думаете, не последовать ли нам строгому наказу господина Дролина? Пусть завтра утром подадут экипаж, дорогой Туайон, но так, чтобы нам приехать к нему по крайней мере на полчаса ранее. Я думаю, он будет весьма потешен во гневе.
…И вот герцог вместе с господином Туайоном Жеффраром, задыхаясь, поднялся на четвертый этаж грязного надворного флигеля. Они постучались в большую желтую дверь, к которой была прибита старая дощечка с надписью: «МАРТИН ДРОЛИН».
Но они стучались напрасно, никто внутри не шевелился. Они кричали и барабанили в дверь крючками своих тростей. Эта осада, с каждой минутой становившаяся энергичнее, начинала искренне забавлять герцога. В конце концов, на пару с адъютантом устроил сущий переполох – когда еще такое доведется?
Вдруг из-за двери послышался дрожащий голос:
– Что такое? Что случилось?
– Вставайте, папа Дролин, вставайте! Гости пришли! – весело выкрикнул герцог.
– Я встаю тогда, когда мне заблагорассудится, – долетело в ответ, – а вовсе не когда вам желательно.
Но герцог был сегодня в ударе.
– Мы должны овладеть крепостью, – скомандовал он. – А ну… пли!
Они с адъютантом налегли на дверь, трещавшую по всем скрепам, лупцуя тростями и надсадно голося:
– А ну вставай, соня! Гости пришли! Вон из кроватки!
Кто-то глухо заворчал и заругался, затем послышались приближающиеся к двери шаркающие шажки.
– Куролесьте, сколько влезет, но вы не войдете, покуда я не умоюсь, не оденусь и не позавтракаю!
Герцог просил, увещевал, проклинал – и не получал ответа. Наконец, покорившись, вместе со своим адъютантом он присел на верхнюю ступень лестницы.
– Что ж, – заметил он, – я на собственном опыте был ознакомлен с малоприятным удовольствием ожидания в приемной, да еще и приемная тут на редкость убога. Этакое дело я абсолютно точно припомню!
Из мемуаров княжны Меттерних известно, что герцог действительно припомнил это. В ближайшие дни он с каким-то особенным наслаждением заставлял своих посетителей часами дожидаться в приемной. Часто, желая доставить себе удовольствие, он принимал только что прибывших просителей с целью заставить дольше дожидаться тех, которые сидели уже более трех часов.
Наконец у двери что-то зашевелилось. Послышались щелканье замка, отодвигание засова и глухой удар тяжелого железного болта. Дверь отворилась, и на пороге показался маленький человечек в костюме времен первого консульства. Наряд когда-то был почти элегантен, но теперь являл собою ворох грязных, поблекших и лоснящихся тряпок, и лишь бархатный черный галстук небывалых размеров сохранял абсурдную новизну. Маленькую морщинистую голову старика венчала копна грязно-белых распущенных волос.
– Я Мартин Дролин, – произнес этот оборванец. – Что вам угодно?
– Вы пригласили нас сегодня утром к себе… – начал было герцог, но тщедушный художник перебил его.
Он вытащил из кармана тяжелые серебряные часы и поднес их к носу его высокоблагородия:
– Я просил вас прийти ко мне в половине двенадцатого, не раньше. Который теперь час? Двадцать минут двенадцатого, и вы полчаса разыгрываете тут свои дурацкие шутки. За каждую мою картину вы заплатите мне за это на тысячу франков больше, ясно? Я научу вас вести себя цивильно, черт бы вас побрал! Кто из вас господин Орлеан?
Адъютант решил, что поведение старика в отношении его господина перешло уже всякие границы. Он счел своими долгом дать это понять, потому, указывая на герцога, произнес с ударением:
– Господин Дролин, перед вами Его Королевское Высочество герцог Орлеанский!
Маленький художник зашипел от злобы:
– Называйте этого господина как вам будет угодно, но уж мне предоставьте называть его тем именем, которое он носит. Да вы-то, собственно, кто такой? Не угодно ли вам будет представиться?
Герцог с минуту полюбовался безмолвным смущением своего спутника, затем изрек с изысканной любезностью:
– Позвольте вам представить, господин Дролин, мой адъютант господин де Туайон Жеффрар, подполковник второго кирасирского полка.
Дролин слегка поклонился:
– Я не знаю вас, милостивый государь, и даже не имею желания знакомиться ближе с подобными людьми. Я вас сюда не приглашал и не намерен вас принять. Поэтому вы можете идти.
Герцог, как почти все члены королевских домов, находился в полной зависимости от окружавших его лиц. Но он не был настолько глуп, чтобы не сознавать этой зависимости, и ненавидел этих людей, без которых он, собственно, не мог обойтись и одной минуты; ничто так не радовало его, как когда кто-нибудь из них попадал в неловкое положение. Поведение господина Дролина по отношению к его адъютанту, который невероятно гордился знатным своим происхождением от рода крестоносцев, настолько забавляло герцога, что хохот он сдерживал с превеликим трудом.
– Ступайте, дорогой Туайон, – сказал он. – Ждите меня внизу в экипаже. Господин Дролин прав – он может принимать лишь тех лиц, что ему приятны.
Но фыркавшему от злобы адъютанту, который после глубокого поклона молчаливо повернулся к лестнице, пришлось испытать такое удовлетворение, какое готово было вновь примирить его с сумасшедшим художником. Ибо вот что сказал господин Дролин:
– Если вы воображаете, господин Орлеан, что вы мне приятны, то вы жестоко в этом ошибаетесь – напротив, подобные вам мне в высшей степени несимпатичны. Я пригласил вас сюда лишь затем, что имею к вам дело. Прошу!
Господин Туайон оскалил зубы, лишь только за ним захлопнулась дверь. Как и все адъютанты, зависящие от своих шишкарей, в глубине души он не менее ненавидел герцога, чем герцог – его самого.
В то время как художник запирал замок, придвигал засов и снова укреплял поперек двери длинный железный болт, герцог осматривался в мастерской. В ней стояло несколько пустых мольбертов, на стенах висели почти совершенно потемневшие этюды и эскизы, по сундукам, ящикам и креслам были разбросаны выцветшие костюмы. Все было запылено и выпачкано. Герцог нигде не заметил картин. Покорившись, он опустился на табурет о трех ногах, стоявший посредине комнаты. Но не успел он сесть, как над ухом у него раздалось дребезжащее козлиное блеянье старика:
– Разве я дозволял вам садиться? По-видимому, даже простейших правил приличия не ведают в вашем достойном семействе, господин Орлеан! Что бы вы сказали, если бы я, будучи гостем, сел у вас без приглашения? Кроме того, это мой табурет!
На этот раз герцог был действительно ошеломлен; он вскочил на ноги.
Господин Дролин сбросил несколько старых тряпок с массивного кожаного кресла, выдвинув его несколько вперед, и произнес:
– Могу ли я просить вас сесть сюда?
– Пожалуйста, после вас, – столь же церемонно возразил герцог, давший себе слово доиграть эту комедию неуклонно и до конца.
Но Дролин стоял на своем:
– Нет, после вас! Я у себя дома, и вы мой гость.
Герцог опустился в кресло, Дролин засеменил к большому старому шкафу, открыл его и вынул оттуда прекрасной шлифовки венецианский графин и две рюмки.
– У меня редко кто бывает, господин Орлеан, – начал он. – Но когда ко мне приходит гость, то я обычно угощаю его рюмкой портвейна. Не угодно ли, прошу вас, едва ли вам подадут лучший даже во дворце, за столом вашего отца.
Он наполнил рюмки и одну из них передал герцогу. Совершенно не интересуясь, пьет ли тот, он поднял свою рюмку против света, нелепо погладил ее и опорожнил мелкими глотками. Герцог также выпил свою и должен был признать, что вино великолепно. Дролин сызнова наполнил рюмки, но, по-видимому, не намеревался заводить разговор о картинах. Поэтому начал герцог:
– Вы пригласили меня сюда, чтобы продать картины. Манера вашего письма знакома мне по Intérieur de cuisine в Лувре…
– Вы видели эту картину? – быстро перебил его художник. – И как она вам нравится?
– О, даже очень, – похвалил герцог. – Замечательно тонкая живопись с удивительным настроением.
Но слова его произвели совсем не то впечатление, какого он ожидал. Старик откинул тело назад, провел рукой по своей седой гриве и сказал:
– Вот как? Ну, это уже доказывает, что вы ничего, абсолютно ничего не смыслите в искусстве, что вы сущий варвар! Картина скучна, лишена всяческого настроения – словом, никуда не годится. Хорошо написана – это да, но, собственно, она не имеет ничего общего с искусством. Разве что в том коричневом горшке с отбросами слегка чувствуется Людовик Тринадцатый, и поэтому…
– В горшке… кто чувствуется? – переспросил изумленный герцог.
– Людовик Тринадцатый, – спокойно повторил Дролин. – Но его там мало, совсем уж мало. Это были первые слабые попытки, которые я тогда предпринял, беспомощный поиск. Грустно, что вам понравилась такая дрянь, господин Орлеан.
Герцог понял, что дипломатия в разговоре с этим чудаком ни к чему не приведет, и поэтому решил отбросить всякие фокусы и перейти к естественному, простому тону:
– Извините меня, господин Дролин, что я вам тут насочинил из вежливости. Дело в том, что картину вашу в Лувре я никогда не видел и поэтому совершенно не могу о ней судить. Впрочем, я действительно ничего не понимаю в искусстве – даже и половины того, что понимаю в вине. А вино ваше, в самом деле, великолепно.
Старик снова наполнил рюмку:
– Так пейте же, господин Орлеан. Итак, вы не видели моей картины и лжете мне тут, что она прекрасна? – Он поставил графин на пол и покачал головой: – Фу, черт возьми! Да по вам сразу видно – из королевского дома явились! Иного и ждать не приходится. – Старик смерил своего гостя взглядом, полным чудовищного презрения.
Герцогу становилось не по себе, он заерзал на стуле, медленно потягивая вино.
– Не поговорить ли о нашем деле, господин Дролин? – предложил он. – Я что-то не вижу нигде картин…
– Вы их увидите, господин Орлеан, одну за другой. Они стоят там, за ширмой.
Герцог поднялся.
– Погодите еще, посидите. Необходимо прежде, чтобы я пояснил вам ту ценность, которую картины эти имеют для вас и для вашего семейства.
Герцог молча сел. Дролин своими маленькими ногами забрался на табурет, обхватил руками колени. Он походил на очень старую и очень уродливую обезьяну.
– Поверьте, господин Орлеан, это не случайность, что я обращаюсь к вам. Я долго об этом думал и, уверяю вас, испытываю искреннее отвращение при мысли, что мои картины будут находиться в руках такого подлого семейства, как Валуа-Бурбон-Орлеаны. Но даже и наиболее ярые любители не дали бы мне за них той цены, какую заплатят Орлеаны, и это обстоятельство заставило меня уступить. Кто-то другой предложил бы мне свои условия, и я должен был бы принять их, если бы не пожелал отказаться от продажи. Вам же я могу попросту диктовать цену. Притом семья королей Франции до некоторой степени имеет право на эти картины, ибо в них – понятное дело, не в совсем обычной форме – содержится то, что в течение сотни лет, как и ныне, было самым святым для вашего дома…
– Я вас не совсем понимаю, – произнес герцог.
Мартин Дролин поерзал на табурете.
– О, вы меня поймете, господин Орлеан, – осклабился он. – Мои картины содержат в себе сердца французского королевского дома.
Герцог тут же пришел к непоколебимому убеждению, что имеет дело с помешанным. Если это и не представляло для него опасности – впрочем, в Алжире он уже не раз и не два доказывал, что не боится ее, – то как минимум делало перспективу дальнейшего сидения в студии Дролина бессмысленной и бесцельной. Невольно он бросил взгляд на дверь.
Старик подметил этот взгляд и улыбнулся:
– Вы мой пленник, господин Орлеан, так же, как и некогда ваш дед. Я предвидел, что вы захотите уйти, поэтому запер дверь. А ключ у меня тут, вот тут, в надежном кармане!
– Я не имею ни малейшего намерения от вас бежать, – возразил герцог; великолепная уверенность маленького человечка показалась ему действительно комичной. Герцог был высокий и сильный мужчина, он мог бы одним ударом сбросить старика на пол и отнять у него ключи. – Не покажете ли вы мне наконец какую-нибудь из ваших картин?
Дролин спрыгнул со своего стула и заспешил к ширме.
– Да-да, я собираюсь, господин Орлеан, вы будете довольны! – Художник вытащил довольно большое полотно в подрамнике, поволок его за собой и поднял на мольберт так, что картина обратилась к герцогу задней стороной. Он заботливо смахнул с нее пыль, затем встал сбоку и прокричал зычным голосом балаганного зазывалы: – Здесь можно лицезреть сердце одной из самых блистательных фигур французского королевского престола, одного из величайших прохвостов, какого только носила твердь, – сердце Людовика Одиннадцатого!
С этими словами он повернул картину так, чтобы герцог мог ее видеть. Она являла зрителю громадное голое дерево, у которого на сучьях болталось несколько дюжин голых и уже частью разложившихся висельников. В темной коре дерева было вырезано сердце с инициалами «L. XI».
Картина говорила герцогу о жестокой, ничем не приукрашенной жизненной правде. Отвратительные запахи тления исходили от нее – он испытывал такое чувство, словно ему необходимо было зажать себе нос. Герцог слишком хорошо знал историю Франции – и в особенности историю королевского дома – и потому сразу уловил смысл сего полотна: оно изображало знаменитый «сад» его августейшего предка, любителя виселиц, благочестивого Людовика Одиннадцатого. То, что художник предложил эту картину именно ему, даже при долголетнем начальствовании в Африке признанному деятелем гуманным и справедливым, сократившему столь излюбленное на том континенте повешение до минимума, казалось по меньшей мере безвкусным. К тому же и символизм автора, нарекшего свое детище ни много ни мало «Сердцем Людовика XI», казался ему слишком поверхностным. И действительно, только снисхождение к несомненно больному старику побудило его сохранить вежливый тон.
– Я должен вам сознаться, господин Дролин, – сказал он, – что если достоинства живописи в вашей картине и кажутся мне очень большими, то данный исторический мотив все же мало соответствует моему вкусу! Культ предков в нашем доме вовсе не заходит так далеко, чтобы мы восхищались всеми гнусностями полуварварских предков. Так что смею заметить, я нахожу образ несколько… – Герцог колебался, подыскивая мягкую характеристику.
Но художник подскочил к нему, радостно потирая ладони, стараясь уловить его мысль, пока та еще горяча:
– Ну? Ну? Каким именно?
– Пошлым, – наконец произнес герцог.
– Браво! – осклабился старик. – Браво, великолепно! Это и мое мнение. Но упрек ваш направлен абсолютно не в меня – нет, не в меня нисколько. Вы видите, все глупое и пошлое исходит от вашего дома. Послушайте, дорогой мой, идея эта, собственно, принадлежит не мне, а вашему деду.
– Кому?
– Отцу вашего отца, который ныне король Франции, моему близкому другу Филиппу Эгалитэ. Он дал мне эту мысль, когда мы возвращались с казни вашего дяди шестнадцатого Людовика. Впрочем, идея эта плоха лишь в художественном отношении, она прозрачна без меры, слишком грубо выражена и громоздка – неудивительно, что вы обратили внимание. И корова способна догадаться, что это гнусное сердце одиннадцатого Людовика. Впрочем, оно было одно из самых больших и отвратительно пахло; у меня каждый раз болела голова, когда я брал от него понюшку. Кстати, раз такой случай, угощайтесь? – Старик вытащил широкую большую табакерку и протянул ее своему гостю.
Герцог, будучи человеком жутко охочим до табака, взял щепотку и сунул ее себе в нос.
– Отменная смесь, – заметил старик. – Принц Гастон Орлеанский, Анна Австрийская и Карл Пятый. Ну, как вам нравится? Забавно же чихнуть останками своих блистательных предков?
– Господин Дролин, – сказал герцог, – ваш табак я смею похвалить, равно как и ваше вино. Но вы уж простите, речей ваших я совсем не понимаю.
– Что же в них непонятного?
– Каким образом предки мои замешаны в ваших картинах и в этом табаке?
– Неотесанный дурень, типичный Орлеан! – сипло выругался старик. – Право, вы еще беспросветнее, чем ваш дед, хотя, казалось бы, куда уж глупее – дать отставку своим м
