автордың кітабын онлайн тегін оқу Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля

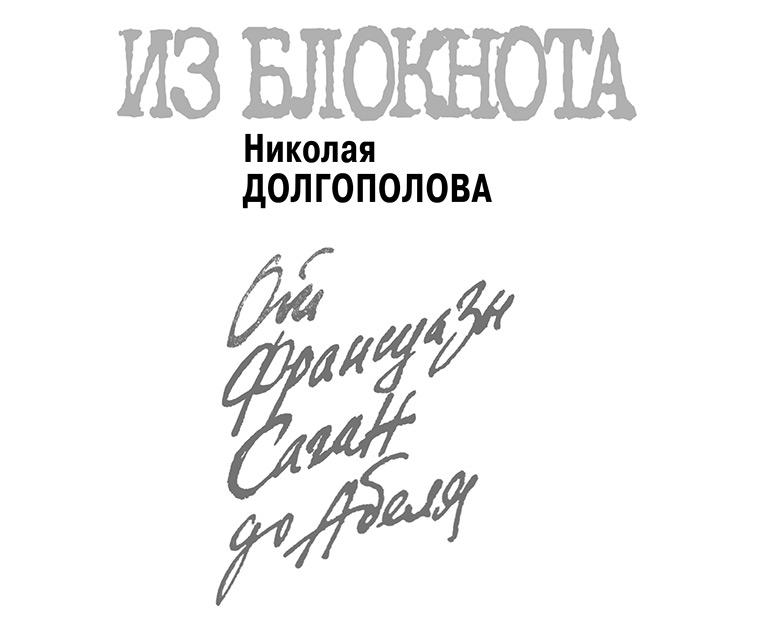
МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2022
Информация
от издательства
Долгополов Н. М.
Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля / Николай Долгополов. — М.: Молодая гвардия, 2020. — : ил.
ISBN 978-5-235-04709-9
Писатель и журналист «Российской газеты», постоянный гость многих телепередач, написавший 13 книг о разведчиках, которые вышли и в серии «ЖЗЛ» и стали бестселлерами, на этот раз обратился к мемуарному жанру. В этой книге столько имен! Нигде больше не прочитать о том, что рассказывал ему отец о своих современниках Маяковском, Булгакове, Шостаковиче. Сам автор дружил с писателем Владимиром Максимовым и иллюзионистом Эмилем Кио, пианистом Эмилем Гилельсом, композитором Александром Цфасманом, актером Николаем Караченцовым, в Париже встречался с великой Франсуазой Саган. Работал в Иране и Франции, учился в Шотландии. В первые дни чернобыльской трагедии работал в 30-километровой закрытой зоне. А сколько встреч на тринадцати Олимпиадах! Получилась маленькая энциклопедия жизни советской эпохи и начала нынешней.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Долгополов Н. М., 2020
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2020
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ
О книге мемуаров Николая Долгополова
Хотел сначала назвать свои заметки «Энциклопедия советской жизни». По аналогии с известной фразой В. Г. Белинского о «Евгении Онегине» — «энциклопедия русской жизни». А в новой книге знаменитого писателя и поистине легендарного журналиста Николая Долгополова жизнь в основном советская. Но что-то в таком названии мне не нравится. Почему именно советской жизни? Просто нашей жизни. Нашей жизни в ХХ веке.
Удивительная книга! В ней столько великих и просто известных в нашей стране и в мире имен, что иногда при ее чтении начинает кружиться голова. О каждом из этих людей уже написаны отдельные книги и порой не одна. А Николай Долгополов бросает эти имена какой-то жемчужной россыпью, так, что не успеваешь следить. Вот только что речь шла о Маяковском… и уже Булгаков… и уже Эрдман… и Шостакович… и Лиля Брик… и Александров… и Орлова… и Русланова… Так и хочется добавить: и другие — но разве можно о людях такого калибра говорить «и другие»?
И это только в главе, посвященной отцу, знаменитому журналисту Михаилу Долгополову, чье имя неразрывно связано с «Комсомолкой» и «Известиями». В театры на самые громкие премьеры, куда билета нельзя было достать, он приходил со своим сыном, даже не задумываясь о каких-то билетах — его и так все в театрах знали в лицо, перед ним трепетали, его рецензии решали судьбу не одной постановки. И поневоле вздыхаешь: вот же было время! Вот был вес у журналистики! Не то что сейчас…
А он был еще и военным журналистом в годы Великой Отечественной войны и был, как сейчас сказали бы, в «пуле» избранных корреспондентов газет, которые освещали Нюрнбергский процесс… И дружил с теми, кто водрузил красное знамя над Рейхстагом…
Всего не перескажешь. Нужно книгу читать.
И это только детство Николая Долгополова, когда он, благодаря отцу, сам встречался с великими людьми, слушал рассказы отца о них. И напитывался, напитывался нашей историей непосредственно в ее лицах.
А потом была своя судьба журналиста, тоже связанного с «Комсомолкой» и, конечно, с «Российской газетой», главной газетой страны сегодня, в которой он с 2007 года является заместителем главного редактора.
Журналист-международник, один из ведущих спортивных обозревателей, кажется, знающий о спорте и спортсменах все. Но еще был Чернобыль, куда его вместе с небольшой группой корреспондентов отправил идеолог нашей «перестройки» Александр Яковлев, не удосужившись объяснить, чем будет чревата эта «командировка», но дав задание: описать героизм ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Эти страницы книги Долгополова невозможно читать без слез и содрогания перед нашей уже вроде бы давней, но совсем не минувшей национальной, государственной и просто человеческой БЕДОЙ. И опять — все это показано в лицах, только, увы, никому уже не известных, многих из которых уже просто нет в живых, а люди-то были совсем молодые, даже юные…
И еще рассказы о разведчиках… Николай Долгополов прославился как автор нескольких книг о них, вышедших в серии «ЖЗЛ».
И спортсмены…
И цирк с его главными артистами — Олегом Поповым, Карандашом, Эмилем и Игорем Кио, Юрием Никулиным…
А вот и Владимир Максимов, суровый «диссидент», редактор «Континента», разочарованный в «перестройке», — ведь целили в коммунизм, а попали в Россию.
И наконец — Марфа Максимовна Пешкова, внучка Горького.
Всех не перечислишь! Я же говорю — энциклопедия! Нашей жизни. Которую он знает, может быть, как никто в его поколении. Так счастливо сложилась его судьба. Очень редкая судьба.
Он должен был эту книгу написать. Есть книги, которые, кроме тебя, никто не сможет написать. Он сделал это.
Павел БАСИНСКИЙ,
писатель, журналист
Всех прощаю.
Простите и вы.
БЕЗ ПРЕДИСЛОВИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ
В последнее время я все чаще пытаюсь разобрать накопившиеся за полвека архивы. Понимаю — это признак надвинувшейся старости. Пытаюсь выкинуть отжившее, бесполезное. Выходит плохо. Кажется, еще вернусь к этому герою, еще расскажу о той встрече. Хотя и сам знаю, что вряд ли. Бумажные залежи, в которых столько всего интересного, однако только для меня, никому не нужны.
И вот книга.
О которой опытные люди, не знаю, чего там в издательском деле съевшие, говорили: не надо. У вас есть своя ниша и даже свой читатель. Здорово идут у вас рассказы о разведчиках: шесть книг не где-нибудь, а в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей», и пять из них — бестселлеры. Вот и давайте о них, вылавливайте всех шпионов до последнего. И, мне это выражение вообще не нравится, — «пеките свои книги как горячие пирожки».
Каждый журналист, и не только ставший писателем или думающий о себе именно так, мечтает о неком подведении итогов. Но то, что кажется дорогим, близким, иногда переходит даже границы общепринятой откровенности и выглядит (но только для тебя — себялюбца) сенсацией, других абсолютно не волнует, не трогает, не задевает. «Угробите год жизни… И что? Выпустите книгу для ста, пусть двухсот—трехсот друзей Долгополова».
У меня стольких теперь не наберется. И мои друзья немолоды, многие уже не выходят из дома, некоторы ушли навсегда, разъехавшись по кладбищам близких и далеких стран. К тому же не собираюсь раскрывать никаких секретов, выдавать больших тайн. Во-первых, их нет у меня. Во-вторых, если бы и нашлись, расставаться с ними не собираюсь, пусть мирно спят вместе с хозяином в наследном пристанище.
Как-то знаменитая тренер фигуристов Елена Анатольевна Чайковская пошутила: «Не дай Бог, если бы ты взял да и рассказал все, что знаешь о фигурном катании…» А я знаю и много другого, не фигурного, гораздо более важного. Но никогда не расскажу. Тут вопрос этики, морали, иногда безопасности. Не мое это — взять и выложить. Есть несколько записей, которые точно уйдут вместе со мной. Не умирает это советское, с молоком впитанное «а вдруг». Хотя людей, в блокнотах моих след оставивших, знаю точно, несмотря на расстояния, уже давно нет. Так пусть все останется как есть, унесу недосказанное с собой.
Что вовсе не значит, будто нельзя попытаться честно написать небольшое свидетельство о нравах двух веков. Жил на перепутье и дождался. Помню еще похороны Сталина, снятие Хрущева, восшествие и долгое царствование Брежнева, надежды на оказавшийся скоротечным приход Андропова. И перестройка, Горбачев и вдруг страшный Ельцин, чуть не превративший великую страну в разношерстные княжества, зато под своим ельцинским игом. И — не только же вечно страдать России — долгожданное явление нового лидера.
Сколько пережито, как много испытано страной, а значит, и мною. Проклятый майский Чернобыль 1986 года, глаза на жизнь и смерть мне открывший. И немыслимое количество встреч с людьми, будоражившими умы. Наши и иностранные политические персонажи, герои разведки и великие, почти всегда вечные, творцы искусства. Чемпионы спорта, на короткое время в относительно длинной нашей жизни появляющиеся и почти бесследно исчезающие.
С некоторыми я дружил, иных отвергал за бьющую через край самовлюбленность, порочность, эгоизм. Но они были так талантливы, порой гениальны, что десятилетия стерли и спокойно смыли все недоброе, оставив лишь уважение. И воспоминания, отрывки из которых здесь, в этой книге.
А еще мне везло в тот период, когда поездка не то что в Болгарию, а даже в Литву с ее Тракаем и Каунасом или в Таллин, теперь кажущиеся, да и являющиеся, убогой провинцией, к тому же кичливой, была счастьем. Я же побывал где только можно. До недавних пор вел счет государствам, где ступала и моя нога. Когда набралась сотня, подсчеты закончил.
Да и сколько можно считать. Пять с лишним лет, как раз на сломе политических формаций в 1987—1992 годах, был собственным корреспондентом могучей тогда «Комсомольской правды» в Париже. До этого в молодости случились два с половиной года совсем не в таком, как сейчас, Иране. А после выигрыша стипендии — учеба в Великобритании, точнее в Шотландии, и работа в «желтой», немало в творческом плане давшей, газете «Дейли рекорд».
Как журналисту мне порой неправдоподобно везло. Иногда я, счастливчик, попадал туда, куда коллегам вход был категорически запрещен. Встречал знакомых, которые проводили меня сквозь кордоны запретов и доводили прямехонько до первый раз в жизни дававшего интервью собеседника. Прославленные разведчики, Герои Советского Союза и России Вартаняны, Феклисов, Барковский, Козлов, нелегалы Икс и Игрек… Или натыкался при входе в зал на человека, который (которая) представлял меня знаменитейшему российскому или иностранному персонажу. Вдруг после, наверное, сотни документальных фильмов, где выступал экспертом, сценаристом или консультантом, без всяких проб получил главную роль величайшего разведчика ХХ века Кима Филби в двухсерийной документальной драме на Первом канале. Как вышло? Так. Сам не знаю.
Мне завидовали. Сначала переносил это тяжело, затем привык. Сейчас снова переживаю. Но никогда не откажу себе в чести познакомиться, прорваться, узнать первым. Везунчик…
Везунчик? Но я вынужден был уйти из любимой «Комсомолки». Мы с ней отдали друг другу почти четверть века нашей с нею счастливой и тревожной жизни. Она, основанная и моим отцом, была для меня всем, пусть в ущерб семье и творчеству. Теперь я вижу, что чересчур перебарщивал в этом обожании. А тогда, в октябре 1997-го, уже вкалывая в «Труде», еще с полгода носил в левом внутреннем кармане пиджака, да что там говорить, на сердце, удостоверение, где значился первым заместителем главного редактора. Сегодня понятно: зря. Но тогда была боль неимоверная. И с годами пришлось ее преодолеть. Хотел бы вообще о ней забыть, но пойди попробуй. Выяснилось: оказался нужным и в «Российской газете», в которой завершаю свой долгий путь в жизни, он же путь в журналистике. Не ожидал, что этот период благодаря гению человеческого общения и по совместительству главному редактору «РГ» Владиславу Фронину станет таким плодотворным, творчески счастливым.
В книге можно о многом поведать, не выставляя рассказ курьезом. Не превращая собственные итоги в сборник басен и побасенок. Обещаю быть откровенным — в меру. И честным — до конца.
И потом, мне хочется верить, что друзей у меня много. Это вы, мои дорогие читатели. Я вас многих помню в лицо, как, например, маленькую девочку, которая раньше всегда приходила на встречи в большие книжные магазины и на ярмарки. Сначала всегда сидела с мамой в первом ряду, болтая не достающими до пола ножками. Потом выросла, но, как и прежде, терпеливо слушала, записывала. Где она? Книга эта и для нее. Или всегда сидящего в глубине зала хорошо одетого седого человека в галстуке. Он задавал толковые вопросы, покупал мои томики. И в конце дарил марки, на которых — портреты бородатого Че Гевары.
Частенько звонят добровольные помощники. Они интересуются историей, собирают и передают материалы. Без них не родиться книгам. Бывает, приезжают за автографами в «Российскую газету» читатели. Мы беседуем, фотографируемся, знакомимся поближе. С опозданием отвечаю на письма из других городов, куда книги и сегодня добираются с трудом.
Не забуду Саранск: предновогодний декабрь, холод до стука зубов, снегопад, позднее возвращение в отель. В холле ждут двое незнакомцев с моими книжками. Выписали по Интернету, вот узнали, вы здесь, подпишите. Разве это не называется писательским счастьем?
Как я могу обмануть вас? Очень старался. Что получилось, оценивать не рецензентам, а тем, кто возьмет, купит, прочтет.
Искренне ваш,
Николай Долгополов
P. S.
До чего же скучно, муторно было мне в агентстве печати «Новости», в которое пристроился с помощью моей преподавательницы из Иняза Ирины Александровны Носовой. Все равно лучше, чем переводчиком.
Бесполезная работа по зашкаливавшему восхвалению страны. Сплошные дети и детки людей с громкими фамилиями. Иногда АПН жаловала своим появлением даже дочь генсека Галина Брежнева, за которой всегда следовала толпа прихлебателей.
Тоска — неимоверная. Профессиональное ничегонеделание. Длиннющие перекуры в коридорах с обсуждением, кто куда может поехать и какой пост займет, вернувшись оттуда.
И когда мне предложили попробовать написать статью в настоящую газету под названием «Комсомольская правда», я ухватился за предложение как утопающий за соломинку.
Статья моя была по-апээновски бездарна. Но и сейчас мне читать ее не стыдно. Написал, как умел, как учили, как требовалось. Ни единого живого слова. Но эта заметка стала первой. Она — как пробитая брешь в плотной, враждебной обороне, как шанс на побег из кромешной журналистской жути. Милая моя ласточка, вырвавшаяся на широкий читательский простор.
С гордостью привожу ее заштампованную и неуклюжую, опубликованную в «Комсомольской правде» 25 ноября 1973 года без единой поправки. Надо же было с чего-то начинать, и я начал:
«Это и есть дружба
Индийско-советское общество культурных связей недавно отметило свое двадцатилетие. У него около 1000 отделений по всей Индии. В течение многих лет его работой руководит известный государственный и общественный деятель К. П. Ш. Менон, гостивший на днях в Москве.
Несмотря на занятость, г-н Менон любезно согласился встретиться с корреспондентом “Комсомольской правды”.
— До 1962 года я девять лет был послом Республики Индии в СССР, — говорит г-н Менон, — и, может быть, поэтому каждое мое возвращение в Москву для меня как бы возвращение домой. Не считал, сколько раз был в СССР после 1962 года, наверное, раз десять, а то и больше. Был свидетелем многих важнейших событий в вашей стране. Я имел честь участвовать в празднествах, посвященных 50-летию Великого Октября, 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, совсем недавно был на Всемирном конгрессе миролюбивых сил.
Мне, сами понимаете, трудно говорить от имени индийской молодежи, ибо я уже давно немолод, но лично я восхищаюсь усилиями советских юношей и девушек в их борьбе за мир и свободу. У меня много друзей среди советских комсомольцев, особенно в 26-й московской школе, где я бывал несколько раз в музее Р. Тагора.
— Вы даже представить себе не можете, — говорит г-н Менон, — с каким нетерпением ожидают у нас в Индии визита Л. И. Брежнева, руководителя великой державы, всегда приходившей на помощь индийскому народу. Визит Л. И. Брежнева будет способствовать дальнейшему укреплению индийско-советской дружбы.
В заключение наш гость просит передать привет и наилучшие пожелания советской молодежи, читателям “Комсомольской правды”».
КОРНИ
Специальный корреспондент
Я не знаю ни единого журналиста, который гордился бы этим званием так, как мой отец.
Михаил Николаевич Долгополов — Мих. Долгополов — работал в «Комсомолке» с 1927-го по 1938-й, а потом до самого ухода в 1977-м в «Известиях». Страшно подумать, но когда в 1935-м «КП» выпустила полосу, посвященную первому своему десятилетию, папа уже официально значился среди ветеранов-основателей. Может, нормальная журналистика и не дала дуба благодаря именно тому, что вопреки всему держится на традициях, которые закладывались еще в 1930-х?
Это с того времени нахальное: «Мы, из “Комсомольской правды”, — первые, мы — лучшие, мы — самые-самые». Тогда «Комсомолка» была притягательным центром: Маяковский, Уткин, Алтаузен, Светлов, Безыменский, Жаров работали здесь в штате и вне его. И все вкалывали будто проклятые, чтобы сказать Слово, которое всегда доходило до умов и сердец. Была в этих ребятах дикая вера. Они еще не ведали, что ошибались, и потому гордо вели за собою. И теперь — им никто не судья.
Невероятный вихрь, который мог подняться лишь в ту революционную смуту, закрутил и отца, подбросил немыслимым изломом судьбы к армейским вершинам. У нас дома мыкались по сундукам буденовка со звездой и солдатский ремень: красноармеец 1-го стрелкового полка Долгополов за три года сделал, как сегодня бы сказали, фантастическую карьеру. Пошел в армию — Красную — добровольцем. Я, признаться, могу оценить порыв сына лишенца. Но понять, зачем так решительно перевернул судьбу, — нет, пусть уж останется при нем, совсем это не из нашей семейной оперы.
Даже не стану упоминать имя полководца Гражданской войны, под начало которого попал молодой боец. Для меня этот вскоре убитый чуть не своими же герой — олицетворение безудержной смуты, прокатившейся по России. Но служил же отец, служил.
К концу 1923-го он был уже начотдела по учету бронемашин и танков Управления бронесил РККА. Носил сколько-то «шпал» и занимал должность, соответствующую генеральской. Есть фотография, на которой отец стоит на Красной площади при всей форме неподалеку от возвышающихся — чистая правда! — на машине (мавзолея, естественно, еще не построили) Калинина, Буденного и, извините, Троцкого.
Видимо, поэтому в знак военных красноармейских заслуг ему, сыну не тех, оказали невиданную милость: предложили вступить в партию и учиться в военной академии. Учиться хотелось, ведь позади были Московская гимназия и лишь три курса Плехановского, из которого выгнали за буржуйское происхождение. А вот в партию — нет, не тянуло.
Из всего нашего долгополовского клана, здорово выбитого матросом Кузьмой в начале 1920-х и затем негодяем Гитлером, этот негласный семейный запрет примыкания к партии нарушил один я. Был с детства идейным, верил, стремился. Конечная цель меня воодушевляла. Наградой явились беспрерывные даже в застойные времена передвижения по миру в качестве специального корреспондента «Комсомолки» и пять с лишним лет собкорства во Франции.
Отец же так и остался стопроцентно беспартийным. Даже став журналистом, к тому же — сотрудником отдела литературы, он не вступил в очерченный привилегиями и обязанностями круг. В затянувшуюся эпоху соцреализма это выглядело невероятной аномалией.
Когда в начале второй половины 1920-х посадили младшего брата, отца чуть не выгнали из «Комсомолки», но за него встал горой главный редактор Тарас Костров, и от журналиста — брата осужденного — отцепились. Костров ушел рано — убил его туберкулез.
А вот как выжил мой отец в 1938-м, когда корреспондентов газеты стали брать одного за другим? Вспоминал, что арестованных начальников всегда вывозили с шестого этажа на главном, издательском лифте. Если на издательском, то навсегда, на расстрел. Если на дальнем, комсомольско-правдинском, значит, могло и повезти: тюрьма или ссылка. Ерунда вроде бы, но всегда почему-то сбывалось. После спуска на комсомольско-правдинском лифте некоторые через несколько лет возвращались и даже снова принимались в редакцию, как, например, проживший долгую жизнь Евгений Рябчиков, открывший стране пограничника Карацупу и его верного пса Ингуса, совместно отловивших несколько сотен нарушителей границы. Или ходил к нам домой милейший человек, чей репрессированный отец, журналист «КП» Святозар Бабушкин, отработал на лесоповале, выжил, был освобожден, но погиб на корабле: при погрузке связка здоровенных бревен рухнула на маленькую группу возвращавшихся ссыльных.
Об арестованных в редакции не говорили ни хорошо, ни плохо. Воспринимали как неизбежность и даже смутно верили в подспудную вину товарищей. До чего же убийственное было время! Жалели только генерального секретаря комсомола Косарева. Считали: уж его-то, вроде бы любимца, а может, и наследника Сталина, пронесет. И когда 28 ноября 1938-го все-таки не пронесло, поняли: очередь за ними. Ведь арестовывал сам Берия.
Однажды утреннее появление в редакции отца вызвало шок: «Миша, ведь тебя должны были взять еще вчера. Приказали стол опечатать». Так и проработал несколько недель под испуганными взглядами в опустевшем кабинете — в мое время там был отдел новостей, — не решаясь сорвать пломбы. Народ в редакции ежился, общался неохотно.
Бесстрашно вел себя только ближайший друг, знаменитый репортер Миша Розенфельд: вечерами, как и прежде, они с отцом не пропускали ни единой премьеры. И даже подарил в те дни папе и его тогдашней жене свою книгу о полярниках «Ледяные ночи» с откровенным: «Миху и Надежде с пожеланием горячих ночей от того, кому остались только ночи ледяные». Все остальные ждали неминуемого. Потому что знали о товарищеских отношениях Мих. Долгополова с генеральным комсомольским секретарем товарищем Александром Косаревым.
Несколько раз Косарев просил организовать концерты для комсомольцев — делегатов съездов, конференций. Отец никогда не отказывал, созывал знаменитостей и сам выступал в роли конферансье в дуэте с Григорием Яроном или Владимиром Хенкиным — гремевшими в ту пору актерами. Был случай, вел с ним концерт и сам Косарев. Даже объявил отцу благодарность.
Все-таки, может, и благодаря Косареву, порой жутко ругавшему своих журналистов, однако твердо за каждого заподозренного стоявшего, чистки и аресты коснулись «Комсомолки» позже остальных, уже в 1938-м, когда волна безжалостных расстрелов чуть спала.
Возможно, отца спасла его профессиональная увлеченность. Не старался пробиться в начальники: я за всю свою полувековую журналистскую жизнь не встречал человека, который бы так гордился должностью специального корреспондента. Да и писал он не о политике, а всегда об искусстве.
И тут он знал всех: Станиславский, Немирович-Данченко, Горький, Качалов, Москвин, Мейерхольд… «Комсомолка» по части культуры «вставляла фитиль», как тогда говорили, остальным. А уж балет, оперетта, цирк были совсем родными и близкими. Может, решили не трогать чудака-журналиста, который был знаком со всеми поголовно и которого, в свою очередь, безоговорочно признавала вся театральная Москва?
Отзвуки этого признания успел захватить и я. Мы с отцом как по маслу проходили на премьеры всех театров, демонстративно не показывая пропуска в ложу дирекции. По билетам папа, наверное, ходил в последний раз где-то до революции. Седовласый, высокий —192 сантиметра, всегда очень хорошо и аккуратно одетый, в начищенных мною до блеска остроносых ботинках, он небрежно кивал администратору на меня и маму: «Это со мной!» Люди знали: идет Мих! И, раздевшись всегда в директорском кабинете, мы, вернее отец, попадали в окружение главрежа, артистов, знаменитостей. Наперебой начинались разговоры, сплетни, рассказы… Только записывай. И папа открывал свою синенькую пухленькую записную книжечку и записывал, записывал неровным, неразборчивым почерком.
Лишь раз на моей памяти нас не пропустили вот так, сразу — в «Ромэн», обитавший в ту пору еще рядом с Пушкинской напротив Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Цыгане проявили излишнюю бдительность. Отец был искренне и без всякой рисовки поражен: «Разве вы меня не знаете?» В антракте к нам чуть не подбежал расстроенный художественный руководитель театра Михаил Сидоркин: «Вы уж простите, Михаил Николаевич, моего администратора. Только приступил». Отец ответил, как обычно, корректно, но даже не улыбнулся: «Ничего страшного. Но теперь — пусть знает».
Оборвав военную карьеру и демобилизовавшись из армии, папа пошел в кино. Снимался в массовках, сыграл несколько ролей и даже одну главную. Кино нужны были интеллигентные молодые люди. Он лихо гарцевал на лошадях, которых любил до конца жизни, галантно целовал, становясь на одно колено, руки киношным красоткам, курил сигары и пил шампанское из бокалов на высоких ножках. Образ абсолютно не соответствовал реальному облику: ненавидел табак и если пил, то лишь изредка — красное сухое.
Что касается красоток разных возрастов и профессий, то в кино все было правильно, они до конца его дней отвечали ему взаимностью, и это несказанно огорчало маму, гораздо папы моложе, из простой семьи, мужа, несмотря ни на что, боготворившую. Я путался в симпатичных женских лицах и на всю жизнь запомнившихся фамилиях. Знаменитая дама — дирижер, народные балерина и драматическая актриса-орденоносец, молодая красавица — кинорежиссер, какая-то неведомо как к нам залетевшая и почему-то несколько подзадержавшаяся артистка из Франции, в конце жизни — здоровеннейшая модельерша-гренадер — прямо в лейб-гвардию…
Немного о Маяковском и Булгакове
Бывший директор бывшего музея Маяковского рассказывал мне: «Однажды к нам пожаловали известнейший советский поэт и ваш папа. И вся разница между ними была в том, что поэт Владимира Владимировича читал, ваш отец — знал».
Чистая правда. Чуть не с первого дня работы в «Комсомолке» Миха Долгополова «прикрепили» к Владимиру Владимировичу. Это означало, что новичку доверяли общаться с постоянным автором и даже корреспондентом «Комсомольской правды» Маяковским.
Отец волновался. Только взяли в штат, и сразу — к Маяковскому. Неожиданно сошлись. Довольно разборчивый, порой капризный в общении, Маяковский отца принял. Наверное, было в них нечто общее и кроме высокого роста. Может, происхождение.
Пишу все со слов отца и цитирую по его книги «Звездное ожерелье». Когда поэт чувствовал себя неважно и не мог прийти в редакцию, сразу же звонил, предупреждал. Волновался, нет ли для него чего срочного. Бывало, просил принести пришедшие в его адрес письма, взять новое стихотворение. И отец, бросив все дела, не было ничего важнее общения с Маяковским, спешил в приют агитатора, горлана-главаря. От редакции, находившейся тогда в самом центре, до ставшей знаменитой комнаты-лодочки ходьбы максимум минут пять. «Комната крошечная, трудно было представить, как огромный Маяковский в ней умещался. Зайдешь на минутку по его звонку, непременно усадит, предложит чаю, бутерброд. Расспросит, что нового в театрах. Что готовит Госкино и “Межрабпомфильм”», — писал отец.
Мих брал стихи, отдавал в машбюро. А потом, когда строки-лесенки были напечатаны и сверстаны, доставлял их поэту. Маяковский — автор строгий. Вычитывал дотошно, иногда вносил правку. И только тогда — в печать.
Первым делом после прихода в редакцию на Лубянском проезде В. В. отправлялся в отдел писем. Там для него был устроен персональный ящичек, который никогда не пустовал. Прочитывал все письма. Некоторые сразу выбрасывал. На другие отвечал. Самые для себя ценные, в которых могли содержаться и темы для новых стихов, сразу же откладывал. Что-то записывал в блокнот.
Редакция занимала половину третьего этажа: направо по длиннющему коридору — «Комсомолка», налево — газета «Беднота». Маяковский любил вышагивать по коридору с толстой тростью, крючком зацепленной на согнутой левой руке. И, отец знал точно, его, сосредоточенного, в такие моменты обычно нахмуренного, лучше было не тревожить. Особенно когда доставал из широченных штанин блокнот — «не первой свежести», как шутили некоторые остряки, Маяковского не принимавшие. И добавляли: «Как и стихи». А что, вы думали, будто поэта любили все поголовно?
В углу рта появлялась папироса. Обычно приветливый и первым здоровавшийся, в минуты вдохновения никого не замечал, казался полностью отрешенным, погружался в рифмы. Несколько раз журналисты, в такой момент к нему подходившие, нарывались на язвительные замечания, даже грубость. Быстро все поняли, вопросами Владимиру Владимировичу не докучали.
А потом стихи ложились на стол Иосифу Уткину. Редакция публиковала их под постоянными рубриками — «“Комсомольская правда” помогла» или «По следам наших выступлений». Часто поэт советовался с ответственным секретарем Михаилом Ивановичем Чаровым. Беседы продолжались минут по пятнадцать. Если Маяковский шел к Михаилу Ивановичу, это значило, что у него возникали некоторые сомнения: публиковать или не публиковать, да и нужна ли тема? Выйдя от ответсека, Владимир Владимирович сообщал о совместном решении.
Папины рассказы о Маяковском часто отличались от общепринятых.
В день выдачи гонорара, отец утверждал: всегда и всем одинаково скромного, Владимир Владимирович обязательно появлялся в редакции. И сразу — в бухгалтерию. Там его ждали с некоторым трепетом. Мог получить и даже поблагодарить. А мог и обидеться: считал — недоплатили. В бухгалтерии никак не хотели понять, почему надо платить Маяковскому за каждую его строчку-лесенку столько же, сколько, к примеру, за стихотворения Уткина или Светлова, написанные традиционным четырехстишием. И время от времени возникал конфликт. Поэт шел к ответственному секретарю. Тот приказывал пересчитать строки. И в следующий раз гонорар выплачивался полностью. Но иногда снова следовало непонимание, и тогда начиналось…
Отец постеснялся написать об этом в мемуарах, но мне говорил, что Владимир Владимирович втолковывал комсомольско-правдинскому молодняку: не надо быть рвачом, а за свое надо биться, и без стеснения. Заработал — значит твое. Папа эту истину усвоил. По наследству это понимание передалось и мне.
«Свои стихи Маяковский обычно диктовал только одной машинистке В., — писал отец в своей книге. — Она была большой ценительницей поэзии, первой читательницей его стихов. Ее мнение и вкусы были для Владимира Владимировича своеобразным оселком, на котором он оттачивал свое перо. Если машинистка скажет: “Что-то здесь непонятное у вас, Владимир Владимирович, нехорошо звучит, надо проще, яснее”… — Маяковский надолго задумывался… Сам выкручивал из валика машинки продиктованный лист и начинал расхаживать по длинному коридору редакции. Доделывал, исправлял стихи огрызком мягкого карандаша. И снова возвращался в машбюро. Диктовал, вопросительно поглядывая на В.».
Наверное, судьба, что застал В. в редакции и я. Заскакивал в машбюро, бросал от руки написанные материалы в огромную папку на столе, а напечатанные забирал из окошечка с надписью «спорт». Как-то позвонила старшая машинистка: «Забегай к нам. Ну у тебя и почерк». Забежал и был препровожден во вторую дальнюю комнату, где сидела в уголке очень пожилая, уставшая женщина. Сняв широченные разношенные ботинки, ставила распухшие ноги на скамеечку. Всегда была в старческих чулках выцветшего белесого цвета. Внешний облик никак не вязался с поразительной грамотностью и интеллигентностью. Я только начинал в «Комсомолке», и старушка извинилась, что еще не приспособилась, как она деликатно выразилась, «к моей манере письма». Попросила продиктовать ей несколько не разобранных предложений, напечатала в конце статьи подпись «Н. Долгополов» и поинтересовалась: «Вы не родственник Мих. Долгополова?» С гордостью признался: «Сын». На что получил: «Почерк неразборчивый, как у отца. Если нетрудно, передайте от меня привет папе». Передал, и отец удивился: «Неужели она до сих пор работает? Думал, что я последний».
В юбилейный майский вечер 1975 года, когда «Комсомолка» шумно отмечала 50-летие, в наш Голубой зал пригласили ветеранов. Пришел и отец. С любопытством прошелся по шестому этажу. Почему-то попросил показать ему машбюро. Их встреча с В. выглядела по-старинному церемонной и трогательной. Отец поцеловал ей руку. Такого знака с его стороны удостаивались немногие представительницы прекрасного пола. Она вдруг погладила его по седой голове. Пара фраз — и навсегда расстались.
Поздним вечером, уже дома, отец заглянул в мою комнату. Вдруг вырвалась редкая откровенность: «Учись у В. Она получше любого редактора. Правила даже Маяковского. И до чего была хороша». Присел на мою кровать, задумался: говорить — не говорить, и вдруг полилось: «В. несколько лет была близка с Маяковским. Ему бы с ней, а не с этими Лилями и Бриками».
Может, пахнуло и русофильством, но раз уж вырвалось: «Эта парочка (Лиля и Осип Брик. — Н. Д.) Владимира Владимировича сгубила. Дьяволица (Лиля. — Н. Д.) прямо к себе привязала. Ну да, был он разочарован: в стране все пошло не так. Стали его замалчивать. И у нас (в «Комсомолке». — Н. Д.) некоторые от поэзии далекие тоже зашевелились. Конечно, надежды на коммунизм — блеф, тонкая душа, нервы. Постоянная травля. Жил с женой Яншина (будущего народного артиста СССР. — Н. Д.), а любил эту (Лилю. — Н. Д.). И они с Осипом все из Маяковского высосали. Какая там у нее любовь. Одно было нужно — деньги. Лиля умна, хитра, а Осип шел напролом. Довели человека. Оставалось только стреляться».
Уже перед уходом, когда папа часто лежал по больницам, рассказывал мне всякие истории. Фигурировала в них и Лиля. Как-то попал в богемную компанию, и в центре гостиной предстала пред всеми сидящая в кресле Лиля — обнаженная. Никаких оргий — любование собственным телом и эксцентричность. Отец был немного циником, но нагота обидела, он сразу ушел не попрощавшись.
Однажды на какой-то премьере в Центральном доме работников искусств или Доме кино, что был еще на улице Воровского, вежливо поздоровалась с нами немолодая, со вкусом одетая дама. Отец ответил сухим кивком и утащил нас с мамой подальше. Сам учил: если приветствуют тебя люди даже малознакомые или те, кого не знаешь, надо обязательно отвечать. Приветствуют тебя — проявляют уважение, отвечай тем же и ты. А тут! Моя мама вздохнула: «Папа считает бедную Лилю чуть не убийцей Маяковского. Но можно же быть чуть деликатнее».
А я был уверен, что Лиля Брик сгинула в репрессиях 1930-х. Но нет. Правда или легенда, но, когда брали всех без разбора, пришел черед и Лили Брик. Но Сталин приказал кровавому наркому Ежову: «Жену Маяковского — не трогать».
Лиля Брик умерла в 1978-м, Осип — в 1945-м. Маяковский 1893 года рождения застрелился в комнате-лодочке в 1930-м. В 36 лет из «Комсомольской правды» ушел прекрасный корреспондент, из мировой поэзии — большой поэт.
И знаете, что раздражает? В 1990-е в адрес Маяковского вновь понеслась хула. Взяли и переименовали площадь с его памятником из Маяковской в Триумфальную. Зачем? С какого? Уж чем нам не угодил Владимир Владимирович?
Теперь о другом великом.
На полном серьезе мне рассказывали байки о похождениях отца и Михаила Булгакова. А потом все эти россказни пошли гулять по толстым журналам, в конце концов перекочевав и в «желтые» листочки. Да, случались между ними и трудные разговоры о том, что «пропустят», а что «не пойдет». Булгаков был не то чтобы оптимистом, но верил в силу искусства. Если уж пьеса принята в театре, какой смысл что-то коверкать, исправлять, запрещать. Хотя всегда, как говорил папа, ждал он именно в последнюю минуту подвоха, запрета, приказа о переделке одной из сюжетных линий, смягчении реплик, на чей-то взгляд чересчур смелых.
Более близкий к советской действительности, точнее к ее социалистическому реализму, отец был в душе немножко соглашателем. Уговаривал на требования идти, не особенно показываться на глаза высшему начальству, считая переписку Булгакова с советским царем и богом если и престижной, то бесполезной.
Он и мне втолковывал, будто «Миша не понимал, что ради спасения спектакля, творческого замысла можно и нужно идти на уступки».
Тут, на мой взгляд, была еще одна сложнейшая закавырка. Отец тащил на себе все многочисленное семейство: братья и сестра — лишенцы, больная мама, старушка-служанка Василиса, так и оставшаяся в семье еще с дореволюционных времен. Да еще и жена: Надя вынуждена была уйти из Большого театра, и отец писал о ней в анкетах: безработная балерина.
Это я к тому, что каждая если не копейка, то рубль, дававшийся ему с боем, был на счету. А Булгаков, как искренне полагал папа, чудил. Отказывался ради собственного ego и высочайших убеждений от больших заработков. По мнению отца, принципы эти были никак не применимы в ту эпоху, которая на их нелегкое время выпала.
Здесь видятся мне непримиримые противоречия великого творца с позицией осведомленного, добросовестного, однако побитого жизнью и собственной неудачной для той поры биографией журналиста. А Булгаков был и остался гением советской и постсоветской драматургии, литературы именно потому, что поднимался выше сиюминутного, запретного, подцензурного. Он смотрел и видел гораздо дальше. Широчайший его горизонт был никак не сопоставим с неким журналистским, профессией заданным, даканьем. Если правильно понимаю, то это искреннее двустороннее непонимание и послужило причиной не разрыва, не ссоры, а некоего охлаждения отношений.
Разговоры о высоком сводились теперь к минимуму, хотя они по-прежнему могли вместе провести время в обществе милых дам. Тут некоторые авторы, опубликовавшие свои опусы, перебарщивают в подробностях. Откуда они их только берут?
Самая неправдоподобная — история о совместном отдыхе в санатории или Доме творчества. При тогдашних строгостях отец выручал друга, выбрасывая ночью со второго этажа связанные простыни и подтягивая к окну сначала писателя, а за ним и его гостью. Чушь. Хотя бы потому, что папа был настолько неумел в быту, что элементарно не мог при всем желании и уважении к Михаилу Афанасьевичу связать простыни узлом. Какой узел! Держал ли он в руках молоток или хотя бы гвоздь?
Трудно было найти человека, столь оторванного от наших реалий. Уже студентом я как-то осведомился, слышал ли он, сколько стоит батон белого хлеба. Любой знал — 13 копеек. Отец задумался: «Копеек тридцать? Сорок? Точно знаю: брикет мороженого — сорок восемь копеек». Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь он заходил в продуктовый магазин, даже в «Елисеевский», что в двух шагах от редакции. Он покупал только любимый пломбир, и все мороженщицы у перехода на Пушкинской величали его по имени-отчеству.
Сознательно ли он поставил себя в такую изоляцию от напиравшей действительности? Или спасался в искусстве от всего казавшегося лживым, ненужным, тягостным? Если да, то спасение было действительно найдено. Определенный эгоизм, некое чудачество, существование в скорлупе? Коктейль своеобразный. Но живительный.
Еще немного о Булгакове.
В детстве отец привел меня к Елене Сергеевне — жене давно ушедшего мастера. Она в ту пору болела, хотя прожила еще долго, очень жаловалась папе, что не издают книг мужа, а вот пьесы — ставят.
У меня, совсем маленького, вдруг разболелась голова. Елена Сергеевна сразу определила — мигрень. Помассировала виски и на прощанье нацепила теплую шапочку: «Это — его. Тоже все время мучился». Отец шутил, что вроде не по Коле шапка. Тогда я не мог понять, чей головной убор потерял на следующий же день. Но, значит, была степень доверия к отцу и после давнего ухода Михаила Афанасьевича.
Про Булгакова в доме много рассказывалось. Как воевал, не совсем понятно, в какой армии и какого был благородного происхождения. Как недовольство его пьесами высказывал сам Сталин, тем не менее их постоянно посещавший. Насколько был Миша талантлив, и как не дали ему многого успеть. Как складывалось и совсем не складывалось с театром. И каким был красавцем, на что всегда слышалось женское укоризненное «да уж, вся Москва была о ваших с ним приключениях наслышана».
Театр вошел в жизнь отца позже, а знание кино пригодилось сразу: в штат «Комсомолки» взяли благодаря этому. И отец оправдал доверие сполна. Не было перед войной такой «фильмы», о которой бы он не написал в газете, и почти всегда — раньше конкурентов.
Был в чудесных отношениях с Эйзенштейном, Довженко, Птушко… Григорий Александров и Любовь Орлова — друзья дома. Николай Черкасов, приезжая из Ленинграда, частенько останавливался у нас, на улице Горького, ныне Тверской, предпочитая общение с другом Мишей житью в гостинице. Кстати, в престижнейшую во второй половине 1950-х английскую специальную школу № 1 я попал только по протекции депутата Верховного Совета СССР Черкасова, хлопотавшего обо мне, как о родном. Даже на наших школьных концертах Черкасов и то выступал — чего не сделаешь ради сынишки близкого товарища. И все Маленковы, Ворошиловы, а также Буденные, крутившиеся в блатной школе, отбивали ладони, аплодируя долгожданному ленинградскому гостю.
Дружили мы с «Веселыми ребятами»
У папы с «Гришей» была дружба, думаю, еще с конца 1920-х, с Любовью Петровной — года с 1933-го.
Отец поддерживал «Гришу» Александрова с его фильмой о джаз-банде с Леонидом Утесовым в главной роли. Только вот название никак не могли придумать и, посмотрев, в «…надцатый» раз отснятый материал, Мих вдруг выпалил: «Так это же “Веселые ребята”!» Александров обещал поить его шампанским до конца дней своих, но обошлось бутылочкой, распитой на шестом этаже.
Григорий Васильевич всегда поражал — именно поражал — глубиной. Отец объяснял мне, что свои университеты Александров заканчивал у великого Эйзенштейна на съемках всяческих картин о революции. Был допущен ко всем закрытым архивам, мог часами рассказывать о Ленине — доброжелательно, уважительно, но совсем не так, как было написано о вожде в советских учебниках.
Никак не мог понять, откуда у этого занятого, спешащего, очень востребованного человека столько времени на необязательные выдумки. Даже каждая их с Любовью Петровной открытка к Новому году была неким если не произведением искусства, то трюком, веселой шуткой и оставалась воспоминанием. То полученные от Г. и Л. письма раскрывались и стреляли, то из них вылезала зеленая елочка, то вылетали шарики, серпантин. И все это — с остроумными пожеланиями. Вспомните, какое это было время: темные солнцезащитные очки на глазах у балетмейстера Игоря Моисеева — и то казались чудом.
Одно из последних новогодних поздравлений от «Веселых ребят» — со стихами. На пришедшей в письме открытке Любовь Орлова в роли разведчицы в фильме «Русский сувенир». А еще — пожелание: «Пусть всегда на этом свете будет только мир». Это песенка из фильма «Русский сувенир». И подпись — Люба — Гриша. К сожалению, судьба фильма сложилась неудачно. Сначала говорили, что взялся Александров за слишком закрытую, не его тему. Потом пошли разговоры, будто Орлова не так молода, как того требовал сценарий. Картина все-таки появилась, однако прошла незаметно. Даже ругать ее не решались. Все-таки Орлова и Александров. А картонное новогоднее поздравление долго стояло у нас на подзеркальнике.
А о встрече Нового года у Г. и Л. родители мне, малолетнему, рассказывали долго. «Гриша» прикрепил елку к потолку. И она крутилась, танцевала под мелодии, которые наигрывала Любовь Петровна.
Когда к нам приходили оба, это становилось событием. Доставался мейсенский фарфор, готовился салат из крабов, лепили многослойный — как любил «Гриша» — торт «наполеон». И Любовь Петровна появлялась в дверях скромной квартиры всегда в прекрасном наряде, точно входила в Дом кино на собственную премьеру. Была сдержанна, как-то все больше молчала, пришла к друзьям — а какие прическа, макияж, украшения! Александров помогал ей играть Королеву. Но и без его помощи чувствовалась в ней голубая кровь. Говорили всегда о высоком. И не было в этой паре двух ненавистных мне черт: зависти и выпендрежа.
Визиты никогда не переходили в застолье, заканчивались быстро. Иногда мы с папой провожали гостей до дома — они жили совсем рядом. И когда у меня вдруг появился здоровенный бинокль, я пару раз видел, что отец нацеливает его по утрам на александровскую квартиру: «Гриша уже работает. Вот человек». Да, осталась еще горсточка людей, помнящих Любовь Орлову и Григория Александрова. Однако поверьте, скоро и мы уйдем, и это — чисто временное — недоразумение несколькими годами позже разрешится самым естественным образом.
«Граница на замке»
Отец и сам сочинял сценарии. Вместе с другом по «Комсомолке» Илюшей Бачелисом они сделали по-нынешнему хит конца 1930-х: «Граница на замке». Название, ставшее крылатым, придумал папа.
Судьба фильма о поимке немецких диверсантов удивительна. Сначала приняли на ура. Потом заключили пакт с Германией, и фильм лег на полку. Но с приближением 1940-го снова пошел первым экраном.
Потом были десятки документальных фильмов и довольно известные художественные: «Сильва» с другом Гришей Яроном и «Девичья весна» об ансамбле «Березка», которым руководила первая жена — Надежда Надеждина. Не моя мама, как почему-то думают многие, а просто хорошая подруга семьи тетя Надя.
До Канн не добраться
Стыдно до жути, но трижды и без особых усилий довелось мне побывать на Каннском кинофестивале. Отец, человек достатка среднего, рвался туда чуть не до последних лет. Копил деньги, записывался в специализированные туристические группы… и его, спецкора «Известий» с 1938-го по 1977-й, члена Союза кинематографистов и множества других творческих союзов, из списков — всегда в последний момент — удаляли. Где-то в Париже или рядом жил сводный брат Жорж. Папа каждый раз обижался: в Берлин с Нюрнбергом пускали, в другие страны, даже капиталистические, тоже ездил. Но Франция была бдительно и наглухо закрыта.
Парад-алле
Уж не знаю почему, но отец боготворил цирк. Вышло, что именно цирковые были ближайшими друзьями. Знаменитый дрессировщик Владимир Дуров остался для меня дядей Володей, и с отцом их соединяло нечто общее — искреннее, товарищеское, они помогали друг другу, будто братья. Словно лихой кавалерист, врывался в наш дом Эмиль Кио, веселя себя и гостей шутками и анекдотами — не всегда приличными. Иногда меня даже удаляли из гостиной, отправляя в спальню: нечего тебе, иди, иди в свою комнату. Смысл одного подслушанного анекдота дошел до меня уже на последних курсах института.
Я никогда не забуду тех наших цирковых походов на Цветной бульвар. Отец не любил ложу дирекции наверху, и нас всегда сажали на приставных стульях во втором ряду. Иногда я опаздывал с занятий, и пропускавшая меня билетерша подсказывала: твой папа у Марка Соломоновича (Местечкина, директора), у Галины Алексеевны Шевелевой (заместителя директора, милейшей женщины, которая и руководила всем цирком), за кулисами у Кио, Карандаша, Попова, позже Никулина. Мы приходили в цирк, как домой. Покупали лучшее в Москве мороженое в вафельных хрустящих стаканчиках, закупали по дикому блату сухую невиданную венгерскую колбасу и съедали в антракте по два-три бутерброда. Цирк был каким-то родным. Я любил даже его необычный запах — смесь духов с конским навозом и трудовым артистическим потом.
Всегда цирковые были в сплошных интригах. Громким шепотом рассказывали, как опять сорвавшегося Карандаша закрыли в комнате, предварительно вынеся из нее все заначки. А потом, войдя, снова нашли его не в форме. Оказалось, что какой-то доброхот пропитал тряпку коньяком и подсунул под запертую дверь. И Михаил Николаевич свое взял.
Когда у Эмиля Теодоровича Кио случился инфаркт, пошли разговоры об отмене московских гастролей, а то и о временном закрытии всего аттракциона. Злопыхатели не дождались. Решался важнейший в цирковой династии Ренардов-Кио вопрос: кто заменит отца на манеже? Склонялись к тому, что старший сын от первого брака, тогда говорили — от осетинки, Эмиль. Но нежданно выбор пал на старшеклассника Игоря.
Никогда не забуду того нашего семейного воскресного похода. Обычно сдержанный отец волновался. Зря! Всё в аттракционе было так здорово отработано, что Игорь прекрасно справился.
Но папа был недоволен. Мы пошли в гримерку, и я стал невольным свидетелем необычной сцены. Отец вытащил из кармана свой как всегда белоснежный носовой платок и со словами: «Никогда больше так не красся!» — стер почти всю красную губную помаду с губ юного Игоря. Тот оправдывался: «Так решили гримеры», а отец бушевал: «Слава богу, тебя в таком виде не видел папа». Потом перешли к спокойному обсуждению деталей дебюта. По выходным давали и по три представления, и на прощание отец чуть не приказал Игорю, которого ждал еще и второй, и третий выход: «Дай слово, что обойдешься без всей этой гадости». Тот пообещал.
Между прочим, встретившись с Игорем Эмильевичем в 2005-м, я спросил, помнит ли он этот эпизод. Кио засмеялся: «Еще хорошо, что зубы не выбил. А если серьезно, то с того дня за гримом слежу сам, чтобы без перебарщивания».
Горько, что ушел он рано, да и внезапно. Приезжал ко мне в редакцию «Труда». Договорились, что через друзей из Газпрома постараюсь помочь в осуществлении одной его интереснейшей задумки. Потом он позвонил, пообещал дать знать, как только выйдет из больницы. И больше из нее не вышел…
Конечно, мы всей семьей знали секрет всех фокусов Эмиля Теодоровича Кио. Иногда даже подыгрывали. Был у Кио в эпоху 1950-х ошеломлявший публику трюк: иллюзионист подходил с огромной фотокамерой к сидевшим в первых рядах, нажимал на вспышку, и из камеры вылетало огромное фото зрителей. В ту пору это было немыслимо! Но мы-то знали, что если перед аттракционом подбегал старенький лилипут Володя, десятки лет с Кио проработавший, то надо оставаться и после антракта в той же одежде, не снимать шарфиков, пальто и шапок. Фотографировали заранее, проявляли, наклеивали на белую картонку, и из лжекамеры вылетало «чудо-фото».
Дома мы заслушивались историями циркового режиссера и создателя первого советского ледового балета Арнольда Арнольда. Но иногда в дни бегов он врывался в кабинет отца, не снимая верхней одежды. Страстный игрок, перехватив 25 рублей, мчался обратно на ипподром. Удивительно, но долг отдавал всегда следующим утром, а если выигрывал, то вместе с коробкой конфет или духов для мамы.
«Эрдман живет этажом ниже»
И все же страх, наверное, был спутником того поколения. Можно ли было без него, когда сегодня ты знаменитый Николай Робертович Эрдман, а уже завтра — высланный Папин-Сибиряк, а послезавтра к тебе в квартиру приходит милиция и интересуется, дома ли поднадзорный Эрдман, и приходится отвечать, что драматург и писатель живет этажом ниже, прямо под нами.
Меня порой упрекают некоторые лица, считающие себя знатоками биографий знаменитых деятелей культуры. Да откуда он это знает, был мал. Позволю себе вежливо ответить: пишу правду и такую, которую, к примеру, тот же Эрдман неоднократно и по-соседски рассказывал. Однажды, из Москвы удаленный, он в шутку подписал свое письмо оттуда именно так — Папин-Сибиряк, намекая на Папу — Иосифа Виссарионовича Сталина, а вовсе не на знаменитого писателя. Вождь, которому об этом доложили, юмор Эрдмана в отличие от некоторых бытописателей понял. И оценил, задержав еще на некоторое время подальше от Москвы.
Говорю со всей ответственностью. Когда папа спросил Николая Робертовича, что было для всех, даже только отправленных вдаль, а не получивших свое по 58-й статье, самым страшным, тот ответил просто: «Когда конвойный говорит: давай перебрасывай снег сюда. Перебросим, а он: а теперь давай перебрасывай обратно». Людей творческих это убивало. Сколько не создано и не написано из-за этого удушающего недуга.
Николай Робертович иногда погружался в грусть, пытался ее заглушить. Его жена — тетя Наташа Чидсон — строго наказывала соседям: «Никаких одалживаний». Но как все это остановить? Да никак.
К Эрдману после спектаклей наведывались артисты, чаще всего во главе с народным артистом СССР Борисом Николаевичем Ливановым, отцом лучшего Шерлока Холмса мира Василия Ливанова. Бывало, народные путали двери. Вместо девятой колотились к нам в 11-ю. Потом стучали в девятую. Жена Эрдмана возмущалась: «Да вы что делаете! Ломитесь к поднадзорному. К нам участковый каждый день звонит или ходит. Оставьте его в покое. Вам-то что. А ему…»
Иногда заканчивалось неважно. Тетя Наташа просила: «Помогите этим народным доползти домой». И мои родители вежливо, хоть и с трудом, дотаскивали отяжелевших. К счастью, жили те недалеко, некоторые в доме напротив памятника Пушкину.
В коляске диктора Левитана
Вообще пили тогда побольше, чем сегодня. Однажды в новогоднее празднество в мою коляску, стоявшую на площадке, ухитрился влезть диктор Левитан. И на много лет это стало семейной — и не только — хохмой. Встречая меня, Юрий Борисович всегда хмурился: «Ну что? Так и растешь с этой историей? Пора кончать». Дружеских отношений с лучшим голосом страны не получалось.
А еще невысокий Левитан любил красивых и высоких женщин. Пару раз засек его с молодой и высоченной. Было страшно смешно. Ей, вышагивавшей всегда на каблуках в мини-юбке, Левитан был по пояс. И я нагловато спросил знакомую, что она делает с этим маленьким дедушкой — ведь ему лет 65, что казалось мне в 1980-м глубочайшей старостью. Баскетболистка рассмеялась: «Да вам, молодым, учиться и учиться. У него все остальное подобно голосу». И когда Юрий Борисович умер, высоченная девушка в супермини проводила его в последний путь, а потом мы выпили с ней в память о дарившем всем разные радости.
Шофер для Шостаковича
А в основном окружали нас истинные интеллигенты. Отец возил великого Шостаковича на своем убогом «Москвиче» к нам на дачу. А гений смеялся: «Миша, вы хороший журналист, но как вы получили права?»
Может, ему было хорошо в компании неумелого водителя, ибо помнил, как после очередного разгрома его оперы в заказной рецензии отец нашел его в полуобмороке у газетного киоска и отвез домой.
С интересом читаю мемуары о встречах авторов с великими деятелями искусства. Написано со знанием темы, профессионально. Но часто задаюсь вопросом: воспоминания есть, а были ли встречи? Иногда у тех, небезгрешных, бывали свои заскоки, собственное представление о людях, эту землю населявших. Как же тогда встречались, да еще и беседовали с исповедальным откровением?
Шаляпин рисовал Уланову
Не берусь много писать о Галине Сергеевне Улановой. Как и каждый гений, была она человеком сложным. К душевным исповедям не слишком склонной. Не пойму, почему лишь однажды с нею поговорившие или в какое-то турне съездившие срочно записывали себя в близкие подруги лучшей балерины мира.
Был я лично знаком лишь с одним ее настоящим другом — прекрасной журналисткой «Комсомолки» Татьяной Агафоновой. Когда Таню, все время пропадавшую у Улановой и почти забывшую о работе, уволили за прогулы, у строгого нашего главного редактора Льва Корнешова зазвонила вертушка. Человек, которому нельзя было отказать, просил восстановить сотрудницу. И Лев Константинович, взяв под козырек, приказ свой отменил. Горько, но Татьяна Агафонова ушла на три года раньше старшей своей подруги.
Как-то сын Федора Шаляпина, французский художник Борис Федорович Шаляпин, наездом подарил отцу портрет Улановой с трогательной подписью в левом углу. А Галина Сергеевна, к нам заскочившая, оставила посвящение в углу правом. Потом Уланова, знаменитый французский танцовщик и балетмейстер Серж Лифарь и папа выходили в Варне на яхте в море. Значит, были с отцом добрые отношения, было уважение?
Но когда Владимир Васильев, в ту пору руководитель балетной труппы и директор Большого театра, подвел меня за кулисами к величайшей истинно народной и представил, не забыв упомянуть о соответствующем родстве, Галина Сергеевна отреагировала сухо. Точнее — никак. Кивнула — так, между прочим. Но заслуживал ли я, журналист и первый замглавного огромной газеты, большего? К чему конгениальным расходовать энергию и время на общение с кем попало? Каждая секунда дорога не только для нас, что понятно, но и для них тоже. И теперь я вчитываюсь в поток воспоминаний о лучшей балерине мира. Откуда они взялись, не дрогнувшей рукой написанные складно и порой увлекательно? Загадка.
Загадки без ответов
Еще одна загадка совсем в ином: почему с отцом так дружили иностранцы, люди уехавшие? Он состоял в трогательной переписке с директором «Ла Скала» Антонио Гирингелли. Или вдруг в 1975 году позвонил мне в «Комсомолку»: «Срочно приезжай домой, нужна твоя помощь». Я рванул на Горького и, благо близко, застал картинку. Он и художник Николай Александрович Бенуа, заскочивший из Италии, по очереди пытаются вытянуть пробку из бутылки. Пробку-то вытянул я, и с первого раза. Но что толку? Кто мне Бенуа и кто я ему? А с отцом они дружили…
Или ушла порода? Он мальчиком-статистом выступал с Шаляпиным, а я тратил время на бездарный теннис. «Что за мелодия? Откуда?» — теребил он меня, я же без тени смущения пожимал плечами. Не схватил многого, что давала — и щедро — жизнь. Где-то упустил, не дотянул до того, что именуется чудесным словом «культура». И я — еще не наихудший. Остается утешаться только этим. Интеллигентность незаметно и тихо исчезла из нашей жизни. Ушли или, простите, вымерли ее последние спутники-носители. Из того отцовского поколения ровесников века — 1901 года рождения — не осталось, что абсолютно логично и естественно, никого. И даже не то страшно, что они не с нами. Увы, мы не унаследовали ничего или, будем, как всегда, к себе снисходительны, мало что переняли из их наследия. Связь времен прервалась, передача эстафеты не состоялась.
Когда папы не стало, я попытался разобрать огромнейшие залежи архивов. И не смог. Сломался на вторую неделю. Не буду рассказывать, как и куда они позорно исчезли и с моего молчаливого согласия тоже. Я о другом. Знал, что отец — трудяга. С утра до ночи и снова с раннего утра стучал в нашем доме трофейный «Ундервуд». В это время заходить в кабинет строжайше запрещалось. Но не думал я, что столько написано и столько загублено. Маленькая толика издана, поставлена, снята. Меня убили кипы киносценариев, на которые уходили годы жизни. Они высились бесполезными памятниками журналистскому, писательскому трудолюбию. Почему, по-нашему говоря, не пошло? Нет ответа. Хотя довольно категорично могу признать: были не хуже других снятых киноповестей и изданных книг. Но, честно, не лучше.
Сидел в отце какой-то внутренний цензор, мешавший загнать в фильм то, о чем он так увлекательно рассказывал. Все же пройденная в жизни школа всесоюзного страха проникла и в сердце, и в душу. И этого проклятого цензора, омерзительного, намертво засевшего, было уже не выдавить.
Я нашел письмо отца своей тете, так никуда в 1920-е в отличие от всех своих родственников не сбежавшей и осевшей в коммуналке в Ялте. Как у них, у той прослойки, и полагалось, общались на «вы»: «Тетя, прошу Вас, покажите Коленьке место, где мы в детстве отдыхали. Только объясните все аккуратно, с присущим Вам тактом. Объясните, что это наше семейное гнездо, добровольно переданное, кажется, простым железнодорожникам». И баба Женя привела меня в гнездо с мраморной лестницей. В санатории отдыхали работники МПС. Между прочим, когда мне говорят, что «Крым-то все равно не наш», слышать это тошно. Он и наш, и лично мой тоже.
Но почему такой жуткий страх уживался, нет, не с героизмом, а с постоянными командировками на фронт? Там что, страха не было? Исчезал?
Или странный эпизод в Нюрнберге. Там работали зубры во главе с Борисом Полевым. Фронтовики, орденоносцы. И не великие, а скромный Мих. Долгополов подписал письмо министру иностранных дел товарищу Молотову.
Процесс шел с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го. И текст для тех суровых времен предельно откровенный. Суточные — грошовые, им, корреспондентам, еще хватает. А переводчикам, женщинам — стенографисткам, машинисткам очень тяжело, живут чуть не впроголодь. У молоденьких девчонок доходит едва не до обмороков. А уж как обносились. Надо помочь.
И почему-то помогли. Этому есть документальные доказательства, я видел фотокопию письма (или прошения?) в книге одной из молоденьких тогда переводчиц, в Нюрнберге работавших, добравшейся до высокого поста.
Странно, но мольба дошла до адресата, посланию дали ход. Кое-что подкинули. Многие годы отцу звонили бывшие сотрудницы нашей делегации. Поздравляли с днем рождения и всегда благодарили.
Откуда вдруг такая необычная смелость? Взял, написал. Отец оставил мне много вопросов, и этот — из самых трудных.
А вот еще одно совсем не сбывшееся предсказание: «У тебя перышко бойкое. Может, где-то к концу и выбьешься в фельетонисты. Или даже в спецкоры». Что поработаю замглавного в трех больших газетах, отцу и в голову не приходило. Лучшее в журналистике — специальный корреспондент.
Или святая для меня заповедь: «Первая газета — самая счастливая. Потом будет хорошо, но так здорово, как было, — уже никогда. Прими спокойно».
Кое-что я принимал как надо. Иногда терялся. Тиски давили. Но главная потеря не в том, что не успел, не написал. Странно, но расписался я под конец жизни. Может, потому мы и Долгополовы.
Числю себя в умело потерявших волшебную палочку. Порвалась связь. Не сумели взять от старших их лучшее, и оно кануло. Исчезло. Мне кажется, навсегда. Был позорнодолгий для отечественной русской истории почти десятилетний миг, когда тяжелобольной правитель, разбивший великую империю на куски, отдавал все, что можно было отдать. Да еще наставлял, чтоб брали столько, сколько смогут унести. И разобрали, растащили.
Предки и отцы собирали, склеивали по кусочкам, присоединяли свое, исконное, потом брали Берлин, а мы… Легче легкого справедливо сказать, что не виноваты, так сложилось, это все он, нездоровый правитель, хорошо попраздновавший с двумя такими же, как он, политиками-любителями в Беловежской Пуще.
Даже знаю, что и сейчас живущий в одной из близких по духу стран офицер спецслужбы с риском быть объявленным предателем выбирался из дома, где шел кощунственный дележ. Связывался с Москвой. Передавал строго, по пунктам, как режут державу вдоль и поперек. Так что большущее начальство было в курсе, однако мер не принимало. То ли устало, то ли руки опустились или были добровольно подняты вверх.
Но большой грех и на нас. Распалось. Талдычат, будто такова судьба всех империй. Чушь! А американцы, склеившие свои южные и северные штаты и еще много чего чужого по ходу истории прихватившие? Или англичане, сохраняющие, как бы то ни было, Содружество — иногда по швам трещащее, зато до сих пор существующее. Но это все о политике и ее родной сестре экономике.
Больно, что культура уходит, как и перешедшие в чужие владения земли. Так что еще раз низкий поклон за Крым.
…А отец мой болел страшно. Операция за операцией, и врачи-чудотворцы вытаскивали с того края. Выбравшись на пару месяцев из больницы, папа просил: «Отведи меня в “Известия”. Подышу редакцией». И я тащил его в дом напротив.
За неделю до смерти канатоходец Волжанский вместе со своими молодцами пригласил его в цирк на премьеру. Последний выход в свет. Высокий полет, риск, удача… Его принесли домой на руках, и папа сказал: «Ну, кажется, я совсем отходился. Даже рецензию не написать».
27 августа 1977 года он присел на дачную завалинку. Сказал: «Как сегодня поют птицы». И умер. Тело его потеряли по пути в Москву, и мы с завотделом «Комсомольской правды» Володей Снегиревым мучительно тыкались во все подмосковные морги.
Отыскали. Но как многое затерялось и ушло.
Здесь я совершу небольшой кульбит во времени — из прошлого недалекого в прошлое настоящее. Хочу рассказать о героическом, победном, в котором и наш род принял скромное, а участие.
Когда взяли рейхстаг
Историю Великой Отечественной войны довелось выучить не только по учебникам. Отец был с начала войны корреспондентом «Известий» и Совинформбюро — огромной информационной структуры, созданной 24 июня 1941 года.
Папа не любил рассказывать о первых годах войны. Сплошные неудачи. Ни единого светлого пятна, кромешный мрак. Поражение за поражением. Несмотря ни на что верили, что фашистскую махину остановят, — их научили, приучили к этому, вогнали, прямо-таки втерли в сознание. Эта вера, полагаю, тоже помогла выстоять.
Самое страшное воспоминание отца и всех наших — это московские погромы 16—18 октября 1941 года. В городе — паника. Били витрины магазинов, тащили вещи, продукты. Мародеры, иногда вооруженные, врывались в дома, грабили квартиры. Словно пробил последний час Помпеи.
Люди со скарбом беспорядочно двигались по улицам на восток. Куда? Никто не знал. Беспорядочное бегство, мало похожее на эвакуацию. Поезда на вокзалах брали бесполезным штурмом: некоторые застревали на ближайших железнодорожных тупиках.
Сколько раз читал, что Московский метрополитен не останавливался, не закрывался ни разу за все годы существования с 15 мая 1935 года. Трудно спорить с официальными источниками. Тетя твердила иное: 16-го утром толпы рвались в метро, но деревянные двери были закрыты. Кому верить?
На какое-то время отключились радиорепродукторы. Потому и слухи ползли страшные: немецкие мотоциклисты уже на въезде в город, стрельба якобы на западных окраинах, бои рядом с Поклонной.
Советская власть, наверное впервые с ее сурового установления, бездействовала, парализованная противоречивыми приказами растерявшейся политверхушки.
Кошмар закончился только 18—19-го. Моя тетка, твердившая, что наши предки веками били немцев и из комнаты в Трубниковском переулке ее вынесут только ногами вперед, до самых последних дней жизни клеймила трусов и бездарных партийных начальников, отдавших в октябре 1941-го столицу, как она повторяла, «на растерзание не немчуре, а грязной черни».
Потом все как-то улеглось, успокоилось. Я допытывался, стремился узнать у еще живых тогда свидетелей, как сумели провести парад 7 ноября 1941 года со Сталиным на Мавзолее и молчаливыми полками, решительно марширующими прямо на фронт. Не было мне ответа. О параде узнали позже из сообщений того же Совинформбюро и кадров кинохроники, частью постановочных. Но это как раз тот случай, когда «и ложь во спасение бывает».
Начались у отца фронтовые командировки. В каких-то завалах сломал ногу. То ли наши наступали, то ли, что вероятнее, драпали. Долго лежал в госпитале — не срасталась. Ходил на костылях, хромал, выписался, не долечившись, и до самой смерти нога мучила, напоминала.
Когда уже после войны на какой-то публичной встрече спросили папу о фронтовой специальности, за него ответил знаменитый конферансье, своеобразный Жванецкий того времени, Михаил Наумович Гаркави, в свое время муж певицы Лидии Руслановой: «Специальность — живая мишень. Когда Мих выезжал на фронт с нашей бригадой артистов, мы все умоляли его пригнуться, не привлекать внимания».
...