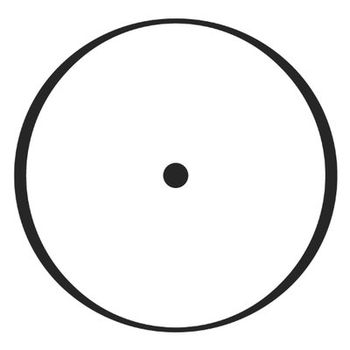Опавшие листья
Философия, дневник или эссе? Спонтанные заметки мыслителя о жизни, смерти и любви
В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца ХИХ — начала ХХ в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени… «Опавшие листья» – опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлексирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги. Почему произведение носит название «Опавшие листья»? Потому что в оригинале рукопись его представляла два короба с ворохом исписанный листочков. «Опавшие листья» – одно из самых известных произведений В.В. Розанова. В его основе лежит принцип случайных записей: заметки на полях, мысли, впечатления, подчас бесформенные и непоследовательные.
Жас шектеулері: 12+
Түпнұсқа жарияланған күн: 19
Қағаз беттер: 369