автордың кітабын онлайн тегін оқу Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма

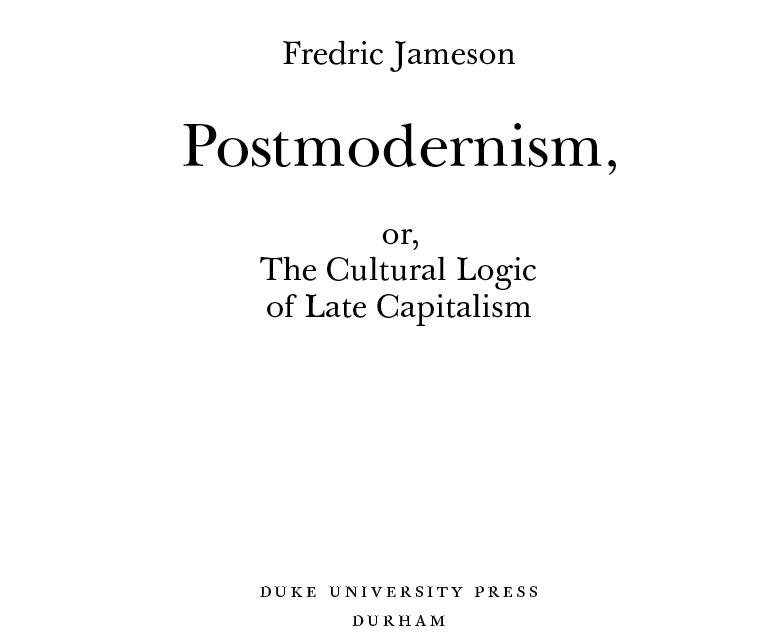
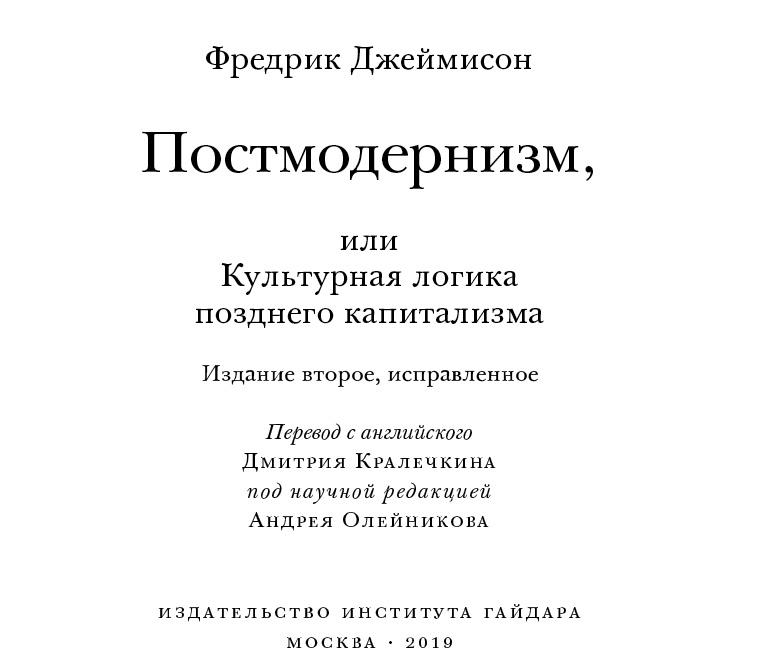
Странная жизнь
постмодернизма
Книга Фредрика Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» вышла более двадцати пяти лет назад. С тех пор многое изменилось. Мир стал другим. Джеймисон начал исследовать иные темы, фактически оставив постмодерн в прошлом — прямо в соответствии с духом времени. Капитализм стал еще более поздним. А постмодернизм… С постмодернизмом вопрос остается открытым. Он даже не просто изменился, а то ли умер, то ли закончился, то ли «растворился в воздухе» (ведь мы знаем, что «все прочное растворяется в воздухе», как это сформулировали вслед за Марксом и Энгельсом их последователи [1]), то ли мутировал, то ли превратился в призрака. Версий того, что стало с постмодерном, много. Но куда меньше, чем публикаций на тему постмодерна за последние пятнадцать-двадцать лет. Если припомнить, что творилось в социальных и гуманитарных науках в 1980–1990-е годы (кажется, не было ни одного автора, который отказал бы себе в удовольствии высказаться о предмете), можно сказать, сегодня о постмодерне забыли. В дискуссиях о постмодерне той поры было сломано так много копий — или потрачено так много слов, — что, видимо, единственным возможным вариантом решить проблему оказалось просто оставить ее и не замечать, прекратить писать или даже упоминать слово. Массово о постмодерне прекратили говорить почти так же внезапно, как и начали. Сами по себе дискуссии о нем свидетельствовали, что даже если постмодерна/постмодернизма не было, в ретроспективе сейчас становится понятно: эти споры оказались свидетельством того, что он был.
Однако проблема заключается в следующем. Теперь, спустя более четверти века с момента выхода хрестоматийного труда «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма», когда мир, описанный в тексте, изменился до неузнаваемости, может ли иметь книга Джеймисона какой-то другой смысл, кроме того чтобы просто служить историческим источником? Несмотря на то что это одна из самых влиятельных философских книг (так, было продано более чем 80 тысяч копий), ее предмет посвящен совсем уже не актуальному времени. Она не была написана как «вечная». То есть это не метафизический трактат о бытии, не абстрактное политическое философствование о справедливости и даже не манифест. Это рассуждения одного мыслителя о конкретном состоянии культуры. Культуры, которой фактически больше нет. Почему это так, мы еще скажем, но пока остается вопрос. Если дела обстоят таким образом в действительности, зачем читать книгу Джеймисона? Того, что сам Джеймисон — один из самых влиятельных из ныне живущих философов, хотя и достаточно, но все же как-то мало. Нужны еще какие-то причины. Почему его главная книга до сих пор остается настолько актуальной — в том числе для отечественных читателей, — что мы отчаянно нуждаемся в знакомстве с ней? Во-первых, потому, что она позволяет убедиться в том, что постмодернизм в самом деле существовал. Во-вторых, потому, что она помогает понять самую главную теорию постмодерна. Ведь, как это сформулировал один исследователь, немногие эссе (все началось с одной статьи в 1980-е) имели такое влияние, как «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма», и уж тем более немногие эссе изменили образ глобального мышления о самом себе [2].
Почему мы нуждаемся в этой книге
В 2017 году на русский язык была переведена очередная книга немецкого историка Алейды Ассман «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна» [3]. На немецком текст вышел немногим ранее — в 2013 году. Казалось бы, при обсуждении «темпорального режима Модерна», тем более его взлета и падения, читатель вправе ожидать хотя бы упоминания другого темпорального режима — постмодерна? Но Ассман старательно (и намеренно) избегает любого употребления слова, вообще не упоминая понятия «постмодерн» (или «постсовременность»), притом что последний, как мы сегодня понимаем, является исключительно темпоральной категорией. Например, социологи Энтони Гидденс и Филип Саттон так определяют постмодерн: «Исторический период, следующий за модерном. Он менее четко определен и более плюралистичен и социально разнообразен, чем предшествующий ему модерн. Считается, что постмодерн начал развиваться в 1970-е» [4]. Забавно, что сам Гидденс еще в 1991 году отказывал постмодерну в историчности. Гидденса не удовлетворяло то, что постмодернизм противоречил сам себе. В частности, согласно социологу, утверждение о том, что современность вытесняется постсовременностью, означало, что история получает некоторую связность и понимание нашего места в ней, а потому речь следовало вести о новой «современности» [5]. В итоге, как видим, он передумал и признал постмодерн историческим периодом.
Однако Алейда Ассман даже не отрицает постмодерна. Для нее его просто нет и, возможно, не было. Даже тогда, когда Ассман вскользь обращается к Лиотару, чтобы в очередной раз вспомнить его идею об исчезновении метанарративов (великих повествований), слово постмодерн не всплывает [6]. Этот эпизод свидетельствует об очень важном сдвиге в актуальной социальной философии и культурной теории. То, что некогда было ключевой и даже самой популярной темой социальной теории, теперь даже не называется, как будто авторы стремятся забыть о постыдном прошлом гуманитарных дискуссий 1980–1990-х годов [7]. При таком подходе мы просто-напросто теряем целый пласт социальных теорий, которые хотя, видимо, и принадлежат истории, но все же нуждаются в том, чтобы о них помнили. Такое намеренное пренебрежение понятием может быть связано с тем, что разговор о постмодерне увел бы Ассман далеко в сторону. Иногда лучше ничего не говорить о постмодерне, чем повторять глупости. Так, в отечественной гуманитарной науке — и уж тем более публичном пространстве — до сих пор доминируют конкретные представления о постмодерне, которые не имеют почти ничего общего с тем, как дела обстоят на самом деле.
Создается такое впечатление, что в России про постмодернизм все еще думают в контексте французской философии второй половины ХХ века либо в связи со стилевым направлением в искусстве. Тем самым социальная теория, которая фокусируется на проблеме постмодерна, остается без внимания. Отсюда и усеченное и даже однобокое представление о постмодернизме. Посмотрим, как, например, пишут про постмодернизм в русскоязычной Википедии, которая, не будучи научным ресурсом, все же представляет собой показательный «кейс», ведь не секрет, что многие современные студенты, чтобы получить первичное представление о чем-либо, часто обращаются к Википедии. «Постмодернизм (фр. Postmodernisme — после модернизма) — термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины XX и XXI века: он употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн — состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, допостмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи» [8].
В определении речь идет о философии и искусстве; отдельно также упоминается состояние «современной культуры». Кроме того, в тексте приводится несколько трактовок постмодернизма — Лиотара, Хабермаса, Эко и др. Главным образом статья, однако, сосредоточена на философии и искусстве, а среди «работ классиков постмодернизма» названы имена Бодрийяра, Делеза, Гваттари, Лиотара и Фуко (в этом ряду находится текст архитектора Чарльза Дженкса). В списке дополнительной литературы мы не найдем Хабермаса, Джеймисона, Гидденса и некоторых других авторов. Для сравнения: в статье из англоязычной Википедии, которая имеет ту же структуру, что и русский вариант, но отличается содержательно, точно так же есть два больших раздела — философия и искусство. Среди философов это Хайдеггер, Деррида, Фуко, Лиотар, Рорти, Бодрийяр, Джеймисон, Дуглас Келлнер (представитель третьего поколения «критической теории») [9]. Список литературы для дальнейшего изучения в англоязычном тексте более репрезентативный. Вместе с тем в самом тексте статьи понятие связывается прежде всего с французскими философами.
То, что представления о постмодернизме как философском течении связаны у нас с французскими философами, подтверждается, если обратиться, скажем, к учебной литературе. В качестве наиболее показательного примера возьмем учебник «История философии», подготовленный сотрудниками философского факультета МГУ им. Ломоносова. Помимо важных замечаний, что термин не имеет четкого определения и является «интердисциплинарным», в главе «Постмодернизм» уделено место следующим философам («теоретиками философского постмодернизма считают»): Фуко, Деррида, Барта «позднего периода», Лакана «позднего периода», Гваттари и Делеза. Кроме Фуко, Делеза, Гваттари и Рорти, в тексте упоминается литературная критика Йельской школы в контексте деконструкции. И хотя в главе можно встретить упоминание множества имен, подробно они не рассматриваются, а в списке чтения из первоисточников — Лиотар, Фуко, Мерло-Понти, Деррида, Кристева, Делез, Гваттари, Бодрийяр [10].
Что касается научной литературы, то можно упомянуть книгу социального философа И. А. Гобозова «Куда катится философия» [11]. Жанр книги заявляется как «философский очерк», и поэтому к нему, конечно, нельзя предъявлять строгие требования, которые обычно ожидаются от научной монографии. То есть это сознательное полемическое высказывание, которое имеет право на существование. Тем более такая точка зрения находит поддержку у многих ученых-философов. Собственно, к постмодернизму автор обращается во второй половине книги и уделяет этой теме наибольшее внимание. Глава, посвященная актуальной философии, называется «Постмодернизм — смерть философии». Имена, которые олицетворяют постмодернизм в философии, с точки зрения Гобозова, — Лиотар, Делез, Гваттари, Серр, Рорти. Вместе с тем изложению идей самих «постмодернистов» автор уделяет не так много внимания [12], а определения постмодернизма как такового не предлагает, замечая лишь: «Что касается понятия постмодернизма, то, как я уже отмечал выше, трудно определить, какую смысловую и теоретическую нагрузку несет это понятие» [13]. При этом большей частью И. А. Гобозов концентрируется на критике постмодернизма, обращаясь к книге Алана Сокала и Жана Брикмона «Интеллектуальные уловки» [14], которые изобличают философию Лакана, Делеза, Бодрийяра, Кристеву, «Иригарэя» (вероятнее всего, имеется в виду Люси Ирагрей) и др. [15]
Обращение автора к тексту «Интеллектуальные уловки» очень показательно. В книге действительно содержатся резкие критические оценки взглядов французских философов, правда, с «научных позиций». Критика ученых строится главным образом на комментировании цитат, вырванных из контекста. Жанр книги «Интеллектуальные уловки» определяется как «документальная проза», то есть сам по себе это не вполне научный текст. Но дело не в том, что анализ или критика «постмодерна» не имеют права на существование или не верны, но в том, что на основании этой критики складывается представление о «философии постмодернизма». Тем более что книга была переведена на русский язык и доступна, а ссылки на нее можно встретить в той же статье на Википедии, посвященной «постмодернизму». Еще более проблематично то, что исходя из ограниченности критики Сокала и Брикмона формируется взгляд, будто постмодернизм — это прежде всего французские философы, не раз упоминаемые выше.
Установка на такое понимание постмодерна некритически воспроизводится в отечественной научной литературе. Например, вот отрывок из рецензии на одно из переизданий книги И. А. Гобозова: «Не будет преувеличением сказать, что в рецензируемой работе впервые в современной отечественной философской литературе на основе глубокого анализа „шедевров“ классиков постмодернизма Ж. Бодрияра, Ж. Ф. Лиотара, Ж. Делёза, Ф. Гваттара, М. Серра, Р. Рорти, а также работ критиков постмодернизма У. Бека, А. Сокала, Ж. Брикмана, В. Декомба и др. выявлены основные характерные черты постмодернистской философии» [16]. В другой рецензии на книгу Гобозова авторы еще более категорично заявляют о необходимости понятия истины для современной философии и обрушиваются на постмодернизм, «сторонников которого среди молодежи в России не мало» [17].
Чтобы сравнить, взглянем, что говорит про постмодернизм историк философии Дэвид Уэст. В своей книге «Континентальная философия: введение», которая главным образом должна служить подспорьем студентам и университетским преподавателям, Уэст, разумеется, уделяет теме «Постмодернизм» существенное место [18]. То, что книга рекомендуется работникам сферы высшего образования и тем, кто это образование получает, очень важно. Потому что текст должен сформировать у молодых людей представление о философских проблемах, помочь понять им то, что все еще не понято на должном уровне. Что именно Дэвид Уэст рассказывает читателю о «постмодернизме»? Он выделяет четыре «разновидности постмодернизма», обращаясь при этом к генеалогии каждого из упоминаемых им типов. Во-первых, это структуралистская и постструктуралистская философия (Фуко и Деррида) как истоки течения. Во-вторых, это критика модерна, приведшего к холокосту, ГУЛАГу, тоталитаризму и т. д. Этот пункт Уэст связывает с разочарованием интеллектуалов в «западном марксизме», впоследствии предложивших собственные теоретические новации в социальной теории и философии. Связь этих утверждений элементарна: «…марксизм, вероятно, является наиболее частой, хотя и не всегда открыто заявляемой, целью постмодернистской критики модернизма» [19]. В-третьих, постмодернизм — это течение в искусстве, которое предлагает ответ на искусство высокого модерна, утвердившего себя в первой половине ХХ века. В-четвертых, это историческое и социологическое применение термина. В качестве примера последних Уэст приводит имена Арнольда Тойнби и Райта Миллза. Но, что наиболее важно, в заключении главы о генеалогии постмодернизма Уэст все же обращает внимание на то, что постмодернизм в философии (критика идеалов Просвещения, недоверие к универсальным идеалам модернизма) и постмодернизм в социальной и культурной теории (связь тенденций в искусстве с развитием современного общества) действуют в двух разных «регионах». То есть это не одно и то же, и, таким образом, мы должны говорить как минимум о двух разных представлениях о постмодернизме в философии. Как минимум о двух потому, что культурная и социальная теория, рассуждающая о постмодерне, относится к философии в не меньшей мере, чем «философский постмодернизм».
Уэст осторожно называет постмодернистами в философии Лиотара (и отмечает, что тот часто менял свои позиции) и Бодрийяра, предлагая в главе, где описывает их позицию, критику Хабермаса. Это осторожное представление о французском философском постмодернизме плохо коррелирует с процитированными учебными и философско-полемическими работами отечественных ученых. Разумеется, в отечественной науке много исследований, посвященных Фуко и т. д., но авторы занимаются их теоретическим наследием без того, чтобы изобличать философа в постмодернизме. Есть другой, возможно, более удачный и более сложный пример в нашей научной литературе. Это очень обстоятельная монография Надежды Маньковской «Феномен постмодернизма» [20]. Автор предупреждает, что в ее оптике оказывается прежде всего художественно-эстетический ракурс «феномена» и, таким образом, она смело может избежать проблем с философскими коннотациями темы.
Однако, поскольку речь идет об эстетике, то есть разделе философии, разумеется, она прибегает к философским концепциям. Если мы обратимся к именному указателю, то обнаружим, что имена Лиотара, Деррида, Лакана, Делеза, Гваттари упоминаются довольно часто. Реже упоминаются имена таких важных авторов даже в контексте «художественно-эстетического ракурса», как Фредрик Джеймисон и Артур Данто. Оба — по четыре раза, и скорее философы просто упоминаются в контексте общего повествования, нежели автором объясняются их идеи. Упоминается имя и Терри Иглтона, но не его книга «Иллюзии постмодернизма», а другая работа — «Идеология эстетики» [21]. Кроме того, в книге упор сделан на анализ творчества — теоретического и практического — Питера Гринуэя. Но в таком случае, если автор разбирает, что такое постмодернизм в кино, то без работ Джеймисона просто не обойтись, равно как и без некоторых других. Наконец, такие важные авторы, как Линда Хатчеон — лидер в анализе постмодернистских тенденций в искусстве, а также Сильвио Гагджи и Хэл Фостер [22] — один из первых авторов, обративших внимание на проблемы эстетики постмодерна и собравший ключевые философские тексты в своем сборнике «Антиэстетика», — даже не упоминаются. Таким образом, можно сказать, что Надежда Маньковская, если и сосредотачивает свое внимание на философии, то обращается преимущественно к французским авторам, упуская из виду тех социальных философов, которые обращаются к эстетике, а также не рассматривает многих авторов, которые внесли существенный вклад в понимание постмодернизма как эстетической категории. Это отнюдь не критическое замечание: уважаемый автор имеет право ссылаться на тех, кого посчитает нужным, и рассматривать тему так, как ей кажется правильным. Этим замечанием мы лишь хотели обратить внимание на то, что даже в фундаментальных трудах отечественных ученых — трудах, посвященных постмодернизму, где не ожидаешь оценочных характеристик явления, — постмодернизм понимается весьма ограниченно, и ключевые тексты и авторы все еще ждут своей критической рецепции [23]. Ключевой вывод из всего сказанного выше состоит в том, что, прочитав книгу Джеймисона, мы поймем, что все, о чем говорят российские ученые, это не постмодерн, каким он стал известен на Западе.
Постмодерн в творчестве Фредрика Джеймисона
Когда речь заходит о книге «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма», то одна из трудностей при обсуждении этой темы состоит в том, писать ли в данном контексте о Джеймисоне и эволюции его взглядов или повествовать именно о постмодерне и о том, что с ним в итоге стало? Это не праздный вопрос, потому что идея постмодерна занимает в наследии философа принципиально важное место, хотя он сам ее оставил, чтобы посвятить себя новым темам. Определив точку отсчета, мы выбираем конкретное направление повествования, в которое будет трудно вплести обе темы — постмодерн и Джеймисона. Конечно, они неизбежно пересекутся, но именно всего лишь пересекутся. Все те авторы, которые пишут про философию Джеймисона, указывают, что исследования постмодерна занимают лишь небольшую часть в его творческом наследии [24]. Это только доказывает, насколько, с одной стороны, широка сфера интересов Джеймисона как философа, а с другой — насколько далека оказалась в итоге от его взглядов социальная теория постмодерна. Кроме всего прочего, это в очередной раз подтверждает и то, что постмодерн, каким мы его знали, ушел в прошлое. Договоримся так. Интеллектуальная биография Джеймисона еще будет написана, и в глобальном значении тема «что стало с постмодерном?» сейчас куда значимее для общества, чем эволюция идей даже выдающегося философа и культурного критика. Поэтому обозначим интеллектуальную биографию Джеймисона лишь пунктирно и строго в соответствии с центральным местом постмодерна в этой биографии.
Исследователь Филип И. Уэгнер в своей статье «Периодизируя Джеймисона, или Заметки к культурной логике глобализации» [25] (обратим внимание, что в названии эссе сразу две аллюзии на творчество философа — очень постмодернистский прием) предлагает следующий ход: использовать концептуализацию Джеймисоном истории американского студийного кинематографа, чтобы периодизировать творчество самого Джеймисона. Напомним: философ считал, что первый период истории классического Голливуда — реализм, который сменяется модернизмом 1960-х и начала 1970-х, когда коммерческое кино было признано «авторским»; на смену модернизму приходит постмодернизм, предполагающий не новаторское видение режиссеров, а, скорее, игру с уже известными стилями и прошлым как таковым. В соответствии с этой «идеологией форм» Уэгнер относит три главные книги Джеймисона к разным предметным областям исследований — «Марксизм и форма» (реализм), «Политическое бессознательное» (модернизм) и «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» (собственно постмодернизм). Таким образом, три эти книги посвящены разным формам критической эстетики. Такой подход позволяет Уэгнеру выделить четвертый период творчества Джеймисона — исследование культурной логики глобализации. То, что философ стал уделять внимание этой проблеме, очевидно. Однако, во-первых, это разрушает изящество схемы триадичной периодизации наследия Джеймисона, а во-вторых, ставит перед нами серьезный вопрос о связи глобализации и постмодерна, ведь, в конце концов, сам Джеймисон сказал, что глобализация — всего лишь более подходящее слово для того, что раньше было описано как постмодерн. Кроме того, после того как Джеймисон оставил тему постмодерна, он написал так много, что мы вправе говорить о пятом, шестом и далее периодах его творчества.
В любом случае очевидно одно. Начинал Джеймисон как литературовед с четкой идеологической и философской позицией — марксистской. Книга «Марксизм и форма» (1971), по сути, стала одной из первых и главных работ, в которой был представлен почти полный канон работ «западных марксистов» (Лукач, Блох, Адорно, Беньямин, Сартр, Маркузе), разумеется, с акцентом на эстетику — что характеризовало «западный марксизм» и делало его единым интеллектуальным направлением западной социально-философской мысли [26]. Спустя десять лет Джеймисон продолжал отстаивать марксистский проект, но теперь уже в более радикальных формах. Этому посвящен текст «Политическое бессознательное» (1981) [27]. Здесь марксизм представлялся буквально как большой нарратив, а не как анализ — как об этом было принято думать еще со времен Лукача. Уэгнер красиво описывает подход философа: девиз Джеймисона «Всегда историзируй» можно было бы дополнить (переформулировать) как «Всегда тотализируй» — именно в этой книге история марксизма в ХХ веке приобретает тотализирующий характер: «Только марксизм может дать нам адекватное чувство важнейшей тайны культурного прошлого (…). Тайны, которая может быть воспроизведена только в том случае, если человеческое приключение едино» [28]. Пока еще это не было ответом Лиотару, объявившему смерть «великих нарративов», но именно здесь становилась понятной разница в подходах к эпохе этих двух мыслителей, рассуждающих о постмодерне. В этом свете позднейшие исследования Джеймисона — не что иное, как попытка представить адекватное — в противовес лиотаровскому (и некоторым другим) — представление об эпохе постмодерна. Этому непосредственно и посвящена книга «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма».
С 1984 года, когда вышел первый и важнейший текст Джеймисона по теме, и до 1990–1991 годов, когда увидела свет книга «Постмодернизм», Джеймисон занимался осмыслением современной культуры. Очень важно, что теперь он писал не только о литературе, но открыл для себя область визуального и осуществил на практике то, к чему всегда призывал, — описал культуру в ее тотальности, то есть обратился ко всем ее областям — архитектуре, живописи, рекламе, кинематографу и т. д. Теперь философ мыслил культуру как неразрывно связанную с экономикой «вторую природу» человека. Иными словами, в эпоху постмодерна любой культурный товар или явления непременно имели экономическую подоплеку. В категориях классического марксизма это можно было посчитать ересью, так как одна из ключевых категорий надстройки сливалась с базисом, однако этот теоретический ход вписывался в уже сформировавшуюся традицию «западного марксизма», для которого культура становилась ключевой формой анализа и затмевала экономику. Это состояние отражало и изменения в психике: главной формой восприятия окружающего мира, если учитывать утрату исторического мышления после модерна и превалирование пространства над временем, становилась шизофрения: «…психическая жизнь становится хаотичной и судорожной, подверженной внезапным перепадам настроения, несколько напоминающим шизофреническую расщепленность» [29]. Кроме того, Джеймисон картографировал саму культуру, выстроив иерархии ее областей от архитектуры и до литературы — наименее интересной сферы постмодернистской мысли, характеризующейся паразитизмом на стилях и техниках прошлого.
Это лишь немногие ключевые темы, которые затрагивал в своей книге Джеймисон. Этих идей было так много, и они были настолько глубокими и откровенными, что после ее публикации возник серьезный вопрос — что философ сделает теперь, то есть станет ли он развивать тему дальше (и если да, то куда можно будет двигаться), или же найдет новую проблему для исследований и комментариев? Учитывая, что он уже сделал ставку на тотальность культуры постмодерна, он оказался в сложном положении. С одной стороны, крах СССР доказал правоту и прозорливость Джеймисона — постмодерн символизировал глобальность североамериканской капиталистической культуры. С другой — как марксисту, Джеймисону нужно было оправдать существование марксизма в качестве «великого нарратива» современности. Разумеется, он это с легкостью сделал в статье 1993 года «Реально существующий марксизм», доказав актуальность идей революции, утопии и т. д. [30] Проблема заключалась в том, что либо этого было мало, либо это не могло убедить всех. Это была статья, его книги, как очень точно замечает Стивен Хелминг, сильно отставали от времени. Тексты «Геополитическая эстетика» и «Знаки зримого» явно не могли быть ответом на геополитические перемены. Это были сборники эссе, посвященные исключительно кинематографу и написанные преимущественно в 1970-е годы. Конечно, их можно посчитать прекрасным примером того, как философ работает с массовой культурой постмодерна, но в теоретическом плане это также могло быть расценено как отступление и проявление философской слабости [31]. На самом деле уже по последним главам «Постмодернизма, или Культурной логики позднего капитализма» видно, что Джеймисону надоела тема и что он возвращается к модерну и модернизму, и потому все его тексты, написанные до 1991 года и опубликованные после 1991 года стали данью прошлому. В 1998 году Джеймисон наконец нашел для себя новую тему и обратился к философскому осмыслению глобализации, практически совсем разорвав с постмодерном [32].
Чтобы понять, насколько прозорлив и искушен оказался Джеймисон в плане социального теоретизирования, достаточно сравнить его интеллектуальные поиски с творческой биографией социолога Зигмунта Баумана. Баумана, пожалуй, можно назвать главным глашатаем и апологетом постмодерна в социологии и социальной теории, а главное — сторонником теории постсовременности. Дело в том, что постмодерн позволял социологии освободиться от философского диктата и, более того, сделать философские концепции и методы инструментарной базой социальной теории. То есть теперь уже философия буквально становилась служанкой социологии. И хотя в целом позиция и намерения Баумана относительно привнесения в социальную теорию постмодерна во всем его многообразии ясны, он, кажется, так и не предложил стройной теории постсовременности и постмодерна как такового. Большинство его книг на тему — это сборники эссе, объединенные темой постмодерна. Разумеется, сразу понятно, о чем каждая из книг автора, но очень часто Бауман так и не пояснял однозначно, что такое постмодерн, каждый раз обсуждая вопрос в разных аспектах. Грубо говоря, взяв все его «постмодернистские книги», мы найдем в них некоторые несоответствия и, вероятно, даже немало противоречий. Отстраивать «теорию постмодерна» за Баумана пришлось его последователям.
В частности, биограф Баумана Дэннис Смит считает, что социолог обсуждает три аспекта постсовременности (перспективу постмодерна, окружающую среду постмодерна и процессы постсовременности), и добавляет: «Эти различия в его работе остаются скрытыми, и потому будет полезно их прояснить» [33]. На самом деле мы могли бы насчитать куда больше таких «аспектов», потому что из эссе Баумана, посвященных самым разным вещам, можно извлечь какие угодно смыслы. И потому лучше объяснять «теорию постмодерна» Баумана как постмодернистскую в значении попытки освободиться от наследия «научной социологии». Более того, ожидаемо, что Бауман нашел способ объяснить, почему он рассуждает и пишет в таком неясном стиле. Обращаясь к одной и той же тематике, исследуя ее в многочисленных статьях под разным углом зрения, Бауман создавал «герменевтический круг» постмодернистской социологии [34], что в конечном счете должно было позволить и понять, и объяснить постмодерн.
Вместе с тем Бауман оставался более чем последовательным в своем обращении к теме постмодерна, то есть не бросал тему на протяжении десятилетия. Во-первых, в 1989 году он уже осудил современность, указав, что холокост стал ее логическим следствием, а не отклонением [35]. Ввиду неудач эпохи современности постсовременность возникала едва ли не одновременно с ней. Во-вторых, раз современность привела к таким последствиям, нужно было обращаться к тому, что было после нее буквально, то есть к постсовременности. Поначалу Бауман надеялся на то, что постмодерн окажется лучше модерна. Идея постмодерна у Баумана объединяет собой и постмодернизм как эпистемологическую категорию, и как историческую эпоху, и как состояние общества, и как стиль мысли. Важно, однако, другое — настроения и оценки Баумана относительно постмодерна имели определенную эволюцию. От очарованности постмодерном он пришел к недовольству им. Этот процесс занял практически десять лет.
В 1987 году Бауман восхищался «интерпретаторами», вытеснившими «законодателей» из социальной теории [36]. В книге «Современность и амбивалентность», вышедшей в 1991 году, Бауман осудил модерн на новых основаниях. Заручившись критическими установками по отношению к модерну Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно, он провозглашал, что проект современности потерпел крах [37]. В конце книги Бауман уже приветствовал пришествие новой исторической эпохи, осторожно замечая, что не занимается прогнозированием, но лишь намечает повестку для обсуждения политической и моральной проблематики эры постсовременности. В 1993 году Бауман приступил к анализу этического измерения постсовременности. Определенно это было тяжело, так как любая этическая программа, не предполагавшая ценностного абсолютизма, мгновенно обвинялась в релятивизме. Однако социолог нашел выход из положения. Он попытался описать «этику постмодерна» через философию Левинаса и провозгласил, что «Я» (ego), к которому предъявляются высокие моральные стандарты, должно быть всегда готово взять ответственность за «Другого» (alter). Таким образом, Бауман делал акцент на небезразличной к другим индивидуальности, что позволяло при этом отринуть все возможные претензии на универсальность [38].
До этого, в 1992 году, Бауман обратился к анализу новой эры как таковой. В книге «Признаки постсовременности» он утверждал, что, по крайней мере, западные страны живут в совершенно новую эпоху: «Термин постсовременность очень точно указывает на определяющие черты социальных условий, возникших во всех богатых странах Европы и европейского континента в течение двадцатого века, и приобрел свои нынешние очертания во второй половине этого столетия. Термин является точным, поскольку он указывает на непрерывность и разрыв как на две грани неясной связи между нынешним социальным состоянием и формацией, которая предшествовала ему и его же оформила. Он помогает понять тесную генетическую связь нового, постсовременного, социального состояния с современностью — социальной формацией, возникшей в той же самой части света в течение семнадцатого века» [39]. Бауман утверждал, что ортодоксальная (современная) социальная теория не может помочь понять новое состояние. Более того, теория постсовременности не может быть модифицированной теорией современности, то есть теорией современности с набором отрицательных значений. Адекватная теория постмодерна должна была быть построена только в когнитивном пространстве с совершенно иным набором теоретических допущений; ей был нужен собственный словарь, и освобождение от концепций и проблем, порожденных дискурсом современности, должно служить мерой адекватности такой теории.
Ирония в том, что Дэннис Смит слишком поторопился написать интеллектуальную биографию Баумана, описав творческий путь этого социального теоретика от критика современности к певцу постсовременности, даже ее «пророку». Более того, социологи Ханс Йоас и Вольфганг Кнебль, описывая социальную теорию Баумана, совершенно не учитывают эволюции взглядов социолога. Поразительно, но они даже не замечают, что пересказы из написанных в разные периоды книг Баумана, которые они предлагают через запятую, буквально противоречат друг другу [40]. Книга Смита вышла в 1999 году, но уже в 2000 году Бауман забыл о постмодерне и вновь связал свои теоретические поиски с понятием «современности», на этот раз «текучей». Таким образом, Бауман перешел на совершенно новые позиции. Не обращая внимания на то, что буквально пять лет назад он собирался строить новую теорию общества, социолог решил выразить свое недовольство постмодерном. На этот раз он обращался к культуре, искусству, рынку, потреблению и т. д., но выбрал новую теоретическую рамку для сборника эссе — связь свободы и безопасности. Теперь он осуждал непрочность мира, в котором мы жили, а самое главное, клеймил то, что буквально шесть лет назад превозносил, — этику постмодерна. Теперь тон Баумана напоминал риторику моральных консерваторов, переживающих за то, что «сегодняшние ценности завтра гарантированно обесцениваются», а потому для человека не остается никаких моральных ориентиров. Кроме того, с его точки зрения, в свободных стремлениях к наслаждениям люди перестали уделять внимание личной безопасности. В конце концов Бауман заявил, что «переоценка всех ценностей — счастливый, волнующий момент, но переоцененные ценности необязательно должны гарантировать состояние блаженства» [41]. Вместо того чтобы увеличить свою свободу, граждане превратились в потребителей рынка. Можно сказать, что Бауман на протяжении десяти лет строил нарратив постмодерна, но итог этой игры с новым понятием оказался плачевным. Социолог разорвал порочный «герменевтический круг», в 2000 году предложив совершенно новую концепцию «текучей современности» [42]. В этой книге Бауман ни разу не упомянет постмодерн: эвристический потенциал темы себя исчерпал. Современность, даже в своей обновленной версии, оказалась более жизнеспособной, нежели постсовременность.
Удивительно, но Джеймисон распрощался с постмодерном в то же самое время. В 1998 году вышел сборник его эссе «Культурный поворот» [43]. Текст «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» лучше всего читать вместе с этой книгой. Оба тома объединяют почти все то, что сказал философ о постмодерне и смежных темах. Принципиально важно то, что «Культурный поворот» вышел тогда, когда философ уже вплотную занялся проблемами глобализации, и тем самым публикация символизировала то, что тема постмодерна была окончательно закрыта. Большинство из эссе сборника были опубликованы в 1980-е, и лишь некоторые написаны в 1990-е годы. По книге видно, насколько Джеймисон устал от темы. Впоследствии Джеймисон еще несколько раз обратится к постмодерну, но сделает это без энтузиазма, в каждом случае проговаривая, что постмодерн не так уж и актуален. Исключения составляют сборник эссе «Древние и постсовременные» [44] и лекция имени Георга Форстера «Эстетика сингулярности: время и событие в эпоху постсовременности», прочитанная в 2012 году [45]. Важно, однако, другое. 1997–1998 годы некоторым образом оказались символичными для заката эпохи постмодернизма. В это время вышли не только прощальные тексты Баумана и Джеймисона, но и очень важная книга еще одного западного марксиста Перри Андерсона.
Вклад Перри Андерсона
Перри Андерсон — один из самых глубоких левых интеллектуалов. В своей книге «Истоки постмодерна» [46] автор предпринял попытку не просто порассуждать о постсовременности, но, если угодно, картографировать идею постмодерна. Андерсон проследил историю использования термина от его появления в литературе, социологии и дошел до философии, показав, что первенство в понимании постмодерна принадлежит Фредрику Джеймисону. Иными словами, именно Джеймисон, с точки зрения Андерсона, предложил наиболее убедительный язык описания эпохи, получившей название «постмодернистской». Это не только лучшая книга Андерсона, но лучшая книга по предмету в принципе. Любой, кто прочитает ее, поймет наконец, что следует понимать под словом, а что — не следует. Однако у Андерсона были свои цели, в частности доказать, что марксистский анализ постмодерна не просто адекватен, но еще и единственно возможен, а следовательно, предпочтителен. Так, восхищаясь теориями Джеймисона, Андерсон даже не упоминает о Баумане. Но, как бы то ни было, сама «историческая» книга Андерсона свидетельствовала о том, что эпоха подошла к концу. И сегодня мы видим, что даже самый глубокий и тщательный анализ постмодерна остается без внимания.
Например, такой именитый левый социальный теоретик, как Йоран Терборн, для своей объяснительной модели современного мира выбирает термин «модерн», определяя его «как мир, смотрящий вперед, ориентированный на новое создаваемое будущее и поворачивающийся спиной, — не без уважения, однако, — к своему прошлому» [47]. Похоже, что термин «постмодерн» (и сам феномен) не устраивает Терборна. Выбирая концептуальную модель «модерна», он решает проблему того, что ему при этом нужно учитывать все теории, которые обсуждают постмодерн, следующим образом. Он заявляет, что «значительная часть этого дискурса лежала в эстетической сфере», хотя и признает, что «он включал в себя также проблематизацию фундаментальных оснований модерна и модернизма». Далее он признается: «Лично мне неизвестно о попытках систематического анализа всех проблем и вопросов, связанных с постмодернистским вызовом. Блестящая работа 1998 года Перри Андерсона „Истоки постмодернизма“ (The Origins of Postmodernity) ограничивается его эстетической составляющей и первоначально задумывалась как предисловие к сборнику трудов Фредрика Джеймисона» [48]. Далее Терборн переходит к изложению своей позиции в отношении модерна как общей социокультурной ориентации во второй половине ХХ века, более не обращаясь к постмодерну. Терборн имеет более чем веские основания не прибегать в своей теории к описательной схеме постмодернизма, однако заявлять, что книга Андерсона посвящена эстетике, — очень грубая ошибка. Тем более он упоминает имя Джеймисона, который именно что ставит «все проблемы и вопросы, которые связаны с постмодернистским вызовом» в социально-экономическом и политическом отношениях.
В свою очередь, вышеописанные затруднения Дэвида Уэста касательно того, чтобы описать «постмодернизм» единым, как это ни парадоксально, «метанарративом», легко объяснить тем, что он вообще не упоминает книгу Перри Андерсона. Однако это куда меньшая оплошность, чем знать про нее и считать, будто в ней говорится про эстетическую теорию. Дело в том, что Перри Андерсон делает с постмодернизмом то, что никто не удосужился сделать ранее [49], — он отправляется к самым истокам термина, чтобы увидеть, как он возник, кем и в каком контексте использовался и как стал наиболее востребованным в социальной философии марксизма. В этом ключе Андерсон снимает проблему относительно понимания термина, вставшую перед Терборном, убедительно показывая, что, например, упоминаемые Уэстом «социологические и исторические теории» Чарльза Миллза и Арнольда Тойнби имеет смысл включать в рассказ о постмодерне, однако сегодня обсуждение этих «теорий» вне понимания ключевой теории постмодерна — разумеется, речь о Джеймисоне — практически не имеет смысла. Андерсон рассказывает, что Миллз и Тойнби, как и многие другие социологи, употребляют термин случайно, и каждый вкладывает в него очень своеобразный, собственный смысл. Сюда же относятся и другие авторы, которые обсуждали проблемы постмодерна в «эстетическом регионе» — литературе, искусстве, архитектуре, критике и т. д. (например, Лесли Фидлер и др.). С этой точки зрения даже такие авторы, как Ихаб Хассан — кстати, Андерсон упоминает, что тот тоже разочаровался в своих былых взглядах, — становятся не такими уж и важными для адекватного понимания постмодернизма как социального состояния. Это, однако, не означает, что теоретические усилия всех рассматриваемых авторов были бессмысленными и сегодня вообще не имеют значения. Просто все они вплетаются Андерсоном в единое «великое повествование» о постмодерне. В конце концов, даже Юрген Хабермас, обсуждая постмодерн, как считает Андерсон, обратил внимание на термин (и, следовательно, проблему) лишь тогда, когда познакомился с одной художественной выставкой. То есть прежде, чем стать философской категорией, постмодерн проделал долгий путь в культуре, обрастая множеством смыслов, наконец обретя свое единство в теории Джеймисона.
Кроме того, заслуга Андерсона заключается в том, что он не навешивает философам ярлыки «постмодернистов» и рассматривает только тех авторов, которые рассуждали о проблеме, то есть делали постмодерн предметом своего анализа — Хассан, Лиотар, Хабермас и далее Джеймисон. В таком свете Лиотар становится не философом-постмодернистом, но философом, делающим постмодернизм теоретической оптикой, чтобы описать современное интеллектуальное состояние эпохи. Кроме того, не стоит забывать, что тексты Лиотара «Состояние постмодерна» и «Постмодернизм в изложении для детей» — принципиально разные работы, на что Андерсон также обращает внимание, в то время как прочие исследователи — Уэст и другие авторы здесь не исключение — довольствуются лишь рассмотрением «Состояния постмодерна». В конце концов Андерсон заявляет, что Джеймисон предложил наиболее адекватную теоретическую конструкцию, чтобы детально объяснить постмодернизм, увязав воедино и искусство/культуру, и социальную теорию, и даже экономику. То есть в борьбе за термин и его окончательное наполнение Джеймисон одержал победу — так настаивает Андерсон.
То есть главное, что делает Перри Андерсон, так это не учитывает в обсуждении французских постструктуралистов, и таким образом то, что может казаться различными вариантами постмодернизма, на поверку оказывается единым постмодернизмом. В него включены ранние социологические и исторические теории, как бы они ни понимали постмодерн, конкретные течения в искусстве и его осмысление от критика Ихаба Хасана и до архитектора Чарльза Дженкса, философия (Лиотар и Хабермас — последние в плане критического взгляда на проблемы) и, наконец, культурная и социальная теория. Более того, Андерсон в своем ключе решает ту проблему, которую так и не смог разрешить Уэст, хотя практически ее сформулировал, назвав марксизм «темной материей постмодернистского универсума» [50]. В главе «Философская критика Просвещения и модерна» Уэст рассматривает позицию Лиотара, Хабермаса (притом что Хабермас предлагает критику постмодерна) и Бодрийяра; в главе «Постмодерн как стадия развития западного общества» Уэст излагает позицию Шанталь Муфф и Эрнесто Лаклау, Джеймисона и Энтони Гидденса; наконец, в последней главе «Политика различия и этика другого» Уэст главным образом рассматривает феминизм и то, как работает с постмодернизмом политическая теория. Таким образом, Уэст обсуждает главным образом второй из заявленных им истоков постмодернизма (критика модерна), обращается к четвертому пункту (социологическое понимание) и контрабандой продвигает феминизм, о котором до тех пор не упоминал. Несмотря на то что Дэвид Уэст действительно приложил титанические усилия, чтобы объяснить читателям, что же такое постмодернизм, в своем изложении он допускает несколько вещей, которые, если даже и не являются ошибками, нуждаются в том, чтобы их прокомментировали.
Хотя Уэст и заявляет, что марксизм чаще всего становится мишенью постмодернизма, объясняя это тем, что Лиотар и некоторые другие постмодернисты были марксистами в прошлом и, разочаровавшись в этом «метанарративе», обратились к аисторичности новой эпохи, с этим утверждением можно было бы не согласиться. Уэст, в некотором роде впадая в противоречия, указывает на важные тексты, которые могли бы помочь в понимании проблемы. Что это за тексты? Помимо упомянутых, это книги Дэвида Харви «Состояние постмодерна», Алекса Каллиникоса «Против постмодернизма», Маршала Бермана «Все прочное растворяется в воздухе» и, разумеется, Фредрика Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» [51]. Почему стало возможно такое, что к теме постмодерна обратились прежде всего левые теоретики? Причиною тому, во-первых, крушение Советского Союза и вместе с тем триумф капитализма [52], во-вторых, становление «монотонной» политики в конце ХХ века [53], в-третьих, «культурализация» левых [54], — все это заставило марксистов обратиться к постмодерну, чтобы либо, как делали некоторые, заявить о том, что его нет, либо, как делали другие, описать его главные черты и изобличить его «капиталистическую сущность». Хотя Уэст называет и другие источники, он не мог не заметить, что все упоминаемые авторы — марксисты. Однако книга Маршала Бермана, хотя и может быть актуальна для современного нам интеллектуального климата, посвящена отнюдь не постмодерну, но исключительно модерну. Берман использует фразу из «Манифеста Коммунистической партии», чтобы показать, что природа современности/модерна все еще такова, какой ее представлял Маркс.
Что касается других левых, то про них можно сказать следующее. Дэвид Харви концентрируется на экономических предпосылках постмодернистской культуры [55]. Терри Иглтон проделывает важную работу, изобличая все поверхностные суждения «общепризнанной чепухи эпохи», затем проговаривая, что постмодерн — продукт поражения левых, и завершая тем, что постмодерн освобождает мышление (об идентичности, теле, желании и т. д.), предлагает новые горизонты для радикальной политики [56]. В целом Иглтон не добавил ничего нового к уже сказанному. Алекс Каллиникос — возможно, наиболее последовательный марксист из всех упомянутых, как нетрудно догадаться по названию работы, выступает против концептуальной рамки, которую выбирают его «единомышленники»: если те критикуют постмодерн, тем самым его признавая, то Каллиникос отказывается считать, что живет в «постмодернистский век». Книга Каллиникоса предельно полемическая — в действительности он делает примерно то же, что и Андерсон, но лишь для того, чтобы описать «врага» и показать несостоятельность конкурирующей позиции, включая в предмет своего анализа и постструктуралистов, и искусство, и Хабермаса и т. д. Как и Иглтон, Каллиникос указывает, что постмодернизм берет свои основания в революции 1968 года и в последующем разочаровании, и настаивает, если сказать грубо, на том, что марксизм все еще является метанарративом. Отсюда недовольство Каллиникоса идеологической позицией Лиотара, которая, как, видимо, полагает Каллиникос, стала фундаментом для утверждения «состояния постмодерна» [57]. Но если другие авторы занимались морализаторством, то Джеймисон создавал полный путеводитель по постмодерну, изящно совмещая аналитическую и собственную политическую позицию.
Андерсон упоминает Харви, Каллиникоса, Иглтона и Джеймисона в одном ряду, однако настаивает, что Джеймисон, как говорилось, в понимании постмодерна преуспел более всего (если сравнить книги всех авторов, можно убедиться, что это так). Возможно, Андерсон не упоминает тексты марксистского социального теоретика Дугласа Келлнера, литературоведа Линды Хатчеон и некоторых других авторов, чтобы не портить нарисованную им картину, в которой оказывается, что так или иначе постмодерн становится объяснительной схемой нашего времени главным образом среди марксистов. Мы не случайно так подробно говорим про Андерсона. Потому что, во-первых, он написал свою книгу на исходе эпохи — за пару лет до того, как все стали признавать конец постмодерна. Во-вторых, книга Андерсона — это в том числе и политический проект. Разумеется, того, кого не упоминает Андерсон, но кого мы непременно должны назвать, среди тех левых, кто внес наибольший вклад в понимание «постмодерна», это сам Перри Андерсон. В этом длинном ряду марксистов в 1998 году он завершает рассказ, подведя итоги и всем раздав призы. Каким же образом складывалась ситуация впоследствии? Андерсон приукрашивал или оказался пророчески прав? Считается ли Джеймисон авторитетом в области изучения постмодерна и сегодня?
Постмодерн и то, что после
Как это ни удивительно, но многие авторы, которые связывали свои теоретические поиски с понятием «постмодерна», включая, конечно, Джеймисона, либо отказались от него [58], либо демонстративно провозгласили, что эпоха постмодерна закончилась [59], либо разочаровались в нем, признав, что он изменился в худшую сторону [60], либо незаметно прекратили о нем говорить и начали свои социально-философские изыскания в иных областях [61]. Таким образом, к началу XXI столетия не осталось философов и критиков, которые бы продолжали исследовать меняющуюся эпоху. Тем самым возникла ситуация, при которой начало нового столетия и даже тысячелетия осталось без теоретического языка описания, а потребность прояснить базовые изменения социокультурной и политической жизни оказалась как никогда острой. Так, начиная с 2000 года разные мыслители, художники и ученые стали «производить» концепции актуального для нас времени. Но вот что важно, большинство авторов, которые предлагают теории нынешней социокультурной темпоральности, во-первых, считают своим долгом в очередной раз объявить о смерти постмодерна, во-вторых, они при этом строят свои размышления на фундаменте, заложенном постмодерном, то есть противопоставляют свою позицию той, что, по их мнению, уже отошла в прошлое. Тем самым, хотя и на уровне негации, но постмодерн, «странным образом умерев», продолжает жить в большинстве актуальных социально-философских теорий современности, в принципе являясь их фундаментом. Вместе с тем чаще всего он остается скорее тем, чем его назвал канадский литературовед Джош Тот вместе с соавтором Нилом Бруксом, — «призраком» (в понимании Деррида), то есть уже прошедшим или умершим явлением, хотя мы все еще устраиваем ему поминки [62].
Как и 1997–1998 годы, 2000-й — еще одна символическая дата для «смерти» постмодерна. Это не только официальное начало нового тысячелетия, но также и рубеж, обозначающий усталость от старых теорий и отчаянные попытки предложить новые. Именно с 2000 года художники, литературоведы, культурологи, философы и др. начинают предлагать собственные варианты языков описания эры XXI столетия. Впрочем, все началось немного раньше. В 1999 году художники Билли Чайлдиш и Чарльз Томсон объявили, что настоящим художником может считаться лишь тот, кто умеет рисовать, и начали поход против концептуального искусства, создав движение «стакизм», продвигавшее фигуративную живопись. В 2000 году они опубликовали манифест «Ремодернизма», в котором призывали отказаться от пустоты и бессмыслицы постмодернизма и вернуться к классической модернистской живописи [63]. Первым автором-ученым, в 2000 году заявившим о том, что мы живем в «новом времени», стал немецкий специалист по эстетике Рауль Эшельман, назвавший нынешнюю эпоху «перформатизмом» — новой искренностью в искусстве и культуре, пришедшей на смену постмодерну [64]. В 2004 году французский социальный философ Жиль Липовецкий провозгласил, что мы, оставив постмодерн позади, ныне живем в «гиперсовременное время», ключевыми характеристиками которого являются культ потребления, гипериндивидуализм, а также интенсивность культурных изменений [65]. В 2007 году упомянутый выше литературовед Джош Тот выступил в защиту постмодерна с концепцией реновализма, предполагающей актуальную «призрачность» постмодерна [66]. В 2009 году французский куратор и художественный критик Николя Буррио провозгласил, что настало время альтермодерна — другого, противоположного постмодерну, модерна, в центре которого находится идея культурных кочевников [67]. В 2010 году двое культурологов-европейцев Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер объявили о возникновении метамодернизма — сложного состояния чувственности по отношению к новой культуре, пришедшей на смену постмодернистской иронии [68]. В 2012 году американский культуролог Джеффри Нилон выступил с идеей пост-постмодернизма. В основу этой концепции легла интуиция Джеймисона относительно того, что постмодерн является культурной логикой позднего капитализма. Нилон соглашается, что сегодняшний капитализм отличается от того, как он был описан Джеймисоном, но основная догадка Джеймисона остается верной, а следовательно, культурной парадигмой обновленного капитализма становится обновленный постмодернизм, то есть пост-постмодернизм. «Новый» капитализм для Нилона является актуальным (just-in-time), а его культурной логикой в таком случае оказывается «пост-постмодернизм» [69]. Наконец, в 2013 году американский литературовед Кристиан Морару ввел в академический оборот понятие «космодернизм». Несмотря на интригующее название, содержательное наполнение термина остается довольно скромным — это новый фон глобальной культуры, возникшей после окончания холодной войны. В целом Морару исследует новейшую американскую художественную литературу, пытаясь описать новую культурную парадигму, возникшую на фоне ускоренной глобализации [70].
Однако главный пробел данных концепций состоит в том, что они не учитывают колоссальные перемены в обществе, ставшие возможными благодаря новым технологиям. В этом, кстати, состоит слабость и подхода самого Джеймисона. Например, британский урбанист Адам Гринфилд иллюстрирует то, как новые технологии трансформируют современные социальные процессы: «Вы сидите в кафе, рекомендованном вам алгоритмом, за столом, сделанным при помощи установки с программным управлением; вы платите за свой кофе криптовалютой, поднося смартфон к кассе; с улицы доносятся голоса детей, играющих в игру с дополненной реальностью. И хотя ни один из аспектов этой ситуации не был возможен еще пять лет тому назад, ни один из них не кажется вам особенно примечательным. В наши дни это просто в порядке вещей» [71]. Вот почему на фоне перечисленных вариантов пост-постмодерна выделяются две альтернативные теории — диджимодерн (2009) и автомодерн (2007/2009) [72]. Автор первой — британский культурный критик Алан Кирби. Он настаивает на том, что новые технологии переопределяют нашу культуру и возвещают о формировании нового — диджимодернистского — общества [73]. Отметим, что эти теории, точно так же занимаясь критикой постмодерна, заявляя о смерти последнего и предлагая ему альтернативы, вписываются в зонтичный термин пост-постмодернизма. Мыслители утверждают, что современное западное общество все еще развивается в логике модерна, хотя с возникновением новейших технологий перешло на новый этап эволюции.
Автор теории автомодерна — американский социальный теоретик, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Роберт Сэмюэлс. В 2007 году, когда такие, сегодня уже неотъемлемые феномены жизни общества, как Facebook и др., лишь появлялись, Сэмюэлс написал статью «Автосовременность после постмодернизма: автономия и автоматизация в культуре, технологии и образовании» [74]. Тогда он осторожно намечал контуры будущей критики ситуации автомодерна. Через два года он развил эти тезисы, выпустив книгу, получившую название «Новые медиа, исследования культуры и критическая теория после постмодернизма» [75]. С точки зрения исследователя, концептуальный аппарат постмодернистской теории уже ни в каком виде не способен адекватно объяснить или описать колоссальные изменения, происходящие в культуре и даже политике XXI столетия. Эти изменения касаются не только цифровых технологий, но также и новых социальных движений. Именно поэтому существенную часть размышлений автор посвящает полемике с популярными социальными философами — такими, как Фредрик Джеймисон. Главная идея Сэмюэлса состоит в том, что в текущем столетии высокий уровень механической автоматизации (automation) сочетается с усиленным желанием людей получить/завоевать личную автономию (autonomy). Отсюда и приставка «авто» в термине, которая символизирует две эти в определенной степени противоречивые тенденции, парадоксальным образом комфортно сосуществующие друг с другом. Тем самым фокус исследователя сосредоточен на стыке двух областей развития западного общества: это «объективная», технологическая сторона современности, и «субъективная», культурная сфера повседневной жизни. Наиболее любопытна, однако, критика Сэмюэлсом социальной философии постмодерна Фредрика Джеймисона. Как уже было сказано, актуальная культурная ситуация не может быть описана как постмодернистская постольку, поскольку в обществе произошли колоссальные перемены, которые, как отмечает Сэмюэлс, постмодерн объяснить не в состоянии. Однако Сэмюэлс критикует Джеймисона не за то, что его теория устарела, а на других основаниях. Сэмюэлс осуждает «догматизм» Джеймисона, который отказывается признать революционный потенциал любой борьбы, если она не вписывается в марксистскую теорию революции, то есть социальная философия Джеймисона имплицитно подразумевает резкое непринятие гендерных, расовых и сексуальных различий в автомодерне. Поэтому теория Джеймисона, хотя и выглядит как радикально левая, воспроизводит риторику радикально правых, направленную против любых либеральных освободительных импульсов. Но Сэмюэлс не может не признать преимущества в теории Джеймисона, которые касаются апроприации культуры глобальным капиталом [76].
Лучшим вариантом было бы назвать все эти концепции «пост-постмодернизмом». Впрочем, необходимо обсудить некоторые нюансы. Сами сторонники альтернативы «ушедшей эпохи» намеренно избегают семантической связки с постмодерном именно потому, что они таким образом как бы вписываются в проект постмодерна, развивая его. Как точно заметили «метамодернисты»: синтаксически такая приставка верна, но семантически — нет. Кроме того, Джеффри Нилон как раз соглашается с тем, от чего другие сторонники новых идей отказываются: он не отрицает, что его взгляды имеют генетическое родство с предшествующей теорией, однако, поскольку мир изменился, требуется инвентаризация постмодерна. Таким образом, на этом основании было бы не совсем верно обозначать другие «модернизмы» как «пост-постмодернизм», хотя по существу все они представляют собой именно пост-постмодернизм. Если использовать последнее понятие в самом широком смысле, то новые модернизмы окажутся если уж и не семантически, то дискурсивно пост-постмодернизмами. Тем более ни одна из этих концепций не является доминирующей в социально-философском дискурсе и редко какая из них обходится без ссылки на Джеймисона. Вместе с тем собранные вместе они дают синергийный эффект: создается ощущение, что мы и в самом деле живем в эпоху безвременья, отчаянно нуждающуюся в интерпретации. Некоторые из этих теорий не находят поддержки, другие, напротив, «набирают обороты». Так, к проекту метамодернизма подключились Рафаэль Эшельман (перформатизм) и Джош Тот (реновализм), опубликовав в новейшем сборнике, посвященном метамодерну, свои тексты [77].
Почему пост-постмодернизм даже в совокупности своих течений плохо работает? Во-первых, все возникшие альтернативные варианты постмодернизма появляются буквально после него, если не «стоят на его плечах», то пытаются что-то возделывать на, видимо, все еще плодоносной почве. Во-вторых, почти все авторы альтернативных проектов используют слово «-модернизм», тем самым сохраняя связку «модернизм — постмодернизм — то, что после». Тем самым они не отрицают, что такое состояние исторической эпохи, как постмодерн, в самом деле имело место быть, но теперь его больше нет. В-третьих, авторы этих идей настаивают, что постмодерн был неумолимой логикой развития модерна как такового, однако он был лишь одним из этапов эволюции современности, берущей начало в конце XVIII столетия. Таким образом, они не столько критикуют современность, что было свойственно социальным философам на протяжении ХХ века, сколько пытаются проследить логику ее развития и пробуют прогнозировать развитие общества на несколько десятилетий вперед. То есть условный пост-постмодернизм не столько возвращается к классическому модерну (исключение составляет ремодернизм), сколько возрождает и возобновляет его — не отказываясь от прошлого, он пытается вновь сделать его материалом для разговоров о будущем. Напомним, что постмодерн как раз-таки настаивал на том, что культура потеряла чувство времени и не только не могла устремиться в будущее, но утратила историческое мышление [78]. В-четвертых, почти все они уделяют в своих текстах место размышлениям о постмодерне, предлагая аргументы, почему он умер или почему его следует преодолеть, и только после этого переходят к позитивным элементам своих программ. В-пятых, и это самое главное, почти все авторы используют уже наработанные постмодернистские дискурсивные стратегии. Речь идет не о том, что они нечто «деконструируют», объявляют смерть субъекта или заявляют, что реальности не существует. Это как раз не стратегии постмодерна, но, скорее, оригинальные философские позиции с вытекающими из них следствиями. Почти все те, кто возвещает о новых «-модернизмах», обращаются к культуре — архитектуре, кинематографу, литературе и т. д. Разумеется, в каждом конкретном случае есть свои нюансы, как, например, в «диджимодернизме», но по большому счету это единая линия аргументации — показать изменения в культуре, а не в обществе. Чаще всего авторы различных вариантов «-модерна» экстраполируют тенденции в развитии искусства на все общество, забывая об экономике, политике и религии. Это можно было бы назвать существенным недостатком данных теорий. Некоторые авторы по этой причине совершают следующий ход и начинают говорить о «новой эпохе», в пользу чего свидетельствует якобы чрезвычайно изменившаяся культура. Тем самым альтернативы используют уже существующие паттерны — паттерны, созданные «постмодернизмом». Все эти мыслители двигаются по проторенной колее, кажется, даже не замечая, что в своих глубинных основаниях их концепции имманентны проекту постмодерна. В чем они не преуспевают, так это в том, чтобы объять всю культуру, как это сделал Фредрик Джеймисон.
Наконец, последнее. Хотя Джеймисон устал от термина «постмодернизм» и заявил, что в итоге он может означать всего лишь еще одно название глобализации, он вернулся к теме, чтобы сделать важное заявление. В контексте обсуждений предполагаемого конца эпохи постмодерна, набирающего обороты с начала XXI века, в лекции имени Георга Форстера «Эстетики сингулярности: время и событие в эпоху постсовременности», прочитанной им в 2012 году [79], Джеймисон не отказался, но укрепил свои методологические соображения двадцатилетней давности. В частности, он заявил о необходимости различений понятий «постмодерн»/«постсовременность» в качестве обозначения эпохи и связанного с ней языка описания. Понятие «постмодерн», с точки зрения философа, все еще описывает логику определенного исторического периода «позднего капитализма», потому что социально-экономическая система с точки зрения формально-исторического анализа остается прежней, важно при этом считывать ее культурные симптомы. «Постмодернизм» же определяет конкретный стиль эстетического производства и философствования, а они-то и являются симптомами (проявлениями) бессознательного исторической эпохи. Проблема в том, что наличие или отсутствие конкретных симптомов не может свидетельствовать о конце одной эпохи и начале другой; эпоха и ее симптомы состоят в сложных отношениях, которые невозможно описать через простое соответствие. И потому лозунги «с постмодернизмом покончено, вместо него имеется неоконцептуализм или какой-либо другой стиль или мода» справедливы по отношению к «постмодернизму» как стилю, но не к «постмодерну» как эпохе финансового капитала, для которой характерны уникальные структуры экзистенциального и эстетического опыта. И потому эпоха как раз жива. Забавно, что Линда Хатчеон, вечный оппонент Джеймисона в спорах о постмодерне, считает ровно наоборот: как эпоха постмодерн подошел к концу, но как стиль в искусстве и образ мышления все еще живет [80].
Постмодерн как эпоха меняется, что было заложено в ее основании, но как проект он еще определенно не завершен. Пока что трудно найти его более удачную теорию, чем ту, которую предложил Фредрик Джеймисон. Что и делает книгу «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» по истине актуальной и важной для нас сегодня, а ее ценность не может быть сведена лишь к тому, что это важный для социальной теории исторический источник. Если постмодерн и история, то все еще живая, незавершенная, конец которой на самом деле пока еще невозможно определить.
Александр Павлов,
доцент Школы философии НИУ «Высшая школа экономики», руководитель сектора социальной философии, ведущий научный сотрудник Института философии РАН
Berman M. All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. London — New York: Verso, 1983.
Ассман А. Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: НЛО, 2017.
Buchanan I. Fredric Jameson: Live Theory Cornwall: Continuum, 2007. P. 78.
Гобозов И. А. Указ. соч. С. 108–119.
Гобозов И. А. Куда катится философия. От поиска истины к постмодернистскому трепу (философский очерк). М.: Издатель Савин С. А., 2005. Книга выдержала несколько изданий, и в 2011 г. на нее было написано несколько рецензий, об этом далее.
Брикмон Ж., Сокал А. Интеллектуальные уловки. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002.
Там же. С. 108.
en.wikipedia.org; (проверено 11.06.2017).
ru.wikipedia.org; (проверено 11.06. 2017)
История философии / Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. М.: Академический проект, 2005.
Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. С. 167.
Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. С. 33.
Подробнее об этом сюжете см.: Павлов А. В. Социальная теория: постмодернистский поворот — модернистский разворот // Общественные науки и современность. 2018. № 5. С. 158–170.
Ассман А. Распалась связь времен. Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: НЛО, 2017. С. 64–65.
Есть и другие источники, в которых постмодернизм связывается преимущественно с французскими философами, имя Джеймисона там мелькает крайне редко. См.: Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996; Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. В этом источнике можно встретить другие имена, но акцент опять же сделан на французах: Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М.: ОГИ, 2000. Вкратце социальная теория постмодерна обсуждается здесь, хотя в очень усеченном виде и опять же без Джеймисона: Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Социологические теории модерна, радикализированного модерна и постмодерна. М.: ИНИОН РАН, 1996. На русском можно прочитать в учебнике Джорджа Ритцера: Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002.
Hutcheon L. The Politics of Postmodernism. New York — London: Routledge, 2002; Gaggi S. Modern/Postmodern: A Study in Twentieth-Century Arts and Ideas. Philadelphia: University of Pennsulvania Press, 1989; Foster H. The Anti-aesthetic: Essays on postmodern culture. Port Townsend, Washington: Bay Press, 1983. Последний источник — сборник ключевых текстов, написанных в период «раннего постмодернизма».
Wegner P. E. Periodizing Jameson, or, Notes toward a Cultural Logic of Globalization // On Jameson. From Postmodernism to Globalization / Irr C., Buchanan I. (eds.). New York: State University of New York Press, 2006.
См.: Roberts A. Fredric Jameson. London and New York: Routledge, Routledge, 2000; Helming S. The Success and Failure of Frederic Jameson. Writing, the Sublime, and the Dialectic of Critique. New York: State University of New York, 2001; Fredric Jameson: A Critical Reader / Homer S., Kellner D. (eds.). Hampshire — New York: Palgrave Macmillan, 2004; On Jameson. From Postmodernism to Globalization / Irr C., Buchanan I. (eds.). New York: State University of New York Press, 2006; Tally R. T. Jr. Fredric Jameson. The Project of Dialectical Criticism. London: Pluto Press, 2014.
Маньковская Н. Б. Указ. соч. С. 434, 454. Текст Иглтона см.: Eagleton T. The Illusions of Postmodernism. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 1996.
Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
Уэст Д. Указ. соч. С. 330.
Махаматов Т. М. Критика постмодернизма: вперед к классической философии // Гуманитарные науки. 2011. № 3. С. 109.
Гобозов И. А. Куда катится философия. С. 105.
Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М.: Дело, 2015. С. 323–371.
Губанов Н. И., Губанов Н. Н. Декаданс современной философии // Философия и общество. 2011. № 4 октябрь-декабрь. С. 198.
Bauman Z. Intimations of Postmodernity. London and New York: Routledge, 1992. P. xxiv.
Smith D. Zygmunt Bauman: Prophet of Postmodernity. Cambridge: Polity Press, 1999. P. 153–154.
Bauman Z. Legislators and Interpreters. On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press, 1989. Русский перевод одной из глав см.: Бауман З. Законодатели и толкователи: Культура как идеология интеллектуалов // Неприкосновенный запас. 2003. № 1(27). С. 5–20.
Бауман З. Актуальность холокоста. М.: Европа, 2010.
См.: The Cultures of Globalization / Jameson F., Miyoshi M. (eds.). Durham — London: Duke University Press, 1998.
Helming S. The Success and Failure of Frederic Jameson. Writing, the Sublime, and the Dialectic of Critique. New York: State University of New York, 2001. P. 127–128.
Джеймисон Ф. Реально существующий марксизм // Логос. 2005. № 3 (48). С. 38.
Jameson F. The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1981.
Jameson F. Marxism and Form. Princeton: Princeton University Press, 1974.
Андерсон П. Истоки постмодерна. С. 76.
Цит. по: Андерсон П. Истоки постмодерна. М.: Территория будущего, 2011. С. 72. Андерсон опускает несколько мест в цитате без указания на пропуск. См. оригинал: Jameson F. The Political Unconscious. Р. 19.
Jameson F. Aesthetics of Singularity. Time and Event in Postmodernity. Georg Forster Lecture, 2012 // youtube.com (проверено 15.10.2018).
Jameson F. The Ancients and the Postmoderns: On the Historicity of Forms. London — New York: Verso, 2015.
Терборн Й. Мир: Руководство для начинающих. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 149.
Андерсон П. Истоки постмодерна.
Bauman Z. Postmodernity and Its Discontents. Cambridge: Polity Press, 1997. P. 4.
Jameson F. The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern. 1983–1998. London — New York: Verso, 1998. До этой книги вышел еще один сборник эссе, посвященных постмодерну: Jameson F. Seeds of Time. New York: Columbia University Press, 1994. В основу статей о модерне, постмодерне и утопии в этой книге легли лекции, прочитанные философом еще в 1991 г.
Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.
Bauman Z. Postmodern Ethics. Oxford — Melbourne — Berlin: Wiley-Blackwell, 1993.
Bauman Z. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press, 1993.
Йоас Х., Кнебль В. Социальная теория. 20 вводных лекций. СПб.: Алетейя, 2013. C. 683–689.
Bauman Z. Intimations of Postmodernity. London and New York: Routledge, 1992. P. 187.
В целом надо учитывать, что книга Терри Иглтона — это собрание его колонок. См.: Eagleton T. The Illusions of Postmodernism. Malden — Oxford — Carlton: Blackwell Publishing, 1996.
Harvey D. The Condition of Postmodemity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1989.
Bauman Z., Tester K. On the Postmodern Debate // Postmodernism: What Moment? / Goulimari P. (ed.). Manchester: Manchester University Press, 2007. Р. 25–26.
Callinicos A. Against Postmodernism: A Marxist Critique. New York: St. Martin’s Press, 1990.
Джеймисон Ф. Реально существующий марксизм // Логос. 2005. № 3 (48).
Подробнее см.: Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014; Jameson F. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso, 1991.
Готфрид П. Странная смерть марксизма. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2009.
Андерсон П. Истоки постмодерна.
Единственное исключение здесь составляет попытка описать историю идеи постмодерна Гансом Бертнесом: Bertens H. The Idea of the Postmodern. A History. London and New York: Routledge, 1994.
Терборн Й. Указ. соч. С. 150.
Уэст Д. Континентальная философия. Введение. С. 348.
Bourriaud N. Altermodern // Supplanting the Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 21st Century / Rudrum D., Stavris N. (eds.). New York — London — New Delhi — Sydney: Bloomsbury Academic. P. 219–230.
Toth J. The Passing of Postmodernism: A Spectroanalysis of the Contemporary. Albany: SUNY Press, 2010.
Nealon J. T. Post-postmodernism, or The Logic of Just-in-time Capitalism. Stanford: Stanford University Press, 2012.
Van den Akker R., Vermeulen T. Notes on Metamodernism // Journal of Aesthetics and Culture. 2010. Vol. 2.
Childish B., Thomson Ch. Remodernism // Supplanting the Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 21st Century / Rudrum D., Stavris N. (eds.). New York — London — New Delhi — Sydney: Bloomsbury Academic. P. 106–107.
Brooks N., Toth J. Introduction: A Wake and Renewed? // Supplanting the Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 21st / Rudrum D., Stavris N. (eds.). New York — London — New Delhi — Sydney: Bloomsbury Academic. P. 183–190.
Lipovetsky G. Time Against Time, or The Hypermodern Society // Supplanting the Postmodern. An Anthology of Writings on the Arts and Culture of the Early 21st Century / Rudrum D., Stavris N. (eds.). New York — London — New Delhi — Sydney: Bloomsbury Academic. P. 191–208.
Eshelman R. Performatism, or the End of Postmodernism. Aurora (CO): Davies Group, 2008.
Jameson F. Postscript // Postmodernism: What Moment? / Goulimari P. (ed.). Manchester: Manchester University Press, 2007. Р. 215.
Hassan I. Beyond Postmodernism: Toward an Aesthetic of Trust // Beyond Postmodernism: Reassessments in Literature, Theory, and Culture / Stierstorfer K. (ed.). Berlin — New York: Walter de Gruyter, 2003. P. 199–212.
Hutcheon L. The Politics of Postmodernism. New York — London: Routledge, 2002. Р. 165–166.
Андерсон П. Истоки постмодерна. С. 94.
Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism / Van den Akker R., Gibbons A., Vermeulen T. (eds.). London — New York: Rowman and Littlefield International, 2017.
Hutcheon L. Gone Forever, But Here to Stay: The Legacy of the Postmodern // Postmodernism: What Moment? / Goulimari P. (ed.). Manchester: Manchester University Press, 2007. Р. 16–18.
Jameson F. Aesthetics of Singularity. Time and Event in Postmodernity. Georg Forster Lecture, 2012 // youtube.com (проверено 15.10.2018).
Samuels R. Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education // Digital Youth, Innovation, and the Unexpected / McPherson T. (ed.). Cambridge (MA): The MIT Press, 2007.
Я уже подробно писал об этой концепции: Павлов А. В. Образы современности в XXI веке: диджимодернизм: рецензия на книгу Алана Кирби // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. II. № 2. С. 197–212.
Samuels R. New Media, Cultural Studies, and Critical Theory after Postmodernism. P. 54, 58, 63.
Samuels R. New Media, Cultural Studies, and Critical Theory after Postmodernism. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Kirby A. Digimodernism. How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. New York — London: Continuum, 2009.
Гринфилд А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни. М.: Дело, 2018. C. 363.
Moraru C. Cosmodernism. American Narrative, Late Globalization, and the New Cultural Imaginary. Michigan: University of Michigan Press, 2011.
Митчеллу Лоуренсу
Введение
Надежнее всего схватить понятие постмодерна как попытку исторически помыслить настоящее — в эпоху, которая первым делом забыла о том, что значит мыслить исторически. В этом случае оно либо «выражает» (пусть и искаженно) некий более глубокий исторический импульс, который невозможно подавить, либо как раз «подавляет» и отвлекает его — в зависимости от того, какую сторону двусмысленности вы предпочитаете. Постмодернизм, постмодернистское сознание может сводиться всего лишь к теоретизации своего собственного условия возможности, которая заключается, прежде всего, в элементарном перечислении изменений и преобразований. Модернизм также постоянно думал о Новом, пытаясь заметить момент его появления (и изобретая с этой целью устройства записи и регистрации, похожие на фотографирование истории с интервалами), однако постмодерн ищет разрывы, то есть скорее уж события, а не новые миры, многозначительное мгновение, после которого он уже не останется прежним; момент «когда все это изменилось», как сказал Гибсон [81], или, еще лучше, сдвиги и необратимые изменения в репрезентации вещей или же способа их трансформации. Люди эпохи модерна интересовались тем, что может возникнуть из таких изменений, их общей тенденцией; они думали о самом предмете, то есть содержательно, в утопическом или сущностном модусе. Постмодернизм в этом смысле более формален и более «рассеян», как мог бы сказать Беньямин; он лишь хронометрирует сами эти перемены и слишком хорошо знает, что содержания — просто дополнительные изображения. В модернизме, как я позже попытаюсь показать, все еще сохраняются некоторые остаточные зоны «природы» или «бытия» старого, прежнего, архаичного; культура все еще может делать что-то с этой природой и заниматься преобразованием этого «референта». Постмодернизм — то, что вы получаете, когда процесс модернизации завершен и с природой наконец-то покончено. Этот мир человечнее прежнего, но в нем «культура» стала настоящей «второй природой». Действительно, случившееся с культурой может быть одной из самых важных для определения постмодерна подсказок: огромное расширение ее сферы (сферы товаров), безмерное, доселе невиданное в истории приручение Реального, квантовый скачок в том, что Беньямин все еще называл «эстетизацией» реальности (он думал, что это означает фашизм, но мы-то знаем, что это просто весело: самозабвенное веселье, вызванное новым порядком вещей, натиском товаров, нашими «репрезентациями» вещей, обычно вызывающими энтузиазм и перепады в настроении, не обязательно внушаемые самими вещами). То есть в постмодернизме «культура» стала самостоятельным продуктом; рынок стал суррогатом самого себя и точно таким же товаром, как и любой предмет, в него включенный. Модернизм в своей минимальной программе или тенденции все еще оставался критикой товара и попыткой вытолкнуть его за его собственные пределы. Тогда как постмодернизм — это потребление чистой коммодификации как процесса. Следовательно, «стиль жизни» сверхдержавы относится к товарному «фетишизму» Маркса так же, как развитые формы монотеизма к первобытному анимизму или же к примитивнейшему идолопоклонству; действительно, любая сколько-нибудь развитая теория постмодерна должна в каком-то смысле относиться к старому понятию «культурной индустрии», выдвинутому Адорно и Хоркхаймером, так же, как телекомпания MTV или фрактальная реклама относится к телесериалам пятидесятых.
Между тем «теория» и сама изменилась, поэтому она дает подсказку, способную прояснить тайну. Действительно, одна из самых ярких черт постмодерна в том, что в нем сплавилось большое число узконаправленных анализов совершенно разных, как ранее считалось, типов — экономические прогнозы, маркетинговые исследования, культурная критика, новые виды терапии, сетования (обычно формальные) на наркотики или распущенность, рецензии на художественные выставки или национальные кинофестивали, религиозные «возрождения» или культы: объединившись, они образовали новый дискурсивный жанр, который мы могли бы назвать просто «теорией постмодернизма» и который сам требует внимания. Ясно, что это множество является членом самого себя, и я не хотел бы, чтобы мне пришлось решать, чем являются главы этой книги — исследованиями природы подобной «теории постмодернизма» или же просто ее примерами.
Я попытался сделать так, чтобы мое собственное описание постмодернизма — демонстрирующее ряд полуавтономных и относительно независимых черт или качеств — не сводилось бы к одному-единственному, выделенному на фоне всех остальных, симптому утраты историчности, который сам по себе едва ли мог бы сигнализировать о наличии постмодернизма с такой же безошибочностью, с какой о нем свидетельствуют крестьяне, эстеты, дети, либеральные экономисты и аналитические философы. Но трудно обсуждать «теорию постмодернизма» в том или ином общем виде, не обращаясь к вопросу исторической глухоты, своего рода изнуряющего заболевания (если только вы осознаете, что оно у вас есть), которое определяет ряд судорожных, несистематичных и в то же время отчаянных попыток поправиться. Теория постмодернизма — одна из подобных попыток измерить температуру эпохи без инструментов и в ситуации, когда мы даже не уверены, что остались еще такие вещи, как «эпоха», «дух времени», «система» или собственно «актуальная ситуация». В этом случае теория постмодернизма является диалектической по крайней мере постольку, поскольку ей хватает ума схватиться за саму эту неопределенность как свою первую улику и держаться этой нити Ариадны на пути, который может оказаться даже не лабиринтом, а ГУЛАГом или торговым центром. Впрочем, гигантский термометр Класа Олденбурга [82] величиной с большой городской дом мог бы послужить таинственным симптомом этого процесса, свалившимся на голову подобно метеориту, безо всяких предупреждений.
По сути, я принимаю в качестве аксиомы то, что «модернистская история» — первая жертва, таинственная лакуна постмодернизма как периода (это, по существу, та версия теории постмодернизма, которую предложил Акилле Бонито Олива) [83]: в искусстве, по крайней мере, представление о прогрессе и телосе сохранялось во вполне работоспособном состоянии до самого последнего времени, причем в своей наиболее аутентичной, отнюдь не глупой и карикатурной форме, в соответствии с которой каждое действительно новое произведение неожиданно, но вполне логично попирает своего предшественника (но это не «линейная история», а, скорее, «ход коня», как у Шкловского; действие на расстоянии, квантовый скачок на неразвитую или слаборазвитую клетку). Диалектическая история, конечно, утверждала, что история всегда действовала именно так, скакала, так сказать, на левой ноге, продвигаясь вперед, как однажды сказал Анри Лефевр, путем катастроф и потрясений; но услышавших это было намного меньше, чем поверивших в модернистскую эстетическую парадигму, которая была уже готова утвердиться в качестве едва ли не религиозного вероучения, как вдруг исчезла, не оставив и следа. («Однажды утром мы вышли, но Термометра не было!»)
Эта история представляется мне более интересной и правдоподобной, чем рассказ Лиотара о конце «метанарративов» (то есть эсхатологических схем, которые на деле никогда не были нарративами, хотя я и сам не слишком осторожничал и порой использовал это выражение). И она указывает нам как минимум на два момента постмодернистской теории.
Во-первых, теория представляется непременно несовершенной или нечистой [84]: в данном случае это связано с «противоречием», в силу которого предложенная Оливой (или Лиотаром) трактовка тех важных вещей, что связаны с исчезновением метанарративов, сама изложена в нарративной форме. Можно ли, как в теореме Геделя, доказать логическую невозможность любой внутренне непротиворечивой теории постмодернизма — своего рода антифундаментализм, который действительно избегает всех оснований, или же не-эссенциализм без малейшей примеси сущности — вопрос спекулятивный; эмпирический ответ на него состоит в том, что пока ничего подобного не было, поскольку все миметически воспроизводят в себе свое собственное название, будучи паразитами другой системы (чаще всего собственно модернизма), чьи следы, бессознательно воспроизведенные ценности и установки становятся затем драгоценным свидетельством несостоявшегося рождения новой культуры в целом. Несмотря на бредовые построения отдельных ее глашатаев и апологетов (чья эйфория, впрочем, сама является интересным историческим симптомом), новая культура действительно могла бы возникнуть только в коллективной борьбе, направленной на создание новой социальной системы. Родовая загрязненность всей теории постмодернизма (подобно самому капиталу, она должна находиться на некотором внутреннем удалении от самой себя, включать в себя инородное тело чуждого содержания) подтверждает проницательность периодизации, на которую нужно снова и снова обращать внимание, а именно на то, что постмодернизм — это не культурная доминанта совершенно нового социального порядка (слухи о котором, когда его назвали «постиндустриальным обществом», распространились в СМИ несколько лет назад), но лишь рефлекс и шлейф еще одной системной модификации самого капитализма. Неудивительно тогда, что пережитки его прежних воплощений — даже реализма, не говоря уже о модернизме, — продолжают существовать, переодеваясь в роскошные наряды их предполагаемого преемника.
Однако это непредвиденное возращение нарратива в качестве нарратива конца нарративов, это возвращение истории на фоне прогноза об отмене исторического телоса как такового, указывает на вторую черту теории постмодернизма, которая требует внимания, а именно на то, как едва ли не всякое наблюдение касательно настоящего можно мобилизовать ради поиска самого этого настоящего и поставить на службу как симптом или признак более глубокой логики постмодерна, который незаметно превращается в свою собственную теорию или теорию самого себя. Но как иначе может быть там, где больше нет этой «более глубокой логики», которую поверхность могла бы проявлять, и где симптом стал своей собственной болезнью (но также, несомненно, и наоборот)? Однако поспешность, с которой почти все встречающееся в настоящем времени призывается в свидетели уникальности этого настоящего и его отличия от всех предшествующих моментов человеческой истории, и в самом деле поражает как нечто скрывающее патологию, отличающуюся своей аутореферентной природой, словно бы наше предельное забвение прошлого само исчерпывалось в пустом, но гипнотическом созерцании шизофренического настоящего, которое несравнимо едва ли не по определению.
Однако, как будет показано далее, решение, определяющее то, с чем мы имеем дело — с разрывом или преемственностью (чем считать настоящее — оригинальным историческим периодом или же просто продолжением примерно того же самого, пусть и в новой овечьей шкуре?), — нельзя эмпирически оправдать, как и философски обосновать, поскольку оно само является исходным нарративным актом, образующим основу для восприятия и интерпретации событий, о которых должно рассказать повествование. Далее я притворюсь (по прагматическим причинам, которые раскрою в свое время), что верю, будто постмодернизм и в самом деле так необычен, как он сам полагает, и что он составляет реальный разрыв с культурой и опытом, который следует изучить подробнее.
Также указанное решение не есть попросту или в основе своей самоисполняющаяся процедура; то есть оно, конечно, может быть ею, но подобные процедуры — не столь частая возможность, как можно решить по их определению (а потому они сами, что вполне предсказуемо, становятся предметами исторического исследования). Дело в том, что в самом названии «постмодернизм» кристаллизовалось множество ранее независимых процессов, которые, получив такое наименование, доказывают, что они содержали в себе зародыш этого явления, и теперь они могут предъявить подробнейшие документы, подтверждающие множество его родословных. Таким образом, выясняется, что не только в любви, учении Кратила или ботанике высший акт именования оказывает материальное воздействие, которое, подобно молнии, ударившей из надстройки в базис, сплавляет разнородные материалы в блестящую массу или лавовую поверхность. Отсылка к опыту, в иных случаях сомнительная или не заслуживающая доверия, — даже если кажется, что какие-то вещи изменились, пусть и к лучшему! — теперь приобретает определенный авторитет в связи с тем, что в ретроспективе новое имя позволило вам мыслить то, что вы чувствовали, поскольку теперь у вас есть то, что им назвать и что другие люди тоже признают, используя это слово. Историю успеха слова «постмодернизм» еще предстоит написать, несомненно в формате бестселлера; подобные лексические неособытия, в которых изобретение неологизма оказывало вполне реальный эффект, сопоставимый с корпоративным слиянием, относятся к числу новшеств медиаобщества, требующих не просто исследования, но создания совершенно новой медиалексикологической дисциплины. Почему нам давно уже нужно было это слово «постмодернизм», хотя мы и не подозревали об этом, почему крайне разношерстная компания странных компаньонов бросилась к нему в объятия, когда оно появилось, — все это загадки, которые так и останутся без объяснений, пока мы не сможем понять философскую и социальную функцию понятия, что в свою очередь невозможно, пока мы не постигнем более глубокое тождество обеих этих функций. В данном случае представляется ясным, что несколько конкурирующих наименований («постструктурализм», «постиндустриальное общество», тот или иной термин из словаря Маклюэна) оказались неудовлетворительными, поскольку были заданы слишком жестко или же маркированы областью своего происхождения (соответственно, философией, экономикой и медиа); следовательно, какими бы содержательными они ни были, они не могли занять позицию посредника в разных специализированных областях постсовременной жизни, что как раз и требовалось. Тогда как «постмодерн», похоже, был принят в надлежащих областях повседневной жизни; его культурный резонанс, не ограничивающийся, что важно, эстетикой или художественным творчеством [85], удачно отвлекает от сферы экономики, позволяя в то же время отнести новые экономические материи и инновации (например, из сферы маркетинга или рекламы, но также организации бизнеса) к этой новой рубрике. Но это не просто перерегистрация или перекодирование, не имеющие своего собственного значения: активная функция — этика и политика — подобных неологизмов заключается в том, что они предлагают провести новую работу: переписать все знакомые вещи в новых терминах и, соответственно, предложить новые модификации, новые идеальные перспективы, перетасовать канонические чувства и ценности; если «постмодернизм» соответствует тому, что Реймонд Уильямс имел в виду под своей фундаментальной категорией культуры — «структурой чувства» — и если он стал «гегемонической» структурой такого рода, что соответствует еще одной из ключевых категорий Уильямса, значит он мог получить такой статус только благодаря глубокой коллективной аутотрансформации, переделке и переписыванию прежней системы. Это гарантирует новизну и ставит перед интеллектуалами и идеологами неожиданные и при этом социально полезные задачи — и сам этот факт также маркируется новым термином, его смутным, зловещим или радостным обещанием избавить от всего того, что казалось стесняющим, неудовлетворительным или скучным в модерне, модернизме или модерности (modernity) (что бы ни стояло за этими терминами). Другими словами, это очень скромный и мягкий апокалипсис, легкий морской бриз (преимущество которого еще и в том, что он уже стих). Однако эта чудесная операция по переписыванию, которая может привести к совершенно новым взглядам как на субъективность, так и на предметный мир, дает дополнительный результат, который мы уже упоминали: все становится сырьем для ее работы, и исследования вроде предложенного здесь легко поглощаются таким проектом на правах комплекса полезных своей непривычностью рубрик перекодирования.
Фундаментальная идеологическая задача нового понятия должна, однако, оставаться задачей координации новых форм практики, социальных и ментальных привычек (это, как я думаю, Уильямс и имел в виду под понятием «структуры чувства») с новыми формами экономического производства и организации, инициированными изменением капитализма — новым глобальным разделением труда — в последние годы. Это сравнительно небольшая и локальная версия того, что в другой работе я попытался систематически рассмотреть в виде «культурной революции» на уровне самого способа производства [86]; в том же смысле взаимоотношения культуры и экономики представляются здесь не в виде дороги с односторонним движением, а в качестве постоянного взаимодействия и петли обратной связи. Но точно так же, как (по Веберу) новые религиозные ценности, более интровертированные и более аскетичные, постепенно произвели «новых людей», способных добиться успеха в системе отложенного вознаграждения недавно возникших «модерных» трудовых процессов, точно так же и «постмодерн» следует рассматривать в качестве производства постмодерных людей, способных действовать в весьма специфичном социально-экономическом мире, чья структура, объективные черты и требования — если бы у нас нашлось их верное объяснение — задавали бы ситуацию, на которую отвечал бы «постмодернизм» и которая дала бы нам нечто более определенное, чем просто теория постмодернизма. Я, конечно, не добился этого здесь, и следует добавить, что «культура» в том смысле, в каком она слишком уж цепляется за экономику, чтобы ее можно было от нее отодрать и рассмотреть отдельно, сама является постмодернистским процессом, в чем-то похожим на ботинок, переходящий в ногу, с картины Магритта. Поэтому, к сожалению, описание базиса, к которому я вроде бы здесь апеллирую, само по необходимости уже является культурным, заранее представляясь определенной версией теории постмодернизма.
Я переиздаю здесь мой программный анализ постмодерна («Культурная логика позднего капитализма») без существенных изменений, поскольку внимание, которое он в свое время (в 1984 году) привлек, делает его интересным еще и в качестве исторического документа; другие черты постмодерна, которые показались важными впоследствии, обсуждаются в заключении. Я также не стал менять последующий текст, который часто переиздавался и в котором изложена комбинаторика позиций по постмодерну, как за, так и против, поскольку их порядок остается по существу тем же, хотя с тех пор появились и многие другие позиции. Более фундаментальное изменение в сегодняшней ситуации касается тех, кто некогда мог принципиально избегать употребления этого слова: таких осталось немного.
В остальной части этой книги рассматриваются в основном четыре темы: интерпретация, утопия, пережитки модерна и «возвращения вытесненного» историчности — ни одна из них в этом виде в исходной статье не присутствовала. Проблема интерпретации поднимается природой самой новой текстуальности, которая, хотя и является в основном визуальной, похоже, не оставляет пространства для интерпретации прежнего типа или же, хотя она и оказывается в своем «общем потоке» темпоральной, не оставляет для нее времени также. Образцовыми примерами здесь выступают видеотекст как таковой, а также «новый роман» (последняя значимая новация в области романа, касательно которого я также буду утверждать, что, учитывая новую конфигурацию «изящных искусств» в постмодернизме, он больше не является действительно важной формой или маркером); с другой стороны, видео может претендовать на то, чтобы быть наиболее характерным для постмодернизма новым медиумом, который в лучших своих качествах сам по себе представляется совершенно новой формой.
Утопия — это пространственный сюжет, и можно было бы решить, что он претерпел некоторые изменения в такой ориентированной на пространство культуре, как постмодерн; но, если последний настолько деисторизирован и настолько склонен к деисторизации, как я здесь порой утверждаю, найти синапс, который мог бы привести утопический импульс к выражению, становится сложнее. Утопические репрезентации пережили удивительное возрождение в 1960-е годы; если постмодернизм — это субститут шестидесятых и компенсация за их политическую неудачу, вопрос утопии мог бы стать ключевым тестом для того, что осталось от нашей способности воображать какие-либо изменения. Таков, по крайней мере, вопрос, задаваемый одному из наиболее интересных (и наименее характерных) зданий постмодернистского периода, дому Фрэнка Гери в Санта-Монике (Калифорния); он также задается — в окрестностях визуального, но не ограничиваясь им — современной фотографии и искусству инсталляций. В любом случае «утопическое» в постмодернизме первого мира стало сильным (левым) политическим термином, а не противоположностью такового.
Но если Майкл Спикс прав, и не бывает чистого постмодернизма как такового, тогда остаточные следы модернизма можно рассмотреть под другим углом зрения, не столько в качестве анахронизмов, сколько в качестве необходимых неудач, которые вписывают тот или иной постмодернистский проект обратно в его контекст и в то же время вновь открывают для пересмотра вопрос о модерне. Я не буду заниматься здесь таким пересмотром; однако сохранение пережитков модерна и его ценностей — особенно иронии (у Вентури или де Мана), а также вопросов тотальности и репрезентации — дает повод для проработки одного из тех тезисов моего первоначального эссе, что сильнее всего смутили некоторых читателей; а именно замечания о том, что «постструктурализм» в его разных версиях или даже просто «теория» были также разновидностью постмодерна или по крайней мере оказываются ею теперь, при взгляде в прошлое. Теория — я предпочитаю здесь более неуклюжее выражение «теоретический дискурс» — казалась чем-то уникальным, если не привилегированным, среди постмодернистских искусств и жанров, поскольку могла порой бросить вызов притяжению духа времени и произвести школы, движения и даже течения авангарда там, где их существование уже не предполагалось. Две очень длинные и несоразмерные остальному тексту главы посвящены изучению двух наиболее успешных течений американского теоретического авангарда, а именно деконструкции и нового историзма, в которых обнаруживаются следы как модерна, так и постмодерна. Но старый «новый роман» Клода Симона также мог бы стать предметом такого рода дискриминации, которая не даст нам ничего особенного, пока мы — отказавшись от навязчивого желания разложить все предметы раз и навсегда по категориям модерна и постмодерна или даже «позднего модерна» и «переходного периода» Чарльза Дженкса — не построим модель противоречий, которые все эти категории разыгрывают в рамках самого текста.
В любом случае эта книга не является обзором «постмодерна» и даже введением в него (если вообще предполагать, что нечто подобное возможно); точно так же используемые в ней текстуальные экспонаты не являются чем-то характерным для постмодерна, его главными примерами или же «иллюстрациями» его основных черт. Это связано в определенной мере с самим определением качеств характерного, примера как такового и иллюстрации; но еще больше — с природой самих постмодернистских текстов, то есть собственно текста, поскольку именно он является постмодернистской категорией и феноменом, заменившим собой прежнюю категорию «произведения». Действительно, в процессе одной из этих необычайных постмодернистских мутаций, когда все апокалиптическое внезапно становится чем-то декоративным (или по крайней мере съеживается вдруг до «чего-то знакомого»), легендарный гегелевский «конец искусства» — пророческое понятие, обозначавшее анти- или трансэстетическое призвание модернизма стать чем-то большим, нежели искусство (или религия и даже «философия» в более узком смысле), — сводится ныне к «концу произведения искусства» и пришествию текста. Но в результате курятники для критики приходят в волнение не меньше, чем загоны для «творчества»: фундаментальное расхождение или несоизмеримость текста и произведения означают, что, выбрав образцовые тексты и наделив их в исследовании универсальной весомостью репрезентативного случая, мы незаметно превратим их в то же самое, что было раньше, то есть в произведение, которого в постмодерне вроде бы уже не должно быть. Это, так сказать, и есть гейзенбергов принцип постмодернизма, самая сложная проблема репрезентации для любого комментатора, с которой ему только приходится сталкиваться, и решением может быть разве что бесконечное слайд-шоу, «общий поток», продленный в бесконечность.
То же самое относится к предпоследней моей главе, посвященной некоторым недавним фильмам и историческим репрезентациям нового, аллегорического типа. Слово «ностальгия», вошедшее в заглавие этой статьи, обычно имеет другой смысл, отличный от того, что я стараюсь ему придавать, поэтому я специально заранее прокомментирую одно выражение, «кинематограф ностальгии», — другие возражения будут подробно разобраны в заключительном разделе — которое, к моему сожалению, могло вызвать определенные недоразумения. Я уже не помню, сам ли я придумал этот термин, который все еще представляется мне необходимым, хотя вы должны понимать, что в модных истористских фильмах, им обозначаемых, нельзя ни в коем случае видеть откровенные выражения прежнего томления, некогда названного ностальгией, скорее они представляют собой полную его противоположность, являясь обезличенным визуальным курьезом и «возвращением вытесненного» двадцатых и тридцатых «без аффекта» (в другом тексте я пытаюсь определить это как «ностальгию-деко»). Но поменять подобный термин задним числом можно не больше, чем заменить и собственно «постмодернизм» каким-то другим словом.
«Общий поток» ассоциативных выводов подхватывает затем и некоторые из давно укоренившихся, но при этом более серьезных возражений на мои позиции, кое-какие неверные интерпретации, как и другие темы, которые просто обязаны фигурировать в любой уважающей себя книге по этому предмету. В частности, я попытался компенсировать то, что показалось (вполне обоснованно) некоторым читателям ключевым упущением моей программной статьи, а именно отсутствие какого-либо обсуждения «агентности» или же того, что я, следуя за Плехановым, предпочел бы назвать «социальным эквивалентом» этой вроде бы бесплотной культурной логики.
Агентность, однако, поднимает вопрос о другой составляющей моего заглавия, «позднем капитализме», о котором нужно сказать еще кое-что. В частности, некоторые подметили, что оно функционирует в качестве своего рода знака, носителя какого-то смысла и выводов, которые не всегда ясны непосвященным [87]. Это не самое мое любимое выражение, и я пытаюсь чередовать его с другими синонимами («мультинациональный капитализм», «общество спектакля» или «общество изображений», «медиакапитализм», «мировая система» и даже собственно «постмодернизм»); но, поскольку правые также выделили то, что им, очевидно, представляется опасным новым понятием и опасной манерой речи (хотя некоторые экономические прогнозы пересекаются с их собственными идеями, а такой термин, как «постиндустриальное общество», определенно обладает некоторым семейным сходством с ними), этот конкретный участок идеологической борьбы, который, к сожалению, редко выбираешь сам, кажется надежным и достойным защиты.
Насколько я знаю, общее употребление термина «поздний капитализм» берет начало во Франкфуртской школе [88]; он постоянно встречается у Адорно и Хоркхаймера, иногда перемежаясь с другими синонимами (например, «администрируемым обществом»), и это ясно указывает на то, что имелась в виду совершенно другая концепция, скорее веберовского типа, в которой, поскольку она основывалась преимущественно на Гроссмане и Поллоке, подчеркивались две существенные черты: (1) постепенное формирование сети бюрократического контроля (в том числе в ее довольно-таки кошмарных формах «фукианской», как мы могли бы назвать ее сейчас, решетки) и (2) взаимопроникновение государства и большого бизнеса («государственный капитализм»), так что нацизм и «Новый курс» становятся системами, связанными друг с другом (также в повестку заносится социализм в той или иной форме, будь она доброкачественной или сталинской).
Сегодня у термина «поздний капитализм», используемого довольно широко, совершенно другие коннотации. Никого больше особенно не волнует расширение государственного сектора и бюрократизация: они представляются простым и «естественным» фактом жизни. Отличие нового понятия от старого (которое в основном отвечало ленинскому понятию «монопольной стадии» капитализма) состоит не только в акценте на новых формах бизнес-организаций (мультинациональных и транснациональных компаниях), не укладывающихся в монопольную стадию, но, в первую очередь, в совершенно отличной от прежнего империализма, представлявшего собой всего лишь соперничество нескольких колониальных держав, картине мировой капиталистической системы. Схоластические и, я бы даже сказал, теологические споры о том, согласуются ли различные понятия «позднего капитализма» с марксизмом (несмотря на то, что Маркс в своем «Очерке критики политической экономии» (Grundrisse) неоднократно упоминает о «мировом рынке» как конечном горизонте капитализма [89]), завязаны на вопрос интернационализации и на то, как ее описывать (и в частности на вопрос о том, является ли компонентом «теории зависимости» или же теории «мир-системы» Валлерстайна модель производства, основанная на социальных классах). Несмотря на эти теоретические неопределенности, справедливо будет сказать, что сегодня у нас есть приблизительное представление об этой новой системе (названной «поздним капитализмом», чтобы выделить именно ее преемственность с тем, что было раньше, а не разрыв, слом или мутацию, которую желали подчеркнуть такие понятия, как «постиндустриальное общество»). К ее чертам, наряду с вышеупомянутыми формами транснационального бизнеса, относятся новое международное разделение труда, новая головокружительная динамика международного банковского сектора и бирж (включая огромный финансовый долг второго и третьего мира), новые формы медийной взаимосвязи (включающие, что важно, такие транспортные системы, как контейнеризация), компьютеры и автоматизация, перенос производства в развитые области третьего мира, а также все более привычные социальные последствия, в том числе кризис традиционной рабочей силы, появление яппи и джентрификация — теперь уже на глобальном уровне.
Решая вопрос о периодизации феномена такого рода, мы должны усложнить модель несколькими дополнительными эпициклами. Необходимо провести различие между постепенным формированием различных (часто не связанных друг с другом) условий новой структуры и «моментом» (не обязательно хронологическим), когда все они сливаются воедино, образуя функциональную систему. И сам этот момент является не столько хронологическим, сколько близким к «Nachträglichkeit» Фрейда, или ретроактивностью: люди замечают динамику некоей новой системы, в которую они сами погружены, только позже и постепенно. Это восходящее коллективное сознание новой системы (которое само складывается рывками и фрагментами на основе множества не связанных друг с другом симптомов кризиса, таких как закрытие фабрик или повышение процентных ставок) не вполне совпадает с возникновением новых культурных форм выражения («структуры чувства» Реймонда Уильямса кажутся в конечном счете весьма странным способом изображать постмодернизм как явление культуры). Каждый готов теперь признать, что разнообразные предварительные условия новой «структуры чувства» существовали и до того, как они смогли сложиться и кристаллизоваться в относительно гегемонический стиль; однако эта предыстория не синхронизирована с экономической. Так, Мандель указывает на то, что основные технологические условия новой «длинной волны» третьей стадии капитализма (здесь названной «поздним капитализмом») наличествовали к концу Второй мировой войны, которая привела также к реорганизации международных отношений, деколонизации колоний и закладке фундамента для возникновения новой мировой экономической системы. Но в культурном отношении предварительное условие обнаруживается (если не считать множества разношерстных модернистских «экспериментов», которые впоследствии переоформляются в предшественников) в огромных социально-психологических трансформациях 1960-х годов, которые смели значительную часть традиции на уровне «ментальностей». Таким образом, экономическая подготовка постмодернизма или позднего капитализма началась в 1950-х годах после того, как был компенсирован военный дефицит потребительских товаров и запчастей и на рынок начали выходить новые товары и технологии (не последними из которых оказались медиатехнологии). С другой стороны, психический габитус новой эпохи требует абсолютного разрыва, усиливающегося поколенческим сломом, достигнутым в полной мере в 1960-е годы (следует понимать, что экономическое развитие не берет ради этого паузу, но продолжается на собственном уровне в соответствии со своей логикой). Если вы предпочитаете ныне несколько устаревшую терминологию, это различие в значительной степени совпадает с различием Альтюссера между гегелевским «сущностным срезом» (или coupe d’essence), в котором критика культуры желает найти один-единственный принцип «постмодерна», присущий как нельзя более разнообразным и дифференцированным качествам социальной жизни, и собственно альтюссеровской «господствующей структурой», в которой различные уровни сохраняют полуавтономию в отношении друг друга, работают на разных скоростях, развиваются неравномерно, но все же вступают в своего рода сговор, чтобы произвести тотальность. Добавьте к этому неизбежную проблему репрезентации, указывающую на то, что «нет позднего капитализма вообще», но есть лишь та или иная национальная форма такого капитализма, так что читатели, не относящиеся к числу жителей Северной Америки, непременно пожалуются на америкоцентризм моей собственной концепции, который оправдывается только тем, что «короткий американский век» (1945–1973) как раз и образовал рассадник или посевное поле для новой системы, тогда как развитие культурных форм постмодернизма стало, можно сказать, первым собственно североамериканским глобальным стилем.
В то же время я считаю, что оба рассматриваемых уровня, базис и различные надстройки — экономическая система и культурная «структура чувства», — каким-то образом кристаллизовались в потрясениях, вызванных кризисами 1973 года (нефтяным кризисом, отменой международного золотого стандарта, фактическим завершением большой волны «войн за национальное освобождение» и началом конца традиционного коммунизма), которые, когда пыль наконец осела, открыли наличие уже совершенно сложившегося, хотя при этом странного нового ландшафта, который я пытаюсь описать в статьях, собранных в этой книге (ставшей одной из проб и гипотетических концепций, которых становится все больше и больше) [90].
Вопрос о периодизации, однако, абсолютно не чужд сигналам, исходящим от выражения «поздний капитализм», которое теперь четко идентифицируется как своего рода левацкий лозунг, заминированный политически и идеологически, так что само его использование определяет неявное согласие по довольно большому спектру марксистских в своей сущности социально-экономических положений, которые другая сторона, возможно, и не готова принять. «Капитализм» и сам всегда был в этом смысле довольно забавным словом: употребление этого слова — в других отношениях достаточно нейтрального обозначения социально-экономической системы, свойства которой не вызывают разногласия сторон, — похоже, говорило о том, что у вас какая-то критическая, подозрительная, если не попросту социалистическая позиция: только откровенно правые идеологи или крикливые апологеты рынка продолжают использовать его с одним и тем же чувством глубокой удовлетворенности.
«Поздний капитализм» все еще оказывает подобный эффект, но с некоторым отличием: эпитет, входящий в это выражение, редко означает какую-нибудь глупость вроде окончательного дряхления, слома или смерти системы как таковой (такой темпоральный взгляд скорее подошел бы модернизму, чем постмодернизму). Обычно слово «поздний» передает ощущение того, что нечто изменилось, что вещи стали другими, что мы претерпели трансформацию жизненного мира, решительную, но несравнимую с прежними судорогами модернизации и индустриализации, возможно, менее заметную и яркую, но более долговременную именно потому, что более обширную и полную [91].
Это значит, что выражение «поздний капитализм» несет в себе также и другую, культурную половину моего заглавия; оно не является всего лишь буквальным переводом другого термина, «постмодернизма»; скорее, сама характеристика времени, в нем содержащаяся, привлекает внимание к переменам в повседневности и переменам на собственно культурном уровне. Сказать, что два моих термина, «культурное» и «экономическое», коллапсируют друг в друга и означают одно и то же в условиях стершегося различия между базисом и надстройкой, поражавшего многих как нечто специфичное именно для постмодернизма, — значит также предположить, что базис на третьей стадии капитализма порождает надстройки, наделенные динамикой нового рода. И возможно, это и есть то, что (справедливо) тревожит в этом термине необращенных скептиков; кажется, что он заранее обязывает говорить о культурных феноменах в категориях по меньшей мере бизнеса, если не политической экономии.
Что касается самого «постмодернизма», я не пытался систематизировать словоупотребление или же навязывать какое-то одно общепринятое компактное значение, поскольку понятие это не просто спорное, но также внутренне конфликтное и противоречивое. Но, плохо оно или хорошо, я утверждаю, что мы не можем его не использовать. Однако следует также понимать, что мои доводы всякий раз, когда мы пользуемся этим понятием, предполагают, что мы обязаны заново усвоить все эти внутренние противоречия и инсценировать неувязки и дилеммы, присущие их репрезентации; каждый раз мы должны все это полностью прорабатывать. «Постмодернизм» — не то, что мы можем установить раз и навсегда, а потом использовать с чистой совестью. Это понятие, если оно вообще существует, должно возникнуть в конце, а не в начале обсуждения, которое мы ему посвящаем. Таковы условия — по-моему, единственные, которые могут предотвратить ошибку преждевременного прояснения, — дальнейшего продуктивного использования этого термина.
Материалы, собранные в данной книге, составляют третий и последний раздел предпоследнего подраздела более общего проекта под названием «Поэтика социальных форм».
Дарем, апрель 1990 г.
См., например: Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 1968. С. 45–46, 71–72, 227.
См. мою работу: Jameson F. Late Marxism: Adorno, or, the Persistence of the Dialectic. London: Verso, 1990; эта тема заслуживает более внимательного изучения. Пока я нашел лишь несколько косвенных ссылок на нее, если не считать следующих работ: Marramao G. Political Economy and Critical Theory // Telos. 1974. No. 24; Dubiel H. Theory and Politics. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985.
В другой работе, связанной с данной (см. выше сноску 7), я, как сказал бы Хейден Уайт, «почувствовал возможным для себя» использовать немецкий термин «Spätmarxismus» [поздний марксизм] для обозначения марксизма того рода, что пришелся бы впору новой системе.
Концепций и версий становится все больше, из них я бы рекомендовал следующие: Harvey D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Wiley-Blackwell, 1989; Rojo A. B. La Isla que se repite. Hanover, N.H.: Ediciones del Norte, 1990; Soja E. Postmodern Geographies. London: Verso, 1989; Gitlin T. Hip-Deep in Postmodernism // New York Times Book Review. Nov. 6, 1988. P. 1; Connor S. Postmodernist Culture. Oxford: Basil Blackwell, 1989.
Так, предложенный Йостом Хермандом исчерпывающий перечень культуры шестидесятых (см.: Hermand J. Pop, oder die These vom Ende der Kunst // Hermand J. Stile, Ismen, Etiketten. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1978) заранее покрывает практически все формальные новации так называемого постмодерна.
Майкл Спикс подробно развивает этот момент в своей диссертации «Перемоделирование постмодернизма(ов): архитектура, философия, литература» («Remodelling Postmodernism(s): Architecture, Philosophy, Literature»).
Ср. слова Жака Деррида: «Каждый раз, когда в текстах, в которых речь идет о литературе и философии, мне попадается это выражение „поздний капитализм“, мне ясно, что догматическое или стереотипическое утверждение заменило собой аналитическое доказательство» (Derrida J. Some Questions and Responses // N. Fabb, D. Attridge, A. Durant, C. MacCabe (eds). The Linguistics of Writing. New York: Methuen, 1987. P. 254.
См.: Jameson F. The Political Unconscious. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 95–98.
Bonito Oliva A. The Italian Trans-avantgarde. Milan: Giancarlo Politi Editore, 1980.
Клас Олденбург (род. 1929) — американский скульптор шведского происхождения, создатель объектов поп-арта, представляющих предметы массового потребления огромной величины. — Прим. ред.
См.: Gibson W. Mona Lisa Overdrive. New York: Bantam Books, 1988 (рус. пер. см. в: Гибсон У. Мона Лиза Овердрайв. М.: Terra Fantastica, АСТ, 1999). Здесь уместно пожалеть о том, что в этой книге нет главы о киберпанке, ведь, с точки зрения многих из нас, это высшее литературное выражение если не постмодернизма, то позднего капитализма.
1
Культурная логика позднего капитализма
Последние несколько лет были отмечены своего рода перевернутым милленаризмом, в котором предвестия будущего, катастрофического или искупительного, сменились ощущением конца (идеологии, искусства или социального класса; кризиса ленинизма, социал-демократии или государства всеобщего благосостояния и т. д. и т. п.); все это вместе составляет то, что все чаще называют постмодернизмом. Обоснование самого его существования зависит от гипотезы о некоем радикальном разрыве или coupure [92], которую обычно возводят к концу 1950-х — началу 1960-х годов.
Как подсказывает само слово, этот разрыв чаще всего связан с представлениями о затухании или же исчерпании столетнего движения модерна (или же с идеологическим или эстетическим отказом от него). Так, абстрактный экспрессионизм в живописи, экзистенциализм в философии, предельные формы репрезентации в романе, фильмы крупных auteurs [93] или модернистская школа поэзии (как она была институализирована и канонизирована в произведениях Уоллеса Стивенса) — все они ныне считаются последним, необычайно ярким цветением высокого модернизма, чей импульс был растрачен и исчерпан вместе с ними. Перечисление того, что приходит затем, становится сразу же эмпирическим, хаотическим и гетерогенным: Энди Уорхол и поп-арт, но также фотореализм, а за его пределами — «новый экспрессионизм»; в музыке — момент Джона Кейджа, но также синтез классических и «популярных» стилей, обнаруживаемый у таких композиторов, как Филипп Гласс и Терри Райли, а также панк и рок новой волны (Beatles и Rolling Stones теперь выступают как момент высокого модернизма в этой более поздней и быстро развивающейся традиции); в кино — Годар, пост-Годар, экспериментальный кинематограф и видео, но также совершенно новый тип коммерческого кино (о котором ниже); Берроуз, Пинчон или Измаэль Рид, с одной стороны, и французский «новый роман» и его ответвления — с другой, вместе с пугающими своей новизной типами литературной критики, основанной на новой эстетике текстуальности или écriture… Список можно расширять до бесконечности; но предполагает ли он какое-то более фундаментальное изменение или прерывание, нежели периодические изменения в стиле и моде, определенные императивом стилистической инновации, свойственным высокому модернизму?
Однако именно в области архитектуры изменения эстетического производства как нельзя более заметны, а их теоретические проблемы поставлены в центр и артикулированы предельно отчетливо; моя собственная концепция постмодернизма, которая будет изложена далее, первоначально складывалась в контексте архитектурных дискуссий. Постмодернистские позиции в архитектуре более явным образом, чем в других искусствах или медиа, оказались неотделимыми от безжалостной атаки на архитектуру высокого модернизма, Фрэнка Ллойда Райта или так называемого интернационального стиля (Ле Корбюзье, Миса ван дер Роэ и т. д.), в которой формальная критика и анализ (трансформации в высоком модернизме здания в виртуальную скульптуру или, как сказал Роберт Вентури, в монументальную «утку» [94]) совмещаются с новыми идеями на уровне урбанизма и института эстетики. Таким образом, с высоким модернизмом связывается разрушение ткани современного города и старой районной культуры (посредством радикального отстранения нового утопического здания высокого модернизма от окружающего его контекста), тогда как профетический элитизм и авторитаризм модернистского движения безапелляционно отождествляются с властным жестом харизматического Господина.
Постмодернизм в архитектуре будет затем достаточно логично представляться в качестве своего рода эстетического популизма, на что указывает и само название влиятельного манифеста Вентури «Уроки Лас-Вегаса» (Learning from Las Vegas). Как бы ни оценивать в конечном счете эту популистскую риторику [95], одно преимущество у нее по крайней мере есть: она привлекает наше внимание к фундаментальной черте всех вышеперечисленных постмодернизмов — к стиранию в них старой (по существу связанной с высоким модернизмом) границы между высокой культурой и так называемой массовой или коммерческой культурой и к возникновению новых типов текстов, пронизанных формами, категориями и содержаниями той самой культурной индустрии, которая столь страстно разоблачалась всеми идеологами модерна, начиная с Фрэнка Рэймонда Ливиса и американской новой критики и заканчивая Адорно и Франкфуртской школой. Различные виды постмодернизма были, собственно, очарованы всем этим «деградировавшим» ландшафтом барахла и китча, телесериалами и культурой «Ридерз дайджест», рекламой и мотелями, ночными телепередачами и голливудскими фильмами категории B, так называемой паралитературой с ее привокзальными изданиями в мягкой обложке — готикой и женскими романами (romance), популярными биографиями, детективами, научной фантастикой и фэнтези: материалами, которые они уже не просто «цитируют», как какой-нибудь Джойс или Малер, но встраивают в собственную субстанцию.
При этом рассматриваемый разрыв нельзя осмыслить как чисто культурное дело: действительно, теории постмодерна — прославляющие его или же выраженные на языке морального отвращения или разоблачения — отличаются заметным семейным сходством со всеми этими более амбициозными социологическими обобщениями, которые, по сути в то же самое время, сообщают о пришествии и учреждении совершенно нового типа общества, получившего наибольшую известность под именем «постиндустриального» (Дэниэл Белл), но также его часто называют потребительским обществом, обществом медиа, информационным обществом, электронным обществом, обществом высоких технологий и т. п. У таких теорий есть очевидная идеологическая задача — доказать, к их собственному удовольствию, что новая социальная формация более не подчиняется законам классического капитализма, то есть верховенству промышленного производства и вездесущей классовой борьбы. Поэтому марксистская традиция решительно им сопротивлялась, за показательным исключением экономиста Эрнеста Манделя, который в своей книге «Поздний капитализм» ставит задачу не только проанализировать историческую специфику этого нового общества (рассматриваемого у него в качестве третьей стадии или момента в эволюции капитала), но также и доказать, что оно является, если уж на то пошло, более чистой стадией капитализма, чем любой из предшествующих его моментов. Я вернусь к этому аргументу позже; пока же достаточно заранее указать на пункт, который будет разбираться во второй главе, а именно на то, что каждая позиция относительно постмодернизма в культуре — будь она апологией или стигматизацией — является в то же самое время, причем по необходимости, явной или неявной политической позицией в отношении природы современного мультинационального капитализма.
Последнее предварительное замечание касается метода: нижеследующее не стоит воспринимать в качестве стилистического описания, как описание одного из стилей или движений в культуре. Скорее, я намеревался предложить гипотезу о периодизации, причем в тот самый момент, когда сама концепция исторической периодизации стала представляться весьма проблематичной. В другом тексте я утверждал, что любой изолированный или дискретный культурный анализ всегда предполагает запрятанную в нем или репрессированную теорию исторической периодизации; во всяком случае концепция «генеалогии» избавляется почти от всех традиционных теоретических опасений относительно так называемой линейной истории, теорий «стадий» или телеологической историографии. В данном контексте, однако, более обширное теоретическое обсуждение подобных (вполне реальных) проблем можно, вероятно, заменить несколькими содержательными замечаниями.
Одно из опасений, постоянно порождаемых гипотезами о периодизации, состоит в том, что они стремятся стереть различие и спроецировать представление об определенном историческом периоде как массивной гомогенности (замкнутой с той или другой стороны необъяснимыми хронологическими метаморфозами и знаками пунктуации). Но именно поэтому мне кажется важным понимать постмодернизм не как стиль, но, скорее, как культурную доминанту: концепцию, которая допускает присутствие и сосуществование ряда весьма разных, но при этом соподчиненных качеств.
Рассмотрим, например, влиятельную альтернативную позицию, заключающуюся в том, что сам постмодернизм — не более чем очередная стадия собственно модернизма (если не более старого романтизма); действительно, можно согласиться с тем, что все качества постмодернизма, которые я вскоре перечислю, могут быть выявлены, причем во вполне развитой форме, в том или ином предшествующем модернизме (включая таких удивительных генеалогических предшественников, как Гертруда Стайн, Реймон Руссель или Марсель Дюшан, которых можно считать откровенными постмодернистами, хотя тогда такого термина еще не было). Однако при таком подходе не принималась в расчет социальная позиция прежнего модернизма или, лучше сказать, его подчеркнутое непризнание старой викторианской и поствикторианской буржуазией, которая видит в его формах и этосе нечто в той или иной степени и в том или ином смысле уродливое, диссонирующее, темное, скандальное, аморальное, подрывное или же в целом «антисоциальное». Здесь же будет доказываться, что определенное изменение в сфере культуры сделало подобные установки архаичными. Пикассо и Джойс не только не кажутся сегодня уродливыми; они поражают нас как нечто скорее «реалистическое», и это результат канонизации и академической институализации движения модерна, которую можно возвести к концу 1950-х годов. В этом, несомненно, состоит одно из наиболее вероятных объяснений возникновения постмодернизма как такового, поскольку молодежь 1960-х годов выступит против ранее оппозиционного модернистского движения, увидев в нем систему мертвой классики, которая «тяготеет, как кошмар, над умами живых», как сказал Маркс по другому поводу.
Что же касается восстания постмодерна против всего этого, следует в равной мере подчеркнуть, что его собственные наступательные качества — начиная с мрачности или материалов откровенного сексуального характера и заканчивая моральным разложением или открытым выражением социального и политического вызова, которые превосходят все то, что можно было вообразить в крайние моменты высокого модернизма, — более никого не шокируют и не только принимаются с величайшей снисходительностью, но и институализируются, становясь единым целым с официальной или публичной культурой западного общества.
Произошло следующее: эстетическое производство в наши дни было интегрировано в товарное производство как таковое: безумная экономическая настоятельность производить потоки товаров, которые выглядят все более новыми (любые товары, начиная с одежды и заканчивая самолетами) и циркулируют с постоянно растущей скоростью, наделяет сегодня эстетическую инновацию и экспериментирование все более важной структурной функцией и особым положением. Такие экономические потребности находят затем признание и в разнообразных типах институциональной поддержки новейшего искусства, начиная с фондов и грантов, предоставляемых музеям, и заканчивая другими формами патронажа. Из всех искусств архитектура по своей конституции ближе всего к ведению хозяйства, с которым она состоит — в силу заказов и стоимости земельной собственности — в практически непосредственном отношении. Поэтому не стоит удивляться, если мы обнаружим удивительный расцвет новой постмодернистской архитектуры, основанный на покровительстве мультинационального бизнеса, чье расширение и развитие строго хронологически с ней совпадают. Позже я укажу на то, что между двумя этими новыми феноменами еще более глубокое диалектическое отношение, чем просто однонаправленное финансирование того или иного проекта. Но пока я должен напомнить читателю об очевидном, а именно о том, что вся эта глобальная, хотя и американская, постмодернистская культура является внутренним и надстроечным выражением совершенно новой волны американского военного и экономического господства во всем мире: в этом смысле, как и на протяжении всей классовой истории, оборотная сторона культуры — это кровь, пытки, смерть и страх.
Первый момент, который следует отметить относительно господствующей концепции периодизации, состоит, следовательно, в том, что, даже если все конститутивные качества постмодернизма тождественны качествам прежнего модернизма и совпадают с ними по содержанию — ложность чего я, однако, считаю возможным доказать, хотя такую позицию мог бы опровергнуть лишь еще более обстоятельный анализ модернизма, — два феномена все же сохранят свое предельное отличие в плане своего значения и социальной функции, что обусловлено иным позиционированием постмодернизма в экономической системе позднего капитализма и, помимо этого, трансформацией самой сферы культуры в современном обществе.
Этот пункт будет подробнее обсуждаться в заключении к этой книге. Сейчас же я должен вкратце рассмотреть иной вид возражения на периодизацию, а именно озабоченность тем, что в ней, возможно, стирается гетерогенность, о которой чаще всего заявляют левые. Верно то, что в этом есть странная квазисартровская ирония — логика «победитель проигрывает», — которая обычно сопровождает любую попытку описать систему и тотализирующую динамику, каковые выявляются в движении современного общества. Получается, что, чем сильнее взгляд на некую все более тотальную систему или логику — очевидным примером тут выступает книга Фуко о тюрьмах, — тем более беспомощным ощущает себя в итоге читатель. Следовательно, если теоретик и выигрывает, выстраивая все более замкнутую и устрашающую машину, именно в этой степени он и проигрывает, поскольку критическая потенция его труда тем самым парализуется, а импульсы отрицания и восстания, не говоря же о таковых социальной трансформации, на фоне самой этой модели все больше воспринимаются в качестве чего-то тщетного и тривиального.
Я почувствовал, однако, что только в свете некоей концепции господствующей культурной логики или гегемонической нормы может быть измерено и оценено подлинное различие. Я далек от ощущения, будто все культурное производство является сегодня «постмодернистским» в широком смысле, который я буду придавать этому термину. Постмодерн, однако, является силовым полем, в котором могут проложить свой пусть совершенно разные типы культурных импульсов — те, что Реймонд Уильямс ловко окрестил «остаточными» и «возникающими» формами культурного производства. Если мы не достигнем некоего общего смысла культурной доминанты, мы скатимся ко взгляду на современную историю как простую разнородность, случайное различие, сосуществование кучи разных сил, чья эффективность неопределима. В любом случае нижеследующий анализ разрабатывался с таким политическим настроем: спроектировать некую концепцию новой систематической культурной нормы и ее воспроизводства, чтобы точнее обдумать наиболее эффективные формы современной культурной политики радикального типа.
В изложении будут рассмотрены одна за другой следующие конститутивные черты постмодернизма: новое отсутствие глубины, которое становится все более заметным и в современной «теории», и в совершенно новой культуре изображения или симулякра; все большее ослабление историчности, как в нашем отношении к публичной Истории, так и в новых формах нашей частной темпоральности, чья «шизофреническая» структура (следуя Лакану) будет определять новые типы синтаксиса или синтагматических отношений в более темпоральных искусствах; важный новый тип эмоционального базового тона — я буду называть это «интенсивностями», — который лучше всего понять, вернувшись к прежним теориям возвышенного; глубокое конститутивное отношение всего этого к новой большой технологии, которая сама является фигурой новой большой экономической системы мира; наконец, после краткого описания постмодернистских изменений в жизненном опыте архитектурного пространства как такового будут представлены некоторые размышления относительно задачи политического искусства в пугающем новом мировом пространстве позднего или мультинационального капитала.
I
Мы начнем с одного из канонических произведений визуального искусства высокого модернизма, хорошо известной картины Ван Гога, изображающей крестьянские башмаки, то есть с примера, который, как вы можете понять, не был выбран наугад или без задней мысли. Я хочу предложить два способа прочтения этой картины, которые оба в определенном смысле реконструируют восприятие произведения в двухэтапном или двухуровневом процессе.
Первым делом я хочу указать на то, что, если не допускать сведения этого обильно копируемого произведения до уровня простой декорации, оно потребует от нас реконструировать некую идеальную ситуацию, из которой возникает законченное произведение. Пока эта ситуация — которая ушла в прошлое — не подвергнется в каком-то смысле ментальному восстановлению, картина будет оставаться инертным объектом, овеществленным конечным продуктом, который невозможно понять в качестве полноправного символического акта, как праксис и производство.
Последний термин указывает на то, что один из способов реконструкции исходной ситуации, на которую произведение в каком-то смысле отвечает, — выделить сырье, первоначальное содержание, с которым оно сталкивается и которое перерабатывает, преображает и присваивает. У Ван Гога это содержание, это первоначальное сырье, как я готов утверждать, должно пониматься попросту как весь предметный мир сельской нищеты, гнетущей деревенской бедности, то есть как весь этот рудиментарный человеческий мир изматывающего крестьянского труда, мир, сведенный к его наиболее грубому, примитивному, маргинализованному и ненадежному состоянию.
Фруктовые деревья в этом мире — старые, ссохшиеся прутья, вырывающиеся из неплодородной почвы; жители деревни — иссушенные скелеты, карикатуры на некую предельно гротескную типологию базовых человеческих типажей. Почему же тогда у Ван Гога такие вещи, как яблони, взрываются галлюцинаторной поверхностью цвета, а его деревенские стереотипы вдруг щедро закрашиваются оттенками красного и зеленого? Далее я буду доказывать, что, если следовать первой интерпретационной возможности, намеренная и столь заметная трансформация скудного крестьянского предметного мира в материализацию чистого цвета, прославляемую масляной живописью, следует понимать в качестве утопического жеста, компенсаторного акта, который завершается производством нового утопического царства чувств или по крайней мере того высшего чувства — зрения, визуального, — которое восстанавливает теперь для нас некое полноправное полуавтономное пространство, часть некоего нового разделения труда в теле капитала, некую новую фрагментацию зарождающегося сенсориума, который воспроизводит специализацию и разделения капиталистической жизни в то самое время, когда ищет им отчаянную утопическую компенсацию в самой этой фрагментации.
Конечно, существует и второе прочтение Ван Гога, которое вряд ли можно игнорировать, когда мы смотрим на эту конкретную картину, и оно заключается в центральной составляющей анализа, представленного Хайдеггером в работе «Исток художественного творения», который организован вокруг идеи о том, что произведение искусства возникает в зазоре между Землей и Миром, то есть, как я предпочел бы перевести эти термины, между бессмысленной материальностью тела и природы и смыслополаганием в истории и социальном. Позже мы вернемся к этому специфическому разрыву или зазору; здесь же пока достаточно напомнить некоторые хорошо известные фразы, моделирующие процесс, в котором эти прославившиеся впоследствии крестьянские башмаки постепенно вос-создают вокруг себя весь отсутствующий предметный мир, некогда являвшийся их жизненным контекстом. Хайдеггер говорит: «Немотствующий зов земли отдается в этих башмаках, земли, щедро дарящей зрелость зерна, земли с необъяснимой самоотверженностью ее залежных полей в глухое зимнее время… Земле принадлежат эти башмаки, эта дельность, в мире крестьянки — хранящий их кров… Картина Ван Гога есть раскрытие, растворение того, что поистине есть это изделие, крестьянские башмаки. Сущее вступает в несокрытость своего бытия» [96] посредством произведения искусства, которое приоткрывает весь отсутствующий мир и землю в своей окрестности — вместе с тяжелой поступью крестьянки, одиночеством тропы в поле, хижиной на поляне, изношенными и поломанными орудиями труда на пашне и у домашнего очага. Описание Хайдеггера следует дополнить указанием на обновленную материальность произведения, на трансформацию одной формы материальности — самой земли, ее троп и физических предметов — в эту иную материальность масляной живописи, утвержденную и выведенную на первый план как нечто полноправное, ради визуального удовольствия, приносимого ею, но тем не менее это описание само уже в достаточной мере убедительно.
В любом случае оба прочтения можно назвать герменевтическими — в том смысле, в каком произведение в его инертной объектной форме принимается за подсказку или симптом некоей более обширной реальности, которая замещает его в качестве его окончательной истины. Теперь же нам нужно взглянуть на башмаки иного рода, и хорошо, что соответствующее изображение мы можем найти в недавней работе центральной фигуры современного визуального искусства. Очевидно, «Туфли в алмазной пыли» Энди Уорхола уже не говорят с нами хотя бы с толикой той непосредственности, что присуща обуви Ван Гога; действительно, у меня возникает искушение сказать, что они с нами вообще не говорят. В этой картине нет ничего, что бы организовывало минимальное место для зрителя, который встречается с ней на повороте музейного коридора или в галерее как с неким необъяснимым естественным объектом, со всей его случайностью и необоснованностью. На уровне содержания нам приходится иметь дело с намного более очевидными современными фетишами — как во фрейдовском, так и в марксистском смыслах (Деррида в одном рассуждении о «паре крестьянских башмаков» отмечает, что обувь Ван Гога — это гетеросексуальная пара, которая не допускает ни извращения, ни фетишизации). Здесь у нас, однако, случайная подборка мертвых предметов, вместе висящих на полотне подобно связке репы, столь же оторванных от своего прежнего жизненного мира, как и куча башмаков, оставшихся от Аушвица, или же останки и знаки некоего непостижимого, трагического пожара, случившегося в переполненном танцевальном зале. Следовательно, у Уорхола нет способа завершить герменевтический жест и восстановить для этих разрозненных предметов весь их обширный жизненный контекст зала для танцев или же бала, мир модной тусовки или же гламурных журналов. И это даже еще парадоксальнее, если вспомнить его биографию: Уорхол начинал художественную карьеру в качестве коммерческого иллюстратора обувных мод и дизайнера витрин, в которых гордо выставлялись лодочки и бальные туфли. И правда, здесь возникает желание поднять — конечно, совершенно преждевременно — один из главных вопросов касательно самого постмодернизма и его возможных политических аспектов: творчество Энди Уорхола в действительности вращается вокруг коммодификации, так что огромные билборды с изображениями бутылок кока-колы или банок супа Campbell, которые недвусмысленно выдвигают на передний план товарный фетишизм и переход к позднему капиталу, должны быть мощными критическими политическими высказываниями. Если они не таковы, нам наверняка захочется узнать, в чем причина, и мы могли бы для начала обратить несколько более пристальное внимание на возможности политического и критического искусства в постмодернистский период позднего капитала.
Но есть и неко
